Ли Бо
Стихи в переводе Сергея Торопцева
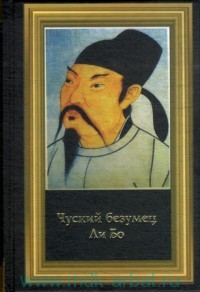
Я занесен сюда попутным ветром,
Как тучка сирая, как гость чужой…
Карта Китая периода династии Тан (618–907)
Не позволите ли Вы, любезный читатель, предложить Вам удивительную прогулку по тем временам и по тем местам, где в глубочайшей древности, знававшей Конфуция еще как своего современника, существовали царство Чу — обширное и пустившее глубочайшие корни в китайскую культуру, царства У и Юэ на восточном морском побережье, лелеявшие мистические предания старины.
Вы ведь поняли, что мы с Вами оказались именно в Китае и уже вынырнули в восьмом веке, похоже, в прелестных местах среднего течения Янцзы, полных гор и вод, зелени и тишины?
Но живописный бассейн Янцзы — это не только географический ареал. Как и вторая великая водная артерия Китая — Хуанхэ (Желтая река), Янцзы в мировосприятии китайцев, в их мифологической прапамяти занимает совершенно особое место. Во второй половине прошлого века в верховьях Янцзы были найдены окаменелости обезьяночеловека — на миллион лет старше знаменитого северного синантропа, что поколебало давнее представление о том, что колыбель китайской нации локализовалась в бассейне Хуанхэ, и теперь ее границы значительно расширили, считая, что китайская цивилизация зародилась на территории, очерченной с севера Желтой рекой, а с юга — Вечной. Янцзы, третья в мире после Амазонки и Нила водная артерия, столь протяженна и полноводна, что ее именуют Вечной Рекой, Великой Рекой, а часто с высшей почтительностью — просто Рекой, единственной и неповторимой.
В китайской культурологии существует особый термин «культура бассейна Янцзы» — даоская, прежде всего, культура со всеми присущими ей «темными» мистическими элементами. В ее основе лежал древний мифологический пласт культуры царства Чу, чье влияние простиралось от района современного города Чунцина в верхнем течении Янцзы на западе до прибрежных царств У и Юэ на востоке. Наиболее ярко эта культура нашла свое выражение в философском притчевом трактате «Чжуан-цзы», в поэзии Цюй Юаня и Сун Юя, и именно эта часть наследия оказалась среди наиболее почитаемых Ли Бо. Он сам назвал себя в одном стихотворении «Чуским Безумцем», вкладывая в это определение романтическое опьянение древней культурой, насыщенной мифологией, почитавшей доисторическое сотворение мира, акцентировавшей Изначальное как Исток духовной Чистоты, утраченной последующим цивилизационным развитием. Южная чуская культура, до рубежа первого-второго тысячелетия не слишком активно контактировавшая с более северными регионами, не испытала сковывающего воздействия суровых древних чжоуских ритуалов, канонизированных Конфуцием и легших в основу культуры Центрального Китая, была вольней и раскованней.
Ли Бо не только изучил этот культурный слой — он был воспитан им, взращен им, тем более что мифы чуской культуры тесно взаимодействовали с мифологическим пластом области Шу, родного края Ли Бо, наложились на культуру царств У и Юэ, где глубокие корни пустили мифы о святых бессмертных с острова Пэнлай в Восточном море. Все это особенно влекло романтически настроенного молодого поэта. Классический памятник «Шань хай цзин» («Канон гор и морей»), романтическую философию Чжуан-цзы, величественные оды Цюй Юаня, Сун Юя, отражающие раннее мифологическое сознание нации, он проштудировал еще в детстве. Образы мифологических героинь этого ареала (фея Колдовской горы, верные жены Шуня и др.) не раз возвращались в поэтические строки Ли Бо.
Стихи Ли Бо — дневниковые записи, внешне фиксировавшие события жизни, а по сути являвшиеся зеркалом его вольной души, отражением его мифологического сознания и мощного интеллекта, выражением его обширнейших познаний древности и современности, его глубочайшего проникновения в духовную сущность человека, которому высшими силами предоставлена возможность перевоплотиться, но он редко поднимается до осознания этого.
Его поэзия — «безумна», как срывающийся с гор неудержимый поток, для которого не существует абсолютного русла, и он упрямо выходит из обозначенных традицией берегов (горы и водопады постоянно возникают в его стихах). И самохарактеристика Ли Бо звучит как «
Когда в 24 года он покинул отчий край Шу (современная провинция Сычуань), где рос, учился, погружался в даоско-буддийские таинства, начал писать стихи, уже первыми своими опытами поразив учителей, сравнивших его с великим Сыма Сянжу, — на легком челне мимо Крутобровой горы Эмэй, мимо наполненной сладострастной мистикой Колдовской горы он устремился через Юйчжоу (совр. г. Чунцин) к Вечной Реке. Его первой волнующей душу целью было Санься — три ущелья в верхнем течении Янцзы. Именно здесь, полагают некоторые исследователи, Великий Юй, мифологический культурный герой, с помощью феи Колдовской горы укрощал водную стихию, разрушительными наводнениями губившую плоды жизнедеятельности человека.
И уже на выходе из водоворотов Трех ущелий, в небольшом городке на берегу Реки и произошла у него встреча, на всю оставшуюся земную жизнь определившая миро- и самоощущение молодого поэта. О ней стоит рассказать чуть подробней.
Ли Бо заночевал в городе Цзинчжоу, который в стародавние времена именовался Цзянлином (а в наши времена Ичаном) и был, по преданию, построен в начале тысячелетия, во времена Троецарствия. Фонарщики зажгли огни, и в их слабом мерцании заманчиво-таинственно колыхались слабым ветерком синие флажки питейных заведений, откуда завлекающе помахивали женщины трудноразличимого в полутьме возраста.
Уже приближение к этому городу вызвало необъяснимое волнение. Видимо, сработало высокочувствительное предвидение, улавливающее плывущие из космоса энергетические колебания еще не наступивших событий. Ведь именно к сакральности, к Занебесью и был обращен философский и поэтический взгляд Ли Бо, а земные дела хотя нередко и выходили у него на первый план, но тут же своей мелочной суетностью погружали душу в необъяснимую грусть. А в этих краях все было пропитано Чуской Древностью: Ли Бо вошел на территорию уже не существующего наяву, но нетленного города Ин, столицы царства Чу. Он, конечно, увидел полуразрушенный земляной вал и крепостные рвы чуской столицы — они дошли даже до нас. А археологические раскопки наших дней в гораздо большей степени материализовали все это мистическое вневременье в атрибуты чуской культуры, хранящиеся в городском музее, — меч основателя царства Гоу-цзяня, кусок фрески, тело мужчины тех невообразимо далеких времен, сохранившее человеческие очертания.
Впрочем, вернемся в Цзянлин.
Быть может, на название гостиницы Ли Бо даже не обратил внимания, во всяком случае, среди сохранившихся девяти сотен его стихотворений оно не упоминается, но сегодня в нем видится мистический подтекст — «
Неужели все и в самом деле предопределено?
Как раз в это время из паломнического странствия к святой горе Хэншань возвращался знаменитый даос-отшельник Сыма Чэнчжэнь (вторым именем его было Сыма Цзывэй) — восьмидесятилетний старец, которого еще императрица У Цзэтянь пыталась призвать к себе, как и ныне правивший Сюань-цзун, а предыдущий император, Жуй-цзун, пригласил во дворец и склонился перед ним как пред Учителем, но Сыма Чэнчжэнь всякий раз возвращался в свой скит мудрости. Он, рассказывают, знает все на пять сотен лет назад и видит все на пять сотен лет вперед.
Знаменитый даос вел замкнутый образ жизни и мало кого принимал, но накануне вечером, заметив, что звезда Тайбо в восточной части небосклона обрела пурпурный оттенок, Сыма понял, что наутро к нему на поклон придет Ли Бо, чье второе имя как раз и было созвучно названию звезды Тайбо и одноименной горы, земного аналога небесного тела. Ли Тайбо, утверждает легенда, был не земным человеком, а Небожителем, низвергнутым со звезды Тайбо (а может быть, посланным на Землю с некоей мироустроительной миссией? «Небесные Узоры изрекая, я — странник, чей след пребудет в мире человечьем»,[1] — сказал Ли Бо о себе).
В разговоре с поэтом мудрый старец пророчески сформулировал, что молодой гений сотворен для Неба, а не для Земли: «Ты духом — горний
Это был явный образ нарисованной еще Чжуан-цзы могучей и неостановимой Птицы Пэн: «Сколько тысяч
Уже много лет, с тех пор как в раннем детстве он открыл книгу удивительных и мудрых притч этого древнего философа, образ надземного существа будоражил душу Ли Бо. Поначалу это было какое-то смутное, неясное, неотчетливое ощущение, но постепенно контуры его обрисовывались все ярче и явственней, и этот невообразимо могучий «птеродактиль» стал недвусмысленной самоидентификацией поэта. В произведениях Ли Бо Великая Птица Пэн — не простое копирование образа древнего философа, а стремительное его развитие. У Чжуан-цзы Пэн опирается на силу попутного ветра, у Ли Бо — дерзновенно и вольно парит в сакральных Небесах над миром, не нуждаясь ни в ком и ни в чем, не зная никаких ограничений своей свободе. «Мой дух исполнен Небом, мой лик очерчен Дао, обуздывать себя мне нужды нет, ни в ком я не нуждаюсь, где появлюсь, там и живу, мне самого себя довольно» — так в одном из эссе очертил поэт свое пребывание в сем мире.
Встреча со старым и мудрым даосом всколыхнула Ли Бо. «Да, он сравнил меня с Птицей Пэн, но он сам — еще более редкостная Птица Сию с вершины святой горы Куньлунь». Глубинно осмысляя этот образ, вечером он велел слуге Даньша растереть тушь, зажечь светильник и написал «Оду Великой Птице Пэн» в жанре ритмической прозы «
Это не просто одно из произведений Ли Бо, но концептуальное, выражающее его мировоззренческие принципы как структурную конструкцию и его жизни, и его поэзии, и потому его стоит привести целиком (с авторским Предисловием) — при всех трудностях восприятия, но во всей его завершенности:
Этот могучий образ стал ступенькой к возвышению гордой самооценки поэта, к противопоставлению «Великой Птицы Пэн» — суетной «мелкоте», «Феникса» — «воронам и воробьям», к осознанию своего надземного предназначения. В ироническом ключе он отождествляет себя с героем популярной в Китае буддийской сутры — мирянином, который своей святостью превосходит даже монахов (имя мирянина означает «Безупречная чистота»):
(«Отвечаю Цзяе,
Вот так, с брега Реки взлетел Ли Бо Великой Птицей Пэн в просторы Вечности. А к Янцзы он возвращался не единожды — и физически, и поэтически. 315 раз она впрямую (и тем более косвенно) упоминается в его стихах, тогда как другой, более северный речной великан Хуанхэ — 121 раз[29]. К Хуанхэ, мифологически текущей на Землю с Неба, поэт всегда обращается почтительно и тем самым несколько отчужденно, а Янцзы для него ближе, духовно родственней. Стихи Ли Бо неотрывны от земных пейзажей Янцзы, по которой он плавал не раз; его стихи импульсивны, как бурное течение Янцзы. Его чувства к Реке напоминают отношение поэта к луне — почти «приятелю», другу.
Ли Бо вырос в Шу, крае, тяготевшем к культуре древнего царства Чу в среднем течении Янцзы, восхищался сакральными элементами культуры нижнего течения (У, Юэ), много раз бывал в живописных местах среднего течения (Цюпу — Осенний плес, территория древнего царства Вань) и там завершил свой земной путь (Данту).
Он был отчаянный, неостановимый летун, надолго нигде не задерживавшийся, словно в груди стучал моторчик, влекший его во все новые и новые пространства. Иероглиф «летать» попадается в стихах Ли Бо 316 раз (а у его младшего современника Ду Фу, человека талантливого, но более оседлого, лишь 179)[30].
Любил он «городок у реки», как с затаенной улыбкой приятствия именовали Сюаньчэн, где окружным начальником — и даже неплохим — в 5 веке был известный поэт Се Тяо, чьи стихи находили отклик в душе Ли Бо. И Осенний плес — Цюпу, средоточие рек и озер вокруг Янцзы, каждую осень сливавшихся в нескончаемое водное зерцало. И Хуаншань, одну из тех знаменитых вершин, кои все китайцы всех веков жаждали непременно посетить, — она тоже в тех краях.
А несколько западнее — озеро Дунтин, столь огромное, что именовали его «морем», прелестные берега рек Сяо и Сян — там жил великий поэт Цюй Юань, там он возвысился и на Земле — как советник правителя, — и на Небе своей суровой, как литавры, поэзией, и там же в отчаянии от коварства власть имущих бросился в бесстрастные воды Сян.
Чуть вниз по течению лежит крупный город Ухань. И если мы с вами сделаем небольшой крючок к северу, то попадем в город Аньлу: там, на древних землях Чу, Ли Бо устроил свой первый семейный дом с госпожой Сюй. А крючок к югу приведет нас в Юйчжан — последний дом с госпожой Цзун (к сожалению, история и традиция не оставили нам имен этих близких поэту женщин).
Ближе к устью Реки раскинулись места древнего царства У, тоже издавна влекшие к себе Ли Бо выразительными историческими параллелями. Не раз он возвращался в стихах к прелестной Сиши, своей разрушительной красотой погубившей царство У. Впрочем, скорее это совершил потерявший голову правитель…
В 753-м Ли Бо третий раз посетил блистательную столицу Чанъань и, третий раз встретив холодный прием дворцовых «рыбьих глаз», покинул ее навсегда. На свое горе — и на наше, потомков, счастье. Ибо мечтал он стать прозорливым советником мудрейшего Сына Неба — императора Сюаньцзуна, дабы вести великую Танскую династию к еще большему совершенствованию нравов подданных. Увы, государь оказался не из мудрейших, совершенство нравов не слишком востребованным, и в Ли Бо жаждали видеть лишь любезного государевым фавориткам придворного пиита, поющего красу цветов и наложниц. А стань он советником, лишились бы мы с Вами тех сокровенных, Небом вдохновленных строф, что знакомы каждому китайцу и шаг за шагом начинают покорять и русского читателя.
Прежде чем Вечная Река понесет нас вместе со слезой Ли Бо на восток в сторону уезда Данту, где начальствовал Ли Янбин, дядя Ли Бо, давайте-ка сядем в небольшую двуколку и сделаем крючок к Сюаньчэну — «городку у реки». Не взглянуть на этот город, живую память о Се Тяо, любимом поэте Ли Бо, — невозможно, ибо часть души Ли Бо навеки впечатлелась в эти места. И прежде всего в Цзинтин — небольшую, но столь значимую для него возвышенность неподалеку от Сюаньчэна.
Ведь почему Ли Бо любил горы? Он вырос среди них (52 % территории провинции Сычуань — это горы), он духом своим был вписан в них. Эти чудные создания природы, расположенные между Небом и Землей, не принадлежат ни Земле, ни Небу — они принадлежат одновременно и Земле, и Небу. Они и созданы для того, чтобы мистически соединять Землю с Небом (что жаждал свершить Ли Бо, и в непонятости этого грандиозного замысла — его трагедия и как поэта, и как человека).
Даоские отшельники, покидая опостылевшую безнравственную цивилизацию, искали гармонию именно в горах, где из тайных гротов особые, не каждому открытые каналы вели в иные миры, в инобытие, не имеющее пределов ни в пространстве, ни во времени.
От горы Цзинтин вернемся к Вечной Реке, но не туда, где мы оставили ее, у Осеннего плеса, а чуть северо-восточнее, к городу Уху, который уже на рубеже нашей эры существовал как уезд с небольшим городского типа центром. К ХХI веку он разросся до заметных размеров в шестьсот тысяч жителей и не без оснований гордится своими достаточно современными кварталами, университетами, компьютерным производством и даже сборочным автозаводом, чья продукция (с иероглифом «
Но для нас сейчас главное в Уху — буддийский монастырь Гуанци в самом центре города на склонах невысокой округлой горы. Однозначных свидетельств того, что Ли Бо побывал в нем, нет, монастырь в его стихах не упоминается, но построен он был в 719 году, так что все возможно… И вот, смотрите, над входом в павильон висит черная лакированная доска с золотыми иероглифами «Зал путешествия по Девяти цветкам». Уж не связано ли это с горой Девяти цветков (
А мы вновь на берегу великой Янцзы, столь милой сердцу Ли Бо. Нас поджидает челн с невысоким прямым парусом. Оттолкнувшись шестом от берега, лодочник запевает:
Это давние, еще в юности написанные строки Ли Бо. Они настолько музыкальны, что, как и многие другие его стихи, охотно распеваются людом всякого сословия.
Тем временем мы с Вами оказались уже в пределах уезда Данту — места последнего упокоения великого поэта. На склонах у могилы — чайная плантация, винный завод «имени Ли Бо», выпускающий «Танское зелье». Боюсь, это не совсем то, что славил в своих стихах великий поэт:
Но все равно, терпеливый читатель, сдвинем «желтых попугаев» в память нашего великого сопутника по 8 веку. Пусть плывет он на восток, коли запад с холодной имперской столицей Чанъань отвернулся от него. На востоке ему жилось лучше, чем на западе. Запад — страна осени, а на востоке восходит и солнце, которое так будоражило неспокойное сердце поэта, и задушевный друг-луна.
Шестьдесят один раз он упоминает в стихах полюбившийся ему Цзиньлин, центр древних земель царства У (сегодня этот город именуется Нанкином), а чуть севернее, в Янчжоу, несколько позже, уже ближе к последнему земному прощанию, он напишет строки, дышащие столь непривычным для него безмятежным покоем:
А мы с Вами в нашем ХХI веке насладимся лирикой великого поэта, созданной — 1300 лет назад! — в тех местах, где мы с Вами только что побывали. В таком отдалении можно пренебречь мелкими временны̀ми сдвигами, и его бытие на берегах Вечной реки станем воспринимать как нечто единое и цельное, следующее лишь пространственным координатам, — как жизнь поэта, неотрывную от духа Вечной реки.
Так что начнем с первых всплесков волны за бортом ладьи, устремленной в романтическую мифологию Чу, с осеннего запада, от Колдовской горы, от озера Дунтин и рек Сяо и Сян, трагически связанных с именем великого Цюй Юаня, через разливанный Осенний плес с его вольностью и простором, через Данту, место последнего земного упокоения Ли Бо, — на восток, где посреди мифологического Восточного моря вечно плавают острова бессмертных святых. И постараемся разглядеть среди них нашего поэта.
Он, несомненно, там, среди Бессмертных, в Вечности…
Сергей Торопцев
Здесь Ли Бо жил в юности
Река Хань
Санься (Три ущелья)
г. Цзянлин (совр. Ичан)
Озеро Дунтин
г. Аньлу
г. Юйчжан
Осенний плес (Цюпу)
Гора Лушань
г. Сюаньчэн, гора Цзинтин
уезд Данту
г. Янчжоу (Гуанлин)
гора Гуйцзи
Путешествие молодого поэта, затянувшееся на все его земное бытие, только начинается, но он уже обозначил цель — царства
это живое мифологическое пространство, в котором сегодняшнее настоящее без ощущаемых временны̀х границ сливается с лелеемым прошлым, с идеальной Изначальной Древностью, жившей по естественным законам Небесного Дао. Поэт рвется туда всем существом, своим воображением гиперболизируя и высоту корабельной мачты, и пройденное расстояние. Но земные реалии своей неизведанностью несколько страшат молодого человека, оторвавшегося от отчего дома, не вписанного ни в какую социальную структуру и лишь питающего надежду на блистательные карьерные начинания.
Я выдолбил ладью и в У да в Чу[31] поплыл,
Поставив мачту в сотню с лишком
Рвет ветер парус из последних сил,
Я сотни
Еще бурлит прощальное вино,
А я уже иных селений гость,
Лишь вспоминать отныне мне дано,
Лазурь воды рождает в сердце грусть.
725 г.
Ладья, подставив попутному ветру небольшой парус, плывет по Линцзяну, приближаясь к Юйчжоу (совр. г. Чунцин) на Вечной реке (Янцзы), слуга Даньша еще раскладывает поклажу в небольшой каютке, а перед глазами молодого поэта еще стоят милые сердцу пейзажи отчего края Шу. Он как бы живет в трех измерениях: вчерашнее, бледнея, цепляется за сегодняшнее, но из глубин души вырывается волнующее Завтра, словно бы озаренное лучами восхода. Эти три пласта с самого начала осмысленного бытия и составляли структуру его души. Даже в первом своем (известном нам) стихотворении пятнадцатилетний мальчик соединял призрачную, зыбкую видимость сегодняшнего с четким земным прошлым и ярким светом заоблачного неба.
Юный месяц встал над морем[34]
В сумеречный час росы,
Когти ветра тучи роют,
И блестит песок косы.
Ах, к чему тут струны эти,
Когда сын ушел в поход?
Царский сад[35] покинем — ветер
К сыну пусть стихи несет.
715 г.
Свое путешествие Ли Бо воспринимает как восхождение, вкладывая в это не столько физический, сколько духовно-мистический смысл. Собственно говоря, эта антитеза оказалась ведущей для всего его творчества. Еще совсем недавно он описывал подъем на башню в городе как выход из ночи — в яркость дня, как очищение и духовное преодоление низменности земной плоскости.
Парчовый город солнцем озарен.
По башне поднимается рассвет:
Злаченое окно, резной проем,
За пологом — луны крючкастый след.
Ступени к небу сквозь листву летят,
С тоской я распрощался в вышине,
Вечерний дождь давно ушел к Санься[37],
Кружатся два потока[38] по весне.
Вот я пришел, на все это гляжу
Как по Девятым небесам[39] брожу.
720 г.
Наиболее полно идея восхождения воплотилась у Ли Бо в образе гор. Мифологическим сознанием они воспринимались как мистические каналы в иные пространства иных, Занебесных, измерений. Ценность горы, считал поэт, не в высоте, а в ее святости, как ценность воды не в ее глубине, а в живущем в ней драконе. Таким духовным центром юности Ли Бо в родной области Шу была Крутобровая Эмэй. Две ее вершины напоминают густые брови Небесной феи. Путь по крутой узкой тропке среди выглядывающих из туманной дымки диковинных цветов постепенно обретал характер мистического духовного преображения. Четыре года назад Ли Бо поднимался на Эмэй и так описал этот процесс:
Вершин святых немало в крае Шу,
Но с Крутобровой им сравненья нет.
Возможно ли познать ее, спрошу,
Тем, кто приходит только лицезреть?
Распахнутость небес, зеленый мрак —
Цветист, как свиток живописный, он,
Душой купаюсь в заревых лучах,
Здесь таинством я одухотворен,
Озвучиваю облачный напев,
Коснусь волшебных струн эмэйских скал.
В магическом искусстве был несмел,
Но вот свершилось то, что я искал.
Свет облака в себе уже ношу,
С души мирские узы спали вдруг,
И мнится мне на агнце возношусь
К светилу белому в сплетенье рук[40].
720 г.
И вот уже Крутобровая его юности осталась позади, а лодка плывет по реке Пинцян (сейчас она называется Циннун), еще в родных краях. Бесстрастно глядит на лодку лэшаньский Большой Будда, настолько огромный, что человек, примостившийся на ногте его ноги, кажется песчинкой. Прощается ли он с молодым поэтом, или ему ведомо, что они встретятся в Бесконечности? Ли Бо устремляется к Вечной реке Янцзы, к знаменитым Трем ущельям (Санься), где мифический Юй строил дамбы, спасая соплеменников от разрушительных наводнений. Оглядываясь, Ли Бо видит кусочек луны, его Небесного друга, выглядывающей из-за вершины Крутобровой, словно бы приглядывая за отчаянным юношей, устремленным в неизведанное — но столь знакомое по книгам. Он испытывает непонятное пока влечение к этому ночному светилу и не догадывается, что Небесный друг не оставит его даже тогда, когда земные друзья отвернутся.
Осенний месяц встал над Крутобровой,
А тень — со мной, в Пинцяновой волне.
К Ущельям в ночь уходит челн мой новый,
Тебя, мой друг, уже не видеть мне.
724 г.
Челн Ли Бо, петляя по речкам родного края, выносит его к Хань, окруженной горами полноводной реке, куда он много позже будет ронять горькие слезы разочарования, но пока течение ведет челн к бурному устью — выходу на просторы Вечной Реки, которая увлечет его на земли грез — в Чу, в У, в Юэ. По левому борту скоро встанет вознесенный на высокий склон живописный, вечно закутанный в чарующую поэтов облачную дымку город Боди (Ли Бо еще не знает, какой вехой освобождения станет для него этот город в конце земного бытия!), затем Колдовская гора, окутанная облачком романтической легенды, — челн поплывет по Трем ущельям, где он и отпишет оставшимся дома друзьям обо всем, что увидел и прочувствовал на этом начальном отрезке пути.
Бурливой Хань поток меня унес
К дождям и тучкам Колдовской горы[42].
Весенний ветр навеял сладких грез —
Как я вернусь опять в свои миры.
Боди я вижу, вырвавшись из снов,
Ах, милые, расстался с вами я.
Полно в Цуйтан[43] купеческих судов,
Чтоб весточку отправить вам, друзья.
725 г.
Не случайно, видимо, он обратил внимание на небольшой городок Боди, распластавшийся по склонам высокой прибрежной горы и вечно окутанный дымкой облаков. По преданию, в городе находился колодец, в котором жил дракон, и потому покровителем города считали Белого Дракона, одного из пяти Небесных Владык, повелителя западного неба и духа звезды Тайбо (sic! Вы помните второе имя Ли Бо?). Тем не менее поэт даже не сошел на берег. Но через полвека именно тут, плывя на запад к месту далекой ссылки, он покинул лодку (еще ссыльным), в местном
Покинул поутру заоблачный Боди,
К Цзянлину сотни
Макаки с берегов галдят на всем пути,
Но тяжесть тысяч гор осталась позади.
759 г.
Ранние сумерки настигли их уже в Санься — цепи из трех ущелий, протянувшихся вдоль Янцзы на 200 километров. На ночлег остановились у подножия легендарной Колдовской горы (Ушань), которую Сун Юй, знаменитый поэт и, как утверждают предания, младший брат великого Цюй Юаня, обессмертил своей одой о любострастных свиданиях феи этой горы с чуским князем Сяном. Приподнятый над вершиной камень, окутанный облачной дымкой, представлялся проплывавшим лодочникам феей-хранительницей, и они хотели видеть в фее сильный и романтичный образ. Действительно, согласился с ними Ли Бо, зачем этот Сун Юй очернил прекрасную благородную даму, дочь Небесного Владыки?
Поэт всматривался в облачко, которое, совсем как в оде Сун Юя, застыло на склоне горы, но фея не устремилась к нему струями дождя, а навеяла воспоминания об отчем крае, над которым легковейной тучкой она проплывала еще час-два назад, и глаза путешественника чуть заволоклись дымкой сентиментальных слез. И он тут же начал импровизировать стихотворение в защиту облачка-феи:
Царя Небесного Нефритовая дочь[44]
Взлетает поутру цветистой легкой тучкой —
По сновидениям людским бродить всю ночь.
И что ей Сян, какой-то князь там чуский?!
Луну запеленав своих одежд парчой,
Она с Небес сиянье славы источает.
Ее ль познать за сокровенной пустотой?!
Напрасно люди стих Сун Юя почитают.
725 г.
Маленькая гостиничка была вся пропитана духом близкой Колдовской горы: феи, облачка над вершиной, набухшие дождем, взволнованно ожидающим мига, когда сладострастными струями он прольется на нетерпеливого князя, ширма у изголовья, перечерченная Вечной Рекой, уходящей к верхней кромке изображения, словно и она откликнулась на зов феи с небес. Через десяток лет совсем в другом месте, в другой гостинице, прислушиваясь к шуршанию опадающих листьев, поэт увидит похожую ширму и вспомнит начало своего путешествия.
На ширме нарисован пик крутой,
Осенний лес у города Боди
И тучка — ее спрячет мрак ночной,
Река недвижно в небо улетит.
736 г.
Ночь у подножия Колдовской горы не оказалась какой-то необычной. Прошедший день так утомил и физически, и духовно, что никакая соблазнительная тучка не смутила крепкий сон, разве что громко ревели беспокойные обезьяны. И ясным утром Ли Бо другими глазами взглянул на знаменитую гору, увидел на ее вершине залитую восходящим солнцем террасу, столь высокую, что напоминала башню, и укорил себя, что, может, зря так непочтительно отозвался о великом Сун Юе, младшем брате еще более великого Цюй Юаня.
Я ночь провел под Колдовской горой,
Вой обезьян в мои врывался сны,
А персики наряд цветастый свой
Роняли к дамбе Цуй[45] в лучах луны.
Порывом тучку унесло на юг —
Там чуский князь когда-то ждал ее.
Высокий холм… Сун Юя вспомнив вдруг,
Слезой я платье омочил свое.
725 г.
Колдовская гора еще долго околдовывала экзальтированного поэта, и он возвращался к ней мысленно и поэтически. Даже находясь достаточно далеко от нее, в районе современного Нанкина, он, провожая знакомца в долину Лютни, что лежит рядом с Колдовской горой, ностальгически вспоминал об ушедших и невозвратных временах.
Осень. Ночь. И ветер над водой.
Тех времен уж рядом нет со мной,
Отдалился зыбким сном Чанъань[46]…
Где же день, когда вернусь домой?!
747 г.
А через два с лишним десятилетия Ли Бо вновь оказался у этой горы. Он уже не порывистый юноша с романтическими мечтаниями, а умудренный горьким опытом земной жизни человек, который понимает, что в этот искореженный мир, лишенный «свежего дыхания» (в переносном смысле — «чистых нравов»), феи не прилетают, да и сластолюбца-князя никто не вспоминает, разве что пастухи, погоняя баранов, перекинутся парочкой насмешливых слов.
И снова я под Колдовской горой,
У Башни солнца, где ищу преданье,
Но тучки нет, чист небосвод ночной,
Даль принесла нам свежее дыханье.
Волшебной девы и в помине нет,
Где чуский князь, никто сейчас не знает,
Давно уж канул блуд в пучину лет…
Лишь пастухи о них тут и вздыхают.
759 г.
Головокружительные водовороты в Трех ущельях были созвучны юному задору поэта, хотя встреча с мудрым даосом, вселившим в него уверенность в своих силах, была еще впереди. Возможно, именно на эту встречу с подспудной горечью и намекнул поэт, когда, уплывая на исходе жизни в ссылку, миновал Санься и в стихотворении об этом вечность Неба противопоставил суетности и тщетности человеческих страстей и усилий (гора Хуанню, вершина которой показалась стареющему поэту недостижимой, находится как раз рядом с г. Цзянлином, где в 725 г. и произошла знаменательная встреча со старцем). Челн кружил, обходя водовороты реки, а поэт задумчиво смотрел в сторону северного берега, где, скрываясь за горным массивом ущелья Силинся, из Великой Древности угадывались родные места Цюй Юаня и 11 могильных курганов, в одном из которых похоронен великий поэт, а остальные сооружены для того, чтобы преследовавшие его царские клевреты не смогли отыскать подлинный и разрушить его.
Зажато небо в пиках Колдовских
Там, где шумит башуйская волна.
Когда-то люди не увидят их,
А неба — не коснутся времена.
Три утра огибаю Хуанню,
Еще три ночи… Бесконечен путь
Три раза прибавляю день ко дню[47],
Тоска такая, что и не вздохнуть.
758 г.
Видимо, все-таки знаменательная встреча с пророком в Цзянлине оказалась не случайной, а была предопределена. Как раз перед подходом к городу Ли Бо трепетно пересек невидимую, но так явственно осязаемую им границу уже не существующего, и все же вечного древнего царства Чу. Впрочем, внимательный поэт подметил, что привычные для шусца горы, обычно не позволяющие глазу уйти далеко к горизонту, здесь распластались бесконечной равниной, покрытой низкорослым редким леском. По левому борту, с севера, оскалила клыки невысокая гора, именуемая Зуб тигра, а как раз напротив нее, на южном берегу, расплылась в предвечернем тумане другая, как раз и именуемая
До Чуских врат простерся путь мой длинный,
По землям Чу плыву я с этих пор,
Сменились горы вольною равниной,
Река вошла в невиданный простор,
И зеркальцем луна, с небес слетая,
Легла на воду в облачный мираж.
О, воды милые родного края,
Вы десять тысяч
725 г.
Переход на территорию Чу, где таинственно поблескивали руины древнего дворца, поэт воспринял как пересечение рубежа времени, как слияние времен в один Ком вечного бытия, соединил свое уходящее прошлое с надвигающимся будущим и поставил это на фон непрерывающейся Вечности. Не случайно у него луна висит над океаном, которого нет в тех местах, где плыл его челн, но к которому устремлен поток Янцзы, а этот «океан» в мифологии именуется Восточным морем, над которым вздымаются острова Бессмертных святых и сакральная гора Куньлунь с блистательным дворцом Небесного Владыки на склоне.
В Ущелье лун[49] влекомый, мой челнок
Летит, и взгляду не достичь предела,
Не прерывался персиков поток
От самой речки, что в парчу одета[50].
Вода светла — прозрачный изумруд,
Безмерностью сравнима с небесами.
Башань пройдем, а там уже плывут,
Качаясь, тучки чуские над нами.
Там гуси над песками — что снега,
Там иволги порхают по ущелью;
Лишь минем буйноцветные луга,
Нас яркая дерев встречает зелень.
Туманный берег покидает взгляд —
Ладья стремит к луне над океаном.
Из тьмы Цзянлина огоньки летят —
Дворец Чжугун, построенный Чэн-ваном[51].
725 г
В городе Юэян, что в округе Юэчжоу, куда после судьбоносной встречи со старцем отправился Ли Бо, а потом не раз бывал там, к нему почтительно приблизился крепкий мужчина лет сорока, назвавшись двенадцатым сыном семейства Ся. Это сразу сблизило их — Ли Бо ведь тоже считался двенадцатым в семействе Ли. Коммерсант по роду деятельности, Ся был чуток к поэтическому слову и еще в Цзянлине, восторженно сообщил он поэту, восхитился талантом Ли Бо, прочитав ходивший тогда по рукам список «Оды Великой Птице Пэн». Они поднялись на знаменитую деревянную трехэтажную западную башню городской стены, возвышающуюся над озером Дунтин, в великих и трагических местах Цюй Юаня. Построенная в 3 веке, разрушенная и восстановленная в 716 г., она именовалась Южной башней, пока Ли Бо в этом стихотворении не назвал ее Юэянской, и это название закрепилось за ней. Даньша приволок туда жбанчик известного в округе балинского вина. Во тьме угадывались очертания Царского холма напротив устья реки Сян, напоминая о древней трагической истории. Однако ночь скрадывала время, и было неведомо, какого века волны разбиваются о городскую стену.
Ночью город исчез, только ты здесь, мой друг,
Тихо плещутся воды, вливаясь в Дунтин[52].
Грусть мою прихвати, гусь[53], летящий на юг,
Поднимись ко мне, месяц, из горных лощин.
Мы сойдем на плывущие к нам облака,
По бокалу вина поднесут небеса,
И порыв освежающего ветерка
Унесет нас, хмельных и веселых, назад.
759 г.
Живописное озеро Дунтин (2740 кв. м.), окаймленное по горизонту зигзагом зеленых гор, столь огромно, что солнце, восстав из его вод, в них же и садится. Оно производит странное впечатление — это цепь озер, одно внутри другого, рассеченных остриями холмов, выглядывающих из-под воды. Берега обильно поросли бамбуком, их тут множество видов, в том числе и пятнистый, который упоминается в финале следующего стихотворения. В древности это озеро именовалось «водоемом Облачных грез», а свое нынешнее название переняло у вздымающейся перед устьем реки Сян горы Дунтин, позже переименованной в Царскую (Цзюньшань). В этих местах сам воздух наполнен легендами, и Ли Бо, эмоционально погруженный в Чускую Древность, старался извлечь ее зовы из любых образов и ассоциаций. Таким же был он и в своих первых детских поэтических опытах. Увидев камень, очертаниями напоминающий женщину, он воспроизвел его в стихотворении как «окаменевшую жену», годами высматривающую мужа, ушедшего в военный поход. Ее трагическое молчание ассоциировалось у юного поэта с гордостью древней наложницы князя Си, плененного чуским Вэнь-ваном, не пожелавшей принять милость победителя
Как ритуальный каменный сосуд,
Наполненный печалью и надеждой,
Покрытый росами, что боль несут,
Одетый мхом, как древнею одеждой,
Она страдает, словно Сянский дух,
Как пленница из Чу, живет в молчанье:
Среди весны, затихнувшей в цвету,
Высматривает мужа в ожиданье.
715 г.
Ах, эта вечная разлука!
Царевны древние Нюйин и Эхуан
От вод Дунтинских в направленье юга,
Где плещут волны Сяо-Сян,
Ушли в глубины — десять тысяч
О, как же тяжелы их муки!
Сокрылось солнце в туче черной мглы,
Гориллы взвыли, взбеленились духи.
Какой же я еще могу добавить штрих,
Коль верностью Владыка-Небо разъярен
И грома посылает гневный рык?!
От Яо — к Шуню, к Юю переходит трон,
Правитель без вельмож — рыбешка, не Дракон,
Сановник-крыса тигром рвется к власти,
Был Яо, говорят, в темницу заключен,
А Шунь в глухой степи оставил кости,
И в девяти ущельях гор Цзюи
Непросто шунев отыскать курган[54].
Роняют девы слезы горькие свои,
Бросаясь невозвратно в Сяо-Сян.
Найти курган им было не дано,
Как плакали они, превозмогая муку!
Обрушится курган, а Сян откроет дно —
Тогда лишь высохнут слезинки на бамбуках[55].
753 г.
Есть что-то глубоко символичное в том, что, пустившись в свои земные странствия с озера Дунтин, Ли Бо и отсчет финальной точки начал в тех же краях. Неправедно осужденный, отсидевший в остроге, снисходительно амнистированный с заменой смертной казни на ссылку и, наконец, полностью освобожденный, он вновь оказывается на Дунтин. Как мы видим из двух последующих стихотворений, внутреннее раскрепощение к нему не вернулось. Ли Бо вновь обращается мыслью к древней трагедии, мечтает о вечности Неба и подчеркивает, что Янцзы несет его на восток — туда, где в мифическом Восточном море на мифических островах с нетерпением ждут его бессмертные святые — в отличие от земных друзей, предавших опального поэта.
1
Янцзы, пройдя сквозь Чу, вновь на восток стремится,
Нет облаков, вода сомкнулась с небесами,
Закат осенний до Чанша готов разлиться…
Так где ж здесь Сянский дух? Не ведаем мы сами.
2
Над южным озером ночная мгла ясна.
Ах, если бы поток вознес нас к небесам!
На гладь Дунтин легла осенняя луна —
Винца прикупим, поплывем по облакам.
3
Я здесь в одном челне с изгнанником лоянским[58]
И с ханьским Юань Ли[59]: подлунные святые,
Мы вспомнили Чанъань, где знали смех и ласку…
О, где ж они теперь, те небеса былые?!
4
Склонилась к западу осенняя луна,
И гуси поутру уже летят на юг.
А мы поем «Байчжу»[60], компания хмельна,
Не замечаем рос, что хладом пали вдруг.
5
Из Сяо-Сян не возвратятся дети Яо[61]…
Осенние листы легли на воду снова,
Пятно луны посверкивает, как зерцало,
И Царский холм[62] багряной кистью обрисован.
759 г.
1
В лесу бамбуков пир сегодня наш[63],
Со мною дядя мой,
Вместил в себя три чаши твой племяш —
И хмель его расслабил, наконец.
2
Мы песню кормчих лихо распеваем,
Влечет нас лодка по лучу луны.
Пусть чайки тут недвижно отдыхают,
А мы с бокалами взлетим, хмельны.
3
Сровнять бы подчистую Царский холм
И Сян-реке открыть простор Дунтина,
Тогда над озером осенним днем
Упьемся вусмерть мы вином Балина[64].
759 г.
Тучи сизые бросают хлопья снега
К башне Журавля[66]. Там суждено проститься,
Полетит Журавль до западного неба
На крылах своих нефритовых в столицу.
Что же в путь тебе оставить дальний этот?
Ведь плодов жемчужных[67] Фениксу не дали!
Я бреду за уходящим силуэтом
И роняю в реку Хань[68] слезу печали.
734 г.
Башня Желтого журавля в уезде Учан была поставлена в 223 году на месте, откуда, по преданиям, священные птицы унесли в вечность святых Цзы Аня и Фэй И. Ли Бо пришел в восторг от выписанных на стене нескольких поэтических строк о башне, оставшейся на опустевшей земле, о журавле, который уже не вернется, и о тоске человека, вглядывающегося в дымку пенистых волн на поверхности Реки. Башня стояла над обрывом, отражаясь в Вечной реке. Несколько этажей, обрамленные балконами по всему периметру, завершались глазурованной крышей с загнутыми вверх углами. Это было место прощаний — и радостных, как с легендарным святым, вознесшимся в Небо, и грустных, как в этом стихотворении, пронизанном элегичностью уходящей весны. Вечность, персонифицированная в Вечной реке, проглядывает сквозь вуаль осыпающихся лепестков, напоминающих о бренности земного бытия. Клинышек паруса уплывающей — далеко, в покрытый вуалью древних таинств край У — лодки становится все меньше, а чувство одиночества растет. Поэту не довелось узнать, что его любимая башня простояла до 19 в., сгорела и была восстановлена только в 1981 г.
Простившись с башней Журавлиной, к Гуанлину
Уходит старый друг сквозь дымку лепестков,
В лазури сирый парус тает белым клином,
И лишь Река стремит за кромку облаков.
728 г.
Несколько к востоку от Башни притаилось небольшое Восточное озеро, заросшее лотосами. Быть может, именно там Ли Бо написал стихотворение, в котором столь любимая им природа окрашена в тона грусти, контрастирующей с привычным молодому возрасту задором.
Чиста струя, и день осенний ясен,
Срывает дева белые цветки.
А лотос что-то молвит… Он прекрасен
И тем лишь прибавляет ей тоски.
726 г.
Проводив поэта, к которому Ли Бо относился с величайшим почтением, и оставшись в одиночестве, он задумался о своей судьбе, о своих дальних высоких целях — попасть на службу к обожествляемому Сыну Солнца-императору, дворец которого символически обозначился в стихотворении как
Таинственный исток наверх выносит
Лазурный лотос, ярок и душист.
Устлала воды лепестками осень,
Зеленой дымкой ниспадает лист.
Коль в пустоте живет очарованье,
Кому повеет сладкий аромат?
Вот я сижу и вижу иней ранний
Неотвратимо губит дивный сад.
Все кончится, и не найдешь следов…
Хотел бы жить я у Пруда цветов!
728 г.
Прощаний было немало. Вот еще одно с кем-то, чье имя историками литературы не идентифицировано. Тот же грустный взгляд с той же Башни Желтого журавля около Змеиной горы близ Учана, следящий за лодкой, увозящей друга. Но если в 20-х годах друзей было еще мало, то сейчас, через три десятилетия, их уже оставалось все меньше, а путь впереди становился все короче.
Журавлиная башня — в сияньи луны,
Грусть — на тысячи
Тридцать раз прилетал ко мне ветер весны,
И в Учан[71] все стремился я издалека.
Тяжело разрывать расставания нить,
Если пить по глоткам, то прощанье длинней,
Здесь, как там, над Дунтин, — звук божественной
Горы сдвинулись с места за Вашей ладьей.
Обещание чусцем[73] мне было дано —
По-сетяоски[74] чистых, возвышенных слов.
Сочинил я Цанланскую песню[75] давно,
Напевайте ее, погружая весло.
754 г.
Прошли годы, и Ли Бо вновь на пересечении рек Хань (Ханьшуй) и Янцзы — и вновь в смятении чувств: амнистированный, он возвращается на восток, к краям мифических святых, но, увы, поэт уже понял, что его мечта о высоком государевом служении окончательно потерпела крах. В утешение остался жбан душистого вина и стихи, коим суждена вечность среди облаков рядом с бессмертными творениями его великого предшественника Цюй Юаня.
Магнолия — весло, ствол грушевый — ладья,
Дуда златая, яшма-флейта на борту,
Из жбана в чаши льет душистая струя,
И чаровницы заскучать нам не дадут.
Ждет Журавля святой, чтоб на него залезть,
А я, беспечный странник, среди чаек — свой.
Цюй Пина[76] оды унеслись до самых звезд,
А царский терем занесен давно землей.
Возьмусь за кисть — дрожат все пять святых вершин,
Стих завершен — мой смех взлетает к небесам.
Когда бы знатность, власть уж были столь прочны,
Несла б меня Ханьшуй не к морю, а назад.
759 г.
Психологически это стихотворение — в той же палитре чувств, что и предыдущее. Все отвернулись от опального поэта, дальние пределы, куда раньше стремилась его мысль, пусты, подернуты туманом, и вокруг он не видит никого, кто был бы достоин льющегося с небес чистого света ночного светила, впрочем, столь же одинокого, как и сам поэт. «Запад» здесь стоит в ином контексте — поэт обращается к родовым корням, которые тянутся как раз в те западные края, куда улетели попугаи (предки Ли Бо были сосланы на западную окраину Китая, откуда они бежали в тюркский город Суйе на территории современной Киргизии, где и родился будущий поэт, в пятилетнем возрасте перебравшийся с родителями в Шу).
В былые годы попугаи здесь бывали
И дали имя острову на У-реке,
Но позже улетели в западные дали[78],
А ветви так же зелены на островке,
Над лотосом туман, душист весенний ветер,
Парчою персиков укуталась волна.
Скитальцу даль пуста, один я в целом свете!
Так для кого ж светла сиротская луна?
760 г.
Если у г. Ухань мы с вами повернем от Янцзы к северу, то попадем в город Аньлу: там, на древних землях Чу, Ли Бо устроил свой первый семейный дом. Он давно мечтал побывать там, взойти на Шоушань (гору Долголетия): невысокая, не более 100
И не успела еще осень окончательно перейти в зиму, впрочем, отнюдь не морозную, а скорее умиротворяющую, хотя порой и слякотную, как Ли Бо вместе с Мэном, сопровождаемые верным слугой Даньша, отправились в Аньлу — место, коему суждено было стать одной из весьма важных точек на карте земных странствий великого поэта.
В Аньлу многообещающему молодому поэту, прощупав его на благочинных раутах, предложили очень и очень неплохую партию — девицу из рода Сюй. Она происходила из высокопоставленного рода, имевшего глубокие корни в высокой императорской иерархии, сама получила прекрасное воспитание, знала толк в изящной словесности (и даже впоследствии нередко выступала в роли первого «критика» творений мужа), имела хорошие манеры, была тонко чувствующей и внешне миловидной 17-летней девушкой.
Вокруг обладательницы стольких достоинств не могли не плестись явные и тайные интриги, о чем с удовольствием повествуют и легенды, и даже ученые исследователи. Семья весьма придирчиво относилась к браку, и многим было по разным причинам отказано. Среди отвергнутых оказались племянник высокого чиновника, изрядный повеса, любитель петушиных боев и собачьих скачек, и даже некий Цуй, помощник губернатора. Пикантность ситуации заключалась в том, что несостоявшийся жених-чиновник по должности своей был обязан присутствовать на этой элитной свадьбе, и предания повествуют об обмене утонченными колкостями и демонстративном состязании между мужчинами в танцах и пении, в чем верх, разумеется, как и положено непобедимому легендарному герою, одержал Ли Бо. Молодым, символически соединяя их, переплели руки красным шнуром, они отвесили поклоны родителям и под громогласные здравицы скрылись в спальне, где под подушкой новобрачной Ли Бо обнаруживает свитки собственных стихов, которые она собирала уже несколько лет …
Однако еще не остыла «парчовая постель», как вспоминал Ли Бо в 12-м стихотворении посвященного молодой жене цикла, а неугомонная душа уже увлекла поэта в новые странствия, к новым впечатлениям. Жена осталась дома, а образ ее поэт увез в тоскующем сердце, и расцветающая вокруг пышная южная весна рождает поэтические картины осеннего увядания.
Еще вчера была весна, казалось,
И иволга певала поутру,
Но орхидея вот уже завяла,
Все жухнет на пронзительном ветру.
Осенний день, с ветвей листы слетают,
Печали нить сучит в ночи сверчок.
Как грустно знать, что ароматы тают
И холод белых рос объял цветок.
728 г.
А потом неугомонный Ли Бо вновь отправился в очередное путешествие — к Осеннему плесу, в обе столицы заглянул, и все эти три года разлуки поэт шлет жене письма-стихи, составившие цикл из 12 стихотворений. Конструкция его достаточно сложна: это беллетризованный дневник, в котором в поэтической форме поэт воспроизводит мысленный диалог с женой. Стихотворения он пишет то от своего имени, то от имени обращающейся к мужу жены, а финальным аккордом становится обмен чувственными репликами в рамках одного стихотворения. Идентифицировать их крайне непросто, так что подчинимся рационализму эрудированных комментаторов и собственной интуиции.
1
Посланцы Богини, три синих летуньи[79],
Письмо принесите мне издалека.
Печаль разрывает душевные струны,
И мысли пронзает разлуки тоска.
Я вижу жемчужные шторы на окнах,
Вот нежные пальцы коснулись струны,
Мелодия дышит печалью глубокой
Лианы, утратившей ветку сосны[80].
Как реки, срывающиеся со склонов,
Наполнят колодец единой водой.
Так циньское сердце и чуские стоны[81]
Созвучны невиданною чистотой.
2
Где мне узреть твой терем золотой?
Быть может, в бирюзовых облаках? —
В зерцале над осеннею водой
Весенним дуновеньем ветерка[82]
Волнуется вечерний твой наряд…
Меня за ширмой златотканой нет,
И кисть твоя строчит за рядом ряд,
Чтоб вестник-гусь скорей принес ответ.
3
Я думал, мне строки достанет
Сказать, что сердце наполняет,
Но кисть бежит — и не устанет,
А чувствам нет конца и края.
Журавль Желтый с Яотая,[83]
Снеси письмо в чертог заветный,
Моя былая свежесть тает,
Седины стали все приметней.
Еще не время возвращенья,
Хоть три весны живем поврозь мы.
Там слив и персиков цветенье,
У окон — красок сочных роскошь.
Прибереги сей фимиам,
Пока не возвращусь я к вам.
4
Гладь озера тоской тревожат
Две яшмовые нити слез.
Здесь где-то Лихуа[84], быть может,
Слезою омочила плес.
Весны зеленые одежды
В цветочной скроются пыльце,
Пожухнет лотос белоснежный,
И мы помыслим о конце.
А к ночи сладострастной тучкой
Летят на башню Солнца[85] чувства.
5
И гора Колдовская, и теплые реки,
И цветы, осиянные солнцем, — лишь грезы.
Я не в силах отсюда куда-то уехать,
Облачка, унесите на юг мои слезы.
Ах, как холоден ветер весны этой ранней,
Разрушает мечты мои снова и снова.
Ту, что вижу я сердцем, — не вижу глазами,
И в безбрежности неба теряются зовы.
6
Воды Чу — за Колдовской горой,
А на Хуанхэ пришла весна.
Дни и ночи сердцем я с тобой,
Чувства — как бурливая волна,
Неотвратно их влечет восток,
Я тебя не в силах увидать.
Цветик мой, ты от меня далек,
Лишь слезинку и могу послать.
7
Осталась я к востоку от Чунлина[86],
А муж сейчас — на ханьских островах[87].
Ковер цветочный распластался дивно,
Но путь к тебе теряется в цветах.
Расстались дождь и тучка в день весенний[88],
Уж осень здесь лежит на лепестках,
В осенних травах — мотылек осенний,
В закате осени[89] сильней тоска.
Увидеться с тобоюй я так хочу!
Я И сброситьшу платье, загасив свечу…
8
Это было в восточном саду, когда персики, сливы алели:
Мы расстались, с тех пор ничего о тебе я не знаю.
Золотистые вазы упали в колодец и не уцелели[90],
Я иду — и вздыхаю, сажусь — о тебе вспоминаю,
О тебе вспоминая, вздыхаю — ты так далеко!
Мой нефритовый лик оживить не сумеет весна,
За лазурным окном осыпается дождь лепестков,
Над притихшим чертогом висит одиноко луна.
Нет тебя предо мной,
Только память хранит.
Я письмо тебе вышила яркой парчой, …
Да боюсь посмотреть…
Даже страшно взглянуть! Как тоску усмирить[91]?!
9
Оживит весенний ветерок
И сердца, и сохлую траву.
Сердцу боль несет дурман-цветок,
Выдерну его — и вновь живу!
На него взгляни — меня поймешь —
И за домом посади его:
Час придет, и ты его сорвешь —
Он напомнит, как нам нелегко.
10
Луский шелк[92], словно яшмовый иней, сверкает,
Строки лунными знаками[93] выведет кисть.
Вот такое письмо я пошлю с попугаем[94]
В дом на Западном море[95], в ту грустную тишь.
Напишу этих строчек коротких немного,
Только каждое слово — как песня, как стих!
Ты за краем небес прикоснешься к ним робко —
И зальешься слезами, увидевши их.
И утихнут разлуки жестокие муки,
Эти тысячи
Наши чувства друг к другу сильнее разлуки,
А такое посланье — дороже монет.
11
При милом комната была цветов полна,
Без милого постель моя давно пуста.
Сверну постель и до утра томлюсь без сна,
Все слышу аромат цветов, хотя прошли года.
Три года помню запах тех цветов,
А муж вернуться все еще не смог.
Деревья уж остались без листов,
Тоска свернулась желтизной листов,
И скован инеем зеленый мох.
12
«Ты — лотос, что красой меня пленит,
Как я хочу насытиться тобой!»
«Твоя душа прекрасна, как нефрит,
Ах, нет предела чувствам, милый мой!»
«Нам нес рассвет жемчужные плоды,
Парчовую постель дарила ночь».
«Цвела любовь… Как вдруг уехал ты,
Дух истощен, тоску прогнать невмочь».
«Дух истощен…
Глаза увлажнены…»
«Светильник догорел. Как тяжек сон!
Душа пуста… Как много седины!»
«Ханьшуй перерезает нам пути,
Тебя поглотит хладною волной».
«Ах, милый мой, красавец мой, приди —
Не мимолетной тучкой дождевой!»
731 г.
Завершив долгое трехгодичное путешествие, Ли Бо оседает дома, где в 728 году у него родилась дочь. Отец выбирает ей имя, для девочки непривычное — Пинъян: так звали третью дочь императора Гао-цзу, основателя династии Тан, даму весьма воинственную, возглавлявшую в чине маршала «женский отряд» государевой гвардии. Тут явно сказалось духовное «рыцарство», присущее Ли Бо, который не расставался с мечом и не имел склонности подолгу оставаться на одном месте. «Оседлость» его в Аньлу была весьма условной. Если не в дальние странствия, то в ближние окрестности он исчезал постоянно. При этом, однако, помнил о чувствах жены, с нежностью выражая их в стихах, как бы написанных от имени тоскующей женщины.
Воды Хань прилепились к Сянъяну[98],
Здесь, у дамбы, привольно цветку.
Ну, а мне здесь и чудно, и странно —
Тучи с юга[99] приносят тоску.
Не дождаться мне вешних томлений
И ветрами развеянных грез.
Ты, являющийся в сновиденьях,
Зов сквозь небо давно уж не шлешь.
734 г.
Ли Бо часто ездил в город Сянъян (совр. Сянфань), где, отказавшись от государевой службы, жил столь почитаемый им поэт Мэн Хаожань, и они вместе погружались в вольную стихию «ветра и потока», то есть не регламентированную никакими внешними установками жизнь в свободном общении с друзьями за жбанчиком вина, сочиняя и тут же нараспев декламируя стихи. Ведь, как уже после Ли Бо сформулировал поэт, «не вино цель хмельного старца». Вот одним из таких стихотворений и был анакреонтический гимн, написанный в песенном стиле, выбиваясь из нормативности традиционной поэтики. Стержнем его сюжета стала легендарная история о посадском начальнике Шань Цзяне, который любил погулять в тех местах и, захмелев, засыпал в кустах без шапки, что считалось непристойным.
Солнце к ночи прячется в горах,
Кто-то там без шапки спит в кустах
Ну, веселье для сянъянской ребятни,
Все горланят «Ах, копытца медные»[100].
Не смеяться над почтенным кто бы смог?
Распластался, точно глиняный комок.
Ай да чарка желтый попугай[101]!
В день по триста опрокидывай[102]
Целый век все тысяч тридцать шесть
Дней, и зелень волн окрест
Виноградным вдруг покажется вином[103],
Сусло мутное поднимется холмом.
Я на девку обменяю скакуна,
Замурлычет песенку, хмельна,
На телеге чайничек вина,
Флейта с дудкой убеждают пить до дна.
Чем вздыхать над незадавшейся судьбой[104],
Опрокинь-ка ты кувшинчик под луной.
Посмотри на старый памятник Ян Ху
Черепашка раскололась, весь во мху[105].
Стоит ли слезинки здесь ронять?
Стоит ли здесь душу омрачать?
Ветер и луна всегда с тобой
Хоть ты рухни яшмовой горой[106].
Молодецкий ковшик для винца[107]
Ты с Ли Бо до самого конца.
Скрылась Тучка княжеских утех[108]
На восток давно поток утек[109]…
734 г.
Много троп проложил Ли Бо в ближних и дальних окрестностях Аньлу, забредал в глухие места, подальше от хоженых дорожек, и, оставаясь один на один с природой, ощущал себя не наблюдателем, а частью ее, вечной и обновляющейся. Это и была та «чистота», к которой он стремился душой, мировоззрением, образом жизни.
Мне дорого закатное светило
И сей родник холодной чистоты,
Закат дрожит в течении воды.
Так трепетной душе все это мило!
Пою восходу облачной луны…
Но смолк — и слышу: вечен глас сосны.
732 г.
В верховьях Белой речки[111] утром шел,
Людей так рано нет здесь никогда,
Зато прелестный островок нашел,
Чисты, пусты и небо, и вода.
Взгляд провожает к морю облака,
Душа меж рыбок плещется в волнах,
Закатного светила песнь долга,
А к хижине ведет меня луна.
732 г.
Внутренняя духовная программа, заложенная в Ли Бо, мешала ему «обуздать» себя, как он писал в одном эссе того же периода. Поэтому его нельзя однозначно назвать «плохим мужем» или «плохим отцом» (а такие оценки попадаются в критических исследованиях). Ли Бо был тем, кого у нас иронично именуют «не от мира сего». Но отбросим иронию, она в применении к гениальному поэту неуместна. Когда он с достаточной зоркостью вглядывался в собственную душу, то осознавал, что суетный мир — не для него. И потому в 60 км от Аньлу соорудил себе на склоне горы среди даоских монастырей хижину, назвав ее «Кабинет в персиковых цветах». В ней винопитие с друзьями он чередовал с погружением в мудрость Лао-цзы и особенно любимого им Чжуан-цзы. Сановитый тесть возмущался, почему не Конфуций. А однажды в лесу на склоне простачок-мирянин поинтересовался, отчего поэт ведет такую праздную и хмельную жизнь, на что Ли Бо с улыбкой, но достаточно серьезно объяснил крестьянину, что лишь в естественности чистой природы способен в полной мере раскрыть себя и исполнить свое предназначение. Кстати, рядом со своим «Кабинетом» он вспахал поле и старательно обрабатывал его.
«Что Вас влечет на Бирюзовый склон?[112]»
Лишь усмехнулся, и в душе покой:
Здесь персиковый цвет[113] со всех сторон,
Нет суетных людей, здесь мир иной.
727 г.
На раннем этапе (720-730е годы) Ли Бо, время от времени стряхивая чары молодой семьи, дуновения свежего ветра и благоухания нетронутой природы, обращался к средоточию своих «социальных ожиданий» — востребованности при императорском дворе. Эту мысль он нередко облекал в такую форму, что только ученые комментаторы оказались способны проникнуть за абрис прелестной картинки. В этом стихотворении они метонимически воспринимают лотос как талант, а диву-прелестницу — как императорский дворец, о котором мечтает молодой поэт.
Среди лотосов я на осенней воде
Засмотрелся на свежесть их и красоту,
Забавляюсь жемчужинками на листе,
Их гоняя туда и сюда по листу.
Мою диву сокрыла небесная даль,
Поднести ей цветок я пока не могу,
Лишь в мечтах я способен ее увидать
И холодному ветру поведать тоску.
729 г.
Несомненен «внеприродный» подтекст и у этого стихотворения: надежды на то, что высокий духом и прямой по своим нравственным качествам поэт пронзит вершиной облака, за которыми сияет свет Сына Солнца-императора.
У южного окна — сосна, одна,
Заросшая пушистыми ветвями,
Не наступает в кроне тишина,
Шумит она и днями, и ночами,
Легла на корни зелень старых мхов,
Туман осенний крася бирюзою.
Как ей достичь вершиной облаков,
Такой высокой и такой прямою?
727 г.
Через 10 лет после своего «Кабинета среди персиковых цветов», уже перевезя семью совсем в другое место, Ли Бо вновь написал о цветке персикового дерева, но совершенно в другом стиле, даже с некоторым ерничеством, так что известный комментатор Ван Ци счел это стихотворение «простоватым по языку, не в стиле Ли Бо».
Волшебный персик Сиванму[114] я посажу у дома —
Дождусь ли я трех тысяч лет до первого цветка!
Ну, не смешон ли плод такой, что зреет слишком долго? —
Сумеет ли его тогда сорвать моя рука?
737 г.
«Тема вина», достаточно распространенная в китайской поэзии, особенно у Ли Бо, не столь проста, как может показаться. Ее истоки — в стремлении к духовной чистоте и прямоте, «как у сосны». Вино создавало некое отгороженное от мира «пространство», где языки развязывались гораздо смелее, чем в чопорной атмосфере за его границами. Ли Бо чувствовал себя в Танской империи «гостем», «странником», «чужаком», и это слово «
Мы пьем с тобой в горах среди цветов —
Фиал вина, еще, еще один…
Иди к себе, а я уж спать готов[116],
Вернешься завтра с семиструнной
733 г.
В маленьких трактирчиках при дороге обычно подавали местное вино, и в каждом новом месте Ли Бо устраивал дегустацию, выберет то, что понравилось, — и торопит принести сразу целый кувшин. За окном поднимались вверх зеленые склоны, на ветках весело щебетали птицы, словно бы беседуя с поэтом, весной на миг раскрывались яркие цветы, к лету уже роняя лепестки, а осенью скукоживались травы, и в созвучии с этими природными ритмами жил поэт. Не всякое вино вдохновляло, но порой он легко импровизировал что-то с учетом местных реалий и стремительной кистью оставлял четверостишие на стене кабачка.
Кувшин обвязан шелка лентой черной,
Не медли, парень, поскорей налей.
Кивают мне цветы со склонов горных —
Настало время чаше быть полней.
Так выпью у окна в закатном свете,
Ко мне заглянет иволга опять.
Хмельной гуляка и весенний ветер —
Друг другу мы окажемся под стать.
733 г.
Особенно проникновенно раскрывалась хмельная картина, если ее окрашивала глубокая меланхолия одиночества. Хотя Ли Бо постоянно окружали друзья и приятели (по крайней мере, до тех пор, пока на него не обрушилась высочайшая опала) и он, судя по стихам, явно оказывался душой компании, но, видимо, тщательно скрываемое внутреннее ощущение поэта близко к тому, о чем проговорился Надсон: «Наиболее одиноким я чувствую себя в толпе».
Ведь даже травы по весне растут
Наперебой у Яшмовой палаты[118],
А мне ветра весны тоску несут,
И сединой виски мои объяты.
Со мной в компании лишь только тень,
Хмельная песня в рощи улетает.
О чем шумите, сосны[119], целый день?
По ком тут ветер меж ветвей рыдает?
Взошла луна, и я пустился в пляс,
Запел, на
Кувшин вина меня один лишь спас,
Не то заполнился б тоской угрюмой.
737 г.
1
Восточный ветр весны летит, душист,
Напоены весною ручейки,
Ложится солнца луч на каждый лист,
И в воздухе порхают лепестки.
В гнездовьях стаи птиц всегда живут,
Приветит тучку опустевший склон:
Всем есть где преклонить свою главу,
Лишь я для одиночества рожден.
И потому я под луной готов
Хмельные песни петь среди цветов.
2
Лелея мысль о Пурпурной Заре[120],
О бытии на дальних берегах,
С вином в руке я на пустой горе
Забудусь на мгновение в мечтах.
Перебирая струны под сосной,
Смотрю на отдаленные хребты,
В закате тучка скрылась за горой,
Исчезли птицы в мраке пустоты…
Да только этот дивный край, боюсь,
Осенняя к утру объемлет грусть.
737 г.
Протрезвел я в цветах, а вокруг уже ночь,
Лепестков облетевших одежда полна.
Вдоль ручья побреду я куда-нибудь прочь,
Где ни птиц, ни людей, только в небе луна.
Что мрак ночной, когда вино со мной!
Когда я весь — в опавших лепестках!
Я по луне в ручье бреду, хмельной…
Ни в небе птиц, ни путников в горах.
733 г.
Первый брак Ли Бо оборвался в конце 730-х годов, когда семья уже перебралась в город Яньчжоу на востоке территории Лу (совр. пров. Шаньдун), отодвинувшись к северу от Вечной реки. В конвульсиях преждевременных родов госпожа Сюй умерла. Мальчику дали имя Боцинь в честь первого правителя древнего царства Лу. Детям нужна была женская рука, и вскоре Ли Бо сошелся с соседкой, с чьим отцом они познакомились за чаркой вина в местном трактире. Увы, официальным браком это не стало — уж слишком вздорной оказалась женщина, не провидевшая высочайшего предназначения Ли Бо. Поэт заклеймил ее кличкой недальновидной «майчэневой жены» в стихотворении, написанном в день получения долгожданного вызова к императору и восторженно рисующем сценку будущего возвращения Ли Бо к семье — уже важным государевым сановником.
Настоянным вином вернусь я в этот дом,
Откормленным гусем, жирующим в полях!
А ну-ка, все за стол! Где курица с вином?
Все бросятся ко мне, и радость в их речах,
Не только пьем поем, услада для души,
Наш танец горячей лучей в закатный час…
Ну, а теперь коня хлестну, чтоб поспешить
В столичный град. Увы, случилось лишь сейчас!
Майчэнева жена совсем была глупа[122].
Пора сказать семье прощальные слова,
С улыбкой выйду в путь, ведет меня судьба,
Я горд собой, ведь я не сорная трава!
742 г.
Но вернемся к Янцзы и в г. Юйчжан, почти напротив Аньлу, только на южном берегу Реки, завершим «брачную тему» Ли Бо. Потому что в 744 году он женился на госпоже Цзун из весьма сановитого рода, образованной, неглупой женщине и при этом прекрасной кулинарке, которая сразу пленила изысканного поэта местным деликатесом — маринованным карпом с обжаренной золотистой корочкой. По стихам Ли Бо видно, что брак их был исполнен чувств и гармонии. Дом свой они обустроили в Юйчжане.
Я сегодня поеду в Сюньян[124] —
Лишних тысяча
Встречу в лотосах светлую рань,
Напишу «Громовое посланье»[125].
Много в жизни печали и слез,
Но разлука — особого рода,
С той поры, как уехал на Плес,
Писем с севера жду уж три года.
У меня седина на висках,
На лицо не приходит улыбка.
Наконец, повстречал земляка,
И в руках «пятицветная рыбка»[126] —
Золотистой парчи письмена:
Как Вы там, вопрошаешь ты чутко…
Круч отвесных меж нами стена,
Но она не преграда для чувства.
755 г.
Уж иней пал на чуские леса[127] —
Холодной осенью пахнуло разом,
Все золотит осенняя краса,
Зеленое скрывается под красным.
Прощайте же, певуньи под стрехой,
К себе летите в северные дали.
Увидитесь ли вы еще со мной?
Вернетесь ли туда, где вас так ждали?
Ужель забудется сей дивный дом,
Проститесь навсегда с жемчужной шторой?
Не птица я, уж не взмахну крылом,
Чтобы лететь в незримые просторы…
Вложу в письмо свое тяжелый вздох
И неудержный слез моих поток.
755 г.
А когда Ли Бо, наветно осужденный, едет в ссылку на западную окраину империи (г. Елан близ совр. г. Гуйчжоу), ему кажется, что все рухнуло, он в отчаянии, друзья демонстративно отвернулись от него, и даже письма из дома, из Юйчжана, не приходят. Он еще не знает о близкой амнистии, но даже и она не вернет его к прежним «служивым» устремлениям, и в одном из стихотворений этого периода Ли Бо напишет о «корнях», которые, как он понял, необходимо пустить в «родном саду», то есть в домашнем очаге.
За небом Елан. Как же ты от меня далека!
Наш лунный холодный шатер[128] опустел так нежданно!
Вон к северу гусь возвращается сквозь облака,
Он мне не принес долгодожданных вестей из Юйчжана.
759 г.
А это написано уже в Юйчжане. Позади остались надежды и разочарования, душа не рвется в даль, а лишь вспоминает и дает советы. Настоящего нет, осталось лишь прошлое и будущее в заоблачных высях, где Чуский Безумец уже видит себя.
И пять вершин на бреге Гуй-реки[131],
И пик Хэншань[132], что на Цзюи глядит, —
От мест родных в Аньси[133] так далеки…
Куда скитальца может занести!
Печаль одела в белое Пэнли[134],
На отмелях осенний мрак и хлад.
Мечтанья о бессмертии ушли,
Мне не вдыхать Пурпурный Аромат[135].
От царской службы я освобожден,
Как Чао, как Бо И[136], нас скроет грот,
Уходишь ты к Лофу на горный склон,
Меня покой горы Эмэй[137] влечет.
Дорога между нами пусть длинна,
Напомнит друга лунный блеск ночей.
Ищи Безумца Чуского[138] меня
В благоуханье яшмовых ветвей[139].
760 г.
Лушань вызвала у экзальтированного поэта взрыв эмоций, и описание горы дано яркими импрессионистскими мазками. Живописный фокус стихотворения — водопад, на который поэт смотрит с расстояния. Он словно ниспадает с неба, неся Земле заложенную Небом энергию. В этот образ вложена сила природы, мощь и величие естественности. Опустив взгляд вниз, поэт оглядывает скалы, влажные от брызг, и напряжение в его душе, омытой чистотой небесного потока, спадает. Лушаньские скалы представлены неким идиллическим миром, далеким от треволнений будней, жизнь на этих склонах кажется той самой благостной «вечностью», которая выступает во многих стихах прямой альтернативой суетной погоне за карьерными успехами. Не случайно через 3 десятилетия, спасаясь от всколыхнувшего страну мятежа Ань Лушаня и облыжных обвинений в государственной измене, Ли Бо увозит семью именно на склоны Лушань.
1
2
Над Жаровнею курится сизый дым,
Водопад висит белесой полосой,
Словно пал он с бесконечной высоты
Серебристою Небесною рекой.
725 г.
Вон там — пять скал, сидящих старых человечков,
Златые лотосы под сферой голубой.
Видна отсюда прелесть вся Девятиречья[146].
Уйду от мира к этим тучам под сосной.
725 г.
Гора Лушань была излюбленным местом и даосов, и буддистов, испещривших склоны монастырями и гротами отшельников. Осенью 750 года Ли Бо избрал эти склоны для своего очередного периода отшельничества — ухода от мира для размышлений и обретения мудрости. В этом стихотворении поэт воспроизводит свои ощущения в процессе медитации в буддийском монастыре. «Ночные раздумья» — это эвфемизм медитативного погружения.
К Синему Лотосу[148] в необозримую высь,
Город оставив, пойду одинокой тропой,
Звон колокольный, как иней, прозрачен и чист,
Струи ручья — будто выбеленные луной.
Здесь неземным благовонием свечи чадят,
Здесь неземные мотивы не знают оков,
Я отрешаюсь от мира, в молчанье уйдя,
И принимаю в себя мириады миров.
Сердце, очистившись, времени путы прервет,
Чтобы забыть навсегда и паденье, и взлет.
750 г.
То же время, тот же склон Лушань, но это не медитация в молельном зале, а медитативное забытье где-то за пределами монастырской стены, в тиши природы, в слиянии с Естеством, в котором виделась Изначальность мира.
На облаке я долго возлежал[149],
Став постоянным гостем[150] дивных мест,
И насыщалась красотой душа,
Покуда диск закатный не исчез.
Над башней монастырскою — луна,
Среди камней открылся ток ручью.
Чиста душа становится, ясна,
Вот — истина, которой я хочу!
Из рощ коричных слышен плач летяг,
Осенний ветер стих, настал покой.
За море синее[151] глаза глядят —
Умение Хун Я[152] владеет мной.
Пока я жду Небесной Колесницы,
К чему вздыхать и зряшно суетиться…
750 г.
В г. Сюньян (совр. г. Цзюцзян) Ли Бо остановился в даоском монастыре Пурпурного предела, символично связав прошлое с будущим: в 744 г. в монастыре Пурпурного предела (только другом, севернее, в Восточном Лу) он прошел обряд «вхождения в Дао», что дало ему право именоваться монахом (без проживания в монастыре), а в 757 году именно в Сюньяне Ли Бо был заключен в тюрьму, облыжно обвиненный в участии в мятеже против императора.
Что-то осень мне тихонько шепчет
Шелестом бамбуков за окном.
Этот древний круг событий вечный
Задержать бы… Да не нам дано.
Я замру, от этих тайн вкушая,
В беспредельность дух послать могу.
Тучка, от Чжуннани[154] пролетая,
Зацепилась за мою стреху.
Что сказать мне Тан-гадатель[155] сможет?
Да и Цзичжу[156] не отыщет слов.
Сорок девять лет уже я прожил,
Знаю: то, что было, то ушло.
Необузданность моя уснула,
Изменился мир уже давно,
Вот и Тао Цянь[157] домой вернулся,
И созрело доброе вино!
750 г.
И вот он, последний в земном бытии Ли Бо взгляд на любимую вершину. Пройдя тюрьму, амнистированный на полпути в ссылку, он восходит на Лушань, как в свою юность. Все в мире связано незримыми каналами, и вода в колодце бурлит от волн на отдаленной реке, и друзья, которых становится все меньше, соединены друг с другом энергетикой святых гор.
Когда вода в колодце[160] забурлила,
Я понял — волны по реке пошли
И, в зеркало небес раскрыв ветрило,
Повел свой челн до озера Пэнли.
Слегка поморосило в час заката,
Но снова небо в блеске чистоты,
И вот — Лушань! Душа безмерно рада.
Кто ведает пределы красоты!
Встает луна над каменным зерцалом[161],
Небесный мост[162] Жаровней растворен.
Когда душа о друге вспоминала,
Мы видели Лушань — и я, и он.
760 г.
Оглядываясь на Лушань, пока вершина не скроется из вида, мы с Ли Бо плывем дальше, уже предвкушая знаменитый Осенний плес. Лодка минует отрезок Янцзы, около г. Чичжоу расслоившийся на 9 рукавов (Девятиречье), с девятью вершинами одной горы, напоминающими цветок, жадно распахнувший лепестки. Это была одна из 4 знаменитых буддийских гор. За год до того Ли Бо уже бывал здесь вместе с начальником уезда. Девятипалая гора тогда именовалась Цзюцзышань (букв. «гора с 9 детьми»), а поэт восхитился ее необычной красой и предложил переименовать ее в Цзюхуашань (9 гор-цветов).
Я уже бывал в Девятиречье,
Видел девять гор-цветов вдали:
Словно с Неба низвергались речки,
Девять пиков-лотосов цвели.
Так хотел бы я струной певучей
Увести вас в эту даль за мной,
Где хозяин наш на белой туче
Возлежит под вечною сосной[163].
755 г.
Как повезло нам с Вами! Мы, кажется, сразу же и повстречали того, кого жаждали узреть. Сейчас мы на территории небольшого древнего царства Вань, которое к 8 веку, куда мы с Вами направлялись, уже покрылось патиной старины, и его следы сложно отыскать даже в хронологических таблицах, но иероглиф названия остался на каждом автомобильном номере в провинции Аньхуэй: именно он стал нынче символом этого административного образования как некий знак неотрывности настоящего от прошлого, что очень характерно для Китая.
Взгляните вон на ту горушку, что очертаниями похожа на потянувшееся к небу легкое строение, ее так и прозвали «Большая башня» (Далоу). На мшистом валуне сидит человек с семиструнной
Громким, заполняющим все ближнее пустое пространство голосом с легкой хрипотцой усталости и с заунывностью неискоренимой печали он поет, перебирая струны:
Я узнаю эти слова — осенью 754 года, стряхивая на Осеннем плесе горечь последнего прощания с отвергнувшей его столицей, Ли Бо написал целый цикл из 17 стихотворений. В них печаль «отлученного», как некогда определял свою невостребованность во властных структурах его великий и далекий предшественник Цюй Юань, чуть разбавляется влитостью в природу, еще не утратившую чистоты Изначального. Он поет не для кого-то, он поет для себя, это голос его души.
В те поры стихи не декламировали, а пели (как, впрочем, и сегодня делают барды), порой сочиняя мелодии, но чаще приспосабливая строки к великому множеству их, ходивших меж людей. Не было инструмента под рукой — «аккомпанировали» себе постукиванием по лезвию меча, отбивая такт. Музыкальное было время. А как иначе? По Конфуцию, коему все поклонялись, музыка — великий организатор и вдохновитель общественной жизни, она способна гармонизировать нравы в стране (или — испортить их, когда создается не по правилам, устоявшимся в веках).
На Осеннем плесе, обширнейшем районе на территории современной провинции Аньхуэй, Ли Бо бывал не раз и подолгу. Вспухшее многочисленными горами и горками, исчерченное реками и ручьями, шевелящееся летающей, плавающей, ползающей, бегающей живностью, прячущейся в густых зарослях, это тридцатикилометровое пространство, осенью сливающееся в одно сверкающее зеркало воды, расширяло сердце, будило мысль, снимало напряжение суеты цивилизации.
Осень и зиму 754 года Ли Бо провел на Осеннем плесе. В небольшом домишке старого даоса (об этом говорит «даоский» цвет горы в стихотворении — «бирюзовый») на склоне горы гулял ветер, и с ним всю ночь шепталась жесткая подушка, в дыры прохудившейся крыши выглядывала стреха, высматривая далекие звезды, а под утро на больших белых обезьян, к нашему времени уже почти совсем выведшихся, нападал страх, и они оглашали округу печальным воем.
Ночь я провел у Чистого ручья,
Дом высоко средь бирюзовых скал.
Висела над стрехой звезда моя,
Ручей шумел, и ветер завывал,
А на рассвете слышал с темных склонов
Печальные рыдания гиббонов.
754 г.
Прозрачна душа, как прозрачна вода,
В округе такая одна.
А что же Синьань[165]? Она так ли чиста —
До самого-самого дна?
Плыву по зерцалу, и склоны — экран
С цветными узорами птиц.
Но к вечеру стонущий орангутанг
Печалит изгоя столиц.
754 г.
Цапля над осеннею рекою,
Как снежинка, вьется сиротливо.
Здесь душа моя полна покоем,
На песке стою я молчаливо.
754 г.
1
Осенний плес, бескрайний, словно осень,
Пустынный, наводящий грусть на всех,
Заезжий путник грусти не выносит,
Влечет его по горным склонам вверх.
Смотрю на запад — там дворцы Чанъани,
Плывет у ног Великая Река.
Поток, что вдаль стремится неустанно,
Скажи, ты не забыл меня пока?
Слезу мою, что упадет в поток,
Снеси в Янчжоу[166] другу на восток.
2
На Плесах обезьяны так тоскуют,
Что Желтая вершина[167] — в седине,
И, как на Лун-горе[168], печальны струи,
Прощаясь, душу надрывают мне.
Хочу уехать… Не могу уехать!
Не думал задержаться, а тяну…
Когда ж настанет возвращенья веха?
Слезинки бьют по утлому челну.
3
Такой в парчовом оперенье птицы
На небе, в мире не сыскать нигде.
При ней кокетка-курочка стыдится
Самой себя в недвижимой воде.
4
На этих плесах пряди у висков
Однажды бодрый вид утратят свой.
Взлохматиться и поседеть легко
Под бесконечный обезьяний вой.
5
Обезьянок здесь белым белей,
Как снежинки, вьются над землёй,
Тащат малышей своих с ветвей
Позабавиться в воде с луной.
6
Осенний плес… Тоской полна душа,
И не смотрю я даже на цветы,
Хотя ветра и солнце как в Чанша[169]
И, словно в Шань[170], блестит поток воды.
7
Чем я не Шань[171]?! — Хмелен и на коне.
Чем не Нин Ци[172]?! — Озябший, но пою…
Увы, каменья не сверкают мне,
И шубу зря слезами оболью[173].
8
Вершинами богат Осенний плес,
Но Водяное Колесо[174] — престранно:
К нему склонилось небо — слушать плеск
Ручьев, в которых плещутся лианы.
9
Как полог красочный, огромный камень[175]
Уходит в синь, поднявшись над рекой.
Века назад расписанный стихами,
Зарос он мхом зеленою парчой.
10
Здесь бирючѝны рощами растут,
Здесь рододѐндрон расцветает рано,
На склонах цапли белые живут,
А по ущельям плачут обезьяны.
Не стоит приезжать сюда, друг мой,
Сжимает сердце обезьяний вой.
11
Скала Ложэнь[176] уходит к птичьим тропам,
Старик-утес над неводом встает.
Челн путника вода несет торопко,
Свой аромат цветы мне шлют вослед.
12
Вода как будто шелка полоса,
Спокойная, что небо над землёй.
Луна-ясна, покинь-ка небеса,
Стань лодочкой в цветах моей хмельной!
13
В струе воды — чистейшая луна,
В луче луны — вечерний цапли лет.
Там парень с девою плывут, она,
Каштан срывая, песенку поет.
14
Над землей полыхает руда,
Искр багровых летит череда.
В свете лунном плавильщик поет,
И от песни теплеет вода.
15
В три тысячи
Она, как тоска, бесконечно длинна,
И в зеркале вод словно иней осенний…
Не знаю, откуда явилась она?
16
Старый дед в Осенних плесах
Рыбу с лодки ловит рано,
А жена силки уносит
В тень бамбуков на фазана.
17
В цветенье персиков на горных кручах
Я, будто рядом, слышу голоса.
Давай, монах, без слов простимся лучше
И к белой туче устремим глаза.
754 г.
1
Я здесь к ночным прогулкам склонен,
Байгэ луной озарена,
Искрится луч на снежном склоне,
Гиббона тень в ветвях видна.
Но дивное уйдет мгновенье,
И с песней в челн вернусь вновь я.
Здесь — чистота, здесь — вдохновенье,
Здесь вспоминаются друзья.
2
В ночи на склоне кто-то воет,
Ручей приятно холодит,
Драконы разыгрались вволю[179] —
И по реке волна бежит.
Река, заняв луну у неба,
Ее купает в облаках.
В краю отцов давно я не был…
Гляжу в закат[180]… В душе — тоска.
754 г.
А вино тут было отменное, особенно у анахорета Вана из Абрикосовой деревни у Чистого ручья. Оставив чиновную службу, он посвятил свои таланты виноделию. А миляга Ван Лунь из затаившейся в горном ущелье деревушки «Омут персиковых лепестков» (осенью они осыпались в воду и медленно кружились по запруде), винодел и страстный почитатель стихов Ли Бо, не раз присылал поэту кувшины с плодами своего труда, и они весьма пришлись по вкусу Ли Бо, большому любителю и знатоку многосортья вин, производившихся в разных местах и Вань, и Чу, и Лу. Однажды Ли Бо сам заехал к поклоннику, и растроганный Ван Лунь до пристани провожал его с музыкой и танцами, что Ли Бо и описал в стихотворении. От деревни в наши с Вами дни не осталось иного следа, кроме как зарубка в вечности, сотворенная небольшим четверостишием Ли Бо.
Ли Бо ступил на борт челна…
Чу, пристань музыкой полна!
Ван Лунь мне шлет свою любовь
Бездонную, как та волна.
755 г.
Распахивающие душу просторы Осеннего плеса, чарующие ландшафты, услаждающие взор, как нигде способствовали сближению людей, и огромное количество проникновенных стихов Ли Бо посвятил местным жителям — и начальникам, и монахам, и простому люду, которых он ставил на фон чистой, благородной природы.
1
Люб мне Цуй[181] из этих мест,
Он похож на Тао Цяня[182]:
Тополя шумят окрест,
У колодца — два платана,
В дом влетают птицы с гор,
Лепестки летят в бокалы…
Опустел без Вас мой двор,
На душе тоскливо стало.
2
Начальник Цуй, Вы — как начальник Тао:
Слегка вздремнув под северным окном,
Берете
Хотя на нем и струн уж нет давно,
Заглянет гость — ему большую чашу,
Ни чоха[183] не взимаете с людей,
Лишь просом колосится поле Ваше…
Ну, так вспашите же его скорей!
3
Как Хэян, засаженный цветами[184],
Плес Осенний человеку мил,
Край сей прирастает мудрецами,
И весенний дух в нем воцарил.
Реки здесь — Небесные потоки[185],
Горы — ширма, дивно хороша.
Гость от Золотых ворот[186] высоких
Едет с одой, как Цзя И в Чанша[187].
754
Осенний плес был пуст и нелюдим,
В Приказе Вашем мало было дел.
Вы, персики и сливы посадив,
Благоуханным сделали удел[189].
Берясь за кисть, Вы зрите облака,
Зеленая лощина — за окном,
Являюсь я с луной издалека —
Сияньем насладиться и вином.
Сей муж ученый Лю меня пленил,
Уйти отсюда не достанет сил.
754 г.
Плодов бамбука здесь немало,
Не станет Феникс голодать[191].
С луны сорока[192] прилетала,
На ветке собираясь спать.
Вы — Древо Яшмы[193], муж ученый,
К Вам Фениксы крыла стремят.
Душевным светом озаренный,
Вас буду часто вспоминать.
754 г.
В ночи, совсем недалеко от Плеса,
Романс о злобном тигре зазвучал,
А ранним утром на мои расспросы
Се-Тополек, сказали, напевал.
754 г.
Себя вином душистым веселя,
Сижу на камне[197] у реки один.
Когда раскрылись Небо и Земля[198],
Он стал безостановочно расти.
Я Небу улыбнусь, бокал воздев,
Светило уж нисходит на покой.
Остаться бы, на этот камень сев,
Подобно Яню, с вечною удой[199].
Вас, человека гор[200], благодарю стихами,
С душою Вашей так созвучен этот камень.
754 г.
Я укрою Вас собольим палантином,
Предложу вина нефритовую чашу,
Хлопья снега растворяются в кувшине,
И, конечно, холод ночи нам не страшен.
Гость мой прибыл из далекого Гуйяна[201],
Запевая, по-фазаньи он клекочет,
Бамбучок танцует с ветром неустанно,
И фазанка из Юэ[202] ответить хочет.
Ах, как славно эту песенку мы спели!
Так зачем же нам какие-то свирели?
754 г.
Что вам послать отсюда я могу?
Ветвей коричных белые цветы[205].
Луна сверкает, как в ночном снегу,
Друзей далеких вспоминаешь ты,
И, вдохновеньем Шаньского ручья,
Как было там, в Шаньинь, всю ночь горя,
О вас, друзья, до света думал я
И пел «Об удалившихся»[206]… Да зря…
730 г.
Вас не было в Восточном павильоне,
Гуляла цапля на речных песках,
Потом взлетела и на горном фоне
Снежинкой показалась в облаках.
Цзинси меня волнует неизменно,
Волна Драконьих врат[208] — что тигра глаз…
Весне конец — раскрылся рододендрон,
В Линъян с удой идти уж минул час[209].
755 г.
755 г.
Над Горьким бамбуком осенняя всходит луна,
На горьком бамбуке[213] — фазанки печальная тень,
За дикого яньского[214] гуся выходит она:
«Меня он на север увозит на склоны Яньмэнь[215]!»
Хлопочут подружки, стараясь ее остеречь:
«Южанку обманет, как водится, северный гусь,
Мороз над Заслоном Багровым[216] свиреп, точно меч,
Захочешь в Цанъу[217], он ответит тебе — не вернусь.»
«Нет, я с этим гусем лететь не могу, хоть умри!» —
Так, слезы на перья роняя, она говорит.
754 г.
Вот и поднялся он на «Большую башню», как именовалась гора Далоу в 40 км от г. Чичжоу, формой напоминающая легкую постройку. Здесь он не раз бродил, ища сурик, из коего посвященные даосы изготовляли Эликсир бессмертия, смотрел в сторону запада, где осталась покинутая им столица, а в мыслях его уже восток, город Янчжоу, куда, устремляясь к Восточному морю, в котором на гигантских черепахах плавают острова бессмертных святых, воды Реки уносят горькие слезы одинокого странника, скитальца, чуждого этому миру. Поэт, остро переживавший свои неудачи при дворе, стоит перед дилеммой — найти сурик, чтобы приготовить эликсир бессмертия, или раствориться в простоте бытия, но — все же в «заоблачных высях».
От Желтого пика нас гонит рассветный петух,
Чтоб к озеру Ся нам добраться в закатную пору.
Из темного леса торчит серебристый бамбук —
То струи дождя исчеркали застывшую гору.
Искателей сурика, нас ожидает ночлег
На утлом челне среди лотоса листьев зеленых.
Распахнуто небо полночное, и человек
В сверкании звездных потоков стоит, ослепленный.
А утром — к Далоу, где сурик мы сможем найти
На тропах извилистых или в лощинах тенистых…
А что если мне к старику-дровосеку уйти
И рубкой деревьев заняться в заоблачных высях?
754 г.
На Осеннем плесе Ли Бо упорно работал над страстным манифестом своего мировоззрения циклом «Дух старины» (
Мир Путь утратил, Путь покинул мир[219],
Давно забыт тот праведный Исток,
Трухлявый пень сегодня людям мил,
А не коричных рощ живой цветок[220].
И потому у персиков и слив
Безмолвно раскрываются цветы.
Даны веленьем Неба взлет и срыв,
И мельтешения толпы пусты…
Уйду я, как Гуанчэн-цзы, туда,
В Неисчерпаемости ворота[221].
753 г.
Как перл, сверкая, Феникс прилетел,
Небесной глубины прорезав синь,
Но был отвергнут — вот его удел,
Не приняли посланье в Чжоу-Цинь[222].
Отчаявшись, брожу по свету я,
Бездомный, одинокий человек.
Мне так нужна Пурпурная ладья[223]
Мирскую пыль отрину я навек.
В дали морей, на крутизне вершин,
У Чистой речки сурик бы найти,
На пик Далоу восхожу один,
Откуда в высь бессмертных сонм летит.
Их тени исчезают в вышине,
Вихрь-колесница не вернется в мир…
Боюсь, с мечтой расстаться надо мне,
Я опоздал принять сей Эликсир,
Смотрю в зерцало, вижу — седина.
Простите, те, кто взмыл на журавлях,
Давно меня покинула весна,
Ушла в тот край, где персики в цветах.
В град Чистоты[224] бы вознестись — туда,
Где, как Хань Чжун[225], останусь навсегда.
754 г.
Дух осени Жушоу[226] злато жнет,
Над морем месяц, тонкий, как струна,
Кричит цикада и к перилам льнет,
Печали нескончаемой полна.
Где исчезает ряд блаженных дней?
Дает нам Небо перемены знак,
Осенний хлад рождает ветр скорбей,
Сокрылись звезды, бесконечен мрак.
Мне грустно так, что лучше помолчать
И в песне до зари излить печаль.
753 г.
Мой меч[227] при мне, гляжу на мир кругом:
На нем лежит дневная благодать,
Но заросли скрывают дивный холм,
Душистых трав в ущелье не видать.
В краях закатных Феникс вопиет
Нет древа для достойного гнезда,
Лишь воронье приют себе найдет
Да возится в бурьяне мелкота[228].
Как пали нравы в Цзинь[229]! Окончен путь!
Осталось только горестно вздохнуть.
753 г.
Большая Жаба в Высшей Чистоте
Набросилась на Яшмовый Чертог[230],
Душа златая гаснет в черноте[231],
И сякнет в небесах лучей поток.
В Пурпурных таинствах зловещий Змей[232],
Зарю восхода хмарь обволокла,
И тучи обещают сумрак дней,
Весь вещный мир объяла ночи мгла.
Та, что в «Глухих вратах» заточена[233],
Теперь одна, ее глава седа.
Тля ест цветы, и гибнут семена[234],
Небесным хладом снизошла беда[235].
Вздохну печально ночи нет конца,
И слезы грусти падают с лица.
753 г.
Наш лик лишь миг, лишь молнии посверк,
Как ветер, улетают времена.
Свежа трава, но иней пал поверх,
Закат истаял, и опять — луна.
Несносна осень, что виски белит,
Мгновенье — и останется труха.
Из тьмы времен к нам праведники шли —
И кто же задержался на века?
Муж благородный — птицей в небе стал,
Презренный люд преобразился в гнус[236]…
Но разве так Гуанчэн-цзы[237] летал?!
Был в тучку впряжен легкокрылый Гусь.
753 г.
Цзюньпин[238] уже отринул мира плен,
И миру без Цзюньпина жить осталось.
Прозрел он ряд Великих Перемен
И многих спас, познав Первоначало[239].
Влекомый
И размышлял, замкнув плотнее двери.
Не явится к нам всуе Белый Тигр,
Пока не возвестит Пурпурный Феникс[240].
Под белым солнцем обозначен рок,
Но кто его узрит в потоках звездных?
Ведь гость морской[241] от нас уже далек,
И некому постичь безмолвья бездну[242]!
753 г.
«Городок у реки» — поэтическое прозвание Сюаньчэна. За три века до Ли Бо здесь начальствовал замечательный поэт Се Тяо, которого Ли Бо ценил больше многих, узнав в нем созвучную душу. Так что, покинув Осенний плес, простившись с виноделом Ван Лунем, направимся к югу от Вечной Реки, чтобы поклониться кумиру нашего поэта. «Городок у реки» откроется нам не сразу. По пути мы полюбуемся другими красотами многообразного и духовно глубокого Китая.
Откуда ты, монах, пришел в Шуйси[243],
Где лик луны плывет меж берегов?
Чуть рассвело, ты, молвив мне «прости»,
Поднялся по ступеням облаков
В недосягаемую высоту
Над сотней сотен гор, меж звезд и лун,
Беспечный, как когда-то был Чжи Дунь,
Ветрам отдавшись, словно Юань-гун[244].
Увидимся ль когда-нибудь, монах?
Гориллы вой ночной вселяет страх.
755 г.
Челн непрокрашенный[247] несет нас по Цзинси —
Чем это не Жоси, не Облачны врата[248]?
Мы следуем Канлэ, и этот вид красив,
А Гуйцзи далеко, пойдем ли мы туда?
755 г.
Прелестна Цзинчуаньская река,
Красы ручья Жое[249] тут были б жалки,
Лазурные вершины по брегам,
Гуляют цапли по парчовой гальке,
Извивы за извивами манят,
Да задержаться силы не достанет,
Ручей Цинь Гао[250] отошел назад,
А впереди — кумирня на Линъяне[251],
Святой Цзымин меня не увидал,
Лишь ясная луна с небес спросила:
Скажи, что привело тебя сюда? —
Та тьма, которая Ли Ао[252] скрыла.
Пэнлайского холма достойна кисть[253],
Что создает чистейшие творенья.
На этот мир прекрасный оглянись,
На тайный дух, идущий от деревьев.
Ты — наш Хуэйлянь[254], прими бокал вина,
Ты — наш Ма Лян, семейный Белобровый[255].
Нет строк про мост у моря у меня,
Да и про мост над речкой нет ни слова[256].
Когда еще тебя увижу я?
Разлуки обрывают наши встречи.
Ну, а пока цветистая ладья
Плывет меж табунов в златых уздечках.
Мы — Фениксы с горы Цанъу с тобой,
Сидим на разных ветках Древа яшмы[257],
И путь свой каждый выбирает свой,
За край небес ты улетишь однажды,
Увидишь даль, что поглощает свет.
И пусть в осенней тьме дрожат гориллы,
С волною я пошлю тебе привет,
Чтоб знал ты — брата сердце не забыло.
755 г.
На берегах Няньтань щебечут птицы,
Мартышек на горах неперечет,
Так снежной пеною волна вихрится,
Что средь камней речных застрял мой челн.
А лодочники с длинными шестами
Ведут здесь лодки днями и ночами.
755 г.
Над заводью навис Трехвратный пик,
За валом вал стремятся по Люцэ,
Скала — что тигр, среди камней притих,
Поток — что хвост дракона, сжат в кольце.
Не Цилилай[262], конечно, но не хуже!
Быть может, здесь уду закинуть нужно?
755 г.
Восходит день за днем светило,
И птицы прячутся к закату…
Тоска скитальца прихватила
У этих склонов кисловатых.
755 г.
Обитель Отрешенности я знаю,
Сколь много дивных мест на склонах сих,
В горах Лангунов цитрус[265] прорастает,
Сосна Бэйду[266] стоит у врат глухих.
Здесь тигров укрощают и доныне[267],
Но посох Вас на сирый склон ведет.
Когда-нибудь мы встретимся в Наньлине —
Там, где в ущелье скрыт тенистый вход.
753 г.
И вот, наконец, петляя мелкими речушками и ручьями, мы добрались до города Сюаньчэн, с которым у Ли Бо были особые отношения: в 5 веке начальствовал тут Се Тяо, самый любимый поэт Ли Бо. Если в ХХI веке Вы заезжали в Сюаньчэн, то, быть может, ничего особо приметного там и не заметили. Пропыленный провинциальный городишко, в основном, двух-трехэтажный, но кое-где уже вспучивающийся посверкивающим на солнце стеклобетоном в десяток этажей. Но сейчас мы видим его девственно прелестным, уютно прикорнувшим меж двух речушек, взявших город в кольцо (прозвание «город у реки» было его фирменным титулом). Ли Бо часто поднимался на городскую башню, построенную Се Тяо, простоявшую века уже после Ли Бо, в ХХ-м веке спаленную пожаром японо-китайской войны, нелепой и кровавой, как все войны, но потом восстановленную. Вернувшись в наш ХХ1 век, Вы сможете подняться на эту башню и взглянуть на мир с той самой точки, с какой смотрел на него Ли Бо. Правда, вместо «синей бездны» и «двух потоков» с «двумя мостами» вы увидите со всех четырех сторон новостройки с хоботами башенных кранов.
Городок у реки как на дивной картине:
Очарована синею бездной скала,
Два моста разноцветие радужных линий,
Два потока сверкающие зеркала.
Закурились дымки, холод цитрусам страшен,
Затихают платаны в осенней красе.
Так кого же мне вспомнить на Северной башне? —
Пусть в ветрах прозвучит стих почтенного Се!
753 г.
Это стихотворение локализовать непросто. В нем нет четких топонимических вех, только психологические нюансы. И все же: к северу от Сюаньчэна поднимаются вершины гор, заросших лесом, а к востоку — петляют два потока, беря этот «городок у реки» в кольцо.
На севере зеленых гор стена,
К востоку вод излучины видны.
Здесь нам с тобой разлука суждена,
Травинки ураганом сметены.
Летучей тучкой растворится друг,
Заката грусть разлив в душе моей,
И на прощанье лишь отмашка рук
Да жалобное ржание коней.
738 г.
Прозрачней Тунга[268] этот ручеек,
Укрыла берега дерев краса,
Пик к солнцу устремляется, высок,
Склонились скалы, словно небеса,
Не знаю, как зовут цветастых птиц,
Таких гиббонов белых нет нигде…
Но я не встретил мне созвучных лиц
И горестно вздыхаю в пустоте.
754 г.
Слышу — воет гиббон над осенней Ваньси[270],
Я — отвязанный челн, потерявший причал,
Гусь, на юг полетевший, и жалок, и сир,
К рекам, текшим на север, он зависть питал.
Вы вставали с лежанки Чэнь Бо[271] много раз,
Мне ж до башни Се Тяо дойти нелегко,
Раскидало, как листья осенние, нас,
И от склонов Цзинтин[272] мы уже далеко.
753 г.
В свое последнее посещение Сюаньчэна Ли Бо увидел цветок, который называется «кукушкин цвет», и вспомнил родное Шу, где много кукушек. Особенно рьяно они кричат весной, и их крик фонетически записывается иероглифами «
Кукушки, помню, в Шу кричали,
А здесь весной — кукушкин цвет,
Он отзывается печалью
Воспоминаний юных лет.
763 г.
Сей древний скит сегодня возрожден,
Отверсты в Небеса его врата,
Средь облаков вдруг возникает он,
Виденье наполняет Пустота[275].
Почтенный Шэн в округе знаменит,
Он ярко излагает свою мысль,
Забыв себя, для всех людей открыт,
Не думая стряхнуть мирскую пыль,
Чист, как луна на глади темных вод,
Как белоснежный лотоса цветок,
Он в павильоне без забот живет,
Туда влетает свежий ветерок[276],
Жару смягчает тень высоких стен,
Пока светило не покинет нас,
Вином и чаем потчует гостей
И блюдами изысканнейших яств.
Наш разговор изящен и красив,
Затрагивает тьму мирских вещей,
Ведь дядя мой, уже обнявший
Известный добродетелью своей,
По Лесу Дао[278] бродит меж дерев,
Порой, как Тао Цянь[279], берет бокал.
Чист Небеса растрогавший напев,
Ему средь сосен ветер подпевал.
Но установлен наслажденьям срок,
И камни рассыпаются в песок.
755 г.
Древо яшмы на Цзинтин погребли[281],
Это «Призванный» Цзян, ясно всем.
В доме Сянжу его од не нашли,
Только свиток ритуальный висел[282].
Над водой блестит луна в небесах,
Ваши оды уже там, меж светил,
Меч яньлинский я оставлю в ветвях,
Чтобы вечно погребенье хранил[283].
761 г.
Здесь господина Се покинул друг,
И все несет печаль душе моей.
Гость скрылся, но луны остался круг,
Гора пуста, но все журчит ручей.
Цветы цвели у брега по весне,
Бамбук шумел осеннею порой…
Живое и ушедшее во мне
Соединились в песнь о встрече той.
753 г.
Ты в округ Сюаньчжоу послан, брат,
Чтоб учинить порядок благочинный.
Я ж петь луне всегда средь тучек рад,
Бродя по склонам милых гор Цзинтинских.
Пять осеней летят листы в Дунтин[287],
В трех реках[288] заплутал я без возврата.
Мы редко видимся, а я один,
Томленьем вздохов ночь моя объята.
753 г.
Что ушло — то ушло,
День вчерашний покинул нас.
А душе тяжело
От тревог, что волнуют сейчас.
Ветер гонит и гонит бездомных гусей…
Может, чашей утишится эта тоска?
На Пэнлайской горе[290] строфы младшего Се[291]
Меж поделок возможно еще отыскать.
И становится снова душе веселей,
Воспарим и обнимем луну в небесах,
Перережем ручей… А поток все сильней!
Снова чашу осушим… Все та же тоска…
Нет, не так, как мечталось, я прожил свой век!
Пук волос распусти[292] — и плыви, человек…
753 г.
Старик и там, уйдя из мира,
Колдует над «Весной»[293] для пира,
Но у Истоков[294] так темно,
Кому продашь свое вино?
761 г.
Наш Цзи и у Истоков хочет
«Весной» наполнить много чаш,
Да нет Ли Бо еще в той ночи —
Кому вино свое продашь?
Неподалеку от Сюаньчэна малой каплей Земли приютилась очаровательная тихая горушка Цзинтин (ее высота всего 286 м), по которой любили бродить и Се Тяо в 5 веке (а позже Мэн Хаожань и Ван Вэй), и Ли Бо в 8-м. Только вряд ли мы сумеем заметить нашего поэта, он скорее всего утонул в зеленой глуши, отстранясь от людей, погрузившись в себя, к чему обычно и стремился здесь, на Цзинтин. Тихо и пусто вокруг, ни птиц, ни тучки, ни спутников. Он один. Он одинок. Осенним вечером 753 года он написал тут стихотворение, которое так и называется «Одиноко сижу в горах Цзинтин». Через тысячу с лишним лет трепетные потомки на этом склоне построят один из мемориалов Ли Бо с памятником у въезда, садом камней у подножия и небольшим павильоном, который назовут «Павильон одиночества Ли Бо». И мы с Вами посидим тут, вспоминая, какими простыми штрихами поэт передал свое одиночество в суетном мире движения и благость покоя наедине с недвижной горой. В ХХ1 в. чужеродной вставкой торчит ретрансляционная башня. Впрочем, сейчас, в 8 в., ее еще нет. И без нее смотрится как-то гармоничней. А гармония завершает мир цельностью.
Последних птиц не стало в вышине,
И сиро тучка на покой слетела.
Лишь мы с горой остались в тишине —
Друг друга видеть нам не надоело.
753 г.
Уходит ввысь Цзинтинская гора,
Я здесь живу, как завещал поэт
В стихах, как будто созданных вчера,
Хотя его уже столетья нет[296].
Всхожу по тропам в чистоту луны,
Внизу у городской стены — Циншань[297],
Там только стайки уточек видны,
Крича, напиться из реки спешат.
Споткнулись Вы на жизненном пути,
Но Вы — Журавль в снегу на Яотай[298]!
Над Одиноким облако летит,
И сердце — с ним, в заоблачную даль.
Ко мне Вы заходили в скромный дом,
Мы насыщались смехом и ботвой[299]…
Мир обдал нас осенним холодком,
Так зябко, если друга нет со мной.
У пояса — в сверканье яшмы меч,
Мы с верой не расстанемся легко!
Возможно ли такими пренебречь?!
Нам с Вами место — среди облаков[300].
753 г.
Это стихотворение можно было бы поставить в другой раздел — ведь оно насыщено воспоминаниями о родном крае Шу с его знаменитой горой Эмэй — Крутобровой. И все же — написано оно где-то в районе Сюаньчэна, быть может, на горе Цзинтин, чьи скромные пейзажи сплелись с ностальгическими картинами прошлого, и далеко не ясно, иней какой осени лег на колокола, заставив их пропеть мелодию, улетавшую к облакам. И куда они плывут, эти облака?
753 г.
С Цзинтинских склонов я смотрел на юг —
В небесных взгляд мой растворялся далях.
Пять-шесть святых здесь появились вдруг
И, говорят, не раз затем бывали:
Журчит ручей Цинь Гао[305] между скал,
На той вон круче — место Магутаня[306],
Гора Линъян, куда Дракон летал,
Сосна — с нее Журавль воззвал к Цзыаню[307].
Кто оперен — тот время покорил,
Витает с Фениксами на просторе,
Небесный свод лежит у этих крыл,
Волною дыбятся четыре моря[308]…
Мирское все оставив позади,
Настигну ль их за облачною гранью?!
Наш век — сто лет, и я — на полпути,
А дальше все сокрыл туман бескрайний.
Уже не вижу вкуса в пище я,
Встречаю вздохом суету дневную.
Уйти бы за Цзымином в те края,
Где выплавлю Пилюлю Золотую[309]!
753 г.
Принес меня осенний ветер
На пожелтевшие луга,
В пути красивых гор не встретил
И не смотрел на облака.
Но только лишь минуешь Реку[313] —
Летят листы в лицо с ветвей,
Цзинтин чарует человека
Простою чистотой своей.
Пронизаны ущелья светом,
И горы выстроились в ряд,
Я встретил У и Ши, одетых
Так, словно здесь Небесный град[314],
В пространствах сих народ чудесен,
Средь вод и трав исполнен тайн,
Хуэй-гун особенно известен,
Он освящает этот край.
Сметая пыль в высокой зале,
Витийствует, и мнится мне —
Под тонкой кистью горы встали
Изящной рифмой на стене[315].
Пустынничества скрыты смыслы,
Красу Линъян живописал.
Свод неба над ручьем немыслим,
В воде дрожит луны овал.
Два пика, Каменный и Желтый,
Кто смог столь близко водрузить?
Журавль не прилетает долго,
Цзыань во тьме пути не зрит[316].
Или в стране не стало места
Для птиц, слетающих с небес?
Уходят кручи в неизвестность
Сквозь плотный облачный навес.
Не лучше ль взять дорожный посох,
Уйти в наполненность пустот?
Мы свидимся ль, почтенный старец,
На тропках горного леска?
Письмо труда Вам не составит,
Зато развеется тоска.
753 г.
Мы с гостем шли к Беседке Се.
Вас встретив, выпить захотели,
На лошадей, куражась, сев,
На склон Циншань, смеясь, взлетели.
Летите, кони, на Чанъань…
Но запад скрыл последний лучик.
Столица в сотнях ли… Туман…
Дорогу преградили тучи.
753 г.
На тумане белых туч над Цзинтин
Словно выписан зеленый утун[318],
И в зерцале мелких речек у стен
Неземную вижу я высоту.
Обитают здесь Драконы, Слоны[319],
Цзюнь почтенный — он велик среди них
За Рекою его рифмы слышны,
Ветр несет их до просторов морских.
Ваши чувства — круг луны на воде,
Ваши мысли — жемчуга меж камней.
Не Чжи Дунь[320] ли мне вдруг встретился здесь,
Чтоб открылась суть Не-Сущего[321] мне?
753 г.
Мне вспомнился Аньши[324], плывущий к морю,
Поймал он ветер, в рифму пел с волной,
От мира отрешаясь на просторе,
За рамки бытия уйдя душой,
Душа открылась таинствам природы,
Покоя безмятежности полна.
Здесь ощутил я что-то в этом роде
И поднялся по склону, взяв вина.
С годами к старине мы тяготеем —
Вот я и навестил сей дивный склон:
Непостижимой чистотой овеян,
Чарует больше, чем Вочжоу[325], [326]он,
Шумят ветра, щебечут в гроте птицы,
И морось, словно осенью, мягка,
Ручей, рыча, к подножию стремится,
Как в Трех ущельях Вечная Река.
Цветок небесный мы нарисовали
И долго любовались им вдвоем.
Ах, если б здесь пожить в Драконьем зале[327]! —
Мне душу укрепил бы этот дом.
755 г.
Лишь в орхидее — истинность цветка,
А истинное дерево — сосна,
Душист цветок во тьме у родника,
Сосна зимой — все так же зелена.
Нужна взаимопомощь и крепка,
Когда вокруг бушует дикий цвет.
Так, рядышком клюют два петушка,
Два Феникса одну избрали ветвь —
Там блеск жемчужин, а не грязь песка,
Жемчужина с жемчужиной дружны,
Так странник, что пришел издалека, —
Ему советы мудрые нужны.
Коль не поддержат люди чужака —
В иные дали уведут пути.
Царям служить — опасность велика,
И канцлер Юй бежал в ночи с Вэй Ци;
Смерть в море — это гордость моряка,
Когда настигла весть: Тянь Хэн убит[328].
Жизнь мудреца всегда была горька,
Но на века не будет он забыт.
У Вас душа — она моей близка,
Так дайте мне хоть толику тепла,
Мир пуст и молчалив, моя тоска
Мне не дает прозреть свои пути.
Возьму свой меч, дорога далека,
Про дом родной мне ветер шелестит.
755 г.
Эту ночь я провел под горой
В тишине, пустоте и печали,
Тяжко в поле осенней порой,
Сжатый рис разбирают ночами,
За столом при полночной луне
Предложили овсяную кашу…
Застыдился я — вспомнилась мне
Та голодная, мывшая пряжу[329].
755 г.
Вы — Сюнь, который на Иншуй живал[331],
Отважный Сюй с иншуйских берегов[332],
Придворный летописец бы назвал
Вас одного — собраньем мудрецов.
Бывает, яшма кроется в пыли,
А орхидея сохнет до весны.
Пусть между нами десять тысяч
Мы чистотою душ съединены.
755 г.
Сей южный край невыразимо мил,
В ветрах вы воспарите там душой.
Поскольку Инь Чжунвэнь[334] давно почил,
Один Инь Шу слепит нас чистотой.
На горный склон со жбанчиком вина
Под «Песнь о белых тучках»[335] Вы пришли,
С небес к Вам опускается луна
С высот огромных в десять тысяч
Вы чашу предлагаете луне,
Но луч скользнет — и уж не виден он.
Расстанемся мы с Вами завтра, мне
Останется лишь этот грустный склон.
755 г.
Как хорошо на Тунгуань хмелеть
За веком век! Отсюда не уйду,
И в танце закружусь, и буду петь,
И рукавом с Земли Усун смету.
755 г.
И вот добрались мы с Вами до уезда Данту, где завершилась земная жизнь Ли Бо. Причалим к Воловьей отмели — Нючжу. Над ней тяжело нависает гигантский валун, и шелестит на ветру подросший клен, который за полтора десятилетия до нашего визита увековечил Ли Бо, с чувством горькой зависти описывая, как не он, а другой, тоже никому еще неведомый молодой поэт в этом самом месте пленил своими стихами влиятельного вельможу, и тот поддержал его… В ХХ1 веке рукотворный стальной Ли Бо вознесся над Воловьей отмелью у вечной Янцзы, откуда, хмельной, он 1300 лет назад бросился в воду ловить уплывающего собутыльника-луну, а через мгновенье вынырнул уже бессмертным небожителем, оседлавшим гигантскую рыбо-птицу
Так гласит легенда. А что в сказке ложь, что намек — так сразу и не ответишь. Во всяком случае, знаменитый скульптор Цянь Шаоу в свое творение из нержавеющей стали вложил откровенную идею вознесения: поэт раскинул руки, и ветер раздул просторные рукава так, что напоминают они крылья фантастической птицы
У Воловьей отмели нержавеющий стальной образ поэта возносится, провожаемый нашими взглядами, в надзвездное пространство бессмертных.
История, более скучная и приземленная, передает нам иную версию — он умер в доме своего дяди Ли Янбина, уездного начальника, от обострения болезни, сегодня именуемой “хроническим пиотораксом”. Его похоронили на горе, уходящей к небу над Воловьей отмелью и над нависающим над ней гигантским валуном, но затем решили, что поэту приятней будет покоиться в нескольких
И люди стали чтить оба захоронения. Вокруг могилы с прахом на Зеленой горе — ухоженная парковая зона, вдоль аллеи, именуемой в путеводителях «
Утес Нючжу над Западной рекой,
Все тучки улетели на покой.
Куда-то с неба тучки скрылись все,
Вот здесь и вспомнить генерала Се,
Взойду на лодку, наслажусь луной…
Любуясь рассиянною луной,
Здесь Небо помнит генерала Се!
Увы мне! Я бы мог стихи читать,
Да кто услышит их в тиши ночной?!
Когда я утром парус подниму,
Лишь клен махнет прощальною листвой.
739 г.
Взойду в ночи на башню. В отдаленье
С дерев листы нисходят в мрак речной,
Холодной синью скутаны ущелья —
Сколь дивный вид за городской стеной.
Но чуских тучек вереницы тают,
Гусей надрывным плачем ночь полна.
Ах, милый друг, меж нас такие дали!
Скорбящая душа уязвлена.
755 г.
Когда наступал девятый день девятого месяца по лунному календарю — один из осенних праздников (Чунъян), — все устремлялись на склоны гор и устраивали пикник среди мелких диких желтых хризантем и кустарников кизила, пили вино, настоянное на лепестках хризантем, и вспоминали далеких друзей и родных. Даже в одиночестве поэт представляет себя в центре веселой компании друзей, подпуская, правда, толику грустной иронии.
Ну, что за дивный облачный денек!
Чисты ручьи в сияющих горах,
В кувшине зелье — что зари глоток[339],
Настоянный на желтых лепестках.
На камнях, соснах — седина веков,
Поднялся ветер, загудел струной,
Взгляну в фиал — и на душе легко,
И усмехаюсь над самим собой.
Сбил ветер шляпу. Я хмелен совсем.
Мир — пуст. Так песней помяну друзей.
753 г.
Я в праздник пил на Голове Дракона,
Хрисанфы над изгнанником[341] смеялись,
Сбил ветер шляпу[342] и погнал по склону,
А я плясал, ловя луны сиянье.
763 г.
На склон горы я поднялся вчера
И вновь туда иду с вином в кувшине.
Хрисанфы грустны с самого утра —
Вчера топтали их, потопчут ныне.
763 г.
Мне люба безмятежность этих вод,
Восторгу моему предел неведом.
Веслом разгонишь чаек хоровод
И рыбку выловишь себе к обеду.
На ряби волн заря дрожит слегка,
По берегам — холмов наряд весенний,
Молодка, бросив пряжу полоскать,
Глядит на проплывающих в смущенье.
Оно смыкается с Первоэфиром[345],
Волна бежит, не зная берегов,
Купцы везут товары с края мира,
Вздымая паруса до облаков,
Широкий черепашку лист качает,
Ночные птицы в камышах видны,
Девчушка лодку к дому направляет,
Сопровождая песней плеск волны.
Зеленая гора накрыта тьмой,
Жилище Се почтенного в тиши,
В бамбуках затихает шум людской,
В пруду луна белесая дрожит,
Засыпал двор давно засохший лист,
Колодец рухнул, серым мхом сокрыт.
Лишь ветерок гуляет, свеж и чист,
Да под камнями ручеек журчит.
С террасы древней Вознесенья духа
Взгляд не встречает никаких преград,
Легко скользит по разноцветью луга
Туда, где круч уходит к небу ряд.
Ко мне в окно влетает тучка смело,
Мир зелен — и бамбуки, и сосна.
Вот прочитать бы надписи на стелах!
Да мхом уже сокрыты письмена.
Известен с давних пор Хуань почтенный,
А кладезь сякнет, никому не нужен,
Седой и мерзлый мох скрывает стены,
И сиротливый месяц мокнет в луже.
Осенний холод оголит платаны,
Тепло весны вновь персики раскроет.
Кто в даль такую добираться станет?
Кто ощутит здесь чистоту мирскую?
Бамбука поросль меж камней видна,
За дымкой чуть заметен дальний остров,
Река в опавших листьях зелена,
И гулок звук на утреннем морозце.
Драконов рык слыхал ли кто-нибудь?
У песен Феникса послаще звуки.
Плакучей слабой ивою не будь!
Будь вечно неизменным — как бамбуки!
Из синевы небес ты смотришь вдаль,
В душе разлука горечью сидит.
Травинкам не понять твою печаль,
Цветам одна забота — расцвести.
Меж вами туч и гор слои, слои,
Пространство зову не преодолеть.
Уходят весны, осени пришли…
Так долго ли еще душе болеть?!
По-над рекою встал утес высокий,
Вершин гряда виднеется вдали,
Большие камни мечутся в потоке,
И набегают грозные валы.
О, сколь прекрасны дерева на склоне!
Безмерен дух немолкнущей реки…
А к ночи обезьяны громко стонут,
И только хмель утишит боль тоски.
Дин Лин простился с этим миром бренным,
Стряхнув мирскую пыль и вознесясь,
Отведал Зелье вечности, Бессмертным
За благовестным облаком умчась.
Грот потаенный спрятали лианы,
Дерев цветущих множество стволов.
В свой Ляодун вернулся он обратно —
Но сколько сроков жизненных прошло!
К холмам далеким нас влечет река,
Что смотрят друг на друга над водой,
Просвечивают в соснах берега,
А волны разбиваются скалой.
Край неба гор вершинами разъят,
В лучах зари они едва видны.
Мой челн уходит в солнечный закат,
И сзади — горы в дымке, зелены.
Год написания не определен
1
Кому-то хороши просторы,
Ну, а по мне здесь очень страшно:
Уж как задует опрокидывает горы,
Валы седые выше Вагуаньской башни[355].
2
Идут морские волны[356] до Сюньяна,
Через Нючжу к Мадану[357] подошли,
Ужасный ветер дует у Хэнцзяна,
Тоска длинна, как десять тысяч
3
На запад взглянешь — Западная Цинь,
А на восток — Ханьшуй и Янский брод[358].
Валы вскипели шапками седин,
И ветер зол. Тут кормчий не пойдет!
4
Летит за феей моря злобный вихрь[359],
Сдвигают волны камни Врат Небесных.
Прилив в Чжэцзянском устье[360] так же лих?
За валом вал — что горы в шапках снежных.
5
Смотритель переправы у ворот[361]
Мне тучи на востоке показал:
«Нужда какая в волны Вас зовет?
В такую бурю плыть никак нельзя».
6
Луна в короне — к ветру и туману,
Волна ужасна — чудище морское,
Прибрежные трясутся три кургана[362].
«Вернитесь, господин, Вам плыть не стоит…»
753 г.
За грани закатного неба уходит Эмэй[364],
Лофу[365] оказалась от Южной Пучины[366] вблизи:
Так мастер задумал и кистью исполнил своей,
Моря и вершины пред взором моим водрузил.
Столь зелены листья, что хочется зал подмести,
На зори в Чичэн[367] и на тучи над Цанъу[368] гляжу —
И в мыслях блуждаю вдоль Сяо и Сян, по Дунтин[369],
В пространстве трех рек и семи водоемов[370] брожу.
В какие края убегает бурлящий поток?
Вернется ли челн одинокий когда-то домой?
Не мечется парус, попутный поймав ветерок
И с ним устремившись за неба предел голубой.
Трепещет душа, обрывая в безмерности взгляд.
Достигнет ли челн трех священных вершин-островов?
Над западным пиком летит и ревет водопад,
В камнях извиваются струи журчащих ручьев.
С востока утесы восстали у туч на пути,
Леса поднимаются в небо, не зная преград,
Ни ночи, ни дня в этой бездне лесной не найти,
Здесь сесть бы за столик! Ведь даже цикады молчат,
И вечные гости[371] расселись под вечной сосной,
Наньчанский святой[372] среди них, молчаливых, сидит.
Наш Чжао мудрейший — вот истый Наньчанский святой!
Летами он зрел и талантом своим знаменит,
Народ принимает, закончив в Приказе дела,
Совсем как святые на сей живописной стене…
Нет, перлом ли подлинным эта картина была?!
Нетленность на склонах природных обещана мне.
От мира уйду! Стоит ждать ли победного дня? —
Там персик улинский[373] улыбкою встретит меня.
755 г.
И вот мы приближаемся к Небесным вратам — так издревле именовали две горы по обеим берегам Вечной Реки, сжимавшие поток, и вода тут сердито бурлит и пенится. Пологий берег Янцзы вспухает холмом, этаким невзрачным прыщом на бескрайности реки, до середины которой и впрямь не всякая птица долетит. А противоположный берег, совсем утратив материальность, чуть намечается сумрачной ширмой где-то на стыке реки с небом, и гора-близнец лишь смутно угадывается. Через 1300 лет из вершины будет победительно торчать бетонный столб высоковольтной линии электропередач, и ближний карьер пропылит кривые невидные деревца на склонах.
Отверзли воды Чу[375] Небесные врата,
Лазурь бежит к востоку, крутится устало.
Мой одинокий парус тонкая черта
Стремит с восхода к поднимающимся скалам.
725 г.
Цзиньлин (совр. г. Нанкин), столица многих династий, имеет историю в две с половиной тысячи лет, и этот грандиозный пласт древности неудержимо манил романтичного поэта. Здесь он обрел немало друзей, и они частенько засиживались до рассвета в знаменитом «Западном тереме» на склоне горы Фучжоу в окрестностях Цзиньлина. А через 2 десятилетия Ли Бо проведет в этом заведении одинокую ночь со жбаном вина и воспоминаниями о своем любимом поэте 5 века Се Тяо, а затем опишет ее, мешая тушь со слезами.
В дуновении зябком цзиньлинская ночь затихает,
Я один, а вокруг — земли У и Юэ[377], земли грез,
И плывут по реке облака и стена городская,
И с осенней луны ниспадают жемчужинки рос.
Я луне напеваю, не в силах прервать эту ночку.
Трудно встретить созвучную душу в минувших годах.
«Шелковиста вода»: стоит только напеть эту строчку —
И «во мраке мелькнувшего» Се[378] не забыть никогда.
749 г.
На подходе к Цзиньлину Ли Бо встретили три горы, рядком выстроившиеся на восточном берегу Янцзы. В древности их называли «сторожевыми» — считалось, что при приближении врага горы начинают дрожать, предупреждая жителей об опасности.
Горы замерли, и даже Янцзы текла достаточно спокойно, хотя уже близился сезон зимних штормов. Но был взволнован город: интеллектуальная элита успела познакомиться с «Одой о Великой Птице Пэн», недавно привезенной попутными торговцами. Произведений такой художественной силы давно не создавалось, и в небольшую гостиничку, где остановился поэт, повалили гости. Поэт импровизировал, каллиграф Чжан Сюй быстрой кистью записывал, приглашенные музыканты напевали. Как говорится, на три дня растянулся малый пир, на пять дней — большой. Отправились к Белым воротам — району любовных свиданий в Цзянькане, как назывался Нанкин еще до того, как стал Цзиньлином. И Ли Бо тут же на мотив популярной песенки «Янпар» изобразил в стихотворении томление юной девы, запасшейся духовитым вином из Синьфэна и ожидающей возлюбленного, с которым их «дымки сольются», как в древних жаровнях, где в специальную чашу выкладывали ароматичные ветви в виде мифической горы Бошань.
Спой мне песенку про ивы
Под Синьфэнов аромат,
Мило в ивах слушать с милой
Иволгу от Белых врат.
Птицы спрячутся в ветвях,
Ты войдешь в мою светлицу,
Как в бошаньских духовитых очагах,
Два дымка сольются, пламя разгорится.
726 г.
До изящной беседки на склоне горы в окрестностях Цзиньлина (совр. г. Нанкин) обычно провожали дорогого гостя, и если к тому времени ивы уже выпустили листки, расстающиеся друзья по давнему обычаю дарили друг другу свежие ветви ивы как знак того, что расставаться горько (слово «ива» омонимично слову «остаться»).
Нет в мире места горше для души,
Чем Лаолао Павильон разлуки…
Весенний ветер знает наши муки
И ветви изумрудить не спешит!
747 г.
Павильон Лаолао печалью прощаний отмечен,
И вокруг буйнотравием сорным прикрыта земля.
Нескончаема горечь разлук, как поток этот вечный,
В этом месте трагичны ветра и скорбят тополя.
На челне непрокрашенном, как в селинъюневых строчках[380],
О снежинках над чистой рекой я всю ночь напевал.
Знаю, как у Нючжу Юань Хун декламировал ночью, —
А сегодня поэта услышит большой генерал[381]?
Горький шепот бамбука осеннюю тронет луну…
Я один, полог пуст, и печаль поверяю лишь сну.
749 г.
Цзиньлинские кабачки оказались столь милы «хмельному
Винный дух в кабачке, пух летит с тополей,
Девки давят вино — ну-ка, парень, отпей!
Все дружки из Цзиньлина меня провожают.
Я в дорогу, вы нет. Так кому же грустней?
Все грустны, каждый присказку знает про воду:
Утечет на восток — что же станется с ней[382]?
726 г.
Когда поздней весной Ли Бо уже который раз приехал в Цзиньлин (совр. Нанкин), его давний друг Цуй[383], прослышав об этом, тут же примчался издалека и привез свое стихотворение («…на краю земли часто взываю к старине Тайбо, / И вот в Цзиньлине ухватил этого «бессмертного гения вина»), на которое Ли Бо тут же сымпровизировал ироничный ответ.
К чему Цзылину[384] десять тысяч колесниц?!
Ушел на склон пустой к лазурному ручью —
Летучая звезда исчезла из столиц[385]…
А «
748 г.
Там растут абрикосы, и ранние росы
Покрывают на ветках весенний наряд.
Ты пришли мне письмо с лепестком абрикоса,
Чтоб с утра и до ночи стоял аромат.
А потом ты увидишь и купы Синьлиня[388],
Захмелев от луны над Курганом Златым[389].
Вестник-гусь, не томи ожиданием длинным,
Пронесись, словно пыль, над простором земным.
754 г.
Над У нависла снега пелена,
Летящая с туманного Бохая[391],
В узорах ветви, словно вновь весна,
В снегу прибрежном луч луны сверкает,
Все кружится и вьется без конца,
Как будто тысячи цветов раскрылись,
Трава волшбы — на лестницах дворца,
Припорошенных яшмовою пылью[392].
И прямо от Шаньчжунского ручья[393]
О друге дума в Лянъюань[394] несется.
Спой песню Ин[395], что посылаю я, —
И песня в моем сердце отзовется.
746 г.
Как Высокоморальный господин[398],
Что некогда на бреге Цзюн[399] живал,
Все дни у Врат оленьих проводил,
А в городе и вовсе не бывал,
Вы ясной наслаждаетесь луной,
Ловя мгновенье гаснущих лучей,
И вознеслись до высоты такой,
Что Вас сравню с людьми ушедших дней.
На сем челе очей прекрасен свет,
И в облаках подобных не найдем.
Вот час прощанья с миром подойдет —
К Чисун-цзы[400] мы отправимся вдвоем.
727 г.
За вазу дали мне вино на диво,
Но возвращаться надо все равно.
Коней стреножим под плакучей ивой
И у обочины допьем вино.
Над морем встали горы голубые,
За краем неба — бирюза воды…
Простимся, возбужденные, хмельные,
Хотя и нет в том никакой нужды.
726 г.
Влечет река к Янчжоу наши лодки,
Светла в ночи беседка у реки.
Цветы в горах что щечки у красотки[403],
Рыбачьи огоньки что светляки.
726 г.
Это было весной, а осенью Ли Бо вернулся в эти места, куда его так тянуло. Но холодный, совсем не весенний ветер прохватил его, и сил хватило добраться только до монастыря Великого просветления к северо-западу от Янчжоу. Монахи заботливо отпоили и откормили поэта, и когда он немного пришел в себя, услышал шуршание пожелтевших листьев, спадающих с замерших в неподвижной ночи веток. На полнеба выкатилось колесо луны! Оказывается, время уже подошло к празднику Середины осени, когда по всему Китаю на всех склонах расстилались циновки, откупоривались жбаны, и желтые лепестки мелких диких хризантем сыпались в пахучие вина, добавляя им аромата. Ну, как же в этот миг не вспомнить далеких друзей, милую сердцу Крутобровую гору отчего края, над которой взошла та же самая луна, какую он видит сейчас в здешнем небе! Ли Бо вышел во двор, слегка пошатываясь от слабости, добрался до деревянного ложа вокруг колодца и присел на краешек. На земле у ног распласталось пятно луны, и чем дольше он вглядывался в него помутневшими от слез глазами, тем отчетливей виделся ему засыпанный листьями монастырский двор, но не здесь, а в отчем краю — тот монастырь в горах Куан, где мальчиком он учился, назывался так же, как и этот, внутренним взором поэт видел усадьбу Лунси у горы Тяньбао в Мяньчжоу и маленький прудик, в котором они с сестрой Юэюань мыли черные от туши кисти после занятий.
Пятно луны светло легло у ложа —
Иль это иней осени, быть может?
Взгляну наверх — там ясная луна,
А вниз — и мнится край, где юность прожил.
726 г.
Я занесен сюда попутным ветром,
Как тучка сирая, как гость чужой.
Успех на службе мне еще неведом,
А время бег не прерывает свой.
Благие помыслы мои увяли,
Недуг телесный сокращает дни.
Мой вещий
Мой острый меч свисает со стены.
Как чуский узник, как Чжуан-вельможа[407],
Пою родные песни в трудный час.
Вернуться странник в дальний дом не может,
Крутые горы разделяют нас.
Проснусь — и вспоминаю Сянжу с
Засну — и вижу дом, где жил Цзыюнь[408].
Не тянет к странствиям меня отныне,
Настала осень, я уже не юн.
Покой сосновых рощ тревожит ветер,
Лакуны трав вдруг открывает он.
Давно я друга старого не видел,
Так кто теперь войдет в мой темный сон?
Лети с письмом на запад гусь[409] высоко —
Не беспокойтесь обо мне, далеком.
726 г.
Ли Бо пробыл в монастыре довольно долго. Он любил эти тихие горные монастыри, вписанные в окружающую нетронутость, они давали внутреннюю подпитку, отвечали на многие мучающие вопросы, и как далеко не всегда нужно было задавать эти вопросы вслух, так и ответы чаще сами возникали спонтанно в расслабляющемся сознании.
Ранними утрами он, обойдя позолоченный шест посреди двора, именуемый Яшмовым древом, поднимался на украшенную яшмовыми блестками девятиэтажную пагоду Силин — вплоть до самой верхушки, до квадратного деревянного навершия с метелочками из красных шелковых шнуров, которое словно витало в прозрачном воздухе. Мистически этот подъем воспринимался как восхождение от вещного мира — к миру, отбросившему сковывающие внешние формы. Платаны и катальпы внизу замерли, обволокнутые сединой росы, а мелкие мандаринчики и огромные шары пампельмусов, что тут зовут «
Душа словно впитывала Изначальные частицы, Первоэфир, у подножия гор замутненный человеческой суетой, и прояснялась, очищалась. Ему казалось, что он поднимается последовательно на каждый из трех слоев буддийского Неба, отбрасывая желания, страсти и обретая глубинную невозмутимость, внутреннее зрение настолько обостряется, что он может различить каждый волосок в белом пучке, растущем между бровями Будды, а через него распахивается весь мир, дотоле спрятанный в тумане полузнания.
Вонзившись в неотмеренную синь,
С высот мне открывая даль за далью,
Первоэфир заоблачный пронзив,
За туч она скрывается вуалью,
Весь мир предметный растворен в Ничто,
И нет страстей за балкой расписною.
Тень на воду отброшена шестом,
Слепят каменья, откликаясь зною,
Птиц под шатром зашевелился ряд,
И капитель зарею золотится.
Из дальних странствий возвратился взгляд —
Душа теперь за парусом стремится.
Катальпы — в белых капельках росы,
Желтеют
Тот, кто узрит здесь Яшмовы власы, —
Рассеет мрак блужданий и исканий.
726 г.
Он все-таки поехал в Янчжоу, а оттуда долго возвращался на юг в заветный край Юэ. Ли Бо нанял небольшую, но крытую, с полукруглым, покрытым влагонепроницаемым черным лаком лодку, под которым можно было укрыться от непогоды и провести ночь на бамбуковых лежаках, пока старик-лодочник, что-тихонько напевая, толкал и толкал длинным шестом лодку мимо Сучжоу, и Ли Бо вспомнил красавицу Сиши[410], стоя на полуразрушенной террасе Гусу, где сластолюбивый правитель древнего царства У закатывал пиры в честь своей возлюбленной наложницы.
В руинах сад, дворец… Но в тополях — весна,
Поют, чилим срывая, девы спозаранку,
Лишь над рекою неизменная луна
Глядит на них, как прежде на пиры У-вана.
748 г.
При этом он написал довольно странное стихотворение, для которого знаменитая красавица оказалась лишь поводом, представленная как невольное орудие коварных планов печально известного в китайской истории Гоу-цзяня, замыслившего переключить внимание Фу-ча, властителя царства У, с государственных дел на прелести девы. В результате Гоу-цзянь прибавил к своему царству Юэ земли У. Впрочем, в дальнейшем все они были поглощены могущественным Чу.
Она росла в Юэ от юных лет
Там, где с Чжуло ручей струился, чист.
Таких красавиц не припомнит свет,
Смущенно лотос прятался под лист,
Когда она, склонясь к лазури вод,
Стирала пряжи шелковый моток.
Зря зубки-перлы и не разомкнет,
Лишь в небеса уйдет глубокий вздох.
Коварный Гоу-цзянь приметил перл —
И к У-царю наш мотылек летит,
А тот дворец для Куколки возвел
Подальше от столичной суеты.
Да вскоре рухнула страна Фу-ча…
Ей далеко от прежнего ручья!
726 г.
Начальник Тао[412], что ни день, хмелен,
А тополь у плетня уж дал росток.
Наигрывал без струн на
Вино цедил сквозь головной платок,
И ветер залетал к нему в окно,
Как в дни Фу Си[413], он волен был душой.
Прийти в Лиян мне будет ли дано?
Ведь Вы теперь мне — человек родной.
754 г.
«Как проехать в Шаньчжун, расскажите-ка мне». —
«Сквозь юэские земли, на юго-восток.
От Янчжоу плывете на легком челне,
И до Гуйцзи несет вас немолчный поток.
Там зеленый бамбук загустел у ручья,
Благовонные лотосы в зеркале вод…» —
«Поднимусь на Тяньму[416], и по осени я
Там возлягу средь скал, отойдя от забот[417]».
726 г.
Ты, говорят, собрался к склонам Гуй[419],
Твой дар Се Кэ[420] их описать сумеет —
Десятки тысяч с круч летящих струй,
Ущелий, спрятанных в тени деревьев.
Увидишь океан с Циньван-скалы[421],
Курган Силин[422] с террасы Юэтая[423],
Озера там, как зеркала, светлы,
И волны-горы в пене пробегают.
Там краски осени — Мэй Чэна[424] кисть,
Бокал Чжан Ханя[425] — край юэский этот.
И на Тяньтай[426], конечно, поднимись,
Где вдохновенье сходит на поэта.
Год написания не определен
Я полон мыслей о святых в Лазурном море на востоке[427],
Там воды ледяные, там ветра,
На Пэн и Ху летит волна-гора,
Кит извергает струи. Мне не подступиться.
Туман безбрежен, и душа трепещет, стонет.
Лишь синим птицам Сиванму[428] дано туда пробиться.
О, если б весть мою к Магу[429] снесли вы, птицы!
Год написания не определен
Жил Чисун на Цветике Златом[430],
Ань Цишэн — на острове Пэнлае[431].
Все те люди древности святой,
Оперившись[432], где теперь летают?
Лишь мгновенье вспышки — жизнь моя,
И другие времена настанут,
Неизменны Небо и Земля,
Человек дряхлеет постоянно.
Есть ли смысл — желания таить?
Взять бокал — и из него не пить?
748 г.
Год написания не определен
Ода Великой Птице Пэн大鹏赋并序
Плывя по реке, пишу своим дальним 江行寄遠
Юный месяц初月
Поднимаюсь на башню Саньхуа в Парчовом граде登錦城散花樓
Восхожу на Крутобровую вершину登峨嵋山
Песнь луне над Крутобровою горой峨眉山月歌
С реки посылаю друзьям в Бадун江上寄巴東故人
Спозаранку выезжаю из города Боди 早發白帝城
Царя Небесного Нефритовая дочь (цикл «Гань син», № 1)
瑤姬天帝女 (感興六首其一)
Колдовская гора на прикроватной ширме 巫山枕障
Ночь у Колдовской горы 宿巫山下
Провожаю секретаря Лу в Долину лютни 送陸判官往琵琶峽
И снова я под Колдовской горой (цикл «Дух старины», № 58)
我行巫山渚 (古风其58)
Поднимаюсь к Санься上三峽
Прощаясь с Шу, плыву за Чуские врата渡荊門送別
Плывя на челне к Цзинмэнь, смотрю на Реку в Шу荊門浮舟望蜀江
Вместе с Ся-двенадцатым поднимаемся на Юэянскую башню
與夏十二登岳陽樓
Жена, окаменевшая в ожидании мужа望夫石
Навеки разлучены遠別離
Вместе с дядей Хуа,
письмоводителем Государственного секретариата, катаемся
по озеру Дунтин 陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至游洞庭五首
Захмелев, мы с дядей,
陪侍郎叔游洞庭醉後三首
В Цзянся провожаю друга 江夏送友人
У башни Желтого журавля провожаю Мэн Хаожаня в Гуанлин
黃鶴樓送孟浩然之廣陵
Мелодия прозрачной воды 淥水曲
Таинственный исток наверх выносит (цикл «Дух старины», № 26)
碧荷生幽泉(古风其26)
Провожаю Чу Юна в Учан送儲邕之武昌
Пою на реке 江上吟
Остров Попугаев 鸚鵡洲
Осенние раздумья 秋思
Песня о большой дамбе 大堤曲
Сянъянская песнь 襄阳歌
Бреду вдоль наньянского родника Цинлэн游南陽清泠泉
Написал, взобравшись на камень посреди стремнины,
когда брел вдоль Белой речки в Наньяне 游南陽白水登石激作
В горах отвечаю на вопрос山中問答
Среди лотосов я на осенней воде (цикл «Подражание древнему», № 11)
擬古十二首其11
Сосна у южного окна 南軒松
Перед домом к вечеру раскрылись цветы庭前晚開花
С Постигшим истину пьем в горах 山中与幽人对酎
Жду не дождусь вина 待酒不至
В одиночестве пью вино 獨酌
Весенним днем в одиночестве пью вино 春日獨酌二首
Разгоняю грусть自遣
Перед отъездом в столицу прощаюсь в Наньлине с сыном南陵別兒童入京
С Осеннего плеса — жене秋浦寄內
Посылаю жене стихотворение о растроганном хозяине и ласточках,
улетающих с Осеннего плеса秋浦感主人歸燕寄內
С пути на юг в Елан посылаю жене 南流夜郎寄內
На западе Цзяннани провожаю друга в Лофу 江西送友人之羅浮
Смотрю на водопад в горах Лушань望廬山瀑布水二首
Смотрю на вершины Пяти старцев близ горы Лушань望廬山五老峰
Ночные раздумья в Дунлиньском монастыре на горе Лушань
廬山東林寺夜懷
И подумалось мне на закате в горах日夕山中忽然有懷
В Сюньянском монастыре Пурпурного предела пишу, ощущая осень
尋陽紫極宮感秋作
Покинув город Сюньян, шлю с озера Пэнли судье Хуану
下寻阳城泛彭蠡寄黄判官
Взирая на гору Цзюхуа, подношу цинъянскому Вэй Чжунканю
望九華贈青陽韋仲堪
Ночую в доме у Чистого ручья宿清溪主人
Песнь о Чистом ручье清溪行
Белая цапля 白鷺鷥
Песни Осеннего плеса 秋浦歌十七首
Гуляю по склону Байгэ у Осеннего плеса游秋浦白笴陂二首
Ван Луню 赠汪伦
Подношу Цую из Осеннего плеса три стихотворения贈崔秋浦三首
Подношу
Подношу Лю Юаню贈柳圓
Услышав, как Се Янъэр поет «Романс о свирепом тигре»,
подношу это стихотворение聞謝楊兒吟猛虎詞因此有贈
В одиночестве выпивая у Чистого ручья на прибрежном утесе,
шлю стихи Цюань Чжаои獨酌清溪江石上寄權昭夷
Снежной ночью у Чистого ручья на Осеннем плесе гость с чашей вина
напевает песню о горном фазане 秋浦清溪雪夜對酒客有唱山鷓鴣者
С осеннего склона посылаю советнику Чжану из Палаты императорских
регалий и «призванному» Вану 秋山寄衛慰張卿及王徵君
Из восточного павильона над Цзинси посылаю
涇溪東亭寄鄭少府諤
Не найдя монахов в горном монастыре, написал это стихотворение
尋山僧不遇作
Станс о горной фазанке山鷓鴣詞
Ночую на озере Креветок宿蝦湖
Мир Путь утратил, Путь покинул мир (цикл «Дух старины», № 25)
世道日交喪(古风其25)
Как перл, сверкая, Феникс прилетел (цикл «Дух старины», № 4)
鳳飛九千仞(古风其4)
Дух осени Жушоу злато жнет (цикл «Дух старины», № 32)
蓐收肅金氣(古风其32)
Мой меч при мне, гляжу на мир кругом (цикл «Дух старины», № 54)
倚劍登高臺(古风其54)
Большая Жаба в Высшей Чистоте (цикл «Дух старины», № 2)
蟾蜍薄太清(古风其2)
Наш лик лишь миг, лишь молнии посверк (цикл «Дух старины», № 28)
容顏若飛電 (古风其28)
Цзюньпин уже отринул мира плен (цикл «Дух старины», № 13)
君平既棄世 (古风其13)
Прощай, монах с вершины горной別山僧
Проплыли с Се Линфу по реке Цзинчуань до монастыря Линъянь
與謝良輔游涇川陵岩寺
Провожаю брата Чуня вдоль реки Цзинчуань涇川送族弟錞
Плыву вниз по реке Линъян в уезде Цзин до затона Няньтань
下涇縣陵陽溪至澀灘
Плыву вниз по ручью Гаоси от горы Линъян к заводи Люцэ
у Трехвратного пика下陵陽沿高溪三門六剌灘
Смотрю на гору Айвы 望木瓜山
Провожаю Туна, чаньского Учителя, возвращающегося в Обитель
Отрешенности в Наньлине送通禪師還南陵隱靜寺
Осенью поднимаюсь на Северную башню Се Тяо в Сюаньчэне
秋登宣城謝脁北樓
Прощание с другом 送友人
Чистый ручей в Сюаньчэне 宣城青溪
Посылаю историографу Цую寄崔侍御
В городе Сюаньчэн смотрю на кукушкин цвет宣城見杜鵑花
Вместе с дядей, начальником уезда Данту, пришли в павильон Цинфэн
к почтенному Шэну, настоятелю монастыря «Град Перевоплощения»
陪族叔當涂宰游化城寺升公清風亭
В Сюаньчэне оплакиваю «Призванного» Цзян Хуа宣城哭蔣徵君華
Беседка господина Се謝公亭
Посылаю младшему брату Чжао, помощнику начальника округа
Сюаньчжоу寄從弟宣州長史昭
За прощальным вином на башне Се Тяо в Сюаньчэне напеваю стихи
дяде Хуа, текстологу宣州謝脁樓餞別校書叔雲
Оплакиваю славного сюаньчэнского винодела старика Цзи哭宣城善釀紀叟
Одиноко сижу на склоне Цзинтин獨坐敬亭山
Гуляя в Цзинтинских горах, посылаю историографу Цую 游敬亭寄崔侍御
Слушаю, как монах Цзюнь из Шу играет на
Подношу архивариусу Доу свои мысли о былом, возникшие, когда
с горы Цзинтин я смотрел на юг 登敬亭山南望懷古贈竇主簿
Направляясь из Лянъюань к горе Цзинтин, встретил Хуэй-гуна, мы
вместе погуляли и поговорили о красотах горы Линъян, в связи с чем
и подношу ему это стихотворение
自梁園至敬亭山見會公談陵陽山水兼期同游因有此贈
В вечерний час, провожая гостя до маленькой горушки к северу
от Цзинтин, встретил историографа Цуя, и мы поднялись вместе
登敬亭北二小山余時送客逢崔侍御並登此地
Посылаю господину Чжун Цзюню из монастыря Линъюань
в округе Сюаньчжоу贈宣州靈源寺仲浚公
Вместе с наньлинским Чан Цзаньфу посещаем гору Усун
與南陵常贊府游五松山
На горе Усун подношу стихотворение наньлинскому Чан Цзаньфу
于五松山贈南陵常贊府
Ночую в доме бабушки Сюнь у горы Усун宿五松山下荀媼家
На горе Усун в Наньлине прощаюсь с седьмым сыном бабушки Сюнь
南陵五松山別荀七
Провожаю Инь Шу к горе Усун五松山送殷淑
Похмельное четверостишие на горе Тунгуань 銅官山醉後絕句
Ночью у горы Нючжу думаю о былом 夜泊牛渚懷古
Посылаю Чжао Яню, помощнику начальника уезда Данту寄當涂趙少府炎
Праздник Девятого дня九日
В день Девятый я пил на Драконьей горе九日龍山饮
А вот что было на десятый день девятой луны 九月十日即事
Десять стихотворений во славу Гушу姑孰十詠
Стансы о переправе Хэнцзян横江词六首
Песнь горам и водам, нарисованным
當涂趙炎少府粉圖山水歌
Взираю на горы Врат Небесных望天門山
В «Западном тереме» за Цзиньлинской стеной под луной читаю стихи
金陵城西樓月下吟
Волнение в ивах楊叛兒
Павильон разлуки — Лаолао劳劳亭
Песня о Павильоне разлуки — Лаолао勞勞亭歌
Оставляю на память в цзиньлинском кабачке金陵酒肆留別
Стихами отвечаю историографу Цую 酬崔侍御
Провожаю друга к Абрикосовому озеру送友人游梅湖
Подношу Фу Аю, глядя на снег над широкой, как море, рекой Хуай
淮海對雪贈傅靄
Посылаю У, горному старцу, к ручью Наслаждения луной寄弄月溪吳山人
Подношу вино, прощаясь в Гуанлине 廣陵贈別
Ночью подплываю к беседке Чжэнлу夜下征虜亭
Грезы тихой ночи 靜夜思
Посылаю в Шу Призванному Чжао Жую то, что написал,
заболев в Хуайнань淮南臥病書懷寄蜀中趙徵君蕤
Осенним днем поднимаюсь на пагоду Силин в Янчжоу秋日登揚州西靈塔
С террасы Гусу смотрю на руины蘇臺覽古
Сиши西施
Шутливо подношу Чжэну из Лияна戲贈鄭溧陽
Простившись с Чу Юном, направляюсь в Шаньчжун 別儲邕之剡中
Провожаю друга, который собрался посетить горы и воды Юэчжуна
送友人尋越中山水
Вот так я думаю давно古有所思
Пью и пою 對酒行
Вольный стих 雜詩