Автор неизвестен
Махабхарата. Рамаяна
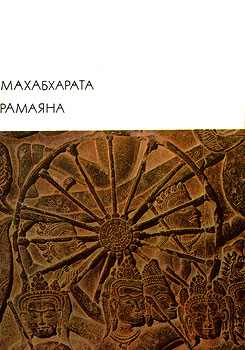
Известны слова Гете, сказанные им в начале прошлого века: «Сейчас мы вступаем в эпоху мировой литературы». Гете имел при этом в виду процесс сближения и даже частичного синтеза западной и восточной литературных традиций, у истоков которого стоял он сам и который, неуклонно расширяясь и углубляясь, продолжается в наши дни. Но слова его в первую очередь были связаны с тем знаменательным в истории литературы фактом, что на рубеже XVIII и XIX веков европейскому читателю стали впервые доступны в переводах многие замечательные произведения восточной классики. Среди них были и древнеиндийские эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», которые у нас в стране, по мере того как растет — особенно за последние два десятилетия — число переложений и переводов из них на русский язык, завоевывают все большие известность и признание. Чтобы литературное произведение пробудило читательский интерес, оно должно обладать двумя на первый взгляд противоположными, но на самом деле дополняющими друг друга качествами: заключать в себе что-то так или иначе знакомое и вместе с тем открывать нечто доселе неизвестное. Если мы не находим в нем ничего нового, необычного, если оно только «повторяет пройденное», то неизбежно покажется нам тривиальным и потому скучным. Если же, с другой стороны, оно никак не соотносится с нашим предшествующим литературным, да и просто человеческим опытом, то психологически и эстетически остается нам чуждым, какими бы объективными достоинствами оно ни обладало. Ввиду этого не случайно, что именно сейчас «Махабхарата» и «Рамаяна» полноправно входят в круг нашего чтения, став для нас словно бы знакомыми незнакомцами. Обе поэмы были созданы около двух тысячелетий тому назад, на санскрите — языке давно уже мертвом, в лоне культуры, отошедшей в далекое прошлое, и, казалось бы, разрыв между нами и тем читателем, кому они предназначались, слишком велик. Таковым он и был долгое время, проявляя себя то в снисходительной трактовке Индии как страны примитивной и полуварварской, то в не менее распространенном, но столь же отстраненном восхищении ее мистической, якобы непостижимой для нас мудростью. Однако в наши дни ситуация резко меняется, Индия перестает быть загадочной страной «чудес и тайн». Мы гораздо лучше узнали Индию современную, а через нее и Индию древнюю. Мы оказались свидетелями крупнейших исторических и археологических открытий в Азии, обогатили свой кругозор памятниками индийской философской и литературной классики, и все это заметно сократило дистанцию между нами и древней цивилизацией Индии, сделало ее для нас понятней и доступней.
В большей или меньшей степени те же изменения происходят в нашем восприятии других стран Востока. Можно сказать, что если в эпоху Возрождения европейцы почувствовали себя наследниками и восприемниками греко-римской античности, то теперь интегральной частью нашей культуры становится духовное наследие уже не только западного, но и восточного континента. Тем самым мировая литература из понятия в известной мере умозрительного и условного превращается в явление естественное и реальное, и среди наиболее выдающихся памятников мировой литературы по праву занимают место «Махабхарата» и «Рамаяна».
Мы только что назвали «Махабхарату» и «Рамаяну» знакомыми незнакомцами, поскольку даже при первом чтении они предстают перед нами на фоне наших постоянно расширяющихся знаний о древнеиндийской истории и культуре. Но для такого названия есть еще одно основание. Обе поэмы относятся к жанру героического эпоса, хорошо знакомому нам по литературам многих народов (прежде всего по его классическим греческим образцам — «Илиаде» и «Одиссее» Гомера), и разделяют с другими эпосами коренные особенности этого жанра.
Подобно большинству произведений героического эпоса, «Махабхарата» и «Рамаяна» опираются на исторические предания и сохраняют в своем содержании память о действительно происшедших событиях. Понятие «историчности» в первую очередь приложимо к «Махабхарате», которая часто именует себя
По аналогии с другими национальными эпосами эпоха, вызвавшая к жизни сказания «Махабхараты» и «Рамаяны», получила в научной литературе особое именование — «героический век». Однако между героическим веком и воспевающей его эпической поэзией пролегает обычно немало времени. Так было в Греции, где события Троянской войны относятся, видимо, к XIII веку до н. э., а посвященные ей гомеровские поэмы были созданы четырьмя-пятью столетиями позже; так было с эпосом германских народов, эпическое время которого приходится на IV–VI века, а время литературной фиксации на XII–XIV века; так было и в Индии. Во всяком случае, первые упоминания об эпосе о бхаратах в индийской литературе засвидетельствованы не ранее IV века до н. э., а окончательно, в том виде, в каком она до нас дошла, «Махабхарата» сложилась к III–IV векам н. э. Приблизительно в тот же период — протяженностью в пять-шесть веков — происходит и формирование «Рамаяны». Если принять во внимание этот явно ретроспективный характер индийской эпической поэзии, то становится ясным, почему она доносит от прошлого, которое стремится запечатлеть, лишь весьма искаженное эхо и к тому же причудливо сплавляет ею с историческими реминисценциями последующих веков.
Так, хотя санскритский эпос рассказывает о древнейших племенах эпохи расселения ариев в Индии: бхаратах, куру, панчалах и других, он в то же время знает греков, римлян, саков, тохарцев, китайцев, то есть такие народы, которые стали известны индийцам лишь на рубеже нашей эры. В содержании «Махабхараты» и «Рамаяны» отчетливо ощутимы черты первобытного строя и племенной демократии, описываются родовые распри и войны из-за скота, а с другой стороны, им знакомы могучие империи, стремившиеся к господству надо всей Индией (например, империя Магадхи во второй половине I тыс. до н. э.), а социальный фон эпоса составляет сравнительно поздняя система четырех
Наконец, в непрерывном развитии — от архаических верований до воззрений классической поры — представляет нам эпос идеологические и религиозные учения Индии. В одних разделах эпоса главную роль играют старые ведические (по названию древнейших памятников индийской словесности —
Казалось бы, сочетание различных исторических слоев в пределах одного памятника должно было привести к его внутреннему распаду; казалось бы, сказания и мифы героического века, так или иначе, обнаружат свою несовместимость с художественными формами куда более поздней эпохи. Однако этого не произошло с «Махабхаратой» и «Рамаяной» потому, что они, подобно большинству других эпосов, представляют собой по происхождению памятники устной поэзии. Эпос не принадлежит одному времени, но является достоянием многих сменяющих друг друга поколений. Веками складывались «Махабхарата» и «Рамаяна» в устной традиции, и непрерывность этой традиции, органичность и постепенность происходящих в ней изменений обеспечивали художественное и концептуальное единство поэм на каждом этапе их формирования, вплоть до той поры, когда они были записаны.
Об устном своем происхождении оба эпоса свидетельствуют сами. «Рамаяна» сообщает, что ее сказания передавались из уст в уста, пелись в сопровождении лютни и что первыми ее исполнителями были сыновья Рамы — Куша и Лава. «Махабхарата», в свою очередь, упоминает имена нескольких своих рассказчиков, причем один из них, Уграшравас, говорит, что искусство сказа он перенял, как это и принято в эпической традиции разных народов, у своего отца Ломахаршаны. Будучи памятниками устной поэзии, «Махабхарата» и «Рамаяна» долгое время не знали фиксированного текста. Лишь на поздней стадии устного бытования, в первых веках нашей эры, когда поэмы достигли колоссального размера: «Махабхарата» — около 100000 двустиший, или
Древнеиндийский эпос называет также несколько групп профессиональных певцов, которые исполняли эпические и панегирические поэмы. Среди этих групп выделяются так называемые
Устное происхождение наложило неизгладимый след на внешний облик «Махабхараты» и «Рамаяны». Для успешного и непрерывного исполнения эпоса (тем более такого размера, как древнеиндийский) сказитель должен в совершенстве владеть техникой устного творчества и, в частности, традиционным устным эпическим стилем. Язык «Махабхараты» и «Рамаяны» в этой связи чрезвычайно насыщен устойчивыми словосочетаниями, постоянными эпитетами и сравнениями, всякого рода «общими местами», которые в специальных исследованиях обычно именуются эпическими формулами. Эпический певец хранил в памяти большое число таких формул, умел конструировать новые по хорошо известным моделям и широко пользовался ими, исходя из потребностей метра и в соответствии с контекстом. Поэтому не удивительно, что большинство формул не только постоянно встречается в каждой поэме, но и совпадает в текстах «Махабхараты» и «Рамаяны».
В свою очередь, формулы санскритского эпоса группируются в своеобразные тематические блоки, вообще характерные для эпической поэзии. Такие идентично построенные и стилистически однотипные сцены, как божественные и царские советы, приемы гостей, уход героев в лес и их лесные приключения, воинские поединки и аскетические подвиги, описания вооружения героев, походов армии, пророческих снов, зловещих предзнаменований, картин природы и т. п. — повторяются с заметной регулярностью, и эпический рассказ движется от темы к теме словно бы по заранее расставленным вехам. Та или иная тема может быть разработана в нескольких вариантах, полно или кратко, но в целом сохраняет определенную последовательность сюжетных элементов и более или менее стандартный набор формул.
Так, многочисленные воинские поединки эпоса начинаются обычно с похвальбы воинов и поношения ими друг друга, затем противники поочередно применяют оружие все возрастающей мощи, герой бывает ранен или терпит временное поражение, но в конце наносит решающий удар, повергающий врага наземь или обращающий его в бегство.
Рассказывается, что «между двумя воинами началась битва, яростная, заставляющая подняться волоски на теле», что битва эта была «подобна битве бога и демона» или «Индры и Вритры», что каждый воин был «в сражении равен царю богов» или «Яме, разрушителю времени». Герой нападает на противника, — «словно разъяренный слон на другого слона» или «лев на мелкую тварь»; он «мечет ливни стрел», дротики, «похожие на ядовитых змей», «рассекает надвое его лук», «сбивает с колесницы его возничего». Но «тот, хотя лук его рассечен», а «лошади и возничий убиты», «быстро сойдя с колесницы», «бросается стремительно вперед», «издавая львиный рык», и, «схватив другой лук», «пускает острые стрелы», «с золотым оперением, отточенные на камне». Раненный этими стрелами герой, тем не менее, проявляет «удивительное мужество», он «стоит недвижим, словно скала», а затем, «охваченный жаждой убить» своего врага, швыряет в него копье, «разящее, словно перун Индры», и, «пробив его панцирь», отправляет его «в обитель бога смерти». Когда «тот пал на землю», среди воинов «раздается громкий вопль: «ах! ах!» — и вражеское войско охвачено смятением, «словно коровы, оставшиеся без пастуха».
Несмотря на частные вариации, приблизительно по такой схеме описывается множество эпических поединков; и хотя своим единообразием подобные описания обязаны нормам устного творчества с его «принудительным» арсеналом тем и формул, это единообразие создает и известный эстетический эффект: в значительной мере лишенные индивидуальных характеристик, поединки сливаются в восприятии читателя в обобщенный образ великой эпической битвы.
Специфической чертой композиции древнеиндийского эпоса — и в первую очередь «Махабхараты» — являются также всевозможные вставные истории, иногда как-то связанные с его содержанием (ср. «Сказание о Сатьявати и Шантану», «Бхагавадгиту»), а иногда и вовсе не имеющие к нему отношения (легенды о Кадру, о Винате, о похищении
Сходство «Махабхараты» и «Рамаяны» с иными эпосами мировой литературы не ограничивается, однако, только особенностями их генезиса, стилистики и композиции. Сходство это распространяется на некоторые определяющие черты их содержания.
Мы уже говорили о связи героического эпоса с героическим веком, его обычаями и представлениями. Отсюда свойственная эпической поэзии героизация прошлого, которая проявляется в том, что в центре эпоса оказываются идеализированная фигура легендарного богатыря и рассказ о великой битве между героями и их антагонистами.
В «Илиаде» это битва греков под Троей, в «Песни о Роланде» — сражение армии Карла с сарацинами, в «Песни о моем Сиде» — испанцев с маврами, в сербском эпосе — война сербов и турок, в «Манасе» — поход киргизов против Китая и т. д. Такого же рода великая битва (правда, с фантастической окраской, как это нередко тоже свойственно эпической поэзии) составляет кульминацию содержания «Рамаяны» и пространно описывается в ее самой большой шестой книге. А в «Махабхарате» рассказ о битве занимает шесть центральных книг эпоса (из общего числа восемнадцати), и, согласно самой поэме, толчком к ее исполнению послужил вопрос именно о битве, заданный мудрецу Вьясе царем Джанамеджайей:
Как возникла распря между мужьями, чьи дела нетленны?
И как произошла великая битва, гибельная для стольких существ?[1]
Изображение битвы в «Махабхарате» и «Рамаяне» распадается на цепь поединков, в которых герои стараются выказать все свое мужество, ловкость, презрение к опасности. Но даже в дни мира мерой величия эпического героя в первую очередь продолжает оставаться его воинская доблесть. Описания детства и юности персонажей «Махабхараты» и «Рамаяны» полны упоминаний о том, как они в совершенстве овладели искусством метания копий и дротиков, борьбы на палицах, управления боевыми колесницами. И пандавы и Рама проводят по многу лет в лесу, в изгнании, одетые в отшельническое платье, но и там они непрестанно вступают в поединки с чудовищами-ракшасами и враждебными царями, обнаруживая неслабеющий воинский дух. Достойнейший жених для дочери — кто, как Арджуна и Рама, одолеет соперников в стрельбе из лука (ср. «Одиссею»), достойнейший советник царя — кто, подобно Бхишме, Дроне или Хануману, лучше всех владеет оружием.
Источником доблести эпического героя, наиболее типической его чертой является неутолимая жажда славы. Для героев санскритского эпоса страшна не смерть, но бесславная жизнь; поэтому «смерть на поле боя… исполнена славы, и человек, умерший такой смертью, наслаждается вечным блаженством». Карна, которому его отец бог Сурья советует во избежание гибели быть благоразумным, говорит:
Для такого, как я, бесславна забота о жизни;
Смерть со славой — вот что прекрасно в этом мире!
И слова его напоминают ответ гомеровского Ахилла Фетиде: «Лягу, где суждено, но сияющей славы я прежде добуду», или вавилонского Гильгамеша — Энкиду: «Если паду я — оставлю имя».
На примере Карны мы видим, что воинская отвага, презрение к смерти характеризуют в древнеиндийском эпосе не только главных героев, но и их противников. Даже Дуръйодхана, источник бедствий пандавов и их притеснитель, умирает достойно и величественно. Даже демону Раване воздает хвалу не кто иной, как сразивший его в решающем поединке Рама; он называет Равану «светочем мужества», «не ведающим страха героем», который потерпел поражение не потому, что в чем-нибудь уступал победителю, а потому, что такова была воля судьбы.
Толерантность к противникам составляет особенность, присущую не только «Махабхарате» и «Рамаяне». Она в духе эпической героики, и лишь тогда, когда эпос окрашивается чувствами религиозного либо национального антагонизма (ср. «Песнь о Роланде», «Манас», сербохорватский эпос), уступает место враждебности к оппонентам главных героев. С этой точки зрения показательно, что в «Махабхарате» и «Рамаяне», так же как в «Илиаде», рассказ о битве завершается плачами женщин над телами погибших воинов — причем именно павших врагов: кауравов, Раваны, Гектора, — которые принадлежат к наиболее трагическим и волнующим отрывкам эпоса.
Безусловное мужество, стремление к незапятнанной славе создает неписаный кодекс чести эпического героя. И постоянная забота об охране собственной чести является главным стимулом его поведения. Часто эти стремление и забота ставят героя перед роковой альтернативой, заставляют его выбирать пусть сулящий ему бедствия, но достойный в его понимании жребий. Так, Рама добровольно уходит в изгнание, не желая нарушить слово своего умершего отца; Равана, несмотря на неблагоприятные пророчества, продолжает держать в заточении Ситу; Юдхиштхира — лишь бы его не упрекнули в трусости — соглашается на заведомо несчастную для него игру в кости; Дуръйодхана, задетый в своей гордости, безрассудно мстит пандавам, пренебрегая предостережениями мудрых советников.
Среди оскорблений чести, которые не способен снести эпический герой, худшее — оскорбление его жены. И не случайно посягательство на жену героя или ее похищение часто становится основной пружиной эпического сюжета (ср. оскорбление Драупади кауравами, похищение Ситы Раваной, присвоение Агамемноном пленницы Ахилла, притязания женихов на руку Пенелопы). Даже исторически реальные войны, отражаясь в эпосе, становятся войнами из-за чести, почти всегда вызываются личными причинами. Эпос тяготеет к изображению индивидуума, а не массы, и фигура эпического богатыря, исполненного воинского духа, не терпящего компромиссов, безраздельно господствует в героическом слое эпической поэзии.
Близость эпических сюжетов и отдельных ситуаций, сходство характеров персонажей породили в свое время теорию зависимости одного эпоса от другого и, в частности, древнеиндийского от древнегреческого. Еще во II веке н. э. греческий ритор Дион Хрисостом, познакомившись с содержанием санскритского эпоса, утверждал, что индийцы знали Гомера и «переложили его на свой язык». В XIX веке это утверждение стало достоянием науки: известный немецкий санскритолог А. Вебер и несколько его последователей нашли много общего в образах Агамемнона и Сугривы, Патрокла и Лакшманы, Одиссея и Ханумана, Гектора и Индраджита и предположили, что мотивы похищения Ситы и похода на Ланку скалькированы с похищения Елены и похода под Трою у Гомера. В настоящее время теория заимствования по многим историко-литературным и хронологическим соображениям в применении к древнеиндийскому эпосу справедливо признана несостоятельной, но его родство с другими эпическими памятниками остается неоспоримым. Только объясняется оно не заимствованием и тем более не случайным совпадением, а типологическими параллелями, негласными законами устного эпического творчества, которое развивалось в сходных исторических условиях и с помощью сходных фольклорных мотивов и композиционных моделей.
Сравнение «Махабхараты» и «Рамаяны» с гомеровским эпосом и некоторыми иными эпосами мировой литературы, несомненно, облегчает нам знакомство с санскритскими поэмами и способно даже дать определенный ключ к их интерпретации. Однако ограничиться такой интерпретацией никак нельзя. Древнеиндийский эпос и похож и решительно непохож на другие эпосы. Указанное нами сходство касается в основном героического слоя его содержания. Между тем, как мы уже знаем, «Махабхарата» и «Рамаяна» складывались в течение многих веков, впитывали в себя новые идеи и воззрения, и героический идеал, под влиянием этих специфических для индийской древности воззрений, если и не был полностью снят, то, во всяком случае, был радикально переосмыслен. Оказывается, что понятие «героического эпоса», которым мы до сих пор пользовались, действительно приложимо к «Махабхарате» и «Рамаяне», когда мы рассматриваем их происхождение, их формирование, но оно становится явно узким, когда речь идет об их конечном облике. Художественные концепции санскритских эпопеи отмечены приметами эстетических и духовных запросов, чуждых героическому эпосу, и на основе заботливо сохраненного в устной традиции древнего сказания выросли произведения новые по духу и назначению.
Отличительной и принципиально важной чертой «Махабхараты» является то, что среди ее вставных эпизодов значительное место занимают дидактические и философские отступления, иногда охватывающие (как, например, поучение Бхишмы перед его смертью) целые ее книги. Отступления эти, казалось бы, совершенно независимы от сказания о борьбе пандавов и кауравов и многими специалистами рассматриваются как искусственные интерполяции. Однако обращает на себя внимание, что эти отступления, наряду с другими проблемами, в первую очередь трактуют проблему закона, морали, высшего долга и религиозной обязанности человека, то есть все то, что в индуистской философской традиции объединяется понятием
С точки зрения современного читателя, в поведении эпического героя заключено трагическое противоречие. Герой всегда активен, настойчив, деятелен, его индивидуальность не укладывается в рамки общепринятых предписаний и норм (отсюда мотив озорства, буйства или своеволия эпического героя), но, по сути дела, любые его усилия тщетны и бесплодны. Вся его жизнь и едва ли не каждый конкретный поступок заранее предопределены, его возможности ограничены неподвластными ему силами, он не может изменить того, что предназначено ему свыше.
Своеволие, гнев, неукротимая гордость Ахилла оказываются к концу «Илиады» сломленными ударами рока, и, как бы подводя моральный итог своей борьбе, он говорит о неотвратимости судьбы, бессмысленности сопротивления и ропота: «Сердца крушительный плач ни к чему человеку не служит». Элегический мотив всевластия судьбы — «листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков» — постоянно звучит в «Илиаде», но тем не менее герои поэмы — и в этом их эпическое величие — практически пренебрегают велениями судьбы, живут так, как подсказывают им их чувство чести, мужество, решительность.
«Махабхарату», так же как «Илиаду», как большинство других эпосов, пронизывают сентенции о призрачности успеха, бренности жизни. Как в «Илиаде» битва под Троей, предопределена в «Махабхарате» битва на поле Куру и ее исход. Арджуна должен сразить Карну, Бхима — Дуръйодхану, это знают заранее и победители и побежденные, но сражаются, не считаясь с предопределением, предпочитают «смерть со славой» бесславной жизни. Однако при всем том в попытке показать назначение человека, установить границы его возможностей и стремлений «Махабхарата» идет особым путем. Опираясь на религиозно-философские доктрины, которые были распространены в Индии в пору ее создания, «Махабхарата» выдвигает собственную этическую концепцию, концепцию нравственного выбора и сверхличного долга, которая стала этической доминантой эпоса.
Согласно учению «Махабхараты», человек, действительно, не в силах изменить предначертания судьбы, отсрочить смерть или вместо уготованного поражения одержать победу. Но смерть и рождение, поражение и победа — лишь внешняя канва жизни, истинная же ее ценность в другом — в нравственном содержании. А как раз здесь человеку предоставлена свобода выбора. Он может жить лишь ради самого себя и своего успеха, во имя своих страстей и желаний или же может отречься от корыстных целей и подчинить себя служению сверхличному долгу. И в том и в другом случае его жизнь остается подвластной судьбе, но не быть игрушкой в руках судьбы, придать жизни высшие значение и цель человек способен только тогда, когда пожертвует личными интересами, растворит свое «я» в духовной гармонии мира. Поэтому, признавая волю судьбы, «Махабхарата» в то же время признает моральную ответственность своих героев, учит сочетать с послушанием судьбе собственные усилия. Наставляя Бхиму, Кришна говорит:
Нельзя, сын Панду, жить в этом мире, бездействуя.
Должно действовать, зная, что лишь сочетание судьбы и деяния приносит успех.
Тот, кто действует с этим сознанием,
Не падает духом при неудаче и не радуется успеху.
Все герои «Махабхараты» так или иначе оказываются перед решающим испытанием. В какой-то момент они должны выбрать между личным и общим благом, между собственными интересами и незаинтересованностью в плодах своих действий, между правом сильного и законом, всеобщим долгом, вечной дхармой. Характер этого выбора предопределяет в конечном счете расстановку героев в эпосе, исход битвы на поле Куру.
Пандавы противопоставлены в «Махабхарате» кауравам не столько как обиженные обидчикам или высокие духом малодушным, сколько как поборники справедливости ее противникам. Обижен и Карна — могущественный сторонник кауравов: из-за своего мнимого низкого происхождения он был презрительно отвергнут братьями-пандавами. В благородстве и мужестве — и это также признает «Махабхарата» — Карна не уступит никому на свете, в том числе лучшему среди пандавов воину Арджуне. И все-таки сочувствие творцов эпоса не на стороне Карны. Свой нравственный выбор — союз и дружбу с Дуръйодханой — он сделал по личным мотивам и привязанностям, не желая забыть нанесенного ему оскорбления, пытаясь отомстить своим оскорбителям, из своекорыстных чувств гордости и гнева. Между тем, когда речь идет о борьбе справедливости и несправедливости, утверждает «Махабхарата», следует руководствоваться не личными симпатиями и антипатиями, а внеэгоистическим чувством морального долга, и Карна, пренебрегший им, сам становится виновником своей судьбы в высшем и нравственном ее смысле.
Точно так же никакие ссылки на волю судьбы не могут служить оправданием ни слабовольному царю Дхритараштре, потворствующему своим сыновьям-кауравам, ни старшему среди кауравов Дуръйодхане, на обиду отвечающему большей обидой, на зло еще большим злом. И, напротив, подлинным героем эпоса является Юдхиштхира, который, не превосходя других героев в мужестве и храбрости, превосходит их мудростью и добродетелью, который «никогда не действует, ожидая плодов своих деяний», и, когда ему предлагают нарушить нечестно навязанный пандавам договор и напасть на обидчиков-кауравов, отвечает:
Если про́клятый проклинает, а наказанный учителем наказывает,
Если оскорбленный всех вокруг оскорбляет,
Если побитый бьет, а тот, кого мучат, отвечает мучениями…
То тогда в этом мире, где царит гнев, откуда быть месту жизни?
Примечательно, что тема неукротимого гнева, вызванного личной обидой, вообще характерна для эпической поэзии. Так, в «Илиаде» носителем этой темы выступает Ахилл — главный герой поэмы, И хотя его гнев «ахеянам тысячи бедствий содеял», эпический певец воспевает его («Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…»), поскольку, продиктованный роком, гнев этот вызван незаслуженным оскорблением. «Махабхарата» же, напротив, утверждает:
Дуръйодхана — великое древо гнева;
Его ствол — Карна, его ветви — Шакуни,
Духшасана — его обильные плоды и цветы,
Его корни — неразумный царь Дхритараштра.
Юдхиштхира — великое древо дхармы;
Его ствол — Арджуна, его ветви — Бхима,
Сыновья Мадри — его обильные плоды и цветы,
Его корни — Кришна, Брахма и брахманы.
Воплощением гнева в санскритском эпосе, вопреки «Илиаде», оказываются, таким образом, антагонисты главных героев. Гнев их, какими бы причинами он ни был вызван, бесповоротно в эпосе осуждается, ибо он противостоит дхарме, как забота о себе и своей выгоде противостоит внеличностному долгу.
Четко и полно этическая доктрина «Махабхараты» изложена в известнейшем из дидактических отступлений поэмы — «Бхагавадгите», замечательном художественном и религиозном памятнике индуизма.
Проблемы смысла человеческой жизни, связи и столкновения личных и универсальных представлений о морали разрешаются здесь в беседе Кришны с Арджуной, колесницей которого Кришна управляет в качестве возничего. Перед началом битвы на поле Куру Арджуна видит среди противников своих «дедов, отцов, наставников, дядьев, братьев, сыновей и внуков» и в ужасе перед братоубийственной резней отказывается сражаться, роняет лук. И тогда Кришна, как верховное существо, как духовный руководитель Арджуны, противопоставляет, казалось бы, благородному отказу своего питомца от битвы учение о моральном долге, вечной дхарме.
Кришна говорит, что, поскольку человеку не дано видеть мир в единстве, различать истинные цели бытия, ему остается лишь по мере своих сил выполнять заповеданный ему долг, не заботясь о видимых последствиях своих поступков. Арджуна — воин, кшатрий, его долг — сражаться, и ему надлежит сражаться, отбросив сомнения и колебания, вызванные тем, что он видит мир фрагментарно, исходит из сиюминутных критериев, забывает, что тела преходящи и бессмысленна скорбь о смертях и рождениях.
Однако Кришна не ограничивается только таким прагматическим наставлением. Он разъясняет Арджуне, как преодолеть индивидуальное, фрагментарное восприятие мира. Освободиться от него можно, лишь добившись отрешенности, отрешенности от жизненных привязанностей, от треволнений бытия, от чувств и объектов чувств. Но подобная отрешенность достигается не бездействием («не действовать человек не может»), а бескорыстным действием, безразличием к «плодам дела», равно и дурным и хорошим. Выделяя три пути праведного поведения: путь незаинтересованного деяния, путь знания и путь любви, почитания божества, — Кришна в «Бхагавадгите» особенно высоко ценит первый, ибо без него оказываются недоступными два других. Свое учение он интерпретирует и поясняет на самых разных уровнях: от обыденного, житейского до метафизического — и в заключение вновь ставит своего ученика перед выбором:
Я возвестил тебе знание, составляющее тайну тайн;
Обдумай его до конца и поступай как хочешь.
Герой должен знать высший смысл жизни, но он волен поступать «как хочет». По-разному осуществляют свою волю герои «Махабхараты», и столкновение их воль составляет этический конфликт эпоса, в свете которого решаются все частные его конфликты. На поле Куру сплелись сотни и тысячи судеб героев, свободно избранных ими самими, и грандиозная битва мерит эти судьбы меркой сверхличной судьбы, меркой высшей справедливости.
В индийской традиции «Махабхарата» почитается как священная книга, как «пятая веда», в отличие от древних четырех, доступная простому народу и предназначенная для него. Свое учение «Махабхарата» излагает не в виде предписаний и не только как наставление, но на примере памятных героических событий, взятых из легендарного прошлого Индии. Послушные нормам устного творчества, творцы поздних версий «Махабхараты» оставили нетронутым героическое сказание эпоса, но расставили на нем новые акценты. Использовав традиционный эпический сюжет, они насытили его этической проблематикой в духе современных им религиозно-философских принципов. Моральное учение цементирует «Махабхарату», однако она не теряет ни своей художественной выразительности, ни архаического колорита. И только в этом органичном единстве дидактического слоя и собственно эпического повествования раскрываются смысл и глубина содержания первого древнеиндийского эпоса.
Значительные изменения претерпел за время своего формирования и второй древнеиндийский эпос — «Рамаяна». Однако пути трансформации «Махабхараты» и «Рамаяны» были различными. Конечно, и «Рамаяна» впитала в себя новые философские и нравственные идеи, и в «Рамаяне» имеется много рассуждений о долге, законе, праве и т. п., и «Рамаяна» рисует идеального героя — Раму, воплощение Вишну, олицетворяющего добродетель и справедливость, но в целом моральное наставление остается в ней на периферии повествования. Главное, что в «Рамаяне» по праву ценится индийской традицией, — это ее высокие литературные достоинства. У себя на родине она единодушно признана
В первой книге «Рамаяны» рассказана легенда о том, что послужило толчком к созданию поэмы. Однажды Вальмики, странствуя по лесу, увидел пару птиц
Показателен с этой точки зрения эпилог «Рамаяны». Вставная поэма о Раме, в основных чертах совпадающая с содержанием «Рамаяны» Вальмики, имеется в «Махабхарате». Здесь поэма заканчивается тем, что после освобождения Ситы из плена Рама возвращается с нею в Айодхью и супруги счастливо царствуют долгие годы. Так, по-видимому, и кончалась древнейшая версия сказания. Однако в той «Рамаяне», которая до нас дошла, злоключения героев искусственно продолжены. Узнав, что его подданные подозревают Ситу в неверности, Рама отсылает Ситу в лес. Снова долгие годы проходят в разлуке. И даже тогда, когда супруги вновь встречаются, когда сам мудрец Вальмики убеждает Раму в невиновности Ситы, он продолжает колебаться, и Ситу поглощает Мать-Земля, в третий раз и уже навсегда разлучая с мужем. Это настойчивое повторение темы разлуки Рамы и Ситы нельзя признать случайным. Видимо, творцам поздних версий «Рамаяны» благополучный конец казался противоречащим художественному смыслу поэмы, и ради ее эмоционального и композиционного единства они стремились остаться верными этой теме, рискуя даже бросить тень на безупречного главного героя.
Тема разлуки и скорби от разлуки прикреплена в «Рамаяне» не только к образам главных героев. Так или иначе через разлуку с кем-либо близким (и как крайнее ее выражение — смерть) проходят почти все персонажи эпоса. В первой книге царь Дашаратха со страхом расстается с Рамой и Лакшманой, уходящими на борьбу с ракшасами. Во второй — Дашаратха, его жена Каушалья и весь народ Айодхьи печалятся из-за изгнания Рамы, а затем, в свою очередь, Рама, Каушалья и брат Рамы Бхарата оплакивают смерть Дашаратхи. В четвертой книге трагедия одиночества Рамы дублирована рассказом о несчастьях царей обезьян Сугривы и Валина. И даже батальная шестая книга в значительной мере насыщена скорбными монологами героев, удрученных гибелью своих родичей, и в том числе — жен Раваны, которых смерть разлучила с их господином. Вообще всевозможные плачи по погибшим либо пропавшим без вести героям чрезвычайно характерны для «Рамаяны». Такого рода плачи сами по себе составляют один из традиционных тематических элементов эпической поэзии. Но в «Рамаяне» их количество и размеры далеко превышают обычную эпическую норму, и они задают поэме искомую эмоциональную тональность.
Другим средством, усиливающим лирическое звучание «Рамаяны», являются пространные и красочные описания, которыми то и дело прерывается основное повествование и которые функционально сопоставимы со вставными историями «Махабхараты». К такого рода описаниям принадлежат приведенные в этой книге описания городов Айодхьи и Ланки, гарема Раваны, его колесницы Пушпаки, пожара, учиненного на Ланке Хануманом, и т. п. Но особо важную среди них роль играют многочисленные и тщательно детализованные описания природы. Ландшафт Индии, ее горы, леса и озера, времена года и часы суток представлены в «Рамаяне» в десятках живописных картин и зарисовок, почти каждая из которых может рассматриваться как небольшая и независимая от эпического рассказа лирическая поэма (см. описания горы Читракуты, озера Пампы, ашоковой рощи, в которой томится Сита, весны, осени, сезона дождей и т. п.). Вместе с тем любое из этих описаний окрашено мыслями, ощущениями, желаниями героев эпоса (не случайно они, как правило, вложены в их уста), и потому они всегда оказываются созвучными все с тем же горестным чувством разлуки, которое в различных своих оттенках составляет эмоциональный фокус поэмы.
Стремление к эмоциональной выразительности, лиризму поставило творцов «Рамаяны» перед необходимостью прибегнуть к новым изобразительным ресурсам. Стиль «Рамаяны», в отличие от «Махабхараты», в отличие от обычного эпического стиля, изобилует всевозможными тропами, риторическими фигурами, сложными синтаксическими оборотами. В «Рамаяне» значительно чаще, чем в «Махабхарате», встречаются параллельные конструкции, анафоры, эпифоры, ассонансы, аллитерации, рифма и иные приемы звукописи. Буквально каждая страница поэмы пестрит сравнениями, в том числе развернутыми в самостоятельные миниатюры или соединенными друг с другом в длинный иллюстративный ряд. О богатстве и разнообразии изобразительных средств «Рамаяны» читатель получит достаточно полное впечатление по помещенным в книге переводам, но на одной особенности стиля поэмы хотелось бы остановиться подробнее.
Ранее мы говорили, что язык санскритского эпоса насыщен традиционными формулами и, в частности, сравнениями типа: «с лицом, подобным полной луне», «разящий, словно перун Индры», «похожий на ядовитую змею», «быстрый, как ветер», «словно огонь без дыма» и т. д. Такого рода формульные сравнения специфичны для «Рамаяны» не менее чем для «Махабхараты», свидетельствуя об ее устном происхождении. Но в то же время нельзя не заметить, что формулы в «Рамаяне» нередко подвергаются словно бы нарочитому изменению: расширяются, обрастают уточняющими деталями, превращаются в сложные тропы, рассчитанные на эмоциональный эффект.
Так, например, и в «Махабхарате», и в «Рамаяне» часто встречается формула «погруженный в океан скорби». Но вот в жалобе ракшаси Шурпанакхи на оскорбление, нанесенное ей Рамой, эта формула дополняется неожиданной метафорой:
Отчего ты не защищаешь меня, погруженную в необозримый океан скорби,
Населенный крокодилами отчаяния, увенчанный волнами ужаса?
А в одном из плачей Дашаратхи эта же формула разрастается до четырех двустиший, становится развернутым синтетическим сравнением во вкусе средневековой санскритской поэзии:
Тоска по Раме — бездонная пучина, разлука с Ситой — водная зыбь,
Вздохи — колыханье волн, всхлипывания — мутная пена,
Простирания рук — всплески рыб, плач — морской гул,
Спутанные волосы — водоросли, Кайкейи — подводный огонь,
Потоки моих слез — источники, слова горбуньи — акулы,
Добродетели, принудившие Раму уйти в изгнание, — прекрасные берега —
Этот океан скорби, в который меня погрузила разлука с Рамой,
Увы! — живому мне уж не пересечь, о Каушалья!
Приведенный пример — а в подобных ему в «Рамаяне» нет недостатка — показывает, что творцами «Рамаяны» эпическая формула часто уже ощущалась как стертый образ, который следует оживить новым, нешаблонным стилистическим приемом. Такое использование формул, а также некоторые другие особенности стиля и композиции «Рамаяны», которых мы касались, свидетельствуют, что на позднем этапе в ее формировании все большую роль приобретало авторское, индивидуальное начало. Коренные свойства эпического языка и стиля, узловые моменты древнего сюжета остались неизменными, но далеко не все в поэме может быть объяснено безымянной эпической традицией. По всей видимости, сказание «Рамаяны» — по-иному и даже в большей степени, чем «Махабхараты» — подверглось целенаправленной обработке, причем обработке средствами уже не устной, а письменной поэзии. И поэтому именно «Рамаяна» открыла собою новую эпоху литературного творчества в Индии, эпоху, украшенную именами таких поэтов, как Ашвагхоша, Калидаса, Бхартрихари, Бхавабхути.
История создания древнеиндийского эпоса, определившая во многом специфику его внешнего облика и содержания, как мы видим, была длительной, сложной и необычной. Но не менее необычна его судьба уже после того, как он был создан. До сих пор не исчерпано то глубокое и многостороннее влияние, которое «Махабхарата» и «Рамаяна» оказали на литературу и культуру Индии и соседних с нею стран Азии.
Необозримо число произведений древних и средневековых индийских поэтов, прозаиков и драматургов, в которых либо целиком перелагаются «Махабхарата» или «Рамаяна», либо какой-нибудь заимствованный из них эпизод, миф, легенда. Еще более существенно, что вообще едва ли в санскритской литературе найдется такой автор, творчество которого было бы свободно от воздействия идей, образов и стилистики обеих эпопей. Поэтому не будет преувеличением утверждать, что в Индии, как ни в какой другой стране, эпическое наследие послужило непосредственной основой всего развития классической литературы.
Ситуация мало изменилась и тогда, когда санскрит в качестве ведущего литературного языка Индии уступил место живым языкам и диалектам. На каждом из этих языков существует по нескольку переводов и переделок «Махабхараты» и «Рамаяны», сыгравших, как правило, решающую роль в становлении новоиндийских литератур. И теперь еще повсеместно в Индии обе поэмы исполняются народными сказителями, а для современных поэтов сохраняют силу совершенного образца и примера. Вместе с тем не в меньшей степени, чем на литературу, древний эпос влияет в Индии на все сферы культуры и идеологии. Почитаясь священными книгами, «Махабхарата» и «Рамаяна» во многом способствовали оформлению национальной культурной традиции, выработке кардинальных религиозных, философских, нравственных идеалов и принципов. И любое идеологическое и общественное движение в рамках индуизма всегда стремится отыскать в них свои истоки и опереться на их авторитет.
Однако влияние «Махабхараты» и «Рамаяны» не ограничено одной Индией. Тем, чем «Илиада» и «Одиссея» Гомера были для Европы, «Махабхарата» и «Рамаяна» стали для всей Центральной и Юго-Восточной Азии. Камбоджийская надпись от 600 года рассказывает о чтении «Рамаяны» в местном храме. Приблизительно в то же время появились переложения древнеиндийского эпоса в Индонезии, Малайе, Непале и Лаосе. Не позднее VII века «Рамаяна» проникла в Китай, Тибет и затем Монголию, а «Махабхарата» в XVI веке была переведена на персидский и арабский языки.
Повсюду в Азии, так же как в Индии, знакомство с санскритским эпосом стимулировало, наряду с литературой, развитие культуры и искусств, прежде всего — живописи, скульптуры, театра. Содержание поэм, воспроизведенное на фресках многих индийских храмов, отражено и в гигантских скульптурных композициях Ангкор-Вата (Камбоджа), и на яванских барельефах в Прамбанане. Представления на сюжеты «Махабхараты» и «Рамаяны» составляют репертуар южно-индийской танцевальной драмы «катхакали», классического камбоджийского балета, таиландской пантомимы масок, индонезийского театра теней «ваянг».
Во вступлении к «Махабхарате» говорится:
Одни поэты уже рассказали это сказание, другие теперь рассказывают,
А третьи еще будут рассказывать его на земле.
С этими словами перекликается и двустишие из «Рамаяны»:
До тех пор, пока на земле текут реки и высятся горы,
Будет жить среди людей повесть о деяниях Рамы.
Хотя подобного рода гордые утверждения обычны в памятниках древних литератур, по отношению к санскритскому эпосу они, как мы убедились, поистине оказались пророческими. И эти пророчества обретают особый смысл в наши дни, когда «Махабхарата» и «Рамаяна» преодолевают новые временные и географические границы.
В реченьях правдивый, в сраженьях всеправый,
Маха́бхиша был властелином державы.
В честь Индры заклал он коней быстролетных,[2]
Почтил его множеством жертв доброхотных.
От Индры за это изведал он милость:
На небе, в бессмертии, жизнь его длилась.
Однажды пред Брахмой, спокойны и строги,
Предстали, придя с поклонением, боги.
Пришли и подвижники с царственным ликом,
Махабхиша был на собранье великом,
И Ганга, река наилучшая, к деду,
Блистая, пришла на поклон и беседу.
Подул неожиданно ветер с востока
И платье красавицы поднял высоко.
В смущенье потупились боги стыдливо,
И только Махабхиша страстолюбиво
Смотрел, как под ветром вздымается платье.
Тогда он услышал от Брахмы проклятье:
«Средь смертных рожденный, ты к ним возвратишься,
И, смертный, ты снова для смерти родишься!»
Махабхиша вспомнил, бессмертных покинув,
Всех добрых и мудрых царей-властелинов.
Решил он: «Прати́па отцом ему будет, —
Он царствует славно и праведно судит».
А Ганга, увидев Махабхишу, разом
К нему устремила и сердце и разум.
Пошла, приближаясь к закатному часу.
Пред Гангою восемь божеств, восемь ва́су[3],
Предстали тогда на пустынной дороге.
В грязи и пыли еле двигались ноги.
Спросила: «Я вижу вас в жалком обличье.
Где прежние ваши краса и величье?»
«О Ганга, — ответили васу в унынье, —
Ужасным проклятьем мы прокляты ныне.
За малый проступок, терзаясь душевно,
Мы благостным Ва́сиштхой прокляты гневно.
Приблизились мы по ошибке, случайно,
К святому, молитвы шептавшему тайно.
Нас проклял подвижник в неистовой злобе:
«Вы будете в смертной зачаты утробе!»
Со знающим веды[4] мы спорить не можем,
Но просьбой тебя, о Река, потревожим:
Стань матерью нам, чтобы вышли мы снова
Из чрева небесного, не из земного!»
На них посмотрела, светла и прекрасна,
И ясно промолвила Ганга: «Согласна!
Вы явитесь в мир из божественной плоти.
Кого ж из людей вы отцом назовете?»
Ответили васу: «Из рода людского
Отца для себя мы избрали благого.
То отпрыск Пратипы, чье имя Шанта́ну,
Правдивый, не склонный к греху и обману».
Ответила: «Вас от беды я избавлю,
И вам и ему наслажденье доставлю».
Для васу надежда открылась в страданьях.
Сказали: «Текущая в трех мирозданьях! [5]
Тогда лишь вернемся к небесному роду,
Когда сыновей своих бросишь ты в воду».
Ответила Ганга: «Я вам не перечу,
Но, чтобы со мною запомнил он встречу,
Когда перед ним как супруга предстану, —
Последнего сына отдам я Шантану».
Воскликнули васу: «Да будет нам счастье!
Мы все по восьмой отдадим ему части
Мужской нашей силы, и крепкого сына
Родишь ты на свет от того властелина.
Добро утвердит он, прославится громко,
Но сын твой умрет, не оставив потомка».
И васу покой обрели и здоровье,
Как только с Рекой заключили условье.
Пратипа, влекомый к всеобщему благу,
Реки возлюбил дивноликую влагу.
У Ганги-реки, благочестия полон,
В молениях долгие годы провел он.
Однажды к нему, светозарно блистая,
Пришла соблазнительная, молодая,
Подобна любви вечно юной богине,
Прелестная Ганга в чудесной долине.
Лицо ее счастьем и миром дышало.
К царю на колено, что было, как шала[6],
Могучим и крепким, — на правое, смело,
С улыбкою мудрой красавица села.
Сказал ей Пратипа: «Чего тебе надо?
Чему твое сердце, прекрасная, радо?»
«Тебя пожелала я. Ведает разум,
Что женщину стыдно унизить отказом».
Пратипа ответствовал: «Преданный благу,
Я даже с женою своею не лягу,
Тем более с женщиной касты безвестной, —
Таков мой обет нерушимый и честный».
«Владыка, тебя я не ниже по касте,
К тебе прихожу я для сладостной страсти,
Желанна моя красота молодая,
Отраду познаешь ты, мной обладая».
Пратипа ответствовал ей непреклонно:
«Погубит меня нарушенье закона.
Не сделаю так, как тебе захотелось:
На правом колене моем ты уселась,
Где дочери, снохи садятся, о дева,
А место для милой возлюбленной — слева.
Супругой мне стать не имеешь ты права,
Поскольку ты села, беспечная, справа,
Но если ты сблизиться хочешь со мною,
То стань мне снохою, а сыну — женою».
Богиня промолвила слово ответа:
«О праведник, ты не нарушишь обета.
Я с сыном твоим сочетаться готова,
Найти себе мужа из рода святого.
Тебе, о великий подвижник, в угоду
Да стану я преданной Бха́ратов роду.
Чтоб вас прославлять, мне столетия мало,
Вы — блага и чести исток и начало.
Условимся: как бы себя ни вела я, —
Твой сын, о поступках моих размышляя,
Вовек да не спросит, откуда я родом, —
И счастье с моим обретет он приходом.
Своим сыновьям, добродетельным, честным,
Он будет обязан блаженством небесным».
Сказала — исчезла из глаз властелина.
Он стал дожидаться рождения сына.
Он, бык среди воинов, подвиги чести
Свершал с добронравной супругою вместе,
Во имя добра и покоя трудился,
И сын у четы седовласой родился, —
Тот самый Махабхиша в облике новом,
Как было всесильным завещано словом.
Пратипа, беззлобный душой, мальчугану
Дал скромное имя — Смиренный, Шантану:
Пускай завоюет он мир милосердьем,
Законы добра исполняя с усердьем.
Он рос в почитанье заветов и правил.
Пратипа вступившего в возраст наставил:
«Красива, прелестна, одета богато,
Пришла ко мне женщина, сын мой, когда-то.
Быть может, к тебе она явится вскоре
С желаньем добра и с любовью во взоре.
Не должен ты спрашивать: «Кто ты и чья ты?»
Ты с ней сочетайся, любовью объятый.
Не спрашивай ты о поступках подруги,
Ты будешь иметь сыновей от супруги.
Ты с ней насладись, чтоб она, молодая,
Тобой насладилась, тебе угождая».
Пратипа, последний сказав из приказов
И сына Шантану на царство помазав,
Бесхитростный, чуждый корысти и злобе,
Ушел — и в лесной поселился чащобе. [7]
Шантану, сей лучник, искавший добычу,
Охотился часто за всякою дичью,
Всегда избирал потаенные тропы,
Где бегали буйволы и антилопы.
У Ганги-реки, на пути одиноком,
Встречался, отважный стрелок ненароком
С певцами небесными[8], с полубогами;
Звенела земля у него под ногами.
Однажды красавицу встретил Шантану,
И он удивился прелестному стану.
Иль то божество красоты приближалось,
На лотосе чистом пред ним возвышалось? [9]
Свежа, белозуба, мила и беспечна,
В тончайших одеждах, во всем безупречна,
Она воссияла светло и невинно,
Как лотоса редкостного сердцевина!
Смотрел властелин, трепеща, восхищаясь.
Глазами он пил ее, не насыщаясь.
Она приближалась, желанна до боли, —
И пил он, и жаждал все боле и боле!
Он тоже, в блистании царственной власти,
Зажег в ней пылание радостной страсти:
Смотрела на воина с жарким томленьем,
Смотрела, не в силах насытиться зреньем!
Спросил повелитель, исполненный жара:
«Певица небесная ты иль апса́ра?
Змея или да́нави — жизни врагиня?
Дитя человеческое иль богиня?
Небесной сияешь красой иль земною, —
Но, кто бы ты ни́ была, будь мне женою!»
Услышав звучащее ласково слово,
Условие с васу исполнить готова
И, голосом звонким царя услаждая,
Сказала, разумная и молодая:
«Твоею женою покорною стану,
Но, что бы ни делала я, о Шантану,
Хорошей тебе покажусь иль дурною, —
Клянись, что не будешь ты спорить со мною.
А если меня оскорбишь и осудишь, —
Уйду я и ты мне супругом не будешь».
«Согласен!» — сказал он, ее одаряя
Отрадой, не знавшей ни меры, ни края.
Ее получив, как желанную долю,
Могучий, с женой наслаждался он вволю,
Решил он: «Пойдет она прямо иль косо —
Смолчу, никогда не задам ей вопроса».
И царь был доволен ее красотою,
Ее добродетелью и чистотою,
Ее обхожденьем, спокойным и ровным,
Ее угожденьем на ложе любовном.
То Ганга была, та богиня-царица,
Что в трех мирозданьях блаженно струится!
Приняв человеческий облик отныне,
Она красоту сохранила богини.
С тех пор стал супругом Реки богоравный
Шантану, царей повелитель державный.
Она услаждала властителя пляской,
Истомною негой, искусною лаской,
И ласкою ласка ее награждалась, —
Его услаждая, сама наслаждалась.
Шантану, любовью своей поглощенный,
Усладами лучшей из жен обольщенный,
Не видел, как месяцы мчатся и годы,
А мчались они, словно быстрые воды.
Шло время. Сменялись и лето и осень.
Жена сыновей родила ему восемь.
Так было: едва лишь ребенок родится,
Тотчас его в Гангу бросает царица.
Шантану страдал от сокрытого горя,
Однако молчал он, с женою не споря.
Когда родила она сына восьмого,
Чудесного, сердцу отца дорогого,
Он крикнул, восьмой не желая утраты:
«Не смей убивать его! Кто ты и чья ты?
Возмездье за это злодейство свершится,
Страшись, о презренная, сыноубийца!»
Сказала супругу: «Ты сердце не мучай,
Желающий сына отец наилучший!
Погибнуть не дам я последнему сыну,
Но только тебя навсегда я покину.
Я — мудрым Джахну́ возрожденная влага,[10]
Я — Ганга, несметных подвижников благо.
Жила я с тобой, ибо так захотели
Бессмертные ради божественной цели.
Я встретила восемь божеств, восемь васу,
Подвластных проклятия гневному гласу:
Их Васиштха проклял, чтоб гордые боги
В людей превратились, бессильны, убоги.
А стать их отцом, о властитель и воин,
Лишь ты на земле оказался достоин,
И я, чтоб вернуть им бессмертья начало,
Для них человеческой матерью стала.
Ты восемь божеств произвел, ясноликий,
Тем самым ты стал и на небе владыкой.
С тобою узнала я радость зачатья,
И васу избавила я от проклятья.
Дала я поверженным верное слово:
Когда в человеческом облике снова
Родятся, — их в Ганге-реке утоплю я,
Бессмертие каждому снова даруя.
Теперь я тебя покидаю навеки.
Меня дожидаются боги и реки.
Смотри, богоравного сына храни ты.
То будет мудрец и храбрец знаменитый.
В обетах он будет подобен булату, —
Дарованный Гангою сын Гангада́тту!»
Спросил у возлюбленной царь над царями:
«Бессмертные васу владеют мирами.
За что же проклятью их Васиштха предал,
За что же им смертными стать заповедал?
И кто он такой, этот Васиштха гневный,
Богов обрекающий доле плачевной?
За что Гангадатту наказан сурово
И сделался отпрыском рода людского?
Какие об этом расскажешь рассказы?»
Ответила Ганга: «О царь быкоглазый,
Великий деяньем! Рожден от Варуны,
Властителя вод, этот Васиштха юный,
Подвижник, от мира решил удалиться.
Обитель святая была у провидца
На склоне владычицы гор, светлой Меру,
Где жил он, храня в целомудрии веру,
Где множество было различных животных,
И трав неисчетных, и птиц быстролетных,
Где в летнюю пору и в зимнюю пору
Цветы украшали цветением гору.
В лесу для подвижника были даренья:
Вода в ручейке, и плоды, и коренья.
Однажды в лесу, пред жилищем святого,
Красива, сильна, появилась корова:
Богиня, дочь Да́кши, в нее воплотилась,[11]
Даруя просящему благо и милость.
Ее молоко, на зеленой поляне,
Подвижник для жертвенных брал возлияний.
Важна и степенна, средь леса густого,
С теленком бесстрашно бродила корова.
Однажды пришли в этот лес благовонный
Могучие васу, а с ними — их жены.
Они с наслажденьем бродили повсюду,
Сверканью цветов удивляясь, как чуду.
Вдруг старшего васу жена молодая
Увидела, по́ лесу с мужем гуляя,
Корову на мягкой, зеленой поляне:
Ее молоко — исполненье желаний!
И так восхитила богиню корова,
Что мужу, владыке небесного крова,
Сказала с восторгом: «О Дья́ус, взгляни-ка!»
Увидел корову небесный владыка:
Крупна и красива, с глазами живыми,
Полно молока многомощное вымя…
Ответствовал Дьяус: «О тонкая в стане!
Корова, чья цель — исполненье желаний,
Не ведает равных себе во вселенной,
А ею владеет отшельник смиренный,
Рожденный Варуной подвижник суровый.
Когда молоко этой чудной коровы
Вкусит человек, — вечно юным пребудет,
И кровь его время не скоро остудит,
И так проживет, не печалясь, на свете
Он десять блаженнейших тысячелетий!»
И Дьяус, душою и разумом бодрый,
Услышал желанье жены дивнобедрой:
«Средь мира людского подругу нашла я.
Царевна Джина́вати, прелесть являя,
Чарует и юностью и красотою.
Отец ее славится жизнью святою.
Ты добрых сердец награждаешь заслуги,
Прошу, потрудись и для милой подруги,
Могуществом, властью своей знаменитый,
Корову с теленочком к ней приведи ты.
Подруга, отведав напитка благого,
Единственной станет из рода людского,
Не знающей старости или недуга.
Когда же счастливою станет подруга,
Мне тоже, всеправедный, будет отрада, —
Отныне отрады иной мне не надо!»
Глаза дивнобедрой, как лотос, манили,
И Дьяус, покорный их ласковой силе,
Пошел, повинуясь возлюбленной слову,
И с братьями вместе увел он корову.
Он мужа святого украл достоянье,
Не зная, к чему приведет злодеянье.
Как видно, отшельника подвиг суровый
Не смог отвратить похищенья коровы.
С кошелкою, полной кореньев и ягод,
Вернулся подвижник, не ведавший тягот.
Увидел в смятенье, увидел в печали:
Корова с теленком исчезли, пропали!
Он долго, исполненный праведной мощи,
Обыскивал заросли, чащи и рощи,
Пока не постигнул провидящим взором,
Что васу виновны, что Дьяус был вором!
Он проклял их в гневе, возмездье взлелеяв:
«За то, что все васу, все восемь злодеев,
Коровы лишили меня многодойной,
С красивым хвостом, удивленья достойной, —
Людьми они станут, бессмертье утратив,
Те восемь божеств, восемь про́клятых братьев!»
Богам присудил он, в безумии гнева,
От матери смертной явиться из чрева.
Узнав о проклятье провидца лесного,
Направились васу к отшельнику снова,
Надеясь, что ярость прощеньем сменилась,
Но не была братьям дарована милость.
Сказал им подвижник, познавший законы,
В раздумье о благе душой погруженный:
«Послушались старшего младшие братья.
Избавлю я вас, семерых, от проклятья,
Но Дьяус, зачинщик деяния злого,
Останется жить среди мира людского.
В обличье людском он прославится громко,
Однако уйдет, не оставив потомка.
Родит его смертная заново в муках,
Он сведущим будет в различных науках,
Достигнет он в мире людском уваженья,
Но с женщиной он не захочет сближенья».
Остался отшельник в молитвенном месте,
А васу, все восемь, пришли ко мне вместе:
«Стань матерью нам, чтобы вышли мы снова
Из чрева небесного, не из земного.
Когда сыновей своих бросишь ты в воду,
Тогда возвратимся к небесному роду!»
Богов от проклятья избавить желая,
К тебе как жена, о Шантану, пришла я.
Один только Дьяус — твой сын Гангадатту,
Который в обетах подобен булату,
Останется жить в человеческом мире,
И слава его будет шире и шире».
Сказала богиня — исчезла нежданно,
Ушла, увела своего мальчугана.
Шантану, утратив дитя и царицу,
Терзаемый скорбью, вернулся в столицу…
Был честен Шантану в речах и деяньях,
Он был почитаем во всех мирозданьях,
Его прославляли и люди и боги,
Отшельник в лесу и властитель в чертоге.
Настойчивый, сдержанный, щедрый и скромный,
Являл он величье и разум огромный.
С желанием блага, с душою открытой,
Для Бхаратов был он надежной защитой.
Он жил, постоянно к добру тяготея.
Казалась белейшей из раковин шея,
Широкими были могучие плечи,
Как слон в пору течки, был яростным в сече.
Ничтожным считал он того, кто корыстен,
Добро почитал он превыше всех истин.
Ему среди воинов не было равных, —
Царю и вождю властелинов державных.
Из всех знатоков, мудрецов и ученых,
Он сведущим самым считался в законах.
К нему прибегали, желая охраны,
Цари, возглавлявшие многие страны.
При нем, восприняв благочестья условья,
Познали отраду четыре сословья[12]:
Судьбы наивысшей был жрец удостоен,
Жрецу подчинялся с охотою воин,
Тому и другому служили умельцы,
И люди торговые, и земледельцы,
А им угождали покорные шудры, —
Таков был закон стародавний и мудрый.
В столице, в чарующем Хастинапу́ре,
Блистал государь, словно солнце в лазури.
Владел он, моленьем молясь неустанным,
Землей, опоясанною океаном.
Не ведая зла, небожителям равен,
Как месяц, был светел, правдив, добронравен.
Как Яма, бог смерти, с виновными гневен,
Он был, как земля, терпелив и душевен.
При нем не должны были в страхе таиться
От смерти напрасной ни вепрь и ни птица.
При нем не знавали убийств и насилий:
Животных лишь в жертву богам приносили.
Он правил, исполненный праведной власти,
Людьми, что отвергли желанья и страсти.
Он стал для несчастных и слабых оплотом,
Отцовскую жалость питая к сиротам,
Увидел он в щедрости — жизни основу,
И правду он сделал опорою слову.
Он, женскую ласку познав, веселился,
Но минули годы — он в лес удалился…
Таким же правдивым, познавшим законы,
Был сын его, юноша, Гангой рожденный.
Он Га́нгея имя носил в это время,
Бог васу, — людское украсил он племя,
Воитель, из лука стрелок наилучший,
Отвагой, душою и сутью могучий.
Однажды вдоль Ганги-реки за оленем
Охотясь в лесу, увидал с изумленьем
Шантану, что стала река маловодной.
Задумался праведник, царь благородный:
«Что сделалось ныне с великой рекою?»
И вот, озабоченный думой такою,
Заметил он: юноша, сильный, пригожий,
На Индру, Борителя Градов, похожий,
Великоблестящий, высокий и смелый,
Вонзает в речное течение стрелы.
Из стрел среди русла возникла запруда, —
Под силу ли смертным подобное чудо?
Не сразу Шантану, средь шума речного,
Узнал в этом юноше сына родного.
А тот на отца посмотрел, сильнозорок,
И создал волшебный, таинственный морок,
И скрылся, отца подчиняя дурману…
Очнувшись, тотчас заподозрил Шайтану,
Что сына скрывает речная долина,
И Ганге сказал: «Приведи ко мне сына».
И женщиной Ганга предстала земною,
Явилась нарядно одетой женою,
Держащею сына за правую руку.
Шантану, так долго влачивший разлуку,
Не сразу признал ее в ярком уборе,
А Ганга промолвила с лаской во взоре:
«Узнал ли ты нашего сына восьмого?
Веди его в дом и люби его снова!
Великий стрелок и воитель победы,
Он с помощью Васиштхи выучил веды,
Он сведущ в вождении войск, мощнорукий,
В священной науке и в царской науке.
На радость тебе родила я такого, —
Возьми же отважного сына восьмого!»
И с юношей, блеском затмившим денницу,
Отправился гордый Шантану в столицу.
В столице, похожей на Индры обитель —
На город, где жил Городов Сокрушитель,
Был счастлив Шантану, блюститель закона,
И сына нарек он наследником трона.
Царевич был вежлив, умен, образован,
Отвагой его был народ очарован.
Четыре прошло многорадостных года.
Царевич был счастьем отца и народа.
Однажды у влаги, под сенью древесной,
Шантану почувствовал запах чудесный.
Окинул он реку внимательным взглядом, —
Увидел красавицу с лодкою рядом.
Спросил: «Благовонная, с прелестью кроткой,
О, кто ты и чья ты, представшая с лодкой?»
Сказала: «Я дочь рыбака. И удачу
Я в праведном вижу труде: я рыбачу.
Отец мой над всеми царит рыбаками, —
Едим, что добудем своими руками».
К прелестнодушистой, к божественноликой
Внезапно охваченный страстью великой, —
Пришел он к царю рыбаков, восхищенный:
«Отдан мне, — сказал ему, — дочь свою в жены».
Глава рыбаков властелину державы
Сказал: «Есть обычай, священный и правый, —
Невестой становится дочь при рожденье.
Но выслушай волю мою и сужденье.
Коль дочь мою в жены ты просишь с любовью,
О царь, моему подчинись ты условью.
Условье приняв, удостоишь ты чести
Отца и подаришь блаженство невесте».
«Поведай условье, — воскликнул Шантану, —
И знай, что раздумывать долго не стану,
Отвечу я «да» или «нет» непреложно:
Нельзя — так не дам я, и дам, если можно!»
А тот: «Сын, рожденный рыбачкой-женою,
Да царствует после тебя над страною».
Шантану отверг рыбака притязанья,
Ушел, унося в своем сердце терзанья,
Сжигаемый страстью, вернулся, угрюмый…
Однажды к царю, погруженному в думы,
Приблизился Гангея с речью такою:
«Отец, почему ты подавлен тоскою?
Послушны тебе все владыки и страны, —
Какие же в сердце скрываешь ты раны?»
Шантану ответствовал мудрому сыну:
«Узнай моей скорби сокрытой причину.
Ты — отпрыск единственный Бхаратов славных,
Но смерть не щадит и вожатых державных.
Ты ста сыновей мне милей, но не скрою:
Умрешь ты, — наш род прекратится с тобою.
Нужна для продления рода царица,
Однако мне трудно вторично жениться.
Бездетен, — согласно уставам старинным, —
Отец, что владеет единственным сыном.
Огню возлиянье, труды богомолий —
Не стоят потомства шестнадцатой доли.
А ты, столь воинственный, смелый, горячий, —
В сражении смерть обретешь, не иначе!
Наш род от стрелы прекратится случайной, —
Теперь ты узнал о тоске моей тайной».
Поняв миродержца смятенье и горе,
Сын Ганги ушел и с тревогой во взоре
Советнику царскому задал вопросы, —
Поведал царевичу седоволосый:
«Шантану понравилась дочь рыболова,
Но слишком условие брака сурово».
Тогда к рыбаку, с благородною свитой,
Приехал царевич как сват именитый.
Рыбак, по обычаю, вышел навстречу,
Приветствовал свата почтительной речью:
«Хоть сын для отца — наилучший ходатай,
Невесту отцу с разумением сватай.
Почетно и лестно, скрывать я не стану,
Сродниться с блистательным родом Шантану.
Жених-миродержец — награда невесте,
И кто от подобной откажется чести?
Не станет наследником царским, однако,
Дитя, что родится от этого брака, —
Не сможет соперничать, властный, с тобою,
О, бык среди Бхаратов с гордой судьбою!
Ты даже и бога и демона вскоре
Осилишь, как слабых соперников, в споре!
Об этом подумай. Скажу тебе кратко:
Иного не вижу в тебе недостатка».
Радея о пользе отца ежечасно,
Ответствовал Гангея твердо и властно:
«Я слово даю безо лжи и коварства,
Что станет твой внук повелителем царства!»
Рыбак, добывая для внука державу,
Сказал: «Ты защитник Шантану по праву,
Я верю, что будешь ты верной защитой
И нашей Сатьявати, муж знаменитый.
Не жду от такого, как ты, вероломства,
Но я твоего опасаюсь потомства».
Услышав сомненье того рыболова,
Ответил царевич: «Узнай мое слово.
Клянусь я в присутствии царственной свиты, —
О царь рыбаков, эту клятву прими ты:
От царских отрекся я почестей громких.
Отвергнув престол, говорю о потомках:
Безбрачья обет возглашаю отныне.
Бездетный, — возжажду иной благостыни:
Познав целомудрия свет вожделенный,
Войду я в миры, что вовеки нетленны!»
Глава рыбаков задрожал от восторга.
«Бери!» — он сказал без дальнейшего торга.
Тогда полубоги, богини и боги,
А также святые в небесном чертоге,
Цветы проливая в пространстве надзвездном,
Назвали царевича Бхи́шмою — Грозным.
Сказал он Сатьявати: «На колесницу
Взойди же, о мать, мы поедем в столицу».
Вот Бхишма, обет возгласивший суровый,
Приехал к Шантану с царицею новой.
Восславили Бхишму цари и владыки.
«Он — Грозный!» — хвалебные слышались клики.
Шантану сказал с ликованием: «Смело
Исполнил ты труднотворимое дело.
Дарую награду великому сыну:
Ты сам своей смерти назначишь годину!»
Шантану, покончив со свадебным пиром,
Жену свою принял с любовью и миром,
И вот принесла ему сына царица, —
Никто из людей не мечтал с ним сравниться,
Везде славословье Читра́нгаде пелось, —
За силу его, за великую смелость.
Затем родила она сына второго,
По имени Вичитрави́рья, — такого
Из лука стрелка, что склонились впервые
Пред ним, несравненным, мужи боевые.
Еще он и юношей не величался,
Когда многомудрый Шантану скончался,
И Бхишма, хоть был он и первенцем-сыном,
Читрангаду провозгласил властелином.
Гордился Читрангада мощью военной,
Он равных не видел себе во вселенной.
Богов и царей он преследовал жестко…
Однажды гандхарвов глава, его тезка,
С ним битву затеял, что длилась три года,
И не было битве конца и исхода.
Однако, средь копий дождя проливного,
Был витязь небесный сильнее земного,
И пал от меча в этой схватке кровавой
Читрангада, тигр, обладавший державой.
Исполнили люди обряд погребальный,
А Бхишма, блистательный, властный, печальный,
Поставил царем над державною ширью
Незрелого мальчика Вичитравирью.
Он в царской науке ребенка наставил,
Чтоб честно страной своих праотцев правил.
Был Бхишма защитником младшего брата,
И мальчик во всем ему следовал свято,
И Бхишма, с разумной Сатьявати вместе,
Царя наставлял ради славы и чести.
Приблизился к юности отрок созрелый.
Женить его Бхишма решил крепкотелый.
«Есть царь, — он услышал, — Каши́. Пред царями
Он вправе гордиться тремя дочерями.
Теперь сваямва́ру в том царстве справляют:
Три девушки сами мужей выбирают».
Об этом в известность поставив царицу,
Взошел многодоблестный на колесницу
В доспехах военных, в блестящем уборе, —
И в город Вара́наси прибыл он вскоре.
Съезжались туда женихи-государи:
Мужья избирались на той сваямваре.
Царей называл поименно глашатай,
А Бхишма, отвагой и силой богатый,
Ворвался в толпу на своей колеснице,
Похитил трех девушек в шумной столице
И голосом грома сказал властелинам:
«Напомнить хочу о законе старинном!
Одни дочерей предлагают с приданым
Достойным мужам, женихам долгожданным;
Другие же дочь свою выдать готовы,
Когда приведет им жених две коровы;
У третьих — жених по душе своей милой;
Невест добывают четвертые силой;
А пятые, воины, полные жара,
Считают, что лучше всего — сваямвара[13].
Средь прочих невест наивысшее место
Похищенная занимает невеста!
Насильно я трех похищаю царевен.
Хотите сраженья? Я грозен и гневен!»
Всем бросил он вызов и поднял десницу.
Трех дев усадил на свою колесницу.
Тогда, кулаками грозя, потрясая,
В неистовой ярости губы кусая,
Весь мир оглашая воинственным кличем,
Цари приказали своим колесничим,
Чтоб в дышло коней запрягли наилучших!
Помчались, подобные молниям в тучах,
Цари на своих боевых колесницах
За Бхишмой, похитившим дев смуглолицых.
И грянула битва на древних дорогах, —
В той битве один воевал против многих.
Взлетали — за тысячей тысяча — стрелы,
Но Бхишма стоял невредимый и целый.
Тогда, будто на́ гору — ливень из тучи,
На Бхишму обрушился ливень летучий
Бесчисленных стрел, но и ливень смертельный
Рассек он, отвагой богат беспредельной.
Воителя нечеловеческой силе
Хваления даже враги возносили!
И в каждого по́ три стрелы он направил,
Царей-властелинов пронзил, обезглавил.
Врагов разгромив в небывалом сраженье,
Всесильный в своем боевом снаряженье,
Стремительный Бхишма, от вражеской мести,
Погнал колесницу с царевнами вместе.
Но шалвов[14] правитель, возмездия ради,
Ударил его неожиданно сзади, —
Как слон, ударяющий бивнями сзади
Другого, что самку угнал в его стаде!
«Эй ты, женолюб! Острой сабли попробуй!» —
Возглавивший шалвов воскликнул со злобой,
И Бхишма, сражавшийся неукротимо,
От слов этих вспыхнул, как пламя без дыма.
Свою колесницу, снаружи спокоен,
К врагу повернул многодоблестный воин.
Цари увидали, что два полководца,
Что Шалва и Бхишма решили бороться.
Враги, как быки, постепенно сближаясь,
Ревели, как бы из-за самки сражаясь.
Вот Шалва, властитель и лучник умелый,
На Бхишму обрушил разящие стрелы.
Казалось, что Бхишмы повержена сила, —
И гордая радость царей охватила.
Владыки, что прибыли на сваямвару,
И Шалве хвалу вознесли и удару!
Внимая царям и враждебному стану,
Разгневался отпрыск Реки и Шантану.
«Направь колесницу, — велел он вознице, —
К царю, у которого стрелы в деснице.
Властителя шалвов, отвагой владея,
Убью, как Гару́да — свирепого змея».
Сын Ганги, сей праведник, ярость умножил
И Шалвы четверку коней уничтожил, —
Убил превосходных коней и возницу
И в бегство его обратил колесницу.
Но Шалву, красавицам внемля, простил он,
Властителя царства живым отпустил он.
И Шалва, что сильным считался по праву,
В унынье в свою воротился державу,
Разъехались также цари-государи,
Что ждали избранья на той сваямваре,
А Бхишма, сын Ганги, с добычей прекрасной
Отправился в Хастинапур многовластный.
Леса одолел он, хребты и ущелья,
Приехал с царевнами, полон веселья.
Как снох-дочерей, этот праведник строгий,
Как юных сестер, опекал их в дороге.
Он младшему брату, отвагой добытых,
Царевен привез, красотой знаменитых.
В неравных сраженьях подобный булату,
Он подвиг свершил, чтобы младшему брату
Достались прелестные, чистые жены, —
Закон соблюдал изучивший законы,
И стал он, заботясь о каждой невесте,
Ту свадьбу готовить с Сатьявати вместе.
Из трех наистаршая, А́мба сказала:
«Знай: Шалву в мужья избрала я сначала,
Он тоже избрал меня, шалвов правитель, —
Сей выбор одобрил Каши, мой родитель.
К властителю шалвов душа моя склонна, —
Даруй же мне милость, блюститель закона!»
Той девушке, слово сказавшей в печали,
И бра́хманы и царедворцы внимали.
И после раздумий и долгой беседы
С мужами закона, познавшими веды,
Сын Ганги ей волю решил предоставить,
К владыке над шалвами Амбу отправить.
Но А́мбике, А́мбалике — нет возврата:
Да станут супругами младшего брата!
И Вичитравирья, стремившийся к счастью,
На жен посмотрел с вожделеньем и страстью:
Хорошего роста, и стройны, и смуглы,
С ногтями, что выпуклы, красны, округлы,
С глазами, подернутыми поволокой,
С широкими бедрами, с грудью высокой,
С кудрями, что, иссиня-черные, вились, —
Такими они перед мужем явились!
Пришелся им Вичитравирья по нраву,
Они почитали его по уставу,
А он, что соперничал мощью с богами,
Своей красотою — с зарей над лугами,
Желанный, как сладостное сновиденье, —
Всех женщин манил, погружая в смятенье!
Он прожил семь весен, заботы не зная, —
Внезапно сухотка вошла в него злая,
Бессильными были врачи и лекарства, —
Как солнце, погас властелин государства.
Сочувствуя матери многострадальной,
Над Вичитравирьей обряд погребальный
Свершили жрецы и вожатые рати,
И Бхишма рыдал о возлюбленном брате.
Тоскуя о сыне умершем, о младшем,
Пред Бхишмой предстала Сатьявати с плачем,
Увидев, что пламень великий потушен,
Закон продолжения рода нарушен!
Сказала: «Ты тот, кто Шантану возвысит,
Ты тот, от которого ныне зависят
Продление царского рода, и слава,
И жертв приношенье, и вера, и право.
Как правды для жизни незыблемо лоно,
Незыблем ты в праведном лоне закона.
Законы постигнув и веды изведав,
Познав откровенья священных заветов,
Ты стал для семьи и для рода защитой,
Опорою в явной беде и в сокрытой.
Поэтому ныне стою пред тобою,
Всеправедный воин, с великой мольбою.
Мой сын и твой брат, государь без порока,
Бездетным на небо ушел раньше срока.
Две юных вдовы, две красавицы, страждут, —
Они сыновей, дивнобедрые, жаждут.
От них, чтобы род храбрецов был продолжен,
Родить сыновей ты, блистательный, должен.
Прими этих жен, и престол, и державу,
Потомками Бхараты правь по уставу».
Но праведный воин с обличьем суровым
Царице ответил возвышенным словом:
«О мать, назвала ты, над нами нависший,
Продления рода закон наивысший.
Но связан я давним и твердым обетом, —
О мать, ты обязана помнить об этом.
О мать, за тебя, как свели мы знакомство,
Свой выкуп я внес: мой отказ от потомства.
Тебе говорю, о Сатьявати, снова:
Ни царства богов не хочу, ни земного,
Отвергну и более славную долю,
Но правду отвергнуть себе не позволю.
Земля может запах утратить, а море —
Всю влажность, а солнце — сиянье во взоре,
А ветер — утратить касаний способность,
А свет — выявлять каждый признак, подробность,
Без звука способно остаться пространство,
Огонь — потерять теплоты постоянство,
Смерть — силу утратит, а Индра — удачу,
Но я свою правду вовек не утрачу!»
Сказала Сатьявати слово ответа:
«Ты — праведный муж, ты — блюститель обета,
Захочешь, всесильный в делах созиданья, —
И новые три сотворишь мирозданья.
Я знаю, ты прав, но в тяжелое время
Прими во внимание праотцев бремя.
От клятвы своей отступись ты без гнева,
Чтоб дальше росло родословное древо.
Исполни, великий, для блага народа,
Закон наивысший продления рода!»
Царице, о сыне тоскующей громко,
Ушедшей от правды во имя потомка,
Сын Ганги сказал: «Осужденья достоин
Высокую правду отринувший воин.
Но знаю закон, исцеляющий рану.
Есть средство, чтоб род сохранился Шантану.
К нему ты прибегни для славы и чести,
И действуй с жрецами домашними вместе».
«Однажды, — так Бхишма повел свое слово, —
Убил Джамада́гни, жреца и святого,
Вождь ха́йхаев[15], А́рджуна тысячерукий.
Был сын у святого, познавшего муки,
По имени Ра́ма. И вот, гневнолицый,
Он тысячу рук отрубил у убийцы,
От воинской касты, без помощи ратной,
Очистил он землю семь раз троекратно.
Жрецы, чтобы воины в мире остались,
Со вдовами ратных людей сочетались.
Есть древний закон, почитаемый свято:
Дитя может быть от другого зачато,
Но отпрыском мужа законного будет,
Коль к этому рода продленье побудит, —
И жрец со вдовой ратоборца сходился,
Чтоб воинский род на земле возродился…
Вот случай другой: благодатью богатый,
Подвижник Ута́тхья был мужем Мама́ты.
Был брат у святого меньшой, Брихаспа́ти:
Он силу обрел от ученых занятий.
Наставник богов, он, без жалости к брату,
Упорно преследовать начал Мамату.
Сказала она: «Постыдись, Брихаспати!
От мужа, мне данного, жду я дитяти.
Растет твой племянник, зачатый в законе,
И веды в моем изучает он лоне.
От старшего брата мне радостно бремя, —
Иди и другой подари свое семя!»
Так правильно сказано было Маматой,
Но жрец не сдержал себя, страстью объятый,
Познал он Мамату в запретное время,
И крикнул ему, испустившему семя,
Зародыш, уже находившийся в лоне:
«Эй, младший, ступай-ка, ты здесь посторонний,
Я — первый, нет места второму во чреве!»
И проклял тогда Брихаспати во гневе
Дитя, что еще пребывало в утробе:
«За слово, которое крикнул ты в злобе,
При этом — в чувствительный миг наслажденья,
Да будешь во мрак ты повергнут с рожденья».
И вправду, родился Утатхьи потомок
Незрячим и назван был: «Житель Потемок».
Жрецу Брихаспати могуществом равный,
Сынов произвел сей слепец добронравный.
Сыны, ослепленные жадностью скряги,
Решили: «К чему нам заботы о благе
Слепца многодряхлого, еле живого?»
На доску отца посадили слепого,
И доску по Ганге пустили жестоко,
И плот оказался во власти потока.
Поплыл по теченью слепец белоглавый,
И минул он многие страны-державы.
Купался Бали́, царь земли, утром рано.
Жреца на плоту он увидел нежданно.
Приблизясь, узнал повелитель слепого
Законоучителя, старца святого.
Избрав его для обретения сына,
Воскликнул: «Тебя мне послала судьбина!
От жен моих мне сыновей подари ты,
Да будут им тайны законов открыты».
Согласьем ответил подвижник безгрешный —
Сынов породить от царицы Суде́шны.
Слепца презирая, велела царица
Молочной сестре своей к старцу явиться.
От старца слепого и шудры бесправной
Родился Какши́ван, певец достославный,
А также одиннадцать, мудрых в беседах.
Бали, увидав этих сведущих в ведах,
Воскликнул: «Мои они все, не иначе!»
«О нет, — возразил ему старец незрячий, —
Мои все двенадцать, — сказал он неспешно. —
Отринув незрячего старца, Судешна
Свела старика, оказавшись немудрой,
С молочной сестрою, бесправною шудрой».
Бали, ради милости старца святого,
Царицу Судешну послал к нему снова.
Подвижник сказал, прикоснувшись к царице:
«Твой сын будет равен блистаньем деннице».
И сын у Судешны родился — ученый,
Святым изучением вед поглощенный.
От бра́хманов мудрых — так делалось часто —
Умножилась доблестных воинов каста…
Мне дороги Бхараты род и наследство,
Чтоб род продолжался, скажу тебе средство:
Пусть брахман со вдовами младшего брата
Детей породит, — и да ждет его плата».
Тогда, со стыдливой улыбкой, смущенно,
Сказала Сатьявати стражу закона, —
Был полон волнения голос дрожащий:
«Ты правильно учишь, великоблестящий,
Но, царскому роду продленья желая,
О грозный, признание сделать должна я.
Ты — правда, ты — благо, ты — жизни защита.
Да будет тебе мое сердце открыто.
Однажды, в невинную девичью пору,
Я в лодке плыла по речному простору.
К Ямуне-реке, в святожительской славе,
Приблизился Парашара́ к переправе.
Ко мне обратился он, робкой и юной:
«На землю меня переправь за Ямуной», —
И стал многознающий, в лодке рыбачьей,
Меня уговаривать речью горячей,
Исполненной нежности, пламени, страсти…
Проклятья страшась и родительской власти,
Величью даров подчиняя свой разум,
Ему я не смела ответить отказом.
Могучий, всю землю окутал он тьмою
И взял — над беспомощной — верх надо мною.
Мой рыбный развеял он запах отвратный,
Другой даровал мне — душистый, приятный.
Сказал он: «Родишь мне на острове сына,
Но девственна будешь, чиста и невинна».
И я разрешилась, в девичестве строгом,
На маленьком острове мальчиком-йогом.
Обрел он, известный делами благими,
Двайпа́яны — Островитянина — имя.
Затем обособил он веды четыре,
Под именем Вья́сы прославился в мире.
За темную кожу зовут его Кришна, —
Повсюду его песнопение слышно.
Подвижник, живущий правдиво и свято,
Сынов сотворит он со вдовами брата.
Сказал он: «Какой бы ни шел я тропою,
Едва меня вспомнишь — явлюсь пред тобою».
Источником стал он познанья и света,
И, если согласен ты будешь на это,
Придет он, к продлению рода готовый,
Сойдутся с ним брата умершего вдовы, —
Потомки его да пребудут на свете
Как Вичитравирьи законные дети».
Услышав о муже великой науки,
Сказал, поднимая молитвенно руки,
Сын Ганга: «Стремятся одни к сладострастью,
Другие — к земному богатству и счастью,
Цель третьих — любви и добра постиженье,
А в нем — наивысшему благу служенье.
Лишь самые мудрые в том преуспели:
Понять и разъять три различные цели.
Твое же стремление — рода продленье,
И это есть к высшему благу стремленье.
Ты выход найти наилучший сумела,
Я слово твое одобряю всецело».
От Бхишмы услышав: «Сомненья излишни!» —
Решила Сатьявати думать о Кришне.
Он мудрые веды читал вдохновенно,
Но, матери мысли постигнув мгновенно,
Предстал перед ней после долгой разлуки,
И мать, поднимая почтительно руки,
Его обняла, разразилась рыданьем.
Всезнающий, движимый к ней состраданьем,
Сказал, окропив ее влагой святою:
«Я все, что прикажешь, свершу и устрою».
Хваленья домашних жрецов благосклонно
Воспринял певец и блюститель закона.
Сатьявати первенцу-сыну сказала:
«С тобой я судьбу государства связала.
Отцу сыновья подчиняться согласны,
Однако и матери дети подвластны!
Ты — первый, а Вичитравирья — мой третий,
Вы оба, от разных отцов, мои дети.
По матери, в лодке рыбачьей зачатым, —
Ты Вичитравирье приходишься братом.
О Вичитравирье скорбеть не устану,
И Бхишма и он — оба дети Шантану,
Но Бхишма, обет исполняя тяжелый,
Не хочет потомства, не ищет престола.
Ты, память храня о покойнике-брате,
В продлении рода ища благодати,
Содействуя Бхишме и мне повинуясь,
Волненьем существ беззащитных волнуясь, —
Обязан исполнить мое повеленье,
О сын, безупречный в святом устремленье!
Невестки твои хороши, как богини,
Но обе остались бездетными ныне.
Потомство от них породи, о беззлобный,
Достойное дело исполнить способный!»
А Кришна: «Тебе все законы известны,
Земной ты постигла закон и небесный,
О мать, и поскольку закон есть основа
Тобой изреченного веского слова, —
Твоим повинуюсь желаниям правым:
Я тоже знаком с этим древним уставом!
Подобных богам сыновей сотворю я,
Умершему брату детей подарю я.
Пусть обе вдовы, для продления рода,
Обет исполняют в течение года,
Иначе пускай они ложа не стелят:
Нечистые ложа со мной не разделят!»
А мать: «Мы должны, о мой сын, торопиться, —
Зародыш скорей да получит царица.
В стране без вождя — нет дождя и цветенья,
Страна без царя — есть земля запустенья.
Даруй же скорее стране господина,
А Бхишма да будет воспитывать сына!»
А Кришна: «Коль надобно быстро трудиться,
Уродство мое да потерпит вдовица,
И запах мой острый, и облик, и тело, —
Чтоб семя могучее в лоне созрело».
Добавив: «Готов я к желаемой встрече», —
Внезапно он скрылся, внезапно пришедший.
Вот Амбике, участь изведавшей вдовью,
Сатьявати слово сказала с любовью:
«Ты ныне услышать, красавица, вправе
О древнем законе, о старом уставе.
Ты видишь ли нашу печаль и невзгоду?
Грозит прекращение Бхаратов роду!
Но Бхишма, постигнув, о чем я тоскую,
Мне подал, всезнающий, думу благую,
И если ее ты исполнить захочешь,
То Бхаратов род возродишь и упрочишь.
Должна ты родить, дивнобедрая, сына,
Должна подарить нам царя-властелина».
Согласье с трудом получив от невестки,
Сиявшей в своем целомудренном блеске,
Сатьявати всем приготовила яства,
Чтоб ели жрецы, и святые, и паства.
Избрав для зачатья и день и мгновенье,
Невестке велев совершить омовенье
И лечь на постели, разостланной пышно,
Сатьявати слово сказала чуть слышно:
«Твои деверь придет к тебе ради сближенья.
Встречай его ласково, без небреженья».
Прелестная, слово услышав свекрови,
О Бхишме подумала с трепетом крови.
Светильники вспыхнули ярче и строже.
Всеправедный Кришна взошел к ней на ложе.
Но рыжие волосы, взгляд его властный,
И пламя его бороды медно-красной,
И лик его черный увидев средь ночи,
Царица закрыла в смятении очи.
Он сблизился с нею, познал ее тело,
Но в страхе она на него не смотрела.
Он вышел. И мать вопросила тревожно:
«Скажи, мне на внука надеяться можно?»
Воскликнул подвижник, при помощи знаний
Раздвинувший чувств и мышления грани:
«Являя величье, и ум, и здоровье,
Он будет могуч, словно стадо слоновье,
Он сто сыновей породит, многомощный,
Однако вдовицы поступок оплошный
К тому приведет, что слепым он родится».
Промолвила первенцу-сыну царица:
«Не надо стране государя слепого,
Ты нам подари властелина другого».
Обличием темен и разумом светел,
Согласием праведный Кришна ответил.
Родился от Амбики мальчик незрячий,
Сатьявати, царству желая удачи,
Вступила в беседу с невесткой второю, —
И Кришна пришел к ней ночною порою.
Взглянула невестка — и сделалась бледной,
Его устрашась бороды красно-медной.
Увидев, что Амбалика побледнела,
Как только она на него посмотрела,
Сказал ей не ведавший помыслов праздных:
«Поскольку, страшась моих черт безобразных,
Ты сделалась бледной, — царевич наследный,
Твой сын, — будет прозван Панду́, то есть — Бледный».
И вышел подвижник, чья праведна сила.
Сатьявати первенца-сына спросила,
И Кришна ответил, что царь всепобедный
Родится в их доме — по прозвищу: Бледный.
Вот Амбалика, в надлежащую пору,
Венцу и стране даровала опору:
Блистал красотою и мощью владыки
Панду, повелитель царей, Бледноликий.
И пять он обрел сыновей, величавый,
И стали те пятеро зваться: пандавы.
А дети того Дхритара́штры слепого,
В честь предка Шантану, в честь Ку́ру святого,
Названье с тех пор обрели: кауравы,
И стали царями обширной державы…
Сатьявати, чтобы упрочилось дело,
Тогда своей старшей невестке велела
К могучему Кришне приблизиться снова,
И Амбика ей не сказала ни слова,
Но пахнущий рыбой, уродливый ликом
Страшил ее, глупую, страхом великим.
Украсив служанку свою, как богиню,
Невестка отправила к Кришне рабыню.
Рабыня вошла, перед Кришной склонилась,
Чтоб ласку свою даровал ей как милость.
Он сблизился с нею, с бесправной по касте,
И в этом рабыня увидела счастье.
Он встал и сказал ей: «Была ты рабыней,
Но матерью славною станешь отныне.
Блистающий разумом и правосудный,
Твой сын удивит этот мир многолюдный!»
И сын у рабыни родился счастливой —
То Ви́дура, сведущий и справедливый,
Стал братом Панду, Дхритараштры слепого:
То Дхарма, то бог правосудия снова,
Приняв человеческий облик, родился:
Он Видурой стал, он в него воплотился!
А Кришна, закон продолжения рода
Исполнив и срока дождавшись ухода, —
Ушел по тропе, озаряемой светом, —
Кончается наше сказанье на этом.
Столицей слепого царя Дхритара́штры стал богатый город Хастинапу́р. У царя от его жены Гандха́ри родилось сто сыновей и одна дочь. Панду́, младший брат Дхритараштры, умер молодым, оставив пятерых сыновей: Юдхи́штхиру, Бхимасе́ну (Бхиму́), А́рджуну и близнецов На́кулу и Сахаде́ву. Трое старших родились от Кунти, близнецы — от Ма́дри, которая после смерти мужа последовала за ним на погребальный костер, а сыновей своих поручила заботам Кунти.
Пандавы, считавшиеся сыновьями Панду, в действительности были рождены его женами от различных богов. Росли они вместе со своими двоюродными братьями-кауравами при дворе Дхритараштры. Прославленный брахман Дро́на, лучший знаток оружия, наставлял царевичей в военном искусстве и в науках. Успехи пандавов, среди которых выделялся необыкновенной силой и воинским умением Арджуна, вызвали ненависть к ним со стороны кауравов, а больше всех их ненавидел старший сын Дхритараштры — Дуръйо́дхана. Между кауравами и пандавами возникла вражда.
Народ полюбил пандавов. Горожане рассуждали так: «Дхритараштра мудр, но слепой царь не может вести войска в сражение. Надо посадить на царство старшего из пандавов Юдхиштхиру. Он еще молод, но умен, справедлив и милостив к беднякам».
Когда эти толки дошли до Дуръйодханы, он уговорил своего отца изгнать под благовидным предлогом пандавов из столицы. Слепой царь из любви к сыновьям согласился совершить неправое дело. Пандавы были отправлены для участия в празднестве в город Варанава́ту, где их, вместе с их матерью Кунти, поместили в смоляном доме. Дуръйодхана приказал доверенному слуге поджечь ночью смоляной дом, а горожанам сообщить, что пандавы и их мать погибли от случайного пожара.
Мудрый Ви́дура, дядя пандавов, предупредил, с помощью иносказания, пятерых племянников о грозящей им беде. Пандавы вместе с матерью бежали из смоляного дома через тайный подземный ход. На рассвете, когда они были уже далеко от города, смоляной дом сгорел. Жители Варанаваты решили, что пандавы и Кунти погибли в огне, и известили об этом Дуръйодхану.
Кауравы возликовали, не подозревая, что пандавы живы, что они скитаются в дремучих лесах, совершая различные подвиги. До пятерых братьев дошла весть о том, что могучий царь панча́лов Друпа́да объявил: «Тому, кто победит на состязании в стрельбе из лука, я отдам в жены свою дочь, смуглую красавицу Драупа́ди».
Пандавы, переодетые отшельниками-брахманами, прибыли на состязание. Никто из царей и знаменитых воинов, а среди них был и Дуръйодхана, не сумел натянуть тетиву исполинского лука и поразить стрелою цель через малое кольцо. Это сделал Арджуна, и Драупади возложила на него венок в знак того, что станет его женой. Но на ней, соблюдая давний обычай, женились все пятеро братьев-пандавов.
Так стало известно, что пандавы живы. Бхи́шма, Дрона и Видура предложили Дхритараштре отдать пандавам половину царства. Пандавы в пустынной части страны воздвигли новую столицу — Индрапра́стху. Юдхиштхира стал царствовать вместе со своими братьями. Знаменитый зодчий построил для них дворец, равного которому не было в мире. Государство пандавов благоденствовало.
Дуръйодхана завидовал пандавам. По совету своего дяди Шаку́ни он зазвал пятерых братьев к себе в Хастинапур и предложил им сыграть в кости. Юдхиштхира любил эту игру, хотя играл плохо. Шакуни же был ловким игроком. Ведя нечестную игру, он выиграл у Юдхиштхиры все его имущество, его земли, казну, дворец, столицу со всеми жителями и домами. В конце концов, Юдхиштхира проиграл ему и своих братьев, и себя самого, и даже красавицу Драупади. Духша́сана, младший брат Дуръйодханы, схватил Драупади за волосы, приволок ее в собрание, крича: «Рабыня!»
Дхритараштра устыдился поступка своего сына и вернул Драупади и ее мужьям свободу. Но Дуръйодхана уговорил отца снова пригласить пандавов для игры в кости с таким условием: кто проиграет, пусть скитается в лесной глуши двенадцать лет, а тринадцатый год пусть живет неузнанным. Если же его узнают, то пусть изгнание продлится еще на двадцать лет.
Пандавы проиграли и отправились в изгнание. Дуръйодхана зло посмеялся над ними, и Бхимасена поклялся, что убьет его в бою и напьется его крови.
Начались скитания пандавов. Бродя по дремучим лесам, они часто останавливались в хижинах святых отшельников, слушали древние сказания. Одно из этих сказаний — о верной Савитри́.
У мадров[16] был некогда царь справедливый,
И щедрый, и сведущий, и терпеливый.
Защитой он был горожанам, крестьянам,
Трудился для блага трудом неустанным.
Все чувства свои обуздал Ашвапа́ти.
Судьба не дала властелину дитяти.
Желая потомства, мечтая об этом,
Себя подчинил он суровым обетам,
Всем сердцем он подвигам тяжким предался,
Лишь вечером раз в трое суток питался.
Порой, целомудренный, падал без сил он,
Но множество жертв Савитри приносил он.
Прошло восемнадцать всеблагостных весен,
И подвиг отшельника стал плодоносен.
Довольна была Савитри поклоненьем:
Богиня с живым и великим волненьем,
Восстав из святого огня, появилась,
И слово сказала дарящая милость:
«Я вижу, о царь, ты в желаниях сдержан,
Я верю, — всем сердцем ко мне ты привержен.
Любую награду проси за служенье, —
Лишь к правде страшись проявить небреженье».
Сказал Ашвапати: «Вот правда святая.
Служил я тебе, о потомстве мечтая,
И если сумел угодить я богине,
Прошу, — сыновей подари мне отныне:
Все наши законы, — мудрец поучает, —
Закон продолжения рода венчает!»
В ответ — Савитри: «Нет прекрасней желаний.
Предвидела я твою просьбу заране.
Я к Брахме пришла, и сказал Самосущий:
«Пусть дочери ждет он, — блестящей, цветущей».
Услышал ты, царь, Прародителя слово.
Сверх этого дара не будет иного».
«Да будет, как сказано!» — царь ей ответил,
Как прежде, бесхитростен, кроток и светел.
Богиня исчезла, а царь, как и прежде,
Был предан законам, добру и надежде.
Прошло над царем достодолжное время,
И в лоне царицы оставил он семя,
И семя росло в целомудренном лоне,
Как месяц растет на ночном небосклоне.
Прелестная дочь родилась у царицы,
И лотосов-глаз трепетали ресницы.
Родители, радуясь той благостыне,
Назвали ее Савитри — в честь богини.
Шло время. Богине равна по обличью,
Вступила красавица в пору девичью.
Широкая в бедрах и тонкая в стане,
Казалась она исполненьем мечтаний.
Однако никто, красотой устрашенный,
Не брал ее, лотосоглазую, в жены.
Однажды, закончив свой пост многодневный,
К богам родовым, в первый па́рван[17], царевна
Молиться пришла с головою омытой, —
И жертвенник вспыхнул, цветами увитый.
Предстала затем пред отцом на закате,
С цветами склонилась к ногам Ашвапати,
И руки сложила, и встала с ним рядом, —
Широкая в бедрах, с почтительным взглядом.
И царь, сострадая, сказал тонкостанной
Царевне своей, женихам нежеланной:
«О дочь моя, время приспело для брака, —
Никто тебя замуж не просит, однако.
Сама поищи себе мужа: коль будет
Он равен тебе, нас никто не осудит.
Но знай, что отца осуждают законы,
Коль мужу не отдал он дочь свою в жены,
И муж осуждаем, жену разлюбивший,
И сын, овдовевшую мать позабывший.
Поэтому мужа найти поспеши ты,
Не то от богов мне не будет защиты».
Немного смутясь, но не зная тревоги,
Она поклонилась родителю в ноги,
С душою разумной, для блага открытой,
Отправилась в путь с надлежащею свитой,
Отправилась на золотой колеснице,
А царь и вельможи остались в столице.
Отправилась в чащи лесные, густые,
Туда, где отшельники жили седые,
Во многих священных местах побывала,
Наставникам-старцам дары раздавала.
Царь мадров сидел средь своих приближенных,
С ним — На́рада, сведущий в древних законах.
Царевна из дальних приехала странствий,
Предстала пред ними в блестящем убранстве,
Склонилась к ногам и отца и святого.
Властитель услышал от Нарады слово:
«Откуда вернулась царевна в столицу?
И замуж зачем ты не отдал девицу?»
А царь: «Потому-то, стремясь к этой цели,
Свою Савитри я отправил отселе.
Сейчас от нее мы узнаем: нашла ли
Супруга, в лесные отправившись дали?
Начни свою повесть, о дочь дорогая», —
Сказал властелин, Савитри ободряя.
И та, будто бога услышала, — сразу,
Отцу подчинясь, приступила к рассказу:
«Есть шалвов страна. Добрый, кроткий, всеправый,
Дьюма́тсена был властелином державы.
Когда он ослеп, стал он жертвой коварства,
И отнял сосед у несчастного царство.
С женою и с сыном-младенцем, незрячий,
Он в лес удалился, лишившись удачи.
Подвижником стал он в лесной глухомани,
Отрекся от низменных, жалких желаний.
А сын его, в царской рожденный столице,
Но ставший товарищем зверю и птице,
Сатья́ван, в скитаниях найденный мною,
Есть тот, кому стать я желаю женою».
«Беда! — вскрикнул Парада. — Тяжкое горе
На эту царевну обрушится вскоре!
Царевич, от праведных, чистых рожденный,
Правдивой и доброй душой наделенный,
Правдивым — Сатьяваном — прозванный с детства, —
Слыхал я, — коней полюбил с малолетства.
Гривастых лошадок лепил он из глины,
Конями свои украшал он картины,
За это прозвали царевича с лаской:
Читра́шва — «Скакун, Нарисованный Краской».
«А ныне, — спросил мудреца Ашвапати, —
Вкушает ли отпрыск слепца благодати?
И есть ли в нем кротость, и ум, и отвага?»
Ответствовал Нарада, ищущий блага:
«Как солнце, он светел, как Индра, бесстрашен,
Как наша земля, он терпеньем украшен».
А царь: «Но красив ли душой и обличьем?
Насколько он щедр? И велик ли величьем?»
Ответил мудрец: «Благороден, беззлобен,
Он щедростью лишь Рантиде́ве подобен,
Красив он, как месяц, как братья Ашвины, —
Дневной и вечерней зари властелины.
Он стоек и сдержан, он смел и послушен,
Он скромен, и доблестен, и прямодушен».
А царь: «Коль таков он, душою высокий,
Какие же в нем притаились пороки?»
«Один лишь порок в этом царственном сыне:
Умрет через год, начиная отныне».
Услышав ответ мудреца, Ашвапати
Сказал: «Савитри, не горюй об утрате.
Другого найди себе в мире широком:
Бессильны достоинства рядом с пороком.
К чему тебе муж, что погибнет до срока?
Беги от несчастья, беги от порока!»
В ответ — Савитри: «Это ведает каждый, —
Три дела свершаются в мире однажды:
Замужество, смерть, обещание дара…
Умрет ли он юный, умрет ли он старый,
В нем много ли блага иль больше дурного, —
Его избрала, не хочу я иного!
Что сердце решило — то вылилось в слово,
А слову — решение сердца основа».
«О царь, — молвил Нарада, — силой душевной
И светлым умом обладает царевна.
Сатьявану равных не сыщем в подлунной, —
Одобрим же выбор красавицы юной!»
А царь: «Для меня все слова твои святы.
Я сделаю так, ибо ты — мой вожатый».
Мудрец пожелал им: «Развеем кручину,
Да будет вам благо, а я вас покину».
Взлетел в третье небо[18] мудрец белоглавый,
А слугам велел повелитель державы
Всю утварь собрать, все припасы для свадьбы:
Желанному счастью преградой не стать бы!
С царевной, с жрецами домашними вместе
Царь двинулся в лес, угождая невесте,
А там, на подушке, набитой травою,
Священной, седой прислонясь головою
К могучему древу, сидел именитый
Отшельник. Глаза его были закрыты.
Предстал перед ним Ашвапати с поклоном.
Слепец-венценосец, согласно законам,
Владыку воссесть попросил на сиденье,
Затем предложил совершить омовенье,
Затем вопросил: «Государства властитель,
Зачем ты пожаловал в нашу обитель?»
Сказал Ашвапати: «Сатьявану в жены
Я дочь предлагаю, о царь прирожденный,
О праведник царственный с думой благою, —
Тебе Савитри да пребудет снохою».
Дьюматсена молвил: «Лишившись престола,
В лесу мы свершаем свой подвиг тяжелый,
И надо ли девушке, с миром в разлуке,
Испытывать наши невзгоды и муки?»
Ответствовал гость: «Эта жизнь быстротечна,
И счастье мгновенно, и горе не вечно.
Скажи, заслужил ли подобные речи
Я — с дочерью, с твердым решеньем пришедший?
Ты равен мне, жажду союза с тобою,
Ты в родичи мне предназначен судьбою!
С тобой породниться хочу я отныне,
Да сына найду в твоем царственном сыне!»
Ответил отшельник царю всеблагому:
«Давно я стремился к союзу такому,
Но, царства лишенный, подвластный обетам,
Сперва колебался и медлил с ответом.
Теперь я согласен, о царь справедливый, —
Сегодня пусть брак совершится счастливый!»
Собрали жрецов, что в лесу обитали,
Детей своих браком цари сочетали.
Богатствами дочь одарив, Ашвапати
Вернулся, обрадован, к войску и знати.
И юное счастье супругов влюбленных
Простерлось под сенью деревьев зеленых.
Царевна, отринув наряд свой атласный,
Оделась деревьев корой темно-красной.
Была Савитри и добра и смиренна,
И, скромная, нравилась всем неизменно:
Свекрови — заботами и обхожденьем,
А свекру — усердным богам угожденьем,
А мужу — красой, и работой прилежной,
И ласкою — в уединении — нежной.
Так жили в покое, свой подвиг свершая,
И горя не ведала пу́стынь лесная,
Но утром иль вечером, в тайном терзанье,
Забыть не могла Савитри предсказанье.
Шло время. К Сатьявану смерть приближалась.
В душе Савитри были горе и жалость,
На дни, что летели, смотрела в печали,
Речения Нарады в сердце звучали.
«День близок, — подумала, — неотвратимый.
Умрет на четвертые сутки любимый», —
И строгий обет возгласила трехдневный:
Не ела, недвижно стояла царевна.
Услышал слепой об обете суровом,
К снохе обратился с сочувственным словом:
«Решенье такое — уму непостижно:
Три дня крайне трудно стоять неподвижно!»
В ответ — Савитри: «Так я твердо решила.
Меня не жалей, ибо есть во мне сила».
А царь: «Я обет призову ли нарушить?
Скажу я: «Нарушь», — не должна меня слушать!»
Незрячий замолк, сокрушаясь душевно.
Столпом неподвижным застыла царевна.
В безмолвном и долгом страданье стояла,
И ночь отошла, и заря засияла.
«День вспыхнул, чтоб жизнь дорогая погасла!» —
С той думой в огонь возлила она масло,
Почтила, как должно, с смиренной любовью,
Отшельников-брахманов, свекра с свекровью.
Подвижники, движимы скорбью живою,
Взмолились о ней: да не станет вдовою!
Царевна ждала рокового мгновенья,
Но стало ей легче от благословенья.
И свекор с свекровью смиренно сказали:
«Исполнила ты свой обет, — так нельзя ли
Низринуть, сноха, послушания бремя,
Смотри, приближается трапезы время».
Ответила с ласкою дочь Ашвапати:
«Поем я, когда будет день на закате».
Тогда подошел, с топором на заплечье,
Сатьяван: он в лес отправлялся, далече.
«Пойду я с тобою! — сказала, тоскуя, —
Тебя одного отпустить не могу я!»
А муж: «Не просила ты раньше об этом,
И как, изнуренная тяжким обетом,
Прекрасная, пост соблюдавшая строгий,
Пойдешь ты пешком по нелегкой дороге?»
В ответ — Савитри: «Я сильна и здорова,
Пойду я с тобой, — таково мое слово».
А муж: «Хорошо. Но, над младшими властны,
Родители тоже да будут согласны».
К свекрови и свекру она, молодая,
Пришла и промолвила, скрытно страдая:
«Мой муж собирается в лес за плодами,
А также чтоб ваше поддерживать пламя.
Священный огонь — вот ухода причина,
И, значит, не надо удерживать сына.
Без мужа мне грустно, — слова мои взвесьте, —
Позвольте мне с мужем отправиться вместе.
Весь год прожила я безвыходно дома,
Мне прелесть лесная совсем незнакома».
Дьюматсена молвил: «С тех пор как женою
Сатьявану стала, — ко мне ни с одною
Ты просьбою не обращалась, родная.
Ступай же, супруга в пути охраняя».
С таким разрешеньем, тревожась о муже,
Пылая внутри и сияя снаружи,
С супругом отправилась в лес шумноглавый,
Где яркие ягоды, свежие травы,
Где нежно касались друг друга вершины,
Пронзительно перекликались павлины.
Шла с мужем вдвоем вдоль речного потока
И лотосы глаз раскрывала широко.
«Смотри!» — говорил ей супруг то и дело,
Но только на мужа царевна смотрела.
Уже он ей мертвым казался, и горе
Таила она в жизнерадостном взоре,
И, помня слова мудреца и пророка,
Ждала, содрогаясь, ужасного срока.
Так, думая думу свою втихомолку,
Плодами наполнила с мужем кошелку.
Затем началась дровосека работа.
Устал он, покрылся росинками пота,
Внезапно почувствовал боль головную
И молвил, взглянув на жену молодую:
«Любимая, мне занедужилось, что ли?
Болит голова, в сердце — острые боли,
Как будто впились в меня копья иль стрелы…
Немного посплю, отдохну, ослабелый».
Присела царевна средь свежих растений,
И голову мужа себе на колени
Она положила, часы подсчитала, —
Уже роковое мгновенье настало!
Тогда-то, в испуге, изверясь в надежде,
Увидела путника в красной одежде.
С петлею в руке и в короне блестящей
Смотрел на Сатьявана страх наводящий
Глазами, налитыми жаркою кровью, —
Не тог ли, кто участь готовил ей вдовью?
Царевна сложила молитвенно руки
И молвила голосом горя и муки:
«Ты мощи нездешней явил мне высоты.
Я вижу, ты — бог. Назови себя: кто ты?»
И был ей ответ: «Савитри дорогая,
За то, что живешь ты, добро постигая,
За то, что ко благу ты шествуешь прямо,
Откроюсь тебе: я — всеправящий Яма.
Сатьявана срок наступил. И петлею
Свяжу, унесу его, в бездне сокрою.
Он, праведник, был тебе верным супругом,
Поэтому сам я пришел, а не слугам
Своим поручил унести его ныне, —
Смиренный, он чтил и богов и святыни».
Связал он Сатьявана быстро, умело
И душу извлек из безгласного тела:
То был человечек, не больше чем палец, —
И стал бездыханным царевич-страдалец.
Исчезла душа — красота отлетела,
Уродливым стало бездушное тело.
Бог смерти направился в сторону юга,
Однако великая сердцем супруга,
Страдая и плача, с надеждой упрямой,
Безгрешная, шла неотступно за Ямой.
«Вернись, — посоветовал бог непреклонный, —
Сверши над супругом обряд похоронный,
Свой долг до конца ты исполнила честно!»
В ответ — Савитри: «Нам издревле известно, —
За мужем жена да последует всюду.
Он жил, — с ним была я, и с мертвым пребуду!
За то, что при муже отшельницей стала,
За то, что я старших всегда почитала,
За то, что усердно молилась, постилась,
За то, что и ты мне явил свою милость, —
Преграды не будет мне ставить дорога!
Нам, людям, законов завещано много,
Но дружбы закон — выше всех возглашаем,
И если мы дружбы обряд совершаем,
Семь раз вкруг огня мы ступаем стопою.[19]
Я тоже прошла семь шагов за тобою,
И, значит, закон я исполнила главный,
С тобой подружилась я, бог многославный!»
Царь предков, бог смерти, сказал, красноокий:
«Явила ты, женщина, разум глубокий,
Слова твои звуком и мыслью богаты,
Даренье за это проси у меня ты,
Я дам, кроме жизни супруга, — любое!»
Страдалица молвила слово такое:
«Мой свекор ослеп и лишился державы,
Беседуют с ним лишь деревья и травы,
Владыке, живущему в кротком смиренье,
Верни, благородному, сильному, зренье!»
А бог: «Этот дар ты получишь как милость.
Вернись, безупречная, ты утомилась.
Усталая, вижу я, ты исстрадалась».
А та: «Рядом с мужем — откуда усталость?
Где муж, там и я. Скреплены мы судьбою.
Ты мужа уносишь, и я за тобою.
Владыка богов! Ясный ум обнаружим,
Сказав, что светла встреча с праведным мужем.
В одной даже встрече — добро и отрада,
Дружить с этим праведным каждому надо!»
Ответствовал бог: «Твоя речь благодатна,
И мысли на пользу, и сердцу приятна.
Теперь обретешь ты даренье второе,
Проси, кроме жизни супруга, — любое».
А та: «Пусть получит мой свекор державу,
Привержен да будет он благу и праву».
А Яма: «Воссядет он вновь на престоле,
Приверженный благу и праведной доле.
Поскольку второй дождалась ты награды, —
Ступай, соверши над усопшим обряды».
В ответ — Савитри: «Самовластно ты правишь,
Предел ты людским поколениям ставишь,
Насильно в свою их уносишь обитель,
За что и прозвали тебя — Покоритель.
Но знаешь ли ты, в чем добро вековое?
Должны мы любить всех живых, все живое,
Ни в мыслях, ни в действиях зла не питая, —
Вот истина вечная, правда святая.
Все люди ко многим занятьям способны,
Но те лишь прекрасны, что сердцем беззлобны».
Бог смерти воскликнул: «Слова твои — благо,
Они — как для жаждущих свежая влага.
Заслуженно третье даренье тобою,
Проси, кроме жизни супруга, — любое».
А та: «Мой отец не имеет потомства.
Чтоб радостью кончилось наше знакомство.
Ты сто сыновей подари Ашвапати, —
Правителей царства, водителей рати».
И Яма: «Отвагой, умом наделенных,
Сто братьев тебе подарю я законных.
Я этим дареньем тебя успокою,
Вернись, — далеко ведь зашла ты за мною».
А та: «Рядом с мужем идти — далеко ли?
Душа моя дальше стремится на воле!
Послушай: сияющим Солнцем рожденный,
Ты — Дхарма, дарующий правды законы.
Бог смерти, ты грозным могуч правосудьем,
Даешь ты покой и забвение людям.
Мы праведником правоту измеряем,
И больше ему, чем себе, доверяем.
Из той доброты, что в душе утвердилась,
Доверье ко всем существам зародилось.
Прекрасные качества есть человечьи, —
Но самое ценное — добросердечье!»
А бог: «От тебя услыхал я впервые,
Прелестная, мудрые речи такие.
Ты правду познала, — и в этом заслуга.
Что хочешь проси, кроме жизни супруга».
Сказала царевна: «Пусть род наш продлится,
Пускай от Сатьявана сто народится
Отважных сынов, — у меня ли, на счастье,
Иль, может, у равной супругу по касте.
Хочу, чтобы милость над нами простер ты, —
И это я дар избираю четвертый!»
«Родишь ты, о женщина, — молвил Всеправый, —
Сто смелых сынов, полных силы и славы.
Но ты исстрадалась от горькой утраты,
Вернись, потому что далёко зашла ты».
«Кто добр, тот и прав, — отвечала царевна, —
Он крепок духовно и стоек душевно.
Общение добрых сердца озаряет,
На доброго добрый без страха взирает.
На добрых земля утвердилась в покое,
В них, в добрых, — и будущее и былое.
От доброго добрый не ждет злодеянья,
За благодеянья не ждет воздаянья.
Добро никогда не бывает напрасно,
Всевластно добро, потому и прекрасно!»
«Пока, — бог ответствовал, — ты говорила,
Душе моей речь твоя радость дарила,
И мысль твоя, слогом красивым одета,
Казалась источником чистого света.
Ты стала мне ближе дитяти родного.
Добро, — ты права, — всех деяний основа.
Проси, чего хочешь, и дар несравненный
Я дам тебе — любящей, верной, смиренной!»
А та: «Мною дар избирается пятый.
Да будешь ты милостив, благом богатый!
Верни мне Сатьявана, если права я!
Пускай оживет он: без мужа мертва я!
Без мужа не надо мне хлеба и крова!
Без мужа не надо мне неба дневного!
Без мужа не надо мне вешнего цвета!
Без мужа не надо мне счастья и света!
Не надо мне дома, и поля, и сада, —
Без мужа мне жизни не надо, не надо!
Ты сто сыновей посулил мне, однако
Уносишь Сатьявана в логово мрака.
Прошу я: ты жизнь возврати ему снова,
И правдой твое да насытится слово!»
«Да будет, как просишь, — сказал убежденно
И петлю свою развязал Царь Закона. —
О чистая, муж твой отпущен. Отселе
Уйдете вдвоем и достигнете цели.
Согласно заветам и древним обрядам,
Четыреста лет проживете вы рядом.
Сто славных сынов ты родишь, и царями
Сыны твои станут, и богатырями,
Потомками будут гордиться своими,
Твое, сквозь века, пронесут они имя.
И сто сыновей, чье прозванье — малавы,
Отец твой родит ради правды и славы.
Как тридцать богов, будут силой богаты
Все братья твои, облаченные в латы».
Сказав, удалился, светясь лучезарно.
Она, посмотрев ему вслед благодарно,
Над телом усопшего мужа склонилась.
Ждала, трепеща: совершится ли милость?
Вновь голову мужа себе на колени
Она положила, присев средь растений,
И тот, кто лежал на земле бездыханно,
Открыл свои губы и очи нежданно,
Как будто он только заснул — и проснулся,
Как будто из странствий далеких вернулся!
Сказал, на любимую с лаской взирая:
«Не правда ли, долго я спал, дорогая?
Скажи, не во сне ли я видел ужасном:
Тащил меня муж в одеянии красном?»
В ответ — Савитри: «О великий в стремленьях!
Ты сладко заснул у меня на коленях.
Бог смерти сюда приходил красноокий…
Скажи, — исцелил тебя сон твой глубокий?
И если прошла твоя боль головная, —
Пойдем, ибо тьма наступает ночная».
Сатьяван, обретший сознание снова,
Взглянул на цветение мира лесного
И молвил, как будто от сна восставая:
«Рубил я дрова, о жена дорогая,
Почувствовав боль в голове, на колени
Твои я прилег, чтоб найти исцеленье.
Вдруг тьмою оделись поляны и рощи.
Я мужа увидел неслыханной мощи.
Что было со мною? То сон или бденье?
То был человек иль явилось виденье?»
Сказала жена: «Мгла ночная сгустилась.
Поведаю завтра о том, что случилось.
И мать и отца ты оставил в смятенье,
Пойдем, ибо ночи надвинулись тени.
Здесь ищет свирепая нечисть корысти,
Здесь рыщет зверье, здесь тревожатся листья,
Здесь воют шакалы, — полна я испуга
От их голосов, долетающих с юга».
А муж: «Но во тьме ты не сыщешь дороги,
Боюсь, что от страха отнимутся ноги».
Она: «Вот огонь, раздуваемый ветром:
Лес нынче горел; если хочешь ты, светлым
Я сделаю путь, прогони опасенья, —
Огонь принесу, разожгу я поленья.
Но если ты болен, идти тебе трудно,
А ночью дорога опасна, безлюдна,
Тогда посидим у костра до рассвета,
А завтра пойдем, о блюститель обета!»
Сатьяван: «Прошла моя боль головная,
Родители ждут меня, тяжко страдая.
До сумерек мать запрещала мне слезно
Скитаться, — ни разу я не был так поздно
В лесу! Даже днем поброжу я немного, —
Уже у родителей в сердце тревога,
Вернусь, — от обиженных слышу упреки:
«Как долго в лесу ты бродил, одинокий!»
В каком же волненье родители ныне,
В тревоге какой о единственном сыне!
Как часто, когда вечера наступали,
Они говорили мне в светлой печали:
«Докуда ты жив, мы не знаем забвенья.
Не сможем прожить без тебя и мгновенья.
Сыночек, ты — посох для старца слепого,
Ты наших потомков — оплот и основа,
В тебе — поминальная жертва, и слава,
И нашего рода надежда и право!»
Как мог я в лесу утомиться так скоро,
Когда я — родителей слабых опора!
Лишиться страшусь стариков своих милых, —
Я вынести горе такое не в силах!
Я знаю, волнуется наша обитель,
Терзается думой бессонный родитель,
Измучена матушка скорбью своею, —
О нет, не себя, — стариков я жалею!
Живу я, чтоб жили они, торжествуя, —
Для счастья, для жизни двух старцев живу я!»
Сказал и воздел он с рыданием руки.
Услышав отчаянья громкие муки,
Воскликнула праведница молодая,
С ресниц его слезы рукою снимая:
«Пусть свекра с свекровью хранит моя сила, —
Обеты и жертвы, что я приносила.
Вовек не сказала я речи обманной, —
Так пусть моя правда им будет охраной!
Сатьяван: «Пойдем, ибо сердцем измучусь,
Боюсь, что ужасна родителей участь.
А будет им горе, — покончу с собою.
Пойдем же, прекрасная, темной тропою».
Тогда обняла Савитри молодая
Супруга, подняться ему помогая.
Он встал, и растер свое тело, и взглядом
Окинул кошелку, стоявшую рядом.
Она: «Завтра утром придем за плодами,
А острый топор пусть отправится с нами».
Повесив кошелку на ветке древесной,
Царевна топор подняла полновесный
И, мужа другой обнимая рукою,
Лесною тропою, безлюдной, глухою,
Пошла, дивнобедрая, легкой походкой.
Сатьяван сказал ей, прелестной и кроткой:
«Здесь часто бывал я и знаю дорогу.
К тому же и месяц растет понемногу.
Тропа раздвоится, достигнув поляны, —
На север пойдем, где приют мой желанный.
Здоров я, нетрудно шагать мне далече,
С отцом, с милой матерью жажду я встречи».
Дьюматсена, годы влачивший в смиренье,
Внезапно обрел, осчастливленный, зренье.
Пошел он с женой своей, Ша́йбьей, в другие,
Соседние пу́стыни, рощи глухие.
Измучились, дряхлые, в поисках сына,
И горькою стала двух старцев судьбина.
Листок затрепещет, просвищет ли птица,
Сорвется ли плод иль ручей заструится, —
Спешат, задыхаясь, услышав те звуки:
«Сатьяван с женою идут вдоль излуки!»
С телами, в которых торчали занозы,
С глазами, в тоске изливавшими слезы,
С ногами, что стерлись и были разбиты, —
Родители, грязью и кровью облиты,
Метались в лесу средь растений безгласных.
Увидели брахманы старцев несчастных,
В обитель свою привели их с дороги,
Стараясь развеять страдальцев тревоги,
Рассказ повели о деяньях героев,
О древних царях, стариков успокоив,
А те говорили о сыне рассказы,
Про детство его и былые проказы,
И плакали и восклицали, рыдая:
«О, где ты, сынок? Где сноха молодая?»
Так первый отшельник сказал им утешно:
«Была Савитри беспорочна, безгрешна,
Поэтому знайте, поэтому верьте:
Сатьяван женою избавлен от смерти!»
Второй: «Над собой одержал я победы,
Старательно мною изучены веды,
Я с юности жил в целомудрии строгом,
Пред Агни я чист — семипламенным богом,
И знаю, святыми жрецами наставлен:
Сатьяван женою от смерти избавлен».
И третий сказал: «Ученик я второго.
Насыщено правдой учителя слово.
Он прав, ибо даром провидца прославлен:
Сатьяван женою от смерти избавлен».
Четвертый сказал убежденно и веско:
«Не станет вдовицею ваша невестка, —
И с этим надежду свою соразмерьте:
Сатьяван женою избавлен от смерти».
И пятый: «Обет воздержанья от пищи
Блюдет Савитри, чтобы сделаться чище,
Ты зренье обрел и весь мир тебе явлен, —
Так, значит, Сатьяван от смерти избавлен».
Шестой: «Так как в должном кричат направленье
И птицы и звери, а ты, чье правленье
Законно, опять овладеешь страною, —
Сатьяван от смерти избавлен женою».
Седьмой: «Царский сын наделен долголетьем,
Так, значит, живого Сатьявана встретим!»
Полночи минуло в таком разговоре,
Страдальцев немного развеялось горе, —
И видят: в приют, где живет благочестье,
Вступает царевна с Сатьяваном вместе.
Сказали жрецы: «О былом не восплачем!
Ты встретился с сыном, ты сделался зрячим,
К тебе Савитри возвратилась обратно,
О царь, значит, счастье твое троекратно,
А скоро пребудешь в покое и мире,
И счастье твое станет больше и шире».
Затем разожгли святожители пламя,
Дьюматсену громко почтили хвалами.
Как дым, улетучились грусть и кручина.
Спросили отшельники царского сына:
«Ты поздно вернулся порою ночною, —
Иль раньше не мог возвратиться с женою?
Быть может, преграда была на дороге?
Отец твой и мать истерзались в тревоге,
Мы тоже к богам обращались с мольбою, —
Царевич, поведай, что было с тобою?»
Сатьяван: «Мы в глубь углубились лесную,
И вдруг я почувствовал боль головную.
Заснул я, ища исцеленья от боли, —
Так долго ни разу не спал я дотоле!
Мы поздно вернулись по этой причине,
И поводов нет для смятенья отныне».
Спросил старший жрец: «Неужели случайно
Прозрел твой отец? Если это не тайна,
То пусть Савитри, чей прославится разум,
Тьму ночи развеет правдивым рассказом».
«Не прячу я тайны, — царевна сказала, —
Всю правду поведаю вам от начала.
Предсказанный мудрым день смерти супруга
Пришел. Не хотела покинуть я друга.
Заснул он в лесу под листвою густою.
Вдруг Яма всесильный явился с петлею.
Связал он супруга петлею смертельной,
Понес его к праотцам в край запредельный.
Я грозного бога хвалами почтила
И пять драгоценных даров получила:
Два дара для свекра — держава и зренье;
Отцу моему — сто сынов; и даренье
Четвертое — сто сыновей мне, смиренной;
Сатьявана жизнь — пятый дар несравненный!
Четыреста лет проживем без тревоги:
Недаром обет выполняла я строгий.
Правдиво поведала вам, без пристрастья,
Как счастьем окончились наши несчастья».
Сказали подвижники: «В море страданий
Тонул царский род, погибая в тумане.
Жена, чьи поступки и помыслы святы, —
Семью властелина от смерти спасла ты!»
Воздав наилучшей из женщин хваленье,
Жрецы удалились в свое поселенье.
Вновь сели при первом дыханье прохлады
И утренние совершили обряды.
Внезапно старейшины-шалвы, все вместе,
Пришли, принесли долгожданные вести:
«Придворный убил похитителя власти,
И войско бежало, распавшись на части.
Народ в единенье Дьюматсену славит:
«Незрячий иль зрячий — пусть нами он правит!»
О царь, с этим прибыли мы из столицы,
Собрав твое войско и взяв колесницы.
Услышь славословья народа родного,
Воссядь на престоле наследственном снова!»
Упали, на облик взглянув величавый:
Вновь зренье обрел повелитель державы,
Как будто он снова и силен и молод!
Почтил он жрецов и отправился в город
В большой, запряженной людьми, колеснице,
Где место нашлось и снохе и царице.
Вновь стал он царем, а наследником трона —
Сатьяван, — и страж и опора закона.
Величье его Савитри озарила,
Когда ему сто сыновей подарила,
И сто сыновей произвел Ашвапати —
Властителей царств и водителей рати.
Отца, и супруга, и свекра с свекровью
Спасла Савитри всепобедной любовью.
На стороне кауравов сражался великий богатырь Карна́, считавшийся сыном возничего. Однажды Кунти открыла ему, что он ее сын, рожденный ею от Сурьи, бога солнца, и что он должен помогать пандавам, так как они его братья. Но Карна не захотел покинуть своего покровителя Дуръйодхану и только пообещал матери, что в грядущих битвах он пощадит всех пандавов, кроме Арджуны, — чтобы люди не подумали, что он, Карна, испугался этого прославленного, непобедимого воина.
Тайна рождения Карны раскрывается в «Сказании о чудесных серьгах и панцире».
…Двенадцать исполнилось лет, как расстались
Пандавы с отчизной, в изгнанье скитались.
Вот Индра решил: у Карны он попросит
Те серьги, которые праведник носит.
Как только бог солнца проведал об этом,
Явился к Карне Обладающий Светом,
А витязь, чьи серьги и панцирь блестели,
Могучий, в то время лежал на постели.
Сверкающий Су́рья, в заботливом бденье,
Предстал перед сыном в ночном сновиденье,
Но в облике брахмана, что красотою
Духовною — каждой светился чертою.
Войдя, он склонился к его изголовью.
Чтоб сыну помочь, он промолвил с любовью:
«О веры защитник и правды основа,
Возлюбленный сын, ты прими мое слово!
Заботясь о детях Панду, за серьгами
Придет к тебе Индра, сверкая глазами.
Он знает, что людям ты благо приносишь, —
Всегда отдаешь, ничего ты не просишь,
Что брахмана встретить не можешь отказом:
Ты все, что имеешь, отдашь ему разом!
Как брахман, появится Индра гремящий,
Чтоб выпросить серьги и панцирь блестящий.
Ты должен быть ласков, почтителен с богом,
Однако же, под благовидным предлогом,
Другие вручи Громовержцу даренья,
Но только не серьги, о полный смиренья!
Все доводы ты приведи без пристрастья,
Дай женщин ему, ожерелья, запястья,
Но только не серьги: меня ты состаришь,
И сам ты умрешь, если серьги подаришь!
Владея серьгами и в панцирь одетый,
От вражеских стрел не погибнешь нигде ты.
Из а́мриты[20] серьги и панцирь возникли:
Храни их, чтоб годы твои не поникли».
Карна: «Кто ты, мудрый, как брахман одетый,
Явивший мне дружбу, дающий советы?»
А брахман: «Я тот, кто лучами владеет,
О благе твоем наивысшем радеет».
Карна: «Благо есть уже в том, что с речами
Благими пришел ты, богатый лучами.
Молю я тебя, чьи реченья — отрада:
Меня отвращать от обета не надо.
Обет мой таков: отдаю, что имею, —
Для брахманов я ничего не жалею!
И если, чтоб были довольны пандавы,
Придет ко мне Индра как брахман лукавый, —
Отдам ему серьги и панцирь отменный,
Да слава не меркнет моя во вселенной.
Со славою смерть, гибель в битве неравной —
Стократно достойнее жизни бесславной!
Я серьги и панцирь — сей дар небывалый —
Отдам Сокрушителю Вритры и Балы,[21]
Защитнику братьев-пандавов. И прав я:
Мне слава нужна, — бог добьется бесславья!
Со славой достигну я выси небесной,
Кто славы лишен, — поглощается бездной.
Бесславье в живом убивает живое,
А слава дает нам рожденье второе.
О славе людской, — о блистаньем высокий, —
Создатель сложил эти древние строки:
«Здесь, в мире земном, слава — жизни продленье,
А в мире ином слава — к свету стремленье».
Обет исполняя достойный и правый,
Я серьги и панцирь отдам ради славы,
А если я в битве погибну кровавой,
То, с жизнью расставшись, останусь со славой.
Детей, стариков и жрецов ограждая,
Щажу оробевших в сраженье всегда я,
Тем самым я славы достигну по праву:
Ведь жизнью готов заплатить я за славу.
Поэтому Индре явлю свою милость,
Чтоб слава моя в трех мирах утвердилась!»
А Сурья: «Карна, мощнорукий и смелый,
Ни детям, ни женам дурное не делай.
Прославиться люди хотят во вселенной,
При этом не жертвуя жизнью бесценной.
А ты? Платой жизни за славу ты платишь,
Однако и славу и жизнь ты утратишь!
Живое живет для живого на свете, —
И мать, и отец, и супруга, и дети.
Для жизни нужна властелинам отвага,
Лишь в жизни, о бык средь людей, наше благо!
Живые нуждаются в славе с хвалою, —
Что делать со славою ставшим золою?
Услышат ли мертвые голос хвалебный?
Ужели усопшим гирлянды потребны?
Я знаю, ты предан мне, муж крепкостанный,
Поэтому стал я твоею охраной,
Но если пришел я, тебе помогая, —
Причина для этого есть и другая.
Во мне она скрыта, и что ни твори ты,
А тайны бессмертных от смертных сокрыты.
Поэтому я умолкаю. Однако
Со временем тайну исторгну из мрака.
Я вновь говорю, отправляясь в дорогу:
Серег не давай громоносному богу!
Серьгами блистаешь ты, воин суровый,
Как месяц в созвездии Ви́шакхи новый.
Не мертвому слава нужна, а живому:
Серег не давай Сопричастному Грому!
Придет к тебе бог с громовою стрелою, —
Встречай его лестью, почтеньем, хвалою,
Дай всё, украшая учтивостью речи, —
Но только не серьги, не серьги при встрече!
Пойми: совладаешь с любыми врагами,
Пока обладаешь такими серьгами.
Пусть Индра для Арджуны станет стрелою, —
Не справится Арджуна грозный с тобою.
Тогда только Арджуну в прах ты повергнешь,
Когда домогательства Индры отвергнешь».
Карна: «Я привержен тебе, всеблагому,
О Жарколучистый, — тебе, не другому!
Дороже ты мне, чем сыны и супруга,
Чем сам я, чем родича близость и друга!
А к преданным люди с великой душою
Относятся с лаской, с любовью большою.
Вот истина: к прочим богам равнодушен,
Тебе лишь я предан, тебе лишь послушен!
Но, снова и снова склонясь пред тобою,
К тебе обращаюсь, о Светлый, с мольбою:
Не смерти страшусь, а боюсь я обмана,
А смерть ради жизни жреца мне желанна.
А если сказал ты об Арджуне слово,
То горя не должен ты знать никакого:
Ты видишь, как славно мечом я владею, —
Врага без серег победить я сумею!
Обету позволь же мне следовать строго:
Отказом не встречу могучего бога».
«Коль серьги, — сказал Обладающий Светом, —
Отдашь, то условье поставишь при этом:
«Вручи мне копье, чтоб враги оробели,
Копье, что без промаха движется к цели,
Тогда-то, о Тысячи Жертв Приносящий,
Я дам тебе серьги и панцирь блестящий!»
Есть в этом условье надежда и разум:
Копьем, что подарено Тысячеглазым[22],
Врагов сокрушишь, проявляя геройство.
Известно копья драгоценное свойство:
К бойцу не вернется обратно, доколе
Всех недругов не уничтожит на поле!»
Сказав, он сокрылся, великолучистый,
А утром, пред Солнцем, с молитвою чистой
Склонившись, с любовью и верой во взоре,
Поведал Карна о ночном разговоре.
И бог, что всегда лучезарен и светел, —
«Воистину так», — улыбаясь, ответил.
Узнав, что в словах о копье нет обмана,
Стал думать Карна о копье постоянно,
Стал думать о встрече с царем над богами,
Хотя и пришлось бы расстаться с серьгами…
Но тайну какую, одетый лазурью,
Сокрыл от Карны Озаряющий Сурья?
Да скажет мудрец: этот панцирь — откуда?
Откуда те серьги, таящие чудо?
И что утаил Обладающий Светом?
Правдивую повесть расскажем об этом.
К царю Кунтибхо́дже явился когда-то
Высокого роста, прямой, бородатый,
С косой заплетенною брахман суровый,
Могучий сложением, желто-медовый,
Готовый на подвиг, исполненный рвенья,
Со взором, в котором — огонь откровенья.
«О добрый, — сказал сей источник сиянья, —
В жилище твоем я прошу подаянья.
И если и ты, и твои домочадцы
Меня не принудят страдать, огорчаться,
И если тебе это будет угодно,
То стану я жить у тебя, благородный.
Когда пожелаю, уйду и приду я.
Тогда лишь покину тебя, негодуя,
Когда уличу вас в дурном поведенье, —
И ложе мое оскорбят и сиденье».
А царь: «Твой приход, о безгрешный, прекрасен,
О жрец, я на большее даже согласен!
Есть дочь у меня, что горда, и стыдлива,
И благочестива, и трудолюбива.
Зовут ее Ку́нти. Кротка, добронравна,
Тебе она будет служить преисправно».
Почтил он жреца и со словом наказа
Направился к дочери огромноглазой:
«О милая! Светел душой, как денница,
Решил в нашем доме святой поселиться.
Я верю: служить ему будешь любовно,
Что скажет, исполнишь ты беспрекословно.
Служением брахману сердце очисти,
И что ни попросит — отдай без корысти,
Затем, что жрецы — это блеск беспримерный
И подвиг безмерный и неимоверный.
Вата́пи, что славился демонской властью,
Разгневал своим поведеньем Ага́стью[23]:
К жрецам непочтителен был он, — за это
Его уничтожил блюститель обета.
Когда бы не брахманов мудрых моленья,
Сокрылось бы Солнце от нашего зренья.
Отраду, святому служа, обретаешь.
Я знаю, ты с детства почтенье питаешь
К жрецам и родителям, к близким и слугам
И к каждому, кто нам приходится другом.
Все в городе нашем довольны тобою.
Ты ласкова даже с бесправной рабою.
О дочь, за тебя мое сердце спокойно,
Гневливому гостю служить ты достойна.
Ты, Кунти, мне дочерью стала приемной,
Отец тебя отдал с любовью огромной.
«Она, — он сказал мне, — сестра Васудевы,
Померкли пред ней наилучшие девы».
Ты, в доме рожденная славном и знатном,
Мне стала сокровищем, сердцу приятным.
Как лотос из озера в озеро снова,
В мой дом перешла ты из дома родного.
Средь девушек низкорожденных, не строго
Воспитанных в доме, — испорченных много.
А ты унаследовала и величье
Властителей, и послушанье девичье.
Поэтому ты безо всякой гордыни
Служи многомудрому брахману ныне,
А если рассердится дваждырожденный[24], —
Погибнет мой род, на костер осужденный!»
Царевна: «О Индра среди властелинов!
Служить ему буду, гордыню отринув!
Я счастье и благо найду, молодая,
Жрецу угождая, тебя почитая.
Придет ли он рано, вернется ли поздно, —
Я сделаю так, чтоб не гневался грозно.
Мне радостно брахманам мудрым служенье:
В подобном служенье — мое возвышенье.
Мудрец будет мною почтительно встречен,
И будет уход за жрецом безупречен.
На пользу тебе и на благо святому
С усердьем начну хлопотать я по дому.
О царь, из-за брахмана смуты не ведай:
Служенье ему завершится победой.
Виновных пред брахманом ждет наказанье.
Ты вспомни, — беда угрожала Сука́нье:
Был Чья́вана-жрец погружен в созерцанье,
Тогда муравейник — высокое зданье —
Создать вкруг него муравьи попытались:
Глаза только видными в куче остались!
Царевна Суканья, увидев два ока,
В них палкою ткнула. Рассержен жестоко,
Хотел наказать ее дваждырожденный,
Но отдал отец ее брахману в жены…»
Приемную дочь повелитель восславил
И мудрому брахману Кунти представил:
«Вот дочь моя, брахман. Не надобно злиться
На девушку, если она провинится:
Великий судьбою на старых и малых
Не сердится, если проступок узнал их.
Довлеет от брахманов, мир утешая.
Большому проступку и кротость большая.
О лучший из мудрых, явив снисхожденье,
Принять от нее соизволь угожденье».
Ответил согласием знающий веды,
И царь, осчастливленный ходом беседы,
Отвел ему дом, что своей белизною
Соперничал с лебедем или с луною,
И там, где священное пламя хранилось,
Дал пищу, сиденье и всякую милость.
Отбросив гордыню и леность, царевна
Служила святому прилежно, безгневно, —
Ему, что покорен обету, упорно,
Как богу, служила, обету покорна!
«Я утром приду», — говорит он порою,
А ночью придет иль с вечерней зарею,
Подвижнику девушка не прекословит, —
И воду, и пищу, и ложе готовит,
И что он ни сделает, — лучше и чище
Становятся ложе, сиденье, жилище.
Придет на рассвете иль ночью глубокой, —
От девушки брахман не слышит упрека.
Нет пищи? «Подай!» — говорит он сурово,
А девушка с кротостью: «Пища готова!»
И с радостью хочет ему подчиниться,
Как дочь, как сестра, как его ученица.
Доволен был брахман ее поведеньем,
Ее обхожденьем, ее угожденьем.
«Доволен ли жрец?» — вопрошал каждодневно
Отец. — «О, весьма!» — отвечала царевна.
Предметом внимательнейшего ухода
Был брахман на всем протяжении года.
Сказал он: «О ты, с безупречным сложеньем!
Весьма я доволен твоим услуженьем.
Увидев добро, мы добра не забудем.
Дары назови, недоступные людям,
Чтоб тяжкий твой труд был достойно увенчан,
Чтоб стала ты самою славной из женщин».
А Кунти: «И ты и отец мой довольны,
И в этом — дары для меня, сердобольный».
А жрец: «Если дара не хочешь, то дать я
Хочу тебе чудную силу заклятья.
Какого захочешь ты вызовешь бога,
Бессмертным приказывать сможешь ты строго,
И все, что прикажешь, заклятью подвластны,
Исполнят, — пусть даже с тобой не согласны».
Вторично она отказаться страшилась:
В проклятье могла обратиться немилость!
И жрец даровал ей слова заклинанья
Из древних письмен сокровенного знанья.
Затем он сказал Кунтибходже: «Приемной
Твоею доволен я дочерью скромной.
Я жил у тебя, наслаждаясь покоем.
Прощайте, я вам благодарен обоим».
Сказав, он исчез, растворясь в отдаленье,
И царь Кунтибходжа застыл в изумленье.
Шло время. Красавицу дума томила:
«Какая в заклятье содержится сила?
Мне брахман его даровал не случайно,
Настала пора, чтоб открылась мне тайна».
Так думала думу, и стало ей видно,
Что месячные наступили. И стыдно
Ей было, невинной и чистой, и внове:
Пошли у нее до замужества крови!
Взглянула — и Солнца увидела прелесть:
Так ярко лучи поутру разгорелись.
И было дано ей чудесное зренье,
И бога увидела в жарком горенье:
Серьгами украшен Властитель Рассвета,
А тело в сверкающий панцирь одето!
Тогда, любопытством объята, решила
Узнать, какова заклинания сила.
Глаза, уши, губы и ноздри водою
Смочила и древнею речью святою
Создателю Дня появиться велела.
И Солнце коснулось земного предела,
И бог снизошел, покорясь ее власти,
Слегка улыбаясь, в венце и запястье,
Могучий, высокий, медвяного цвета
И все озаряющий стороны света.
Он с помощью йоги тогда раздвоился:
На небе взошел и пред Кунти явился.
Он нежно сказал: «Ради силы заклятья
Твои приказанья готов исполнять я.
Я все для тебя сотворю, о царица,
Обязан я воле твоей подчиниться».
А Кунти: «Мое любопытство виною
Тому, что тебя позвала. Надо мною
Ты смилуйся, бог, и на небо вернись ты!»
«Уйду, как велишь ты, — ответил Лучистый, —
Но, бога призвав, ты не вправе без дела
Его отсылать… О, скажи, ты хотела
(Не высказана, мне известна причина)
От Солнца родить несравненного сына,
Чтоб мощью отважной сравнялся с богами,
Чтоб панцирем был наделен и серьгами.
Поэтому мне ты отдайся, невинна,
И, тонкая в стане, получишь ты сына.
А если отвергнешь со мною сближенье, —
Я все, что живет, обреку на сожженье,
Навеки тебя прокляну, о царевна,
И, прокляты, будут наказаны гневно
И брахман, тебе даровавший заклятье,
И царь, твой отец, потерявший понятье.
Я дал тебе чудное зренье. Смотри же
На сонмы богов, что все ближе и ближе:
Смеясь надо мною, в небесном чертоге
Сидят, возглавляемы Индрою, боги!»
И тридцать богов своим зреньем чудесным
Увидела Кунти на своде небесном,
И юная дева смутилась немного,
Трепещущая, попросила у бога:
«Умчись на своей колеснице далече!
Как девушке слушать подобные речи!
Нет, в сговор с тобой не вступлю я опасный,
Над телом моим лишь родители властны.
Коль женщина тело отдаст, то и душу
Погубит. О нет, я закон не нарушу!
По глупости детской, чтоб силу заклятья
Проверить, тебя захотела позвать я.
Подумав, ко мне прояви благосклонность,
Прости, о Лучистый, мою несмышленость».
«Тебя неразумным ребенком считая,
Я мягок с тобой. А была бы другая, —
Ей Сурья сказал, — поступил бы иначе…
Отдайся мне, робкая, в полдень горячий,
Отказом своим нанесешь ты мне рану, —
Для сонма богов я посмешищем стану.
О, будь же возлюбленной Солнца, и сына
Родишь ты — подобного мне исполина!»
Царевна, храня в целомудрии тело,
Создателя Дня убедить не сумела.
Подумала, робко потупивши очи:
«О, как отказать Победителю Ночи?
Погибнут, не зная вины за собою,
Отец мой и брахман, великий судьбою.
Теперь-то понятна мне сила заклятий:
Нельзя несмышленому даже дитяти
Приблизиться к этой сжигающей силе,
И вот — меня за руку крепко схватили.
Как быть мне? Хотя и страшусь я проклятья, —
Себя самое разве смею отдать я?»
Царевна, поняв, что она виновата,
Краснея, стыдом и испугом объята,
Сказала: «О бог, мои речи не лживы,
И мать и отец мой пока еще живы,
И живы все родичи, сестры и братья, —
При них целомудрие вправе ль попрать я?
Весь род запятнаю, себя отдавая,
Пойдет о родных моих слава дурная.
Тебе не дана я родителем в жены,
Но если считаешь, на небе рожденный,
Что мы не нарушим закон, то согласна
Исполнить я то, чего жаждешь ты страстно.
Но девственной все же остаться должна я, —
Да минет родителей слава дурная!»
Бог солнца: «О ты, чье сложенье прекрасно!
Родным и родителям ты не подвластна.
Ведь корень «дивить» слышен в слове «девица»,
И люди тебе будут, дева, дивиться!
Люблю я людей — так могу ли, влюбленный,
С тобою нарушить людские законы?
Закон для мужчин и для женщин — свобода,
Неволи не терпит людская природа.
Уродством зовется отсутствие воли,
Так будь же свободна, без страха и боли
Отдайся мне, — девственной станешь ты снова
И сына родишь ради блага земного».
Царевна — в ответ: «Если сына до брака
Рожу от тебя, Победителя Мрака,
Да будет он, мощью, отвагой обильный,
С серьгами и панцирем, великосильный».
А бог: «Будут серьги и панцирь отборный
Из амриты созданные животворной».
Она: «Если дашь, о Светило Вселенной,
Из амриты серьги и панцирь бесценный,
Величьем и силой возвысишь ты сына, —
То слиться согласна с тобой воедино».
«Мне А́дити-мать подарила когда-то
Те серьги и панцирь, что крепче булата, —
Ответствовал Сурья. — Заботясь о сыне,
Их сыну отдам я, о робкая, ныне».
«Согласна, — сказала она, — если слово
Исполнишь, и сына рожу я такого».
Приблизился к ней Враждовавший с Ночами,
Казалось, проник в ее тело лучами.
Взволнована жарким блистаньем до дрожи,
Упала она без сознанья на ложе.
А Сурья: «Родишь несравненного сына,
Обильного мощью, — и будешь невинна,
А я ухожу». Восходящему Ало:
«Да будет по-твоему», — Кунти сказала.
Утратив сознание, с богом слиянна,
Упала, как будто под ветром лиана.
Сверкающий бог, Озаривший Дороги,
Вошел в ее тело при помощи йоги.
С пылающим богом она сочеталась,
Но девственной, чистой при этом осталась.
Десятой луны началась половина,
Когда зачала дивнобедрая сына.
Таилась, невинная и молодая,
Свой плод от родных и от близких скрывая,
Никто, кроме верной и преданной няни,
Не знал во дворце о ее состоянье.
Скрывалась, — да сплетня ее не коснется, —
И вот родила она сына от Солнца.
От бога рожден, он сравнялся с богами,
И панцирем он обладал, и серьгами,
Глаза — как у Солнца-отца золотые,
А плечи — как буйвола плечи литые.
Царевна, научена умною няней,
Младенца на зорьке прохладной и ранней,
Рыдая, скорбя, уложила в корзину, —
Да будет удача сопутствовать сыну!
Лежал он в корзине, обмазанной воском,
Как в гнездышке, устланном шелком, нежестком.
Вот, бросив корзину в поток Ашвана́ди,
Стыдясь материнства, с тоскою во взгляде,
Страдая телесно, страдая душевно,
Напутствуя сына, сказала царевна:
«Сынок, о твоем да заботятся благе
Насельники неба, и суши, и влаги!
Да много увидишь ты дней светозарных,
В пути да не встретишь дурных и коварных!
В воде пусть тебя охраняет Вару́на,
А в воздухе — ветер, смеющийся юно!
Дитя мне пославший, подобное чуду, —
Отец пусть тебя охраняет повсюду!
Да будут с тобою дружны все дороги,
Все ветры, все стороны света, все боги!
Да будет тебе от бессмертных участье
В разлуках и встречах, в несчастье и в счастье!
Одетого в панцирь, тоскуя о сыне,
Найду я тебя и на дальней чужбине.
Бог солнца, твой славный отец быстроокий,
Увидит тебя и в шумящем потоке.
Сыночек, пред женщиной благоговею,
Что матерью станет приемной твоею!
Да будут на благо тебе, как в сосуде,
Хранить молоко ее круглые груди!
Какой же чудесной вкусит благодати,
Кто матерью станет такого дитяти,
Что Солнцу подобно, источнику света,
С глазами, как лотос, медвяного цвета, —
С огромными, словно планеты, глазами,
С прекрасными вьющимися волосами,
С лицом мудреца, благородным и гордым,
С серьгами чудесными, с панцирем твердым.
Сынок мой, да будет судьба благодатна
Родных, замечающих, как ты невнятно
И мило слова произносишь впервые,
На ножки становишься, мне дорогие,
И тянешь ручонки к веселым обновам,
Измазанный пылью и соком плодовым!
Как сладко, сыночек, любовному взору
Увидеть тебя в твою юную пору,
Когда ты предстанешь, отвагой пылая,
Как лев молодой, чей приют — Гималаи!»
Познала царевна печаль и кручину,
В шумящий поток опуская корзину,
И с сердцем, стесненным тоскою стенаний,
Домой воротилась, несчастная, с няней.
А эта корзина, жилище дитяти,
Сначала попала в реку Чарманва́ти,
Оттуда — в Ямуну, где блещет долина,
Оттуда — по Ганге пустилась корзина,
Где берег бежал то полого, то круто,
И к Ча́мпе приблизилась, к племени Су́та.
Чудесные серьги и панцирь отборный,
Из амриты созданные жизнетворной,
В живых сохраняли младенца в корзине —
На глади спокойной и в бурной стремнине…
Теперь к Адхира́тхе направится слово.
Возничий и друг Дхритараштры слепого,
Стоял он тогда над водою речною
С прелестной своей, но бездетной женою.
Мечтала о мальчике Ра́дха, но тщетно:
Шли годы, — она оставалась бездетна…
Глядит, — с амулетами, ручкой резною,
Корзина уносится быстрой волною.
И вот, любопытная, просит: возничий
Пускай не упустит нежданной добычи.
Поймал он корзину, открыл, — и спросонок
Ему улыбнулся чудесный ребенок,
Сиявший, как солнце над золотом пашен,
И в панцирь одет, и серьгами украшен.
Пришли в изумленье возничий с женою.
Сказал он: «Дарована радость волною!
Не видел с тех пор, как живу я на свете,
Чтоб так излучали сияние дети!
От бога рожден, нам, бездетным, богами,
Наверно, ниспослан сей мальчик с серьгами!»
Вот так получила бездетная сына
Прелестного, словно цветка сердцевина.
Для Радхи по-новому дни засветились:
Свои у возничего дети родились!
Своим молоком мальчугана вскормила,
И гордо росла его грозная сила.
Увидев дитя с золотыми глазами,
С прекрасными вьющимися волосами,
С серьгами, одетого в панцирь бесценный, —
Его мудрецы нарекли Васуше́ной.
Обрел он достоинство, мощь и величье.
Все знали: отец Васушены — возничий.
Он рос среди ангов[25], отвагой богатый.
Царевне о нем сообщал соглядатай.
Вот юношей стал он с могуществом бычьим,
И в Хастинапур был отправлен возничим.
Он начал учиться у брахмана Дро́ны,
Сдружился с Дуръйодханой богорожденный,
Все виды оружья узнал, все четыре,
Как лучник великий прославился в мире.
С Дуръйодханой сблизился солнечноглавый,
И стали друзьями его кауравы,
А отпрыски Кунти, пандавы, — врагами,
И доблестный муж, обладавший серьгами,
Сын Кунти, что ею был назван Карною,
На Арджуну двинуться жаждал войною.
Был этим Юдхиштхира обеспокоен.
Он знал: ненавидящий Арджуну воин,
Серьгами и панцирем чудным украшен
И неуязвимый, противнику страшен.
Однажды Карна, стоя в озере чистом,
Молитвенно руки сложив пред Лучистым,
Хвалил, славословил Источник Сиянья.
Шли брахманы к мужу, прося подаянья:
Он дваждырожденным, исполненным рвенья,
Ни в чем не отказывал в эти мгновенья.
Прося подаяния, в жреческом платье,
Явился и Индра к нему на закате.
Приветствовал брахмана воин всем сердцем:
Не зная, что он говорит с Громовержцем,
Сын Радхи спросил: «Что ты хочешь? Запястья?
Поместья? Иль женщин — цариц сладострастья?»
А брахман: «Не надо мне жен и поместий!
Мне серьги, с тобою рожденные вместе,
И панцирь отдай, что срастался с тобою,
Коль Щедрым ты правильно прозван молвою.
Их надо отсечь от могучего тела, —
Лишь этого дара душа захотела!»
Карна: «Как велит нам обычай наш древний,
Ты женщин возьми, и стада, и деревни,
Возьми ты что хочешь, о брахман почтенный,
Но только не серьги, не панцирь бесценный!»
Карна становился все жарче, смиренней,
Но брахман, иных не желая дарений,
Настойчиво требовал чаще и чаще:
«Хочу только серьги и панцирь блестящий!»
Сын Радхи слегка улыбнулся, воскликнув:
«Со мной они вместе родились, возникнув
Из амриты: ими владея с рожденья,
Вступаю, не ведая смерти, в сраженья.
Я дам тебе царство с красою нетленной,
Но только не серьги, не панцирь бесценный!
Вручив тебе серьги и панцирь в придачу,
Я сразу же неуязвимость утрачу.
Узнал я тебя, чья убийственна кара.
О Индра, не требуй ты этого дара:
Не мне, а тебе, над богами владыке,
Дарить подобает, о молниеликий!
Коль серьги отдам тебе с панцирем вместе,
Мне будет несчастье, тебе же — бесчестье.
Но если и серьги и панцирь бесценный
Отдам, — то хочу я, о Индра, замены».
А Индра: «Как видно, Источник Сияний
Тебе, что приду я, поведал заране.
Возьми, о Карна, все, что хочешь ты, кроме
Стрелы громовой, возникающей в громе».
Воитель, наученный Светом Вселенной,
Промолвил: «За серьги и панцирь бесценный
Отдай мне копье, что, не зная изъятий,
Пронзает без промаха недругов рати».
Владыка громов поразмыслил немного, —
И вот что воитель услышал от бога:
«За серьги и панцирь, с которыми вместе
Родился, — получишь для битвы и мести
Копье, что врагов поражает сурово
И в руки твои возвращается снова.
Но если погибнет твой враг самый главный,
Неистовый самый, всесильный и славный,
Ко мне, — если ты подчинишься условью, —
Копье возвратится, окрашено кровью».
Карна: «Вот такого и жажду убить я,
Один мне и нужен для кровопролитья!»
А Индра: «Врагу нанесешь пораженье, —
Тому, кто неистов и страшен в сраженье,
Но он, чья погибель тебе так желанна,
Всегда охраняем, и эта охрана —
Есть Ви́шну, Нара́яна: знающий веды
Его называет и Вепрем Победы[26]».
Карна: «Я и это условье приемлю, —
Но только втоптать бы ревущего в землю,
Но только пронзить бы копьем знаменитым
Врага: пусть неистовый станет убитым!
И серьги и панцирь отдам, ослабелый.
Прошу я: когда отсеку их от тела,
Когда нанесу себе тяжкую рану,
О Индра, пусть я безобразным не стану».
А Индра: «Во лжи ты не ищешь соблазна, —
Не станет поэтому плоть безобразна.
О лучший из лучших, изведавших слово,
Подобно отцу, засияешь ты снова!
Но помни, что только в сражении трудном
Воюют с врагами копьем этим чудным,
А если ты в легкой метнешь его сшибке, —
Тебя же оно поразит по ошибке».
Карна: «Ты поверь мне, о бог громогласный:
Копье я метну только в битве опасной».
И взял он копье, что на солнце блестело,
И начал он резать мечом свое тело.
Тогда полубоги, и боги, и бесы,
Заоблачные раздвигая завесы,
Увидели, как себя режет великий,
И вот раздались изумления крики:
Не чувствуя боли, не ведая раны,
Светился по-прежнему лик осиянный!
Литаврами свод огласился высокий,
Низринулись ливней цветочных потоки
В честь мужа, что плоть рассекал свою смело,
Порой улыбаясь. И вскоре от тела
Он серьги и панцирь отсек, еще влажный,
И богу вручил их воитель отважный.
Карну обманул Громовержец лукавый,
Желая, чтоб стали сильнее пандавы.
Он ввысь улетел, совершив вероломство.
Поникло в тоске Дхритараштры потомство,
Услышав, что Индрою воин ограблен.
А отпрыски Кунти, узнав, что ослаблен
Воитель Карна, чей отец был возничим,
Леса огласили ликующим кличем.
Страну проиграв кауравам, пандавы
Лишились приюта, лишились державы.
Расплата за проигрыш в кости — сурова:
Двенадцать мучительных весен, без крова,
Да будут скитаться тропою лесною,
А после, с тринадцатой, новой весною,
Пусть город найдут, где в течение года
Их облик да будет сокрыт от народа…
В изгнании горя изведали много.
Юдхи́штхира, отпрыск всеправого бога,
Сын Дхармы, как старший, собрал своих братьев,
Сказал им: «Былое величье утратив,
Мы жили в двенадцатилетней кручине.
Тринадцатый год начинается ныне.
Ты, Арджуна, брат мой, поведай: где будем
Теперь обитать, неизвестные людям?»
Ответствовал Арджуна: «Дхармой всеправым
Дарована, милость несчастным пандавам:
Свой облик менять по желанию можем, —
Да станет любой на себя непохожим.
Спросил ты: «Где место для жительства?» —
Внемли: Кругом — превосходные, щедрые земли,
Где влага вкусна и где пища отменна:
И Ма́тсья[27], и Па́нчала, и Шурасе́на,
Юга́ндхара, Ша́лва, Че́ди и Даша́рна, —
О всех вспоминает молва благодарно.
Владыка царей, назови нам державу, —
Какая из них тебе больше по нраву?»
А старший: «Ты прав, многодоблестный воин,
Да будет приют наш красив и спокоен.
Потомкам Панду да пребудет защитой
Вира́та, над матсьями царь знаменитый, —
Казной, добротой, благочестьем богатый, —
Весь год проживем в государстве Вираты.
Но службу какую царю мы сослужим?
Уменье и навыки в чем обнаружим?
Склоняются люди к различным занятьям, —
Какие из них предпочтительней братьям?»
Ответствовал Арджуна старшему брату:
«А сам-то обрадуешь чем ты Вирату?
Исполнен ты чести, и правды, и блага,
Известны и щедрость твоя и отвага,
Но люда простого не ведал ты тягот, —
Какое же дело ты сделаешь за год?»
Юдхиштхира молвил: «Задумал я дело,
Которое надобно делать умело.
Скажу я, придя к повелителю в гости:
«Я — брахман Канка́, я — играющий в кости.
Умением этим я славлюсь повсюду,
Тебе я в игре сотоварищем буду.
По-разному кости приводят к удаче:
Одни — словно глаз голубеют кошачий,
Из злата, из бивней слоновых — другие,
А доски что камни блестят дорогие».
С царем будем кости бросать до рассвета, —
И черного цвета, и красного цвета.
И так я скажу, если спросит Вирата:
«С Юдхиштхирой в кости играл я когда-то…»
Дошло мое слово до вашего слуха.
А ты, Бхимасе́на, а ты, Волчье Брюхо,
Каким государя обрадуешь делом?»
Ответил могучий душою и телом:
Себе я присвою прозванье Балла́вы.
«Я — повар, скажу. Я готовлю приправы,
Чей запах и царские тешит покои».
Такое искусство явлю поварское,
Такие придумывать стану приправы,
Что будет доволен властитель державы.
Взвалю себе горы поленьев на плечи,
Хотя бы пришлось их таскать издалече,
Я с самыми сильными справлюсь быками,
Слонов укрощу я своими руками,
На всех состязаньях борцов одолею,
Однако соперников я пожалею,
Помилую их на высоком собранье, —
Похвалит меня властелин за старанье,
А спросит — отвечу я речью такою:
«Юдхиштхире был я когда-то слугою,
И шел обо мне во дворце его говор,
Что лучший борец, и мясник я, и повар».
Юдхиштхира молвил: «Воюющий смело,
Ты, Арджуна, выбрал ли новое дело?
Не ты ли великим и сильным родился?
За помощью Агни к тебе обратился, —
Ты двинулся, богу огня помогая,
И быстро сгорела чащоба глухая,[28]
Ты справился с Индрой, напасти развеяв,
Ты сжег, уничтожил и бесов и змеев.
Воинственней всех из воинственной рати,
Какое же выберешь ты из занятий?
Как солнце среди вековечного свода,
Как брахман среди человечьего рода,
Среди поражающих стрел — громовая,
Среди угрожающих туч — грозовая,
Как кобра средь тварей, исполненных яда,
Как бык, что горбат, — средь коровьего стада,
Как змей Дхритараштра — средь нагов[29] подвластных,
Как слон Айрава́та — средь стад трубногласных,
Как пламя — среди обладающих блеском,
Как море — среди привлекающих плеском,
Как сын среди близких, жена — среди милых,
Воитель, что биться и с Индрою в силах, —
Средь самых могучих — ты самый могучий,
Средь лучников лучших — лишь ты наилучший,
Коней обладатель и лука Ганди́вы,
Скажи мне, о Бхараты отпрыск правдивый,
Какая в душе твоей дума созрела,
Какое избрал ты в изгнании дело?
У Индры в чертоге ты прожил пять весен,
Как Тысячеокий, ты стал громоносен.
Оружье добыл ты чудесное, мудрый,
Ты стал средь ревущих — двенадцатым Рудрой,
О ты, с затвердевшей в сражениях кожей,
С тринадцатым солнечным Адитьей схожий,
О воин, всегда приходящий с добычей,
Чьи руки насыщены силою бычьей!
Тебя средь морей океаном считаем,
Средь гор уподобился ты Гималаям,
Гарудой считаем тебя средь пернатых
И тигром — средь хищных зверей полосатых,
О лучший из доблестных в доблестной рати,
Что будешь ты делать, явившись к Вирате?»
И Арджуна молвил: «Приду я как евнух, —
Тем самым избегну последствий плачевных:
Воитель, привыкший к суровым занятьям, —
По-женски нарядным украшусь я платьем.
Приду и царю назовусь: Бриханна́да.
Украситься длинной косою мне надо,
В чертоге царя, в обиталище власти,
Предстану в блистанье серег и запястий.
Сокрыв от придворных начало мужское,
Я в женских покоях и в царском покое
Рассказывать буду старинные сказки,
Учить буду девушек пенью и пляске,
Сердца привлеку мерно-звонкою речью.
«Откуда ты?» — спросит Вирата, — отвечу:
«В державе Юдхиштхиры, в женском наряде,
Служанкою был госпожи Драупади».
Как Наль, я надену чужую личину,[30]
Никто не узнает в служанке мужчину».
Юдхиштхира молвил: «О юноша стройный,
О На́кула, радостей многих достойный,
А чем ты займешься, краса простодушных?»
«Надсмотрщиком стану я в царских конюшнях, —
Ответствовал Накула. — Этой работой
Начну заниматься с великой охотой.
Быть стражем коней — вот мое увлеченье,
Искусен я в их обученье, в леченье.
А спросят — отвечу: «Мне Гра́нтхика имя.
Всем сердцем я связан с конями своими».
«А ты, Сахаде́ва, — спросил Правосудный, —
Скажи нам, что сделаешь в год многотрудный?»
Сказал Сахадева: «Одна мне отрада, —
Быть пастырем верным коровьего стада.
Я стану доильщиком, в счете искусным…
Не будешь ты, Царь Справедливости, грустным,
Поверь мне, доволен останешься мною.
Танти́палы имя себе я присвою.
Ты вспомни: и раньше, под царственным кровом,
Меня приставлял ты как стража к коровам.
Повадку я каждую знаю коровью,
Я буду стеречь их с умом и любовью.
Быки мне известны, чья стать превосходна:
Любая корова, хотя и бесплодна,
Мочу их понюхав, — тотчас отелится.
Так буду трудиться, трудясь — веселиться,
Притом никому не внушив подозренья.
Ты выслушал, брат мой, — я жду одобренья».
Промолвил Юдхиштхира, горько вздыхая:
«У нас, пятерых, есть жена дорогая,
Нам собственной жизни подруга милее!
Ее как сестрицу родную лелея,
Размыслим: вдали от родного предела
Какое найдем для возлюбленной дело?
Росла Драупади беспечной царевной,
Не ведала женской работы вседневной,
Великопрославленной, чуждой печали,
Ей только венки и запястья пристали.
Красавица нежная в тонкой одежде
Домашнего дела не делала прежде, —
Красивая, верная и молодая.
Так что же ей делать, мужьям помогая?»
Послышалась речь Драупади-смуглянки:
«Имеются в мире сайра́ндхри[31]-служанки.
Искусных, свободных, однако бездомных,
Их знают везде как работниц наемных.
Берут их внаймы на работу ручную, —
И я этой доли, видать, не миную.
Скажу: «Я — сайрандхри. Хочу потрудиться.
Владычиц причесывать я мастерица.
Займусь волосами царицы Судешны, —
Старанья служанки ей будут утешны».
Промолвил Юдхиштхира слово такое:
«Ты сделаешь, чистая, дело благое.
Исполнена ты благочестья и света,
Крепка и тверда в соблюденье обета.
Еще, поразмыслив, хочу вам сказать я,
Что выбрали вы неплохие занятья.
Пусть жрец охраняет, свершая обряды,
Священное пламя в жилище Друпады.
Пусть слуги, погнав колесницы пустые,
Войдут в Дварава́ти, где стены святые,
И пусть повара и служанки царицы
К панчалам[32] пойдут и, достигнув столицы,
Всем скажут: «Не знаем, куда из дубравы
Ушли, по домам нас отправив, пандавы».
Пандавам сказал с добротою всегдашней
Жрец Дхаумья — их наставитель домашний:
«Быть может, все то, что скажу я, не ново,
Но это — любовью рожденное слово.
Вы знаете, царские дети, прекрасно,
Что жизнь при дворе тяжела и опасна.
Скажу я, как надо, избегнув напасти,
Нести свою службу в присутствии власти.
Хотя вы могучего царского рода,
Придется и вам в продолжение года
Прожить в униженье, лишившись почета:
Нелегкой окажется ваша работа!
Без спросу не суйтесь в дворцовые двери.
Вы к царской любви не питайте доверье.
Не следует к месту стремиться такому, —
Которое будет желанно другому.
Слуге, возгордившись, взбираться негоже
На царских слонов, колесницу и ложе.
Коль месту сопутствует слава дурная, —
Бегите его, клеветы не желая.
К царю, коль не спросит, с советом не лезьте,
Служите властителю молча, без лести:
Цари презирают советчиков вздорных,
А также искательных, лживых придворных.
Свой ум при дворе только тот обнаружит,
Кто с царскими женами тайно не дружит,
И с теми, кого государь ненавидит,
И с теми, кто в каждом недоброе видит,
И с теми — свободны они иль рабыни, —
Кто женщинам служит на их половине.
Без ведома царского, царского взгляда,
Свершать и ничтожного дела не надо.
Служите царю, словно богу, — иначе
Вовек не знавать вам добра и удачи,
Любому его подчиняйтесь приказу,
Чтоб ярости царской не видеть ни разу.
Царю говорите открыто и внятно
Лишь то, что полезно, лишь то, что приятно.
Ценнее приятных — полезные речи,
А все же царю не перечьте при встрече.
«Не люб я царю», — этой мыслью тревожим,
Решает мудрец: «Мы старанья умножим».
При царском дворе не лишается чести
Лишь тот, кто сидит на положенном месте.
Сидеть от царя надо справа иль слева,
Тогда вы избегнете царского гнева,
А сзади сидеть полагается страже,
А спереди сесть и не думайте даже!
Болтать при царе и шептаться — постыдно;
Ведь это и каждому будет обидно!
Царем изреченное лживое слово
Не делайте громким для слуха людского.
Не надо кричать: «Я умен! Я бесстрашен!» —
Приятен слуга, что смиреньем украшен:
За труд получив от владыки даренья,
Служите, усердья полны и смиренья, —
Не спорить же с тем, чья рука самовластна,
Чья ярость ужасна, а милость прекрасна!
Придворным не следует громко плеваться,
И ветры пускать, и чихать, и чесаться.
Царю неприятен болтливый, и грубый,
И тот, кто кривит с уязвлением губы,
Кто, шутку услышав, как буйный хохочет:
Во мненье царя он себя опорочит.
Но также нельзя никогда не смеяться,
Быть сдержанным слишком и шутки бояться.
Слуга, чтобы жизнь при дворе не затмилась,
Да встретит спокойно немилость и милость.
Лишь те проживут при дворе без печали,
Чьи мудрые мысли — царей возвышали.
Опальный слуга, без докучного слова,
По милости царской возвысится снова.
Кто преданность, верность и разум являет, —
Царя за глаза и в глаза восхваляет,
А тот, для кого лишь насилье — опора,
Поникнет, погибнет позорно и скоро.
Не надо стремиться к наградам и званьям.
Не надо царя превышать дарованьем.
Нужны при дворе правдолюбье и смелость,
Чтоб также и мягкость при этом имелась.
Как тень, за царем надо следовать всюду,
Угадывать каждую надо причуду.
Он кликнет другого, — скажите поспешно:
«Я сам сотворю это дело успешно!»
Лишь тот при дворе свое счастье добудет,
Кто близких покинет, родных позабудет.
Не надо носить, чтоб не знать посмеянья,
С царем одинаковые одеянья.
Не надо советы давать многократно, —
Царю это будет весьма неприятно.
И мзды не берите: берущие — гадки,
Тюрьмой или казнью кончаются взятки.
Должны вы беречь, словно ока зеницу,
Любое даренье царя: колесницу,
Одежду с плеча, иль кольцо, иль запястье, —
Тогда от царя вы увидите счастье.
Вот так и живите в течение года,
Пока не приблизится время ухода, —
И снова, о Царь Справедливости, царствуй!»
Юдхиштхира молвил жрецу: «Благодарствуй;
Научены мы; кроме Ви́дуры-дяди
И матери Кунти, с любовью во взгляде,
Никто бы нас так хорошо не наставил.
Отправь же нас в путь с соблюдением правил».
Уста свои гимнами брахман украсил
И пламя возжег с возлиянием масел, —
Да будет пандавам и счастье и слава!
Огонь обошли они слева направо
И в путь, процветанья и радости ради,
Пошли вшестером — во главе с Драупади.
Пошли храбрецы по дороге разлуки.
Мечи у них были, и стрелы, и луки.
К Ямуне-реке поспешили пандавы,
И воины берег увидели правый.
Блуждая в горах и зверей поражая
В лесах недоступного горного края,
Отважные стрелометатели к цели
Стремились упорно средь скал и ущелий.
Вот слева осталась панчалов держава,
Державу дашарнов оставили справа, —
И Матсья за лесом цветет и плодится!
Сказала царю Драупади-царица:
«Стемнело на поле; средь зреющих всходов
Одни лишь тропинки видны пешеходов;
Еще до столицы идти нам немало;
Останемся на ночь. Я очень устала».
Воскликнул Юдхиштхира: «Вступим в столицу,
И станем на отдых. А нашу царицу,
О Арджуна, мощью побед знаменитый,
Прошу тебя, на руки ныне возьми ты».
И Арджуна гордо понес Драупади,
Как слон, что царем почитается в стаде.
Храбрец опустил ее, из лесу выйдя,
Окраину города сразу увидя.
Юдхиштхира Арджуне молвил: «Не сможем
Мы в город войти, коль оружье не сложим,
А если мы вступим в столицу с оружьем, —
Волнение вспыхнет, себя обнаружим:
Хотя бы один будет узнан, — и снова
Скитаться начнем среди мрака лесного,
Скитаться в двенадцатилетнем изгнанье:
Мы так поклялись на высоком собранье».
Ответствовал Арджуна: «С кладбищем рядом,
Я вижу, блистает зеленым нарядом
Густое огромное дерево шами[33]
С большими, таящими пламя, ветвями.
Нет места безлюдней, мрачнее, мертвее;
Кругом — только дикие звери и змеи;
Здесь трупы сжигают; и страшно прохожим
Идти среди ночи глухим бездорожьем.
Оружье могучее спрячем средь листьев,
Тем самым дорогу в столицу расчистив».
Сказал он, и с лука, чье имя Гандива,
Чьей мощью врагов поражал горделиво,
Он снял тетиву, что была знаменита:
Да будет оружье средь листьев сокрыто!
Спустил тетиву и Юдхиштхира смелый
С победного лука, чьи меткие стрелы
Разили врагов, незнакомы с пощадой,
Отечеству Бхаратов были оградой.
Затем тетиву с богатырского лука,
От звука которой, — от страшного звука, —
Бежали противники, рушились горы,
С того всемогущего лука, который
Властителя Синдха от жизни избавил
И землю панчалов склониться заставил, —
Снял с лука свою тетиву Бхимасена,
Идущий дорогой побед неизменно.
Затем тетиву — нерушимую жилу —
Снял Накула, в битвах являющий силу.
С открытой душой, миловидный, как дева,
Снял с лука свою тетиву Сахадева.
Взобрался на дерево Накула ловкий,
К ветвям привязал он надежной веревкой,
В местах, где оружие дождь не затронет,
А листья от взора чужого схоронят, —
Мечи, что блистали блистанием битвы,
И стрелы, что острыми были, как бритвы,
От коих враждебное войско редело.
К стволу привязали и мертвое тело.
Подумали, запах дурной обоняя:
«Отселе отпрянут прохожие, зная,
Что мертвое тело исполнено скверны, —
И каждого ужас охватит безмерный…»
Увидев: идут пастухи и служанки, —
Сказали: «То матери нашей останки,
Прожившей сто семьдесят лет. Наши предки
Велят нам: «Да будут над мертвыми ветки».
Такие рассказывая небылицы,
Вступили в окрестности пышной столицы,
Где скорби тринадцатый год, среди малых,
Решили прожить, чтоб никто не узнал их.
Им прозвища тайные дал предводитель:
Победа, Победная Рать, Победитель,
Победная Битва, Победная Сила, —
И горсточка храбрых в столицу вступила.
Юдхиштхира первым явился к Вирате, —
А тот на собранье сидел среди знати, —
К владыке явился неузнанный в гости,
Под мышкой держал он игральные кости.
Богатый отвагою, опытом, славой,
Пред всеми предстал богатырь величавый,
Как бог, что бессмертной сиял красотою,
Как солнце за облачной сетью густою,
Как змей, прославляемый всеми зверями,
Как царь, почитаемый всеми царями,
Как бык, чье могущество гордо окрепло,
Как пламя, сокрытое грудою пепла.
Вирата спросил у советников главных,
У мудрых жрецов и воителей славных:
«Скажите мне, кто он, пришедший впервые?
Не жрец ли, отринувший блага мирские?
Иль царь, обладатель могучей десницы?
Без слуг он явился и без колесницы,
Но так величаво приходит не всякий.
На нем не виднеются ль царские знаки?
Ко мне он приблизился гордо, без дрожи,
С надменным слоном поразительно схожий,
Что в пору любви, возбужденный от течки,
Подходит к бегущей средь лотосов речке!»
Вирате, объятому думой всевластной,
Юдхиштхира молвил: «Я брахман несчастный.
О царь, у тебя, властелина земного,
Пришел я просить пропитанья и крова».
«О странник почтенный, — Вирата ответил, —
У нас да пребудешь ты счастлив и светел!
Меня ты своим осчастливил приходом.
Скажи, досточтимый: откуда ты родом?
Каким ремеслом ты гордишься по праву?
Ты имя свое назови и державу».
Юдхиштхира молвил: «Юдхиштхире другом
Я был, — он со мною делился досугом.
Я — брахман. Мой род — Крепконогие Тигры.
Зовусь я Канка́. Знаю многие игры.
Искусен я кости бросать, о Вирата!»
А царь: «Государство мое без возврата
Возьми, управляй, — и тебе я дарую,
Слуга твой покорный, награду любую.
Игрок хитроумный мне счастья дороже,
А ты и подавно, на бога похожий!»
«Слуга твой, — воскликнул Юдхиштхира, — просит:
Пускай проигравший свой проигрыш вносит,
Не то будут игры сопутствовать спорам,
Покроется наше искусство позором».
Ответил Вирата: «Будь брахман иль воин,
Но если играть он с тобой недостоин, —
Уйдет он в изгнанье, лишится он крова!
Да слышат сограждане твердое слово:
Канка, соправитель мой в царской столице,
Воссядет в такой же, как я, колеснице…
О брахман, играющий в кости искусно,
Ты будешь питаться обильно и вкусно,
Украшу тебя златотканым нарядом,
Где б ни был я, будешь со мною ты рядом,
Все двери откроются перед тобою.
А если к тебе обратится с мольбою
Несчастный, — ко мне приходи как ходатай,
И доля убогого станет богатой.
О брахман, живи при дворе без боязни!»
Услышал Юдхиштхира слово приязни
И зажил в почете, не зная печали, —
О прошлом его при дворе не слыхали…
Страша своей силой, пришел Бхимасена,
Чья львиная поступь была дерзновенна.
Черпак и мешалку сжимал он рукою,
А нож без зазубрин, без ножен, — другою.
Хотя поварское он принял обличье, —
Являл он безмерную мощь и величье,
Плечами касался небесного склона, —
И подданных царь вопросил благосклонно:
«Откуда он, бык среди рода людского?
Кто видывал прежде красавца такого?
Откуда он, лев среди сильных и смелых?
Кто видывал прежде таких мощнотелых?»
Сказал сын Панду: «Слушай, царь гордоглавый:
Я — повар искусный. Зовусь я Баллавой».
А царь: «Я не верю, что повар ты жалкий,
Чья доля — владеть черпаком и мешалкой.
Знатнейших затмил ты блистаньем высоким,
Ты выглядишь Индрою Тысячеоким!»
«И все же я — повар, — сказал Бхимасена, —
При этом искусство мое — совершенно.
Похлебки мои одобрял и приправы
Юдхиштхира — стран повелитель всеправый.
Я также борец, и борюсь я с упорством.
Не знаю, кто равен мне мощью, проворством.
Я львиную силу борол и слоновью,
Хочу я служить государю с любовью».
Вирата ответил: «Как повар служи нам,
Над нашей поварнею будь господином,
Поскольку ты хвалишься этим уменьем,
Но мы тебя выше, воинственный, ценим:
Ты мог бы владеть, с этой выей и станом,
Землей, опоясанною океаном!
Но если милей тебе доля простая, —
Служи мне, моих поваров возглавляя».
Так мощный Бхима́ стал главою поварни,
Его полюбил властелин благодарный,
Он дни посвящал поварскому занятью,
Не узнан ни челядью царской, ни знатью.
Тогда свои волосы мягкие справа
Собрав, — на концах они вились кудряво, —
В одном только платье, испачканном, рваном,
Однако из шелка богатого тканном,
Служанка-сайрандхри пришла — Драупади,
С глубокой печалью в пленительном взгляде.
И женщины в царском дворце, и мужчины
Сбежались к красавице, полной кручины.
Спросили: «Откуда пришла ты? И кто ты?
Какой во дворце ты желаешь работы?»
Служанкой себя назвала Драупади:
«Работы ищу пропитания ради».
Никто не поверил смуглянке прекрасной,
Такой длиноокой, такой нежногласной,
Что будто сайрандхри-служанка явилась,
Что будто работа нужна ей, как милость.
Тогда на служанку взглянула поспешно
Супруга Вираты, царица Судешна.
Сказала измученной дальней дорогой,
Такой беззащитной, в одежде убогой:
«Скажи, благородная, чистая, кто ты?
Какой во дворце ты желаешь работы?»
А та: «Я — сайрандхри. Хочу я, царица,
На тех, кто накормит меня, потрудиться».
Судешна сказала: «С такой красотою
Как можешь ты зваться служанкой простою?
Такие, как ты, среди слуг не бывают,
А сами служанками повелевают.
Лодыжки тонки, и лицо твое смугло,
Шестью ты своими частями округла,
Тремя — глубока: то пупок, голос, разум;
Пятью ты красна, — назову я их разом:
Ладони и мочки, подошвы и губы,
Следы твоих ног, что поклонникам любы;
Звонка ты, как лебедь чудесноголосый;
Прекрасны твои заплетенные косы;
Сверкает чело, как луна, хорошея,
И раковиной изгибается шея;
Широкая в бедрах и тонкая в стане,
С высокою грудью, с движеньями лани,
С глазами, чей блеск оттеняют ресницы, —
Кашмирской пленительней ты кобылицы!
Поведай нам, кто ты? Гандха́рва? Богиня?
Не лги, благородная, ты не рабыня!
Ты Индры, Варуны иль Брахмы супруга?
Иль к нам ты пришла из бесовского круга?»
«Нет, я не богиня, — в ответ Драупади, —
Нет, я не одно из бесовских исчадий.
К тебе как сайрандхри пришла я, царица,
Причесывать волосы я мастерица,
К плетенью венков прилагаю старанья,
Готовить научена я притиранья.
Такие же я предлагала услуги
Потомков Панду многочтимой супруге,
Прелестной царице цариц Драупади…
Вот так, о большой не мечтая награде,
За скромную плату работаю всюду,
И тем, что ты дашь мне, довольна я буду.
Мне Ма́лини имя. Трудиться желая,
В твой дом, о царица Судешна, пришла я».
Сказала Судешна: «Носить я готова
Тебя на руках, — и сдержу свое слово,
Но что, если царь увлечется тобою?
Ты видишь, и жены, собравшись толпою,
Глядят на тебя очарованным взглядом, —
А что, коль мужчина окажется рядом?
Смотри, и деревья пленились тобою,
В дворцовом саду зашумели листвою,
Они пред тобою склонили вершины, —
А как же, скажи мне, поступят мужчины?
Вирата, твоей красотой пораженный,
Оставит меня и возьмет тебя в жены.
Когда на мужчину, средь дня или ночи,
Поднимешь ты продолговатые очи
И пристально глянешь, — сраженный их властью,
Он богу любви покорится со страстью.
Твоим восхищен безупречным сложеньем,
Он будет служить одержимым служеньем
Владыке бесплотному страсти красивой —
Ана́нге, когда-то сожженному Шивой[34]
За то, что он Шиву пронзил оперенной
Стрелою любви, из цветов сотворенной…
Судьбы своей самочка краба не знает:
Для собственной гибели плод зачинает.
Я тоже сама себе гибель устрою,
Едва пред тобой свои двери открою!»
Тогда Драупади сказала Судешне:
«Никто — ни Вирата, ни пришлый, ни здешний, —
Не смогут сближенья добиться со мною:
Мужьям пятерым довожусь я женою.
Гандхарвы мужья у меня — полубоги,
Что песни слагают в небесном чертоге.
Они охраняют меня постоянно,
И силу дает мне такая охрана.
К тому, кто служанку остатками пищи
Не кормит, дает мне работу, жилище,
Кто мне не велит омывать ему ноги, —
Весьма благосклонны мужья-полубоги.
А тот, кто любовью ко мне воспылает, —
Умрет в ту же ночь, как меня пожелает.
Ревнивцев-гандхарвов боятся недаром:
Они меня любят с неистовым жаром».
«Живи у меня, — согласилась царица. —
При виде тебя вся душа веселится.
Спокойно ты ляжешь, спокойно проснешься,
Ни ног, ни остатков еды не коснешься».
Для странницы кончилось дело успешно:
Ее приняла в услуженье Судешна.
Не ведал никто, что сама Драупади —
Вот эта служаночка в бедном наряде.
Пришел Сахадева в наряде пастушьем.
С пастушеским он говорил простодушьем.
Пришел, — и Вираты услышал он слово:
«О, кто же ты, бык среди рода людского?
О, кто ты, красавец в пастушьей одежде
Тебя во дворце я не видывал прежде».
Ответил врагов низвергатель могучий, —
Казалось, что ливень пролился из тучи:
«Из касты умельцев, — стою перед всеми, —
Пастух я по имени Ариштане́ми.
Служил я пандавам усердно и честно,
Но где эти львы — мне теперь неизвестно.
Пришел я к тебе, чтоб стеречь твое стадо,
И знай, что иного царя мне не надо».
Вирата ответил: «Ты жрец или воин?
Ты с виду царем величаться достоин!
Ты слишком высок для простого удела.
Скажи, из какого пришел ты предела?
Что можешь ты делать, уменьем богатый?
Какой от меня ты потребуешь платы?»
Сказал Сахадева: «Есть братья-пандавы,
А старший — Юдхиштхира, царь мудроправый.
Числом восемь раз по сто тысяч, — коровы
Царя, плодовиты, красивы, здоровы,
Десятками тысяч, не зная напасти,
Пасутся в стадах одинаковой масти.
Тантипала, танти-веревки владетель,
Я — рода коровьего друг и радетель.
«Он ведает все, — удивлялись мне слуги, —
Что было, что есть и что будет в округе!»
В то время премного доволен был мною
Юдхиштхира, правивший гордо страною.
Я знал, как корову лечить от болезни
И средства какие корове полезны,
Чтоб стельною стала; я знал благородных
Быков: я коров приводил к ним бесплодных,
И те, лишь мочу их понюхав, телились,
Своим молоком с нами щедро делились».
«Прими мое стадо, — ответил Вирата, —
Да будет положена пастырю плата».
Пошел Сахадева к коровьему стаду.
Не узнан владыкой, вкушал он отраду.
Явился другой — богатырь настоящий,
Но в женской одежде, нарядной, блестящей.
Звенели браслеты его и запястья.
Как слон с наступленьем поры сладострастья,
Он был, многодоблестный, грозен и страшен,
Хотя, как прелестница, златом украшен.
С пронзающими, как железо, глазами,
С распущенными — ниже плеч — волосами,
С безмерною мощью, с могучею дланью,
Пошел он навстречу царю и собранью.
Того, чье чело несказанно блистало,
Того, под которым земля трепетала,
Того, кто родился на свет исполином,
Того, кто был Индры всегрозного сыном,
Того, кто предстал в одеяньях узорных,
Увидев, Вирата спросил у придворных:
«Откуда пришел он, могучий и статный?»
Царю ни простой не ответил, ни знатный.
Воскликнул тогда государь изумленный:
«О всеми достоинствами наделенный!
Ты молод и смелости полон крылатой,
Могуч, как слонового стада вожатый!
Сними же ты косу, сними и браслеты,
И серьги, что в уши неженские вдеты!
Тебе не к лицу, богатырь, побрякушки!
В пучок собери волоса на макушке,
Как лучник оденься в броню и кольчугу,
Промчись в боевой колеснице по лугу!
С моими сынами, со мною ли вскоре, —
Сравняйся: я стар и нуждаюсь в опоре.
Возвысься в державе над всеми бойцами, —
Такие, как ты, не бывают скопцами!»
Ответствовал Арджуна: «Царь многовластный!
Я — ловкий плясун и певец сладкогласный.
Учителем танцев, — уменьем прославлен, —
Да буду к царевне Утта́ре приставлен.
Не думаю, царь, что сочтешь ты уместным
Рассказ о моем недостатке телесном:
Во мне увеличит он боль и досаду!
Владыка, ты знай меня как Бриханнаду,
Как дочь или сына, чья доля — сиротство».
А царь: «Я увидел твое благородство.
Учителем танцев к царевне Уттаре
Тебя приставляю, но я в твоем даре
Весьма сомневаюсь: скорей твое дело —
Страной управлять, что не знает предела!»
Был тот Бриханнада владыкой испытан.
Увидели: правду царю говорит он.
Искусно поет он и пляшет отменно,
А то, что он евнух, — увы, несомненно!
К царевне властитель послал его старый:
Да в танцах наставником будет Уттары.
Царевну, а также служанок царевны,
Воитель, когда-то столь грозный и гневный, —
И пенью и танцам учил Бриханнада,
И в этом была для подружек отрада.
Никто, — ни в стране и ни в царском чертоге, —
Не ведал, что этот плясун легконогий,
Сей евнух, чей голос так тонок, как птичий, —
Есть Арджуна, Завоеватель Добычи[35]!
Затем на сверкающем травами лоне,
Где гордо паслись государевы кони,
Еще появился воитель, и слугам
Казался он вспыхнувшим солнечным кругом.
Рассматривать стал он коней укрощенных.
Вирата спросил у своих приближенных:
«Откуда пришел этот муж богоравный?
С вниманьем каким на земле многотравной
За нашими он наблюдает конями!
Бесспорно, знаток лошадей перед нами.
Скорей приведите пришельца: наверно,
Он отпрыск бессмертных, чья сила безмерна».
Воитель сказал государю: «С победой,
О царь, подружись и печали не ведай!
Знаток лошадей, я мечтаю возничим
Служить при царе, наделенном величьем».
Вирата сказал: «Богатырь мощнолицый,
Я дам тебе деньги, жилье, колесницы,
Ты станешь возничим моим, о пришелец.
Откуда ты родом, знаток и умелец?»
Ответствовал Накула речью такою:
«Юдхиштхиры некогда был я слугою,
Был царским возничим и главным конюшим, —
Смотреть не могу на коней с равнодушьем!
Быть стражем коней — вот мое увлеченье,
Искусен я в их обученье, в леченье.
Среди жеребцов и кобыл неисчетных,
Мне вверенных, не было робких животных,
Растил их, берег я для битв и забавы…
Я — Грантхика: так меня звали пандавы».
Тогда повелителя речь зазвучала:
«Отныне тебе отдаю под начало
Я всех лошадей своих, все колесницы,
Всех конюхов нашей страны и столицы.
Но, с царственным станом и властным обличьем,
Как можешь ты конюхом быть иль возничим?
Гляжу на тебя — и волнуюсь, не скрою:
Не сам ли Юдхиштхира передо мною?
О, где он, владыка великоблестящий,
В какой он блуждает неведомой чаще?..»
Так юноша, словно бессмертных вожатый,
Был принят с почетом и лаской Виратой.
Потомки Панду, подчиняясь обету,
В скорбях и мученьях скитаясь по свету, —
Владыки приют обрели на чужбине:
У матсьев, неузнанны, жили отныне.
Юдхиштхира, чуждый коварства и злости,
Играл постоянно с придворными в кости.
И царь и царевич пленились игрою,
Играли и ранней и поздней порою,
Сидели, не зная занятья иного,
Как птицы, попавшие в сеть птицелова.
Удачлив Юдхиштхира был не однажды,
Делил он меж братьями выигрыш каждый.
Остатки еды продавал Бхимасена, —
Он их от царя получал неизменно;
Торговлей занялся и Арджуна ловкий:
Он стал продавать, со стараньем торговки,
Одежду, ненужную женщинам боле:
Всю выручку делит на равные доли, —
Да будет и братьям за службу награда;
Прилежный блюститель коровьего стада, —
Давал Сахадева, чтоб жизнь не погасла,
Творог, молоко и чудесное масло;
И Накула, как и положено брату,
Делил между ними конюшего плату;
Скрывая свое настоящее имя,
Ухаживала Драупади за ними;
Так жили они, помогая друг другу
И тайно свою охраняя супругу.
Треть года прошла. Пожелав веселиться,
В честь Брахмы устроила праздник столица.
Борцы появились, могучие телом.
Сверкала решимость в их облике смелом.
Бесстрашьем и силой помериться рады,
Они от царя получали награды.
Сильнейший соперников вызвал на поле,
Но все устрашились его поневоле.
Вирата бороться велел Бхимасене.
Направился тот неохотно к арене.
С такой беззаботностью двигался повар,
Что сразу раздался восторженный говор!
Схватил он противника, сильный, отважный,
Как демона засухи — бог многовлажный.[36]
Подобно слонам, чья блистательна зрелость,
Бойцы проявили горячую смелость.
Вдруг поднял врага своего Бхимасена.
Как тигр заглушает слона дерзновенно,
Он голос борца заглушил своим кличем,
Он всех поразил удальством и обличьем,
Сто раз покрутил храбреца над собою
И наземь швырнул его вниз головою.
Над мощным борцом, прославляемым всюду,
Победа казалась подобною чуду!
Вирата возвысил наградой Баллаву, —
Пришлась ему повара удаль по нраву.
А тот, поражая врагов на арене,
Обрел от властителя много дарений.
Когда всех борцов он в стране обесславил
Баллаву бороться Вирата заставил
То с грозными львами, то с тигром пустыни, —
И тот их на женской сражал половине.
Был взыскан и Арджуна царскою лаской
За то, что он радовал пеньем и пляской;
Был также доволен конюшим Вирата —
У Накулы лошади мчались крылато;
Была от царя Сахадеве награда
За то, что коровье умножилось стадо;
Так братья, скрывая свой облик до срока,
Служили Вирате-царю без порока.
Прошло десять месяцев службы примерной.
Была Драупади рабынею верной.
Царевна, достойная тысяч служанок,
До ночи трудилась теперь спозаранок.
Узрел ее Кичака — войска Вираты
Начальник могучий и зоркий вожатый:
На женской блистала она половине,
Подобная лотосоокой богине.
Он, бога любви пораженный стрелою,
Предстал пред сестрой, пред Судешной, с хвалою:
«Скажи мне, сестра: появилась откуда
Служанка твоя — дивноглазое чудо?
Схожу я с ума, красотой изумленный,
Как будто вином молодым опьяненный.
Готов я, как раб, подчиняться приказам
Красавицы, властно смутившей мой разум.
Я жизнь обрету, покорясь ее власти,
Иначе умру от сжигающей страсти.
В мой дом изобильный, богатый, радушный,
Где есть колесницы, слоны и конюшни,
Ковры и каменья, рабыни и слуги,
Пускай она вступит по праву супруги!»
Затем к Драупади, служанке-царице,
Пришел, — так шакал приближается к львице, —
Со льстивою речью: «Поверь, ты прекрасна, —
Зачем же должна ты поблекнуть напрасно?
Хотя, как цветок, ты достигла расцвета,
Гирлянда цветов на тебя не надета.
Всех жен моих старых возьми ты в рабыни, —
Да стану рабом твоим верным отныне!»
Ему Драупади сказала в то утро:
«Зачем ты стремишься ко мне, Сутапутра, —
Такой неприглядной и низкой по касте?
Зачем от запретной трепещешь ты страсти?
Тебе — не жена я, люблю я другого,
И в этой любви — честной жизни основа.
Чужую жену возжелать — преступленье:
Позор обретешь и впадешь в ослепленье.
Меня охраняют мужья-полубоги.
Гандхарвы злопамятны, мстительны, строги.
Их грозная ревность тебя уничтожит,
Погибнешь — безумцу никто не поможет!
Стоишь, как дитя, у реки, и на правый
Ты с левого берега ждешь переправы, —
Пойми, неразумный: и за океаном,
И в недрах земли, и на небе туманном, —
Нигде, ни в каком ты не скроешься месте,
От их не спасешься карающей мести.
Желая меня, ты подобен мужчине,
Что, вдруг заболев, устремился к кончине.
Чтоб месяц схватить, словно глупый ребенок,
Ты высунул руку свою из пеленок!»
Отвергнутый, снова к Судешне пришел он,
Сказал: «Я желаньем пылающим полон.
Чтоб я не погиб, помоги мне, царица,
С прекрасной служанкою соединиться».
Судешна ответила, брата жалея,
А также о собственной пользе радея:
«Ты в доме своем прикажи в преизбытке
Готовить и вкусную снедь и напитки.
Пришлю Драупади, и ты без помехи
Склони ее лестью к любовной утехе».
Воитель, в свои возвратившись покои,
Питье приказал приготовить хмельное,
Зарезать баранов и коз в изобилье, —
Его повара преискусными были.
Узнав, что исполнил он дело успешно,
Сказала красивой служанке Судешна:
«Питье принеси мне от Кичаки. Стражду,
Хочу поскорей утолить свою жажду».
А та: «Не пойду. Ты ведь знаешь, царица,
К чему он, порочный и подлый, стремится.
Распутною в доме твоем я не стану,
Законным мужьям изменяющей спьяну.
Ты вспомни, внимающая славословьям,
С каким я к тебе нанималась условьем.
Нет, к Кичаке я не пойду. В исступленье
Он мне, одурев, нанесет оскорбленье.
Есть много рабынь у тебя, о благая,
Скажи, пусть пойдет к сластолюбцу другая».
Судешна: «Поскольку ты послана мною,
Ступай к нему в дом со спокойной душою».
Сказала и кубок дала ей из злата.
Пошла Драупади, волненьем объята.
Решила: «Пойду, ибо верность-охрана:
Мужьям пятерым я верна постоянно».
И Солнцу — светящему Сурье — взмолилась,
И Сурья послал слабой женщине милость:
Он ра́кшаса[37] дал ей, — да станет ей стражем,
Незримой преградою проискам вражьим!
Увидев красавицу, тонкую в стане,
Подобную робкой, испуганной лани,
Был Кичака счастлив, — бесстыжий, лукавый, —
Как лодку увидевший у переправы.
Сказал: «Госпожа и владычица счастья!
И шкуры степных антилоп, и запястья,
И серьги получишь ты, и ожерелья,
А также вино для любви и веселья!
Ты вместе со мною взойди госпожою
На ложе, что устлано пышной парчою».
А та: «Утолить свою жажду желая,
Царица велит, чтоб напиток взяла я».
А Кичака: «Так по тебе я тоскую!
К царице отправлю служанку другую».
Он обнял ее, но она, вырываясь,
Толкнула бесчестного, намереваясь
Найти у Юдхиштхиры-мужа спасенье.
Но только собранья достигла в смятенье,
За косу схватил ее Кичака дикий,
Ударил ногой на глазах у владыки.
Но ракшас, — ей данная Солнцем охрана, —
Как вихрь, повалил сластолюбца нежданно,
И тот без сознанья упал, опозорен,
Свалился, как ствол, что подрублен под корень.
Пред взором Юдхиштхиры и Бхимасены
Ударил красавицу воин презренный,
И жаждал Бхима, разъяренный, расплаты, —
Хотел он убить полководца Вираты,
Но в страхе, что узнаны будут скитальцы,
Юдхиштхира пальцами сжал его пальцы.
Тогда, на супругов подавленных глядя,
Сказала Вирате, в слезах, Драупади,
Мужьям предана и душой справедлива, —
Казалось, что оком сжигал ее Шива:
«Жену храбрецов, перед кем супостаты
Дрожат, — он ударил ногою, проклятый!
Жену повелителей, правящих мудро, —
Ногою ударил меня Сутапутра!
Жену гордецов с тетивою тугою, —
Ударил меня Сутапутра ногою!
Жену благородных и чистых, как утро, —
Ударил ногою меня Сутапутра!
Жену ратоборцев, опасных вселенной,
Ударил ногой Сутапутра презренный!
Но где же отныне для слабых защита?
Где витязей гордая удаль сокрыта?
Мужчины они, может быть, только с виду,
Коль женщины терпят позор и обиду!
Где ярость сердец правосудных и гневных, —
Иль, может быть, каждый бессилен, как евнух?
Где видано, чтоб оставались спокойны
Мужья, если бьет их жену недостойный?
Как терпит Вирата бесчестье такое, —
Чтоб мне наносили, безвинной, побои?
О царь, не как царь ты ведешь себя ныне,
В стране у тебя правды нет и в помине,
Такого, как Кичака, в доме взлелеяв,
Как видно, ты ценишь одних лишь злодеев.
Ни ты, и ни Кичака, и ни вельможи
Твои — на достойных судей не похожи!
О царь, справедливым ты станешь едва ли,
Стерпев, чтоб меня при тебе избивали.
Так пусть Сутапутры поступок позорный
Осудит и каждый судья, и придворный!»
Вирата: «Не зная причин вашей ссоры,
Свершу ли я суд справедливый и скорый?»
Но поняли знатные слуги Вираты,
Что в Кичаке — дело, что он — виноватый.
Сказали придворные о Драупади:
«Подобна, прекрасная, высшей награде
Тому, кто женат на такой длинноокой,
Пленительной телом и мыслью высокой».
Юдхиштхира по́том покрылся: «Уйди ты
К царице, — жене приказал он, сердитый, —
Ведь витязей жены, шагая сквозь беды,
Совместно с мужьями достигнут победы.
Я мыслю: не время теперь для волненья.
Мужья твои, видно, такого же мненья, —
Недаром, не гневаясь и не печалясь,
Гандхарвы на помощь к тебе не примчались.
Не знаешь ты времени гнева и злости,
Мешаешь ты людям, играющим в кости,
Вбежала сюда, как плясунья-певица, —
Ступай же, гандхарвов сердить не годится».
В ответ — Драупади: «Бессилье их зная,
Мужьям своим все ж пребываю верна я.
Так слабы они, что страшат их злодеи,
А старший, — он в кости игрок, — всех слабее!»
В покои Судешны пошла со слезами,
С рыданьем, с распущенными волосами,
Как месяц, пробивший тяжелые тучи,
Сверкал ее лик многогневный и жгучий.
Судешна: «Зачем ты приходишь, рыдая?
Скажи, кто ударил тебя, дорогая?
Кто будет сегодня наказан сурово?
Поведай, о лотосоглазая, слово!»
А та: «На глазах у вельмож и Вираты
Ударил меня Сутапутра проклятый».
«Велю, если хочешь ты, прелюбодея
Убить!» — отвечала Судешна, краснея.
Служанка: «Другие найдутся для мести.
Сегодня умрет совершивший бесчестье!»
Ушла дивнобедрая с думой о мщенье.
Сперва совершила она очищенье,
От скверны очистила плоть и одежду,
Обиду копя и лелея надежду,
Заплакала в жажде расплаты мгновенной.
Тогда-то пришел ей на ум Бхимасена.
Решила: горячий и неукротимый,
Поможет он преданной, верной, любимой.
Она поднялась среди ночи с постели,
Отправилась к мужу, пошла к своей цели,
Измучена бременем тяжких мучений,
Но духом воспрянув, пришла к Бхимасене.
Казалось, что сила быка ей желанна!
Она, как могучее древо — лиана,
Руками его обвила, как ветвями,
Того разбудила, кто спорит со львами, —
Как птиц и животных владычица-львица!
Казалось, что музыка ви́ны[38] струится,
Когда разбудила его со словами:
«Вставай же, вступающий в битву со львами!
Ты спишь, как мертвец, тратишь время впустую,
Но жив возжелавший супругу чужую!
Не спи, ибо жив полководец Вираты,
Сей грешник преступный и враг мой заклятый».
Разбуженный, сел Бхимасена на ложе,
И встал, и взглянул, с темной тучею схожий.
Сказал: «Ты осунулась и побледнела.
Какое тебя привело ко мне дело?
Ты можешь доверить мне радость и горе,
Прибегнув ко мне как к надежной опоре.
И то, что противно, и то, что приятно,
Поведав, скорей возвращайся обратно».
А та: «Как не плакать мне, горем сожженной.
Юдхиштхире ставшей женою законной?
Не он ли, скажи, проиграв меня в кости,
Велел: «Как рабыню, жену мою бросьте
К ногам властелина»? Поведай, какая
Царевна в живых бы осталась, страдая
Как я, Драупади? Того ли мне мало,
Что в плен я к властителю Синдха попала?[39]
Жена, чьи мужья — столь могучие братья,
Должна ли снести оскорбленье опять я?
Ударил меня Сутапутра ногою.
Как жить мне с обидой моей и тоскою?
При всех он избил меня, воин Вираты, —
Как жить мне теперь, коль не вижу расплаты?
Сей Кичака подлый, душою — уродец,
Сей родич Вираты, его полководец,
«Женою мне стань», — грязный, низменный, грешный, —
Не раз предлагал мне, служанке Судешны.
Как плод, что созрел, — по вине его страсти, —
Мое разрывается сердце на части.
Но также в печали моей бесконечной
Повинен и брат твой, игрок бессердечный.
Кто мог бы, как он, променять государство
На жизнь игрока, на скитанья, мытарства?
Все годы свои он проигрывал нишки[40].
Казалось, казною владел он в излишке,
Но где же теперь колесницы, каменья,
Где кони и мулы, стада и именья?
Глупец, он когда-то был самонадеян,
Игрок, он богинею счастья осмеян.
Игра для него — ремесло, а когда-то
Владел он слонами в гирляндах из злата,
Пред ним в Индрапрастхе склонялись вельможи,
А сам возлежал он на царственном ложе.
Гостей угощали весь день спозаранок
Сто тысяч его поварих и служанок,
Он тысячи нишков дарил неимущим,
А стал игроком и бродягою сущим!
Певцы-златоусты его величали,
С утра и до ночи хваленья звучали,
Сто тысяч ученых, изведавших веды,
Исполнены знаний, вели с ним беседы.
Оказывал помощь Юдхиштхира кроткий
Бессильным и старым, слепцу и сиротке,
А ныне, игрок, стал он жалким слугою
Правителя матсьев, зовется Канкою.
Он требовал дани с царей, но Вирату,
Как шут, он теперь развлекает за плату.
Он был господином царей-властелинов,
А стал он рабом, государство покинув.
Весь мир озарял он блистаньем когда-то,
А ныне с ним в кости играет Вирата.
Жрецов и героев где прежний владыка?
На сына Панду, сын Панду, погляди-ка!
Проводит он годы бездумно, безвольно, —
Ужель за Юдхиштхиру брату не больно?
На отпрыска Бхараты, Бхараты отпрыск,
Взгляни, — только слабый увидишь ты отблеск!
Ты понял, что я погибаю средь моря
Страданья и горя, с волнами их споря?
Еще об одной расскажу тебе муке,
И ты не сердись на меня, кренкорукий.
Сражаешь ты тигров и львов на собранье,
А я, ужасаясь, теряю сознанье.
От зрелища вдруг оторвавшись, царица
Тогда восклицает: «Моя мастерица
Влюбилась в Баллаву. Ей, бедненькой, страшно,
Чуть повар сойдется со львом в рукопашной.
Кто женщин поймет? Но подходит же, право,
Красивой служанке красавец Баллава.
Давно уже, видно, друг с другом спознались:
В одно они время у нас оказались».
Иль мало мне видеть Юдхиштхиры участь?
Вдобавок — насмешек язвительных жгучесть!..
Взгляни на другого: он бился с богами, —
Теперь добывает он пищу ногами!
Вступавший со змеями в бой без опаски, —
Царевну теперь обучает он пляске!
Леса вместе с Агни сжигал полководец,
А ныне — он пепел, попавший в колодец!
Страшились воители стрел его гневных,
А ныне живет он средь женщин, как евнух!
Он мир потрясал тетивы своей звоном, —
Теперь звонким пением нравится женам!
В венце — в блеске солнца — был недругам страшен,
А ныне косой и кудрями украшен.
Божественным прежде владевший оружьем,
Он серьги надел, — будто не был он мужем!
В боях побеждавший царей-чужестранцев,
Он сделался ныне учителем танцев!
Дрожала от грома его колесницы
Земля, — и селенья в лесах, и столицы,
И то, что недвижно, и то, что подвижно,
А ныне, а ныне — уму непостижно! —
В нарядные женские платья одетый,
Звенит он серьгами и носит браслеты!
Поет он, когда все красавицы в сборе,
Смотреть мне на грозного Арджуну — горе!
Как слон в пору течки средь самок, — таков он
Средь женщин, прелестницами очарован!
О, горе мне! Лучник, возглавивший рати,
Теперь состоит плясуном при Вирате!
Известно ли Кунти, их матери славной,
Что стал плясуном ее сын богоравный,
Что старший, чей недруг еще не родился,
В презренные кости играть подрядился!
А третий? Смотрю я с печалью во взгляде:
Идет Сахадева в пастушьем наряде!
За ним я не знаю поступка дурного,
Хотя о нем думаю снова и снова.
За что же наказан твой брат? Разве надо,
Чтоб шел он, как бык, средь коровьего стада?
Он бродит в одежде пастушеской красной,
И больно смотреть мне на мужа, несчастной.
Свекровь говорила мне о Сахадеве:
«Отважен, подобен стыдливостью деве,
Любимец мой, с речью, звучащею нежно.
Служи ему в долгих скитаньях прилежно!»
И вот — мое сердце заходится в плаче,
Как вижу, что спит он на шкуре телячьей.
Четвертый стал конюхом… Где ж его свойства,
Три качества: ум, красота и геройство?
Воитель, блиставший отвагою ратной, —
Коней обучает. Как счастье превратно!
Великоблестящий и великодушный, —
О, горе мне, ныне он пахнет конюшней!
Сын Кунти, о доле моей поразмысли.
Все беды земли надо мною нависли!
Юдхиштхира — ваших несчастий причина,
Но есть у меня и другая кручина.
С тех пор как твой брат проиграл меня в кости,
Я стала добычей позора и злости.
Служанка Судешны, в ее помещенье
Прислуживаю при ее очищенье.
Я — царская дочь, и, страдая жестоко,
Я все-таки жду заповедного срока.
Все бренно в пределах удела земного,
Мужья мои — верю — возвысятся снова.
Судьба от единой причины зависит,
И то, что унизит нас, то и возвысит.
Сперва отдаем, а потом сами просим,
Нас бросивших в яму потом сами сбросим.
Нельзя нам уйти от судьбы: оттого-то
Я, веря в судьбу, жду ее поворота.
Сменяются легкими трудные годы,
Где были, там вновь заволнуются воды.
Кто, жертва судьбы, не исполнил стремлений, —
Пусть страстно стремится к ее перемене.
Ты спросишь, — зачем говорю я об этом?
Спроси, — облегчу свое сердце ответом:
Могу ль не страдать, свою гордость низринув,
Я, царская дочь и жена властелинов?
Панчалы скорбят, и страдают пандавы,
Я плачу: остались мужья без державы!
Кто, равная мне, столь возвышенной ране,
Познала так много скорбей и страданий?
Быть может, причина теперешних бедствий —
Тот грех, что пред Брахмой свершила я в детстве?
Смотри, что со мною, измученной, сталось.
Не лучше ль была я, когда я скиталась?
Ты вспомни: я прежде всегда веселилась,
Теперь в моем сердце — тоска и унылость.
Не в том ли причина, что, воин могучий, —
Стал Арджуна пепла потухшего кучей?
Кто знает, как движется в мире живое?
Кто мог бы предвидеть паденье такое?
Вы, равные Индре, в лицо мне смотрели,
Чтоб волю мою угадать, — неужели
Я знала, что я, госпожа и царица,
Начну недостойным заглядывать в лица?
Взгляни, сын Панду: разве я не владела
Землей, никогда не знававшей предела, —
Смотри же: служанка теперь Драупади!
И спереди шли мои слуги, и сзади, —
Теперь я хожу за Судешною следом.
Когда же настанет конец моим бедам!
Чтоб мазь приготовить, я ветви сандала
Когда-то для Кунти одной растирала.
Сын Кунти, на руки мои посмотри ты:
Натруженные, волдырями покрыты!»
И руки в мозолях она показала,
И с горьким отчаяньем мужу сказала:
«Ни Кунти, ни вас не боялась когда-то,
А ныне бывает мне страшен Вирата, —
Служанке, у ног его в прахе простертой:
Он ценит сандал, только мною растертый,
И жду я: одобрит ли он притиранья?»
Расплакалась, сердце воителя раня:
«Какой совершила я грех, Бхимасена?
Ужели страдать я должна неизменно?»
И сжалась душа Бхимасены от боли.
Он руки ее, на которых мозоли,
Приблизил к лицу своему, крепкостанный,
Губитель врагов. Он не плакал от раны,
А ныне заплакал, в лицо ее глядя,
Распухшие руки дрожащие гладя.
Сказал он: «Пусть наши покроются руки
Позором, и пусть опозорятся луки,
За то что тебя обрекли мы трудиться,
Что руки в мозолях твои, о царица!
Хотел я начать на глазах у Вираты
Побоище ради великой расплаты,
Но старшего брата увидел я рядом, —
Меня удержал он косым своим взглядом.
А то, что доселе с возмездием правым,
С погибелью мы не пришли к кауравам,
Что, царство утратив, живем на чужбине, —
Стрелою сидит в моем сердце поныне!
Жена дивнобедрая, будь справедлива,
Избавься от гнева, от злого порыва.
Юдхиштхира, Царь Правосудья высокий,
Умрет, если эти услышит упреки,
Иль Арджуна, Завоеватель Добычи,
Иль два близнеца — и пастух и возничий —
Погаснут, — погибну, их смертью сраженный!
Ты вспомни, как прежде вели себя жены.
Суканья была всей душою невинной
С супругом, что в куче лежал муравьиной[41];
Пошла Индрасе́на и лесом и лугом
За старым, за тысячелетним супругом[42];
Царевна, чье имя досель не забыто,
Скиталась с супругом прекрасная Сита[43];
Измучена ракшаса злобой упрямой,
Шла Рамы супруга повсюду за Рамой;
Отвергнув тщеславье, корысть, любострастье,
Верна Лопаму́дра осталась Агастье[44];
У женщин таких и тебе, о царица,
Супружеской верности нужно учиться.
За горем последует вскоре отрада:
Терпеть полтора только месяца надо,
Тринадцать исполнится лет, — и по праву
Ты славу опять обретешь и державу».
А та: «Я страдаю и горько рыдаю,
Но разве Юдхиштхиру я осуждаю?
Оставим былое, Бхима знаменитый,
В лицо настоящему зорко взгляни ты.
Царица всегда опасеньем объята,
Что прелесть мою возжелает Вирата,
И Кичака, зная тревогу Судешны,
Ко мне пристает, многолживый и грешный.
Безумным от страсти он стал, и сказала
Я Кичаке, гнев затаив свой сначала:
«Страшись! Пять мужей у меня, и с тобою
Гандхарвы расправятся с яростью злою».
«Сайрандхри! — сказал он, исполнен порока, —
Гандхарвов твоих презираю глубоко.
Пусть будет не пять их, а тысяча даже, —
Я их уничтожу в сраженье тотча́с же!»
Сказала я: «Пусть ты победами славен,
Но разве гандхарвам ты силою равен?
Ты жив, от погибели мною спасенный,
Затем что добра почитаю законы».
В ответ рассмеялся не знающий срама,
Законы добра отвергая упрямо,
Но если меня этой страстью слепою
Он вновь оскорбит, — я покончу с собою.
Погибнет добро, хоть добра вы хотите,
Лишитесь жены, хоть условие чтите.
Жену ограждая, детей ограждают,
Детей ограждая — себя утверждают.
«Для воина, — учат нас брахманы свято, —
Единый закон — умертвить супостата».
Пред взором Юдхиштхиры и Бхимасены
Ударил меня сластолюбец презренный.
Не ты ль меня спас, о душою великий,
От ракшаса злого и Синдха владыки?
Пойди — и да будет разрублен на части
Сей Кичака, грешной исполненный страсти.
Его размозжи, как о камень посуду,
Тогда лишь обиду и горе забуду.
А если взойдет над вселенною утро,
Увидев: остался в живых Сутапутра, —
Умру я от яда: и смерть мне — отрада,
Коль жить под владычеством Кичаки надо!»
Супруга припала к груди его с плачем,
И он ее словом утешил горячим,
И, губы кусая, сказал: «Ради мести
Убит будет Кичака с близкими вместе.
Тая отвращенье, с любезною речью,
Пойди и назначь в эту ночь ему встречу.
Для танцев воздвиг помещенье Вирата,
Где пусто становится после заката,
И есть там постель, и на этой постели
Я Кичаку к предкам отправлю отселе.
Никто пусть не знает, что с ним в это зданье
В условленный час ты придешь на свиданье».
Прошла эта ночь. К Драупади с рассветом
Вновь Кичака низкий пришел за ответом:
«Ударив тебя на глазах у Вираты,
Я был ли наказан, во всем виноватый?
Он только зовется царем, а на деле —
Я правлю страной и веду ее к цели.
Пойми свое счастье, мне стань госпожою,
Сто нишков я дам тебе вместе с душою!
Нужны тебе слуги, рабы, колесница?
На встречу со мной ты должна согласиться!»
Сказала служанка: «Тебе не перечу,
Но в тайне от всех сохрани нашу встречу.
Гандхарвов страшусь, опасаюсь их мести.
Дай слово, — тогда мы окажемся вместе».
А тот: «Обманув любопытство людское,
Один я приду к тебе в место глухое,
Таясь от гандхарвов, сгорая от страсти,
Познаю с тобой, круглобедрая, счастье».
Она: «Дом для танцев построил Вирата,
Где пусто становится после заката.
Гандхарвы об этом не ведают зданье, —
Туда в темноте приходи на свиданье…»
Для Кичаки день, словно месяц, был долог.
Он ждал, чтобы ночь распростерла свой полог.
Не знал он, в любовной горя лихоманке,
Что смерть свою в облике видит служанки.
Глупец, он себя торопливо украсил
Цветами, убранством, дыханием масел.
Пылая, он ждал с нетерпением ночи,
Желая лобзать удлиненные очи.
Живой, он не думал о скором уходе:
Ведь пламя горит, хоть фитиль на исходе!
Уверенно ждал он лобзаний, объятий:
Не знал он, что жизнь, как и день, — на закате!
Меж тем Драупади, как полдень весенний
Блистая, на кухню пришла к Бхимасене.
«Я с Кичакой, — молвила мужу-герою, —
Свидание в доме для танцев устрою.
Он вступит в безмолвное зданье надменно,
И ты его должен убить, Бхимасена.
Гандхарвы смешны ему, — будь к поединку
Готов: словно слон, раздави камышинку!
Раздавишь его — и пандавов прославишь,
Утрешь мои слезы, от горя избавишь».
«Будь радостна, — молвил он, — тонкая в стане.
Есть в слове твоем — исполненье желаний.
Я счастлив, что с Кичакой биться придется,
И я, как Хиди́мбу, убью полководца,
Как Индра убил непотребного Вритру!
Я слезы твои, дивнобедрая, вытру,
Добро защищая, врага уничтожу,
А вступятся матсьи, — их гибель умножу.
Затем, почитая и братьев и право,
Дуръйодхану я погублю — каурава,
И даже без помощи старшего брата
Я вызволю землю из рук супостата».
Она: «Приходи, но тайком, а иначе
Условье нарушишь, лишимся удачи».
А он: «Успокой ты, о робкая, душу,
То слово, что дали мы, я не нарушу.
Погибнет зломышленный, мной обезглавлен,
Как плод, что слоновой пятою раздавлен!»
Явился Бхима, чтоб с пороком бороться.
Как лев ждет оленя, он ждал полководца.
Он тихо таился во тьме непроглядной,
А Кичака — гордый, блестящий, нарядный,
Не зная, что встретится с недругом кровным,
Пришел, истомленный томленьем любовным.
Он шел и горячей не сдерживал дрожи,
Так жаждал он лечь с Драупади на ложе, —
И что же? Внезапно, во тьме сокровенной,
Не с женщиной встретился, а с Бхимасеной!
Глаза полководца желаньем блестели,
Не знал он, что смерть его — там, на постели.
Сказал, сладострастного полон горенья:
«Богатые утром получишь даренья.
Я слышу от женщин хвалебное слово:
«Нет равных тебе среди рода мужского!»
Вскричал Бхимасена: «Но это слова лишь,
И благо тебе, что ты сам себя хвалишь.
Что сладостным сам ты себе показался, —
Но кто к тебе так, говори, прикасался?»
Сказал — и, могучей отвагой владея,
Схватил он за волосы прелюбодея,
Но, благоухавший, цветами венчанный,
Тот вызволил волосы, — муж крепкостанный.
Схватились, померились мощью стальною,
Как будто слоны из-за самки весною!
Казалось, что плохо пришлось Бхимасене:
Швырнул его недруг во прах, на колени,
Но он, как змея, что ударена палкой,
Поднялся, смеясь над попыткою жалкой!
Боролись две силы, две злобы средь ночи.
Борьба становилась упорней, жесточе,
Но жажда возмездья порок не сражала,
Роскошное зданье для танцев дрожало.
Кругом было мрачно, безлюдно и глухо.
Ударил противника в грудь Волчье Брюхо,
Но был удальцом Сутапутра недаром, —
Не пал под неслыханно сильным ударом,
Он только поддался на миг, и мгновенно
Заметил, что он ослабел, Бхимасена,
И поднял его, задыхаясь, и разом
Померк у могучего Кичаки разум.
За волосы витязь схватил его снова,
Взревел, точно тигр среди мрака лесного,
Схвативший, голодный, большого оленя!
Как Шива, возжаждавший жертв истребленья,
Чтоб жертвенный скот погибал от трезубца[45],
Схватил он, скрутил он в комок женолюбца.
Супруге, дождавшейся светлого часа,
Комок показал он кровавого мяса:
«Смотри на него, о панчалов царевна,
Ты видишь, как похоть карается гневно!»
Убив Сутапутру, свой гнев успокоив,
На кухню пошел он из этих покоев.
Ликуя, что враг уничтожен супругом,
Пошла Драупади и молвила слугам:
«Смотрите: мужьями моими убитый,
Лежит Сутапутра, позором покрытый,
Смотрите: чужую жену пожелавший,
Лежит, от гандхарвов погибель познавший!»
Светильники взяли дворцовые слуги —
И тысячами устремились в испуге,
Увидели: Кичака, гордость державы,
Убитый, в комок превратился кровавый:
«Увы, искромсали его полубоги…
Где грудь, голова его, руки и ноги?»
Все родичи Кичаки, с плачем всеобщим,
Пришли и склонились в тоске над усопшим.
Подобен он был, — все увидели в страхе, —
Ножом изуродованной черепахе!
Затем выносить его стали наружу,
Чтоб почесть воздать погребальную мужу.
Тогда, совершая обряд похоронный,
Служанку увидели возле колонны.
Вскричали: «В сей смерти она виновата,
Убить ее надо, исчадье разврата!
Нет, с Кичакой вместе сожжем ее лучше,
Пусть близостью с ней насладится могучий!»
«Хотим ее сжечь, — обратились к Вирате, —
Повинна она в нашей тяжкой утрате.
Согласен?» И царь разрешил недостойным.
Пусть быстро сожгут ее вместе с покойным.
Толпа, на мгновенье оставив останки,
Крича, подступила к дрожащей служанке.
Связали красавицу с дивным сложеньем,
Пошли, чтобы дело закончить сожженьем.
Тогда, уносимая злобной толпою,
К мужьям обратилась царица с мольбою:
«Гандхарвы, ужель я покинута вами?
Влекут меня родичи Кичаки в пламя!
Гандхарвы, чьи стрелы блестят, как зарницы,
И грому подобно гремят колесницы,
Услышьте, жена вас о помощи просит:
В костер меня род Сутапутры уносит!»
Вскочил Бхимасена с обличием грозным, —
Он внял всей душою тем жалобам слезным.
Вскричал: «О сайрандхри, бояться не надо.
Иду я, защита твоя и ограда!»
Одежды сменил он, и в ярком наряде
Он выскочил, чтобы помочь Драупади.
Из хода Бхима побежал потайного,
Взволнованный, вала достиг крепостного,
И дерево с корнем он вырвал из вала,
Помчался туда, где толпа бушевала.
То дерево поднял он вместе с листвою, —
Бог смерти, казалось, грозит булавою!
На родичей Кичаки, с бешенством гнева,
Длиной в десять вья́ма[46] обрушил он древо.
На землю упали деревья и люди,
Сплетаясь в единой низвергнутой груде.
Их так устрашил полубог разъяренный,
Что быстро прервали обряд похоронный.
Увидев: земля под гандхарвой трясется, —
Весь род, собиравшийся сжечь полководца,
Воскликнул: «Свирепость гандхарвы измерьте:
Он Яме подобен, властителю смерти!
Отпустим служанку, жену полубога, —
Да сразу развеются страх и тревога!»
Свободу вернули они Драупади
И ринулись в город спасения ради.
Воитель ударил их древом с листвою,
Как Индра стрелою своей громовою, —
Сто пять из бегущих легли без движенья.
Сказал он супруге слова утешенья: —
«О робкая, видишь, убиты злодеи,
Не бойся, домой возвратись поскорее,
На кухню пойду я дорогой другою…»
Сто пять уничтожил он мощной рукою,
Казалось, в лесу повалились деревья
И кровоточили на месте корчевья.
Сто пять полегли, неподвижны, безгласны,
И был сто шестым Сутапутра всевластный.
Сто пять полегли от единого взмаха, —
И люди замолкли, исполнены страха.
Явились к царю потрясенные слуги.
«Гандхарвой убиты, — сказали в испуге, —
Сородичи Кичаки, сто или боле.
Как будто на камни рассыпалась в поле
Гора, что ударом расколота грома!
А эта сайрандхри, наверное, дома,
Но гибель над городом нашим нависла:
С гандхарвами грозными биться нет смысла,
Жена их, сайрандхри, — предмет вожделенья,
Мужчин доведет она до исступленья!
Подумай, как с ней поступить, ибо вскоре
Державе твоей причинит она горе».
Вирата велел: «Похороним с почетом
Сородичей мертвого Кичаки, счетом
Сто пять, — да сгорят, как и надо мужчинам,
Они на костре погребальном едином
В своих драгоценных камнях, с благовоньем.
Когда же мы наших друзей похороним,
Да скажет красивой служанке царица:
«Наш царь от гандхарвов погибнуть боится,
Иди куда хочешь дорогой своею…»
Я сам это слово сказать ей не смею:
Гандхарвов страшусь я! А скажет царица, —
Так разве на женщину будут сердиться?»
Избавясь от смерти, с весельем во взгляде,
Меж тем направлялась домой Драупади, —
Как лань, что от тигра умчаться сумела.
Омыла царица одежду и тело.
Завидев гандхарвов жену молодую,
Пред ней разбегалась толпа врассыпную,
Глаза закрывались от страха у многих,
Иные в смятенье тряслись на дорогах.
Царевна панчалов пришла к Бхимасене,
Сказала, как цвет улыбаясь весенний
И взглядами слово свое объясняя:
«Властитель гандхарвов, тобой спасена я!»
«Мужья твои, — ей отвечал Бхимасена, —
Везде исполняют свой долг неизменно».
Вот Арджуна, Завоеватель Добычи,
Нарядной гурьбой окруженный девичьей,
Из дома для танцев пришел, грознолицый.
Сказали царевне его ученицы:
«О, счастье, сайрандхри, свободна ты снова,
Спаслась ты от родичей Кичаки злого!»
Спросил Бриханнада: «Сайрандхри, поведай, —
О, как от злодеев ушла ты с победой?»
Она: «Бриханнада, тебе что за дело
До бедной служанки? Ты пляшешь умело,
Без горя на женской живешь половине, —
Что можешь ты знать о страданьях рабыни?
Вопрос ты мне задал, плясун, для того ли,
Чтоб высмеять все мои муки и боли?»
А тот: «Посмотри, я сравнялся с животным,
Но мукам не внемлю ль твоим неисчетным?»
Не ведая страха, сияя, как вешний
Цветник, Драупади явилась к Судешне.
«Иди куда хочешь, — сказала царица, —
Затем, что Вирата гандхарвов боится.
А так ты красива, о тонкая в стане,
Что всюду рождаешь ты сотни желаний».
Сайрандхри: «Я скоро уйду без возврата, —
Тринадцать лишь дней да потерпит Вирата.
Меня унесут полубоги отселе,
А к вам возвратятся покой и веселье».
Когда пандавы выполнили все условия проигрыша, когда миновал тринадцатый год их изгнания, они отправили к Дуръйо́дхане посла с требованием возвратить им половину царства. Дуръйодхана отказался. Так началась великая битва кауравов с пандавами. Одни народы Индии стали на сторону пандавов, другие примкнули к кауравам. Кришна, близкий друг и родственник пандавов, земное воплощение бога Ви́шну, стал их советником, колесничим А́рджуны, а войско свое отдал кауравам. Войско пандавов возглавил Дхриштадью́мна, сын Друпа́ды, царя панчалов, а войско кауравов — их дед Бхишма.
Битва произошла на необозримой равнине Курукше́тре — на «Поле кауравов», и длилась восемнадцать дней. Войско пандавов состояло из семи ратей, которые возглавлялись Бхимасе́ной, Чеки́таной — сыном царя племени сомаков, и сыновьями Друпады, среди которых выделялись доблестью и военным искусством, помимо Дхриштадьюмны, Шикха́ндин и Сатья́ка. Им помогали в битве юные сыновья Драупади, рожденные ею от пяти братьев-пандавов.
Во главе одиннадцати ратей кауравов стояли великий знаток оружия, ученый Кри́па, царь племени мадров Ша́лья, царь бходжей и андхаков Критава́рман, сын Дро́ны Ашваттха́ман, Карна́, Шаку́ни и другие знаменитые витязи.
Перед началом сражения, когда враждебные войска выстроились друг против друга, Арджуна отказался вести войну против своих родичей и близких. Тогда Кришна раскрыл Арджуне смысл вечной дхармы — высшего морального закона. Поучение Кришны и составило «Бхагавадги́ту» — духовную сущность индийского эпоса.
О том, что происходило на поле боя, рассказал слепому царю Дхритараштре его возничий Санджа́йя.
И тот, на чьем знамени знак обезьяний[47],
Узрев кауравов на поприще брани, —
Пред тем, как посыплются стрелы в окружье. —
«О Кришна, — промолвил, вздымая оружье, —
Меж вражеских ратей, как раз посредине,
Мою задержи колесницу ты ныне,
Чтоб воинов мог разглядеть я порядки,
С которыми биться мне надобно в схватке,
Кого здесь собрал, ради битвы неправой,
Царя Дхритараштры потомок лукавый».
И Кришна, услышав от Арджуны слово, —
Меж войск, озиравших друг друга сурово,
Огромную остановил колесницу
Пред всеми, кто сталью одел поясницу,
Пред Бхишмой и Дроной, — и молвил: «Кудрявый[48],
Теперь посмотри, каковы кауравы».
Предстали пред Арджуной деды и внуки,
Отцов и сынов увидал сильнорукий,
И братьев, и родичей, близких по крови, —
Каленые стрелы у всех наготове!
Враждой сотоварищей прежних расстроен,
Высокую жалость почувствовал воин.
«О Кришна, — сказал, — где закон человечий?
При виде родных, что сошлись ради сечи,
Я чувствую — мышцы мои ослабели,
Во рту пересохло и дрожь в моем теле,
Мутится мой разум, и кровь стынет в жилах,
И лук я удерживать больше не в силах.
Зловещие знаменья вижу повсюду.
Зачем убивать я сородичей буду?
Мне царства, победы и счастья не надо:
К чему мне, о Пастырь[49], сей жизни услада?
Те, ради кого нам победа желанна,
Пришли как воители вражьего стана.
Наставники, прадеды, деды и внуки,
Отцы и сыны напрягли свои луки,
Зятья и племянники, дяди и братья, —
Но их не хочу, не могу убивать я!
Пусть лучше я сам лягу мертвым на поле:
За власть над мирами тремя[50], а тем боле
За блага земные, — ничтожную прибыль! —
Нести не хочу я сородичам гибель.
В убийстве сынов Дхритараштры[51] какая
Нам радость? Мы грех совершим, убивая!
Ужели мы смерть принесем этим людям?
Счастливыми, близких убив, мы не будем!
Хотя кауравы, полны вероломства,
Не видят греха в истребленье потомства,[52]
Но мы-то, понявшие ужас злодейства,
Ужели погубим родные семейства?
С погибелью рода закон гибнет вместе,
Где гибнет закон, там и рода бесчестье.
Там жены развратны, где род обесчещен,
А там и смешение каст[53] из-за женщин!
А там, где смешение каст, — из-за скверны
Мучения грешников будут безмерны:
И род, и злодеи, что род погубили,
И предки, о коих потомки забыли,
Лишив прародителей жертвенной пищи[54], —
Все вместе окажутся в адском жилище!
А касты смесятся, — умрет все живое,
Разрушатся все родовые устои,
А люди, забыв родовые законы,
Низринутся в ад: вот закон непреклонный!
Замыслили мы ради царства и власти
Родных уничтожить… О, грех, о, несчастье!
О, пусть без оружья, без всякой защиты,
Я лягу, потомками Куру убитый!»
Так Арджуна молвил на битвенном поле,
На дно колесницы поник, полон боли,
И, лик закрывая, слезами облитый,
Он выронил стрелы и лук знаменитый[55].
Познавший высокую боль состраданья,
От Кришны услышал он речь назиданья:
«Как можно пред битвою битвы страшиться?
Смятенье твое недостойно арийца,[56]
Оно не дарует на поприще брани
Небесного блага и славных деяний.
Отвергни, о Арджуна, страх и бессилье,
Восстань, чтоб врагов твои стрелы разили!»
Тот молвил: «Но как, со стрелой оперенной,
Мне с Бхишмой сражаться, с наставником Дроной?
Чем их убивать, — столь великих деяньем,
Не лучше ль в безвестности жить подаяньем?
Убив наших близких, мы станем ли чище?
О нет, мы вкусим окровавленной пищи!
Еще мы не знаем, что лучше в сраженье:
Врагов победить иль познать пораженье?
Мы жизнью своей наслаждаться не сможем,
Когда Дхритараштры сынов уничтожим.
Я — твой ученик. Ты учил меня долго,
Но в суть не проник я Закона и Долга[57].
Поэтому я вопрошаю, могучий,
Ты должен мне ясно ответить: что лучше?
Мне счастья не даст, — ибо сломлен скорбями, —
Над смертными власть или власть над богами,
И вот почему я сражаться не стану!»
Сказал — и замолк, в сердце чувствуя рану.
А Кришна, с улыбкой загадочной глянув,
Ответил тому, кто скорбел меж двух станов:
«Мудрец, исходя из законов всеобщих,
Не должен жалеть ни живых, ни усопших.
Мы были всегда[58] — я и ты, и, всем людям
Подобно, вовеки и впредь мы пребудем.
Как в теле, что нам в сей юдоли досталось,
Сменяются детство, и зрелость, и старость, —
Сменяются наши тела, и смущенья
Не ведает мудрый в ином воплощенье.
Есть в чувствах телесных и радость и горе[59];
Есть холод и жар; но пройдут они вскоре;
Мгновенны они… О, не будь с ними связан,
О Арджуна, ты обуздать их обязан!
Лишь тот, ставший мудрым, бессмертья достоин,
Кто стоек в несчастье, кто в счастье спокоен.
Скажи, — где начала и где основанья
Несуществованья и существованья?[60]
Лишь тот, кому правды открылась основа,
Увидел границу того и другого.
Где есть бесконечное, нет прекращенья,
Не знает извечное уничтоженья.
Тела преходящи; мертва их отдельность;
Лишь вечного Духа жива беспредельность.
Не плачь же о тех, кто слезы недостоин,
И если ты воин, — сражайся, как воин!
Кто думает, будто бы он есть убийца,
И тот, кто в бою быть убитым боится, —
Равно неразумны: равно не бывают
И тот, кто убил, и кого убивают.[61]
Для Духа нет смерти, как нет и рожденья,
И нет сновиденья, и нет пробужденья.
Извечный, — к извечной стремится он цели;
Пусть тело мертво, — он живет в мертвом теле.
Кто понял, что Дух вечно был, вечно будет, —
Тот сам не убьет и убить не принудит.
Смотри: обветшавшее платье мы сбросим,
А после — другое наденем и носим.
Так Дух, обветшавшее тело отринув,
В другом воплощается, старое скинув.
В огне не горит он и в море не тонет,
Не гибнет от стрел и от боли не стонет.
Он — неопалимый, и неуязвимый,
И неувлажняемый, неиссушимый.
Он — всепроникающий и вездесущий,
Недвижный, устойчивый, вечно живущий.
А если он есть, — и незрим и неявлен[62], —
Зачем же страдаешь ты, скорбью подавлен?
Но, если бы даже ты жил с убежденьем,
Что Дух подлежит и смертям и рожденьям, —
Тебе и тогда горевать не годится:
Рожденный умрет, а мертвец возродится.
И должен ли ты предаваться печали,
Поняв, что неявлены твари вначале,
Становятся явленными в середине,
Неявленность вновь обретя при кончине?[63]
Кто Духа не видел, подумает: чудо!
И тот, кто увидел, подумает: чудо!
А третий о нем с изумленьем внимает,
Но даже внимающий — не понимает!
Всегда он бессмертен, в любом воплощенье, —
Так может ли смерть принести огорченье?
Исполни свой долг, назиданье усвоя:
Воитель рожден ради правого боя.
Воитель в сраженье вступает, считая,
Что это — ворота отверстые рая,
А если от битвы откажешься правой,
Ты, грешный, расстанешься с честью и славой.
Ты будешь позором покрыт, а бесчестье
Для воина горше, чем гибель в безвестье.
Отважные скажут: «Он струсил в сраженье».
Презренье придет, и уйдет уваженье.
Издевку и брань ты услышишь к тому же
От недругов злобных; что может быть хуже!
Убитый, — достигнешь небесного сада.
Живой, — на земле насладишься, как надо.[64]
Поэтому, Арджуна, встань, и решенье
Прими, и вступи, многомощный, в сраженье!
Признав, что удача подобна потере,
Что горе и счастье равны в полной мере,
Признав, что победе равно пораженье, —
В сраженье вступи, чтоб не впасть в прегрешенье!
Услышал ты доводов разума много:
Внемли же, чему учит светлая йога.[65]
К законам ее приобщиться готовый,
Возмездия — кармы — разрушишь оковы.[66]
На этом пути все усилья успешны, —
Утешны они, потому что безгрешны,
И смерть не страшна, если даже досталась
Тебе этой благости самая малость.[67]
На этом пути разум целен и прочен,
У прочих — безволен, расплывчат, неточен.[68]
Начетчики, веды читая бесстрастно,
Болтают цветисто: «Лишь небо прекрасно!
Исполните все предписанья, обряды —
Достигнете власти и райской отрады!»
Но разум, что к власти исполнен пристрастья,
Не знает сама́дхи[69] — восторга и счастья!
Относятся веды к трем гунам — к трем свойствам
Природы со всем ее бренным устройством.[70]
Отвергни три гуны, стань вольным и цельным!
Избавясь от двойственности, с Беспредельным
Сольешься и собственности не захочешь,
Себя, Вечной Сущности предан, упрочишь.
Нам веды нужны лишь как воды колодца:[71]
Чрез их глубину Вечный Дух познается!
Итак, не плодов ты желай, а деянья,
А ради плодов прекрати ты старанья.
К плодам не стремись, не нужна их услада,
Однако бездействовать тоже не надо.
Несчастье и счастье — земные тревоги —
Забудь; пребывай в равновесии — в йоге.
Пред йогой ничто все дела, ибо ложны,[72]
А люди, что жаждут удачи, — ничтожны.
Грехи и заслуги отвергни ты разом:
Кто к йоге пришел, тот постиг Высший Разум.
Отвергнув плоды, сбросив путы рожденья,
Достигнешь Бесстрастья и Освобожденья.
Когда к заблужденьям не будешь причастен,
Ты станешь, от них отрешенный, бесстрастен
К тому, что услышишь, к тому, что услышал[73]:
Из дебрей ты шел и к простору ты вышел.
Как только твой разум отвергнет писанье,
Ты к йоге придешь, утвердясь в Созерцанье».[74]
Сын Кунти спросил: «Есть ли признак, примета
У тех, кто достиг Созерцанья и Света?
Какие поступки, слова и дороги
У мудрого, светлой достигшего йоги?»
Ответствовал Кришна, мудрец богородный:
«Когда человек, от желаний свободный,
Привержен лишь радости, в нем заключенной, —
Тогда он святой, от всего отрешенный.
Кто в счастье спокоен и стоек в несчастье,
Не ведает гнева, и страха, и страсти,
И не ненавидит, и не вожделеет, —
Тот к йоге всей сутью своей тяготеет.
И если, как лапы свои черепаха,
Вбирает он чувства свои, чтоб от праха
Отвлечь их, — от вкуса к бездушным предметам, —
Его ты узнаешь по этим приметам.
Предметы уходят, предел им назначен,[75]
Но вкус к ним еще мудрецом не утрачен:
Он вкус к наслажденьям в себе уничтожит,
Как только увидеть он Высшее сможет.
Ведь даже идущий путем наилучшим
Порой подчиняется чувствам кипучим,
Но, их обуздав, он придет к Высшей Цели
И станет свободным, — безвольный доселе.
Где чувства господствуют — там вожделенье,
А где вожделенье — там гнев, ослепленье,
А где ослепленье — ума угасанье,
Где ум угасает — там гибнет познанье,
Где гибнет познанье, — да ведает всякий, —
Там гибнет дитя человечье во мраке!
А тот, кто добился над чувствами власти,
Попрал отвращенье, не знает пристрастий,
Кто их навсегда подчинил своей воле, —
Достиг просветленья, избавясь от боли,
И сердце с тех пор у него беспорочно,
И разум его утверждается прочно.
Вне йоги к разумным себя не причисли:
Вне ясности нет созидающей мысли;[76]
Вне творческой мысли нет мира, покоя,
А где вне покоя и счастье людское?
То сердце, что радостей алчет и просит,
У слабого духом сознанье уносит,
Как ветер стремительно и невозбранно
Уносит корабль по волнам океана.
Так знай же, могучий на битвенном поле[77]:
Там — разум и мудрость, где чувства — в неволе.
Все то, что для всех — сновиденье, есть бденье
Того, кто свое пересилил хотенье,
А бденье всего, что познало рожденье,
Для истинно мудрого есть сновиденье.[78]
Как воды текут в океан полноводный[79] —
Вот так для желаний есть доступ свободный
К душе мудреца; он пребудет в нирване,
Но только не тот, кто исполнен желаний!
Свободный от самости, верной тропою
Придет он, поправ вожделенье, к покою.[80]
Ты Высшего Духа постиг состоянье?
С ним слитый, отвергнешь дурное деянье.
Пусть даже к нему ты придешь при кончине, —
Поймешь, что в нирване пребудешь отныне![81]»
Сын Кунти сказал: «Если, мне в назиданье,
Превыше деянья ты ставишь познанье,
Тогда почему, разуменьем богатый,
На страшное дело толкаешь меня ты?
Сознанье мутишь мне двусмысленной речью.
Ответствуй мне ясно: где благо я встречу?»
И Кришна сказал: «Для стремящихся к йоге
Я прежде уже указал две дороги:
Для жаждущих с Сущностью Вечной слиянья
Есть йога познанья и йога деянья.
В бездействии мы не обрящем блаженства[82];
Кто дела не начал, тот чужд совершенства.
Однако без действий никто не пребудет:
Ты хочешь того иль не хочешь — принудит
Природа тебя: нет иного удела,
И, ей повинуясь, ты делаешь дело.
Кто, чувства поправ, вое же помнит в печали
Предметы, что чувства его услаждали[83], —
Тот, связанный, следует ложной дорогой;
А тот, о сын Кунти, кто, волею строгой
Все чувства поправ, йогу действия начал, —
На правой дороге себя обозначил.
Поэтому действуй; бездействию дело
Всегда предпочти; отправления тела —
И то без усилий свершить невозможно:
Деянье — надежно, бездействие — ложно.
Оковы для мира, — бездушны и мертвы
Дела, что свершаются не ради жертвы.[84]
О Арджуна, действуй, но действуй свободный!
Поведал нам Брахма, творец первородный,
Людей вместе с жертвой создав: «Размножайтесь
И, жертвуя, жертвой своей насыщайтесь:
Себя ублажайте, богов ублажая,
И будет от жертвы вам польза большая.
Приняв эти жертвы в небесном чертоге,
За них наградят вас довольные боги, —
Иначе предстанут пред вами ворами,
Когда на дары не ответят дарами!»
Остатками жертвы питаясь, мы чище
От этой становимся праведной пищи,
А люди, которые жертв не свершают,
Все сами съедая, — греховность вкушают.
От пищи возникли все твари живые,
А создали пищу струи дождевые,
От жертвы — дождя происходит рожденье,
А жертва — есть действия произведенье,
А дело — от Брахмы, а Брахма — Всесущий,
А значит, он в жертве, нам благо несущей.
Кто этому круговращенью враждебен —
Игралище чувств, — и кому он потребен?
Но тот, кого А́тман насытил всецело,
Кто в Атмане счастлив[85], — свободен от дела.
В сей бренной юдоли не видит он цели
В несделанном деле и в сделанном деле,
Он самопознания выбрал дороги,
В ничьей на земле не нуждаясь подмоге.
Итак, делай то, что ты делать обязан.
Блажен, кто, творя, ни к чему не привязан.
Тем Джа́нака[86] славен и люди другие,
Что мудро дела совершали благие.
И ты, целокупности мира во имя,
Трудись, делай благо трудами своими.
Кто лучше других, — тот учитель по праву,
Он всех своему подчиняет уставу.[87]
Постиг я три мира, свершил все свершенья,
Но действия не прекращаю движенья.
А если б не действовал я, то в безделье
Все люди бы жить, как и я, захотели,
Исчезли б миры, если б дел я не множил,
Все касты смешав, я б людей уничтожил.
Как действуют в путах деяний невежды, —
Пусть так же и мудрый, исполнен надежды,
К делам не привязан, с душой вдохновенной,
Деянья свершает для блага вселенной.
Кто черпает мудрость в познанье высоком,
Незнающих пусть не смутит ненароком:
Они, оставаясь в своем заблужденье,
В деяньях пускай обретут наслажденье.
Природы-Праматери вечная сила, —
Всё делают гуны; кого ж ослепила
Гордыня, — решают: «Мы делаем сами».
Но тот, кто взирает познанья глазами,
Поймет, что единая сущность — основа
И чувств и предметов, что снова и снова
Три гуны вращаются в гунах природы,[88] —
И, к ним не привязан, достигнет свободы.
Но кто совершенным познаньем владеет, —
Познавшего несовершенно не смеет
Смущать, ибо что разумеет незрячий?
А ты, о воюющий, действуй иначе.
От самости, от вожделенья избавлен,
Ты каждым поступком ко мне будь направлен,
Будь Высшему Атману предан глубоко,
Сражайся — и ты не услышишь упрека!
Разумный, ученье мое постигая
И веря, что эта стезя есть благая,
Без ропота действуя долгие годы,
Одним лишь деяньем достигнет свободы.
А тот, кто мое отвергает ученье,
Кто ропщет, к предметам питая влеченье, —
Погибнет, безумный, познанья лишенный!
Ты понял ли, Арджуна, эти законы?
Природе вовек все живое подвластно,
И даже мудрец поступает согласно
Природе своей, — так к чему противленье?
И чувств отвращенье, и чувств вожделенье —
В предметах телесных; и то и другое —
Враги; отврати их владычество злое!
Исполнить, — пусть плохо, — свой долг самолично,
Важней, чем исполнить чужой сверхотлично.
Погибнуть, свой долг исполняя, — прекрасно,
А долгу чужому служенье — опасно![89]»
Спросил его Арджуна: «Кто же от века,
Скажи, побуждает на грех человека, —
К тому же силком, вопреки его воле?»
И Кришна, причастный божественной доле,
Ответил: «То — страсть, что возникла из скверны,
То — гнев пожирающий, неимоверный.
Как зеркало — мутью, огонь — темным дымом,
Как пленкой — зародыш, так ненасытимым
Желанием все мирозданье одето:
Желание — недруг познанья и света.
Враг мудрости — мудрость ввергает в пыланье
То алчное пламя в обличье желанья!
В рассудке и в чувствах оно пребывает,
Людей, ненасытное, с толку сбивает.
А ты, обуздав свои чувства сначала,
Врага порази, чья утроба взалкала, —
Прозренье и знанье пожрать захотела![90]
Считают, что чувства важнее, чем тело,
Познанье важнее всех чувств, но сознанье
Превыше познанья в моем пониманье.
А выше сознания — Он, Безграничный.[91]
Себя утверди в его сути Сверхличной,
Врага уничтожь, — да обрящет кончину
Противник, надевший желанья личину!»
Сын Кунти спросил: «Что же выше ты ставишь?
Смотри: отрешенье от действий ты славишь,
Но хвалишь, о мудрый, и действия йогу.
Что лучше? Развей мою, Кришна, тревогу».
Ответствовал Арджуне праведник строгий:
«К высокому благу ведут обе йоги,
Но йоги деянья важнее значенье:
Она превосходит от дел отреченье.
Тот стал Отрешенным, кто, делая дело,
И зло обуздал, и желания тела.[92]
«Две йоги различны», — глупец поучает, —
Но знай, что, достигший одной, получает
Обеих плоды, ибо слиты даянья
И йоги познанья, и йоги деянья.
Без йоги достичь отрешенья труднее,[93]
И праведник, преданный йоге, скорее
С Великим и Сущим достигнет слиянья:
Себя победив и отринув желанья,
Сольется он с духом существ, с Вечным Светом,
И, действуя, не загрязнится при этом.
Кто, истину зная, добро насаждает, —
«Не делаю я ничего, — рассуждает, —
Касаясь, вкушая, внимая, взирая,
Дыша, говоря, выделяя, вбирая».
Встает ли с восходом, ко сну ли отходит, —
Он, праведный, ведает, что происходит:
«То чувств и предметов телесных общенье,
А я не участвую в этом вращенье».[94]
Кто, действуя, с Духом Всесущим сольется,
Того вековечное зло не коснется, —
Не так ли, скатившись, от пыли очистив,
Вода не касается лотоса листьев?
Свободный, с предметами чуждый общенья,
Во имя благого самоочищенья,
Лишь разумом, чувствами, сердцем и телом
Пусть действует, дело избравший уделом.[95]
Отвергший плоды обретает отраду,
Кто жаждет плодов, попадает в засаду.
Счастливец в покое живет благодатном,
Не действуя в городе девятивратном.[96]
Не делает Бог — властелин совершенный —
Ни делателей, ни деяний вселенной,
Дела с их плодами творец не связует, —
Природа сама по себе существует.[97]
Ни зло, ни добро не приемлет Всевластный.
Окутало мудрость, как мглою ненастной,
Неведенье, распространив ослепленье.
Но те, кому Бог даровал просветленье,
Разрушили знанием это незнанье,
И Высший, как солнце, явил им сиянье.
Постигнув его и себя в Нём, Высоком,
Ушли они, выиграв битву с пороком.[98]
В слоне и в корове, в жреце и в собаке,
И в том, кто собак поедает во мраке,
И в том, что дряхлеет и что созревает, —
Единую сущность мудрец прозревает.
Чей разум всегда в равновесье, в покое, —
Сей мир победил, победил все земное,
И не умирая, и не возрождаясь,
Пребудет он, в духе святом утверждаясь,
Не станет, достигнув покоя, бесстрастья,
От счастья смеяться, страдать от несчастья.
Он Высшего Духа постигнет главенство,
И, преданный Духу, вкусит он блаженство, —
Затем, что предметов телесных касанье
Не даст наслажденья, а только терзанье:
Они преходящи, в них — бедствия лоно,
Безгрешный отверг их душой просветленной.
Лишь тот, кто, еще не дождавшись кончины,
Равно и отрады презрел и кручины,
Свой гнев пересилил и чувств самовластье, —
Обрел настоящее, прочное счастье!
Кто светится внутренним счастьем, — не внешним! —
Тот с Высшим и в мире сливается здешнем.
Подвижник, живя ради блага людского,
Избавясь от двойственности и сурово
Свой гнев обуздав, уничтожив обманы,
Грехи, заблужденья, — достигнет нирваны:
Мудрец, от земных отрешенный желаний
И с Атманом слитый, — приходит к нирване.
Отринув предметы, презрев суесловье,
Направив свой взор напряженный в межбровье,
В ноздрях уравняв с выдыханьем дыханье,[99]
Стремлений и чувств погасив полыханье,
Избавясь от страха, — мудрец безупречный
Приходит к свободе и высшей и вечной.
Познавши меня, всех миров господина[100], —
Того, кто есть подвига первопричина,
Кто жертвы вкушает, любя все живое, —
Мне предан, подвижник пребудет в покое!»
И Арджуна молвил: «Светла твоя милость, —
Исчезла незрячесть; душа озарилась;
Я стоек; не знаю сомненья былого;
Твое, о наставник, исполню я слово!»
На рассвете враждующие войска вступили в битву. Бхимасена напал на кауравов — сыновей царя Дхритараштры. Ему на помощь поспешили близнецы На́кула и Сахаде́ва, и сыновья Драупади, и предводитель войска Дхриштадьюмна. Царь кауравов Дуръйодхана и его братья оказались достойными противниками пандавов. Арджуна вступил в упорный поединок с Бхишмой, Юдхиштхира — с Шальей, Шикхандин — с Ашваттхаманом. Погибли в битве сыновья Вираты, царя матсьев, — Уттара и Швета. Пандавы потеряли в первый день сражения сотни тысяч воинов. Кауравы, имея численное превосходство, стали теснить пандавов. Могучий Бхишма, дед кауравов и пандавов, истреблял войско Юдхиштхиры.
Санджайя сказал[101]: «И как только стемнело,
И поле сражения скрылось всецело,
Увидел Юдхиштхира сумрак беззвездный,
Увидел, что Бхишма преследует грозный
Владельцев его колесниц средь потемок,
Увидел, о Бхараты славный потомок,
Что войско, оружие бросив, не бьется,
А в страхе бежит от того полководца,
Что со́макам трепет внушил грознолицый:
Они повернули свои колесницы.
Подумав, Юдхиштхира принял решенье:
«Отступим, в бою потерпев пораженье».
И в этот же час, о властитель державы,
Войска отвели и твои кауравы,
И воины стали на отдых желанный,
Чтоб зажили за ночь тяжелые раны.
Пандавы не спали: в душе у них смута,
Измучил их Бхишма, воюющий люто,
А Бхишму, дивясь его доблестной силе,
Твои сыновья в это время почтили.
Так было, — и тьма наступила ночная,
Рассудок всех тварей земных затемняя.
Пред ликом той тьмы, ненавистницы света,
Пандавы с друзьями сошлись для совета.
Юдхиштхира Кришне сказал поздней ночью:
«Я мужество Бхишмы увидел воочью.
Он войско мое и мертвит и кровавит:
Так слон тростниковые заросли давит.
Смертельно он войско мое поражает:
Так пламя сухую траву пожирает.
На Бхишму, разящего нас, погляди ты:
Он страшен, как Такша́ка, змей ядовитый!
Бывает, что трудно в сражении Яме,
Трепещет и Индра, играя громами,
А с ним — и Кубе́ра, сокровищ владетель,
Вару́на, владетель раскинутых петель:
Все боги познали в бою униженье, —
Один только Бхишма всесилен в сраженье!
Со мною связал себя Бхишма обетом:
«Попросишь — всегда помогу я советом,
Но в сече, — какая бы ни была, — всюду
Сражаться для блага Дуръйодханы буду».
Так пусть он поведает, — нам во спасенье, —
Как можем его уничтожить в сраженье.
О Кришна, могучий блюститель завета,
Пойдем и попросим у Бхишмы совета.
Услышим благие, полезные речи:
Как скажет мне Бхишма, так сделаю в сече.
Губительный в битве, он помыслом кроток,
Как добрый отец, нас взрастил он, сироток…
О воинский долг, ты проклятья достоин:
Убийцей отца должен сделаться воин!»[102]
Ответствовал Кришна: «О Правды Основа![103]
Люблю я тобой изреченное слово!
Пойдем — и да Бхишма найти нам поможет
То средство, что в битве его уничтожит!»
Приняв на совете такое решенье, и
Оставив доспехи и вооруженье,
Пять братьев-пандавов с блистающим Кришной
Отправились к Бхишме тропою неслышной.
Пред Бхишмой склонились они, почитая
Того, чья всесильна отвага святая,
Опоры ища у него и защиты, —
И так их приветствовал муж знаменитый:
«О Кришна, не знающий лицеприятства!
О Арджуна, Завоеватель Богатства![104]
Сын Долга Юдхиштхира, и Бхимасена,
И два близнеца, чье бесстрашье бесценно!
Для вашего блага что сделать мне надо?
Для вас потрудиться — всегда мне отрада!»
Промолвил Сын Долга, познавший мытарства:
«О, как нам опять обрести свое царство!
О, как победить, — помоги нам советом, —
Но подданных не истребляя при этом!
Скажи нам, лишь правде избравший служенье:
Как можем тебя уничтожить в сраженье?
Средь множества стрел и окутанный дымом,
Всегда остаешься ты неуязвимым.
Нет слабого места в тебе, — так поведай:
Как битву с тобою закончить победой?»
Ответствовал отпрыск Реки и Шантану:
«От вас, о пандавы, скрывать я не стану,
Воистину вам говорю: во вселенной
Никто не сильней меня силой военной.
Ты прав, утверждая, что даже и боги,
Ведомые Индрою и при подмоге
Бесовской, как только нагрянут войною, —
Бессильны окажутся передо мною.
Покуда со мною мой лук, — я спокоен:
В бою ни один не сразит меня воин,
Но если оружья лишусь боевого,
Я быструю смерть обрету от любого.
Кончаю всегда с неприятелем сечу,
Как только я признак дурной запримечу:
Оружье ли выпадет; будут ли сбиты
Доспехи и знамя; пощады, защиты
Попросит ли недруг испуганным взглядом;
Окажется ль слабая женщина рядом,
Иль женское имя носящий мужчина,
Иль муж, одного лишь имеющий сына, —
При этих приметах неблагоприятных
Я битв не желаю и подвигов ратных.
Есть в войске твоем властелин колесницы,
Отважный владетель могучей десницы,
Шикха́ндин[105], что в битве крушит все преграды,
Родившийся девочкой отпрыск Друпады.
Сменил он свой пол, — нам известна причина,
А все же был женщиной этот мужчина.
Пусть Арджуна двинется бранной тропою,
Поставив Шикхандина перед собою.
При этой неблагоприятной примете
Из лука стрелять я не стану, о дети.
Тогда-то пусть Арджуна, мощный и смелый,
Вонзит в мое тело смертельные стрелы.
Лишь двое меня уничтожить способны:
То Кришна и Арджуна богоподобный.
Пусть Арджуна, воин с великой судьбою,
Поставив Шикхандина перед собою,
Повергнет меня: ты совету последуй
И в царство свое возвратишься с победой.
Увидишь ты снова свое возвышенье,
Разбив сыновей Дхритараштры в сраженье».
Почтительно воины с Бхишмой простились,
Воздав ему славу, назад воротились».
«Построилось войско Юдхиштхиры к бою
Поставив Шикхандина перед собою,
Напали пандавы на Бхишму седого,
Разили воителя снова и снова
Секирой, и палицей, и булавою,
И дротиками, и стрелой боевою.
Вот эта стрела — с золотым опереньем,
Вот эта — страшна своим мощным пареньем,
А эти похожи на зубы теленка,
А эти, пылая, несутся вдогонку,
А эти — всех прочих острее, длиннее,
Ты скажешь: то кожу сменившие змеи!
Но, кровью облитый, страдая от боли,
Сын Ганги не бросил военное поле.
Зажглись его стрелы, как молний зарницы,
И громом был грохот его колесницы,
А лук — словно огнь, в бранной сече добытый:
Служил ему топливом каждый убитый,
Как вихрь, раздувающий пламя, — секира,
А сам он — как пламя в день гибели мира![106]
Он гнал колесницы врага, всемогущий,
И вдруг появлялся в их скачущей гуще.
Казалось, как ветер сейчас он взовьется!
Он вражеских войск обошел полководца[107]
И вторгся, стремительный, в их середину,
И громом колес он наполнил равнину,
И воины в страхе на Бхишму глядели,
И волосы дыбом вздымались на теле.[108]
Иль то небожители, гордо нагрянув,
Теснят ошалелую рать великанов?[109]
Шикхандин метнул в него острые стрелы, —
И лук потерял богатырь поседелый,
Упали при новом воинственном кличе
И знамя его, и его колесничий.
Лук, более мощный, схватил он, великий
Сын Ганги, но Арджуна Багряноликий[110]
Метнул три стрелы, запылавших багрово.
Тут Бхишма лишился и лука второго.
Сын Ганги все время менял свои луки,
Но Арджуна, этот Левша Сильнорукий,
Исполненный силы и удали ратной,
Оружье его разбивал многократно.
А Бхишма, сражением тем изнуренный,
Облизывал рта уголки, разъяренный.
Он дротик схватил, что сразил бы и скалы,
Метнул его в Арджуну воин усталый.
Сверкал, словно молния, дротик летучий,
Но Арджуны стрелы нахлынули тучей, —
Сильнейшего из венценосных потомков[111]
Пять стрел полетело, и на́ пять обломков
Был дротик разбит. Иль сквозь тучи пробилась —
И молния на́ пять частей раздробилась?
Держав покоритель, чьи подвиги громки,
Разгневанный Бхишма взглянул на обломки,
Подумал: «В душе моей горечь и мука,
Но я бы сразил из единого лука
Всех братьев-пандавов стрелой своей скорой,
Не сделайся Кришна пандавам опорой!
На них не пойду я отныне войною,
Подвигнут на это причиной двойною:
Отважных пандавов убить невозможно,
К тому же обличье Шикхандина ложно, —
Хотя он считается доблестным мужем,
Мы женскую сущность его обнаружим!
Когда-то Сатьявати, дочь рыболова,
Взял в жены Шантану — и молвил мне слово:
«Ты сам изберешь себе, сын мой, кончину,
Ты сам своей смерти назначишь годину».
Как видно, в сей жизни достиг я предела,
И смерти моей, видно, время приспело».
От стрел не искал уже Бхишма защиты,
Сквозь щит и броню многократно пробитый.
Шикхандин, порывистый в схватках и спорах,
В грудь Бхишмы метнул девять стрел златоперых,
Но Бхишма не дрогнул: спокойна вершина,
Хотя у подножья трясется равнина!
С усмешкою Арджуна, в битвах счастливый,
Из лука метнул двадцать стрел, из Гандивы,
В противнике двадцать пробил он отверстий,
Но Бхишма не дрогнул, исполненный чести,
Не дрогнул, хоть хлынула кровь из отверстий,
И стрел оперенных вошло в него двести!
Обрушило полчище воинов стрелы,
Но Бхишма, израненный и ослабелый,
Стоял, не колеблясь, как мира основа.
И Арджуна, яростью движимый, снова
Шикхандина перед собою поставил,
Стрелу в престарелого Бхишму направил,
Разбил его лук, удивлявший величьем,
Свалил его знамя совместно с возничим.
Почувствовал Бхишма погибели холод,
Лук более мощный схватил, но расколот
И этот был острой стрелой на три части…
Потребно ли Бхишме военное счастье?
Не луков, а жертв он свершал приношенье,
От Арджуны не защищаясь в сраженье!
Надел новый щит, новый меч обнажил он.
«Победу иль смерть обрету!» — порешил он.
Но стрелы взлетели, и щит раскололи,
И выбили меч из десницы: дотоле
Еще не знавал он позора такого!
И вздрогнуло войско пандавов от рева
Юдхиштхиры: «Смело, с бесстрашным стараньем,
На старого Бхишму всем войском нагрянем!»
Низверглись на Бхишму, как ливень великий,
Трезубцы и копья, секиры и пики,
И стрелы взвивались крылато и звонко
И в старца вонзались, как зубы теленка[112].
Оглохла равнина от львиного рыка:
Пандавы рычали, как львы, о владыка,
Рычали твои сыновья-кауравы,
И Бхишме желали победы и славы.
Так двигалась битва на утре десятом.
Был родичу родич тогда супостатом,
Была водоверть, — будто Ганга святая
Ревела, в нутро Океана впадая.
На землю нахлынули крови потоки,
В которых и близкий тонул, и далекий.
Теряя колеса, и оси, и дышла,
Сшибались в бою колесницы; и пришлый
И здешний в предсмертных мученьях терзались.
Слоны в гущу всадников грозно врезались,
Топча лошадей, колесницы и конных,
И стрелы впивались в слонов разъяренных,
И падали грузно слоны друг на друга,
И воплями их оглашалась округа,
И долы тряслись, и вершины дрожали,
И люди стонали, и лошади ржали.
Пандавы на Бхишму, исполнены гнева,
Напали со стрелами справа и слева.
«Хватай! Опрокидывай! Бей в поясницу!» —
Кричали бойцы, окружив колесницу.
И места не стало у Бхишмы на теле,
Где б стрелы, как струи дождя, не блестели,
Торча, словно иглы, средь крови и грязи,
Как на ощетинившемся дикобразе!
Так Бхишма упал на глазах твоей рати,
Упал с колесницы, о царь, на закате,
К востоку упал головой, грозноликий, —
Бессмертных и смертных послышались крики.
Упал он — и наши сердца с ним упали.
Он землю заставил заплакать в печали,
Упал он, как Индры поникшее знамя,
И ливнями небо заплакало с нами.
Упал, придавил богатырь престарелый
Не землю, а в теле застрявшие стрелы».
«Упав на закате на поле кровавом,
Он смелости, твердости придал пандавам,
Но это старейшего в роде паденье
Твоих кауравов повергло в смятенье.
«То ствол, — причитали, — упал с колесницы,
Отметивший племени Куру границы!»[113]
Почувствовав горя безмерного бремя,
Две рати сраженье прервали на время.
Земля застонала, и солнце свой жгучий
Утратило блеск, и упрятали тучи
Всё небо, и вспыхнули молний зарницы:
Сын Ганги, сын Ганги упал с колесницы!
От битвы губительной в горе отпрянув,
Воители двух опечаленных станов,
Без твердых щитов, без воинственной стали,
Вкруг Бхишмы, душою великого, встали.
Друзьями он был окружен и врагами,
Как Брахма, творец мирозданья, богами:
Почтить храбреца, забывая о мести,
Пандавы пришли с кауравами вместе!
Тогда своему и враждебному стану
Сказал добродетельный отпрыск Шантану:
«Привет колесниц обладателям славным,
Владыкам державным, бойцам богоравным!
Свисает моя голова мне на горе:
На стрелах покоясь, нуждаюсь в подпоре».
Подушечек маленьких, мягких, с десяток,
Цари принесли — предводители схваток.
Но молвил с усмешкой старик благородный:
«Для ложа мужчины они не пригодны».
Увидел он Арджуну: этот владетель
Большой колесницы являл добродетель, —
И, воина гаснущим взглядом окинув,
Сказал ему: «Арджуна, царь властелинов!
Подпору найди голове моей ныне,
Но чтобы она пригодилась мужчине».
И Арджуна, с болью добывший победу,
Тоскуя и плача, ответствовал деду:
«Приказывай, лучший из воинов: сразу
Пойду, твоему подчиняясь приказу».
Сын Ганги сказал: «Знаешь сам превосходно,
Какая мужчине подпора пригодна».
И Арджуна, доброму верен порыву,
Каленые стрелы достал и Гандиву,
И выстрелил, доблестный, полон печали,
И стрелы под голову Бхишмы попали,
Уперлись в затылок ему опереньем,
И Бхишма, боровшийся долгим бореньем,
Доволен был этой подушкой походной,
Был счастлив, что Арджуна, муж превосходный,
Постиг его волю, — и молвил он внуку:
«Хвала твоему благородному луку,
Хвала твоему, сильнорукий[114], старанью, —
Не то на тебя бы обрушился с бранью!
Теперь я доволен, теперь я спокоен:
На ложе из стрел умирать должен воин!»
Затем кауравам сказал и пандавам,
Царевичам юным, царям седоглавым:
«С исполненным долгом пришел я ко благу.
На ложе из стрел я и мертвый возлягу.
Лишь солнце сокроет свой блеск за горами,
Сокроюсь и я, провожаем царями.
Когда колесницы владетель багряный, —
Отправится солнце в места Вайшрава́ны,[115]
Покину я жизнь, как любимого друга.
От мощных царей мне потребна услуга:
Пусть выроют ров, и в костре погребальном
Я буду сожжен, и приветом прощальным,
Истерзанный сотнями стрел многократно,
Я солнце почту, уходя безвозвратно.
А вы, кто всего мне дороже на свете,
От битв, от вражды откажитесь, о дети!»
Врачи, несравненные в мудром леченье,
Искусно постигшие стрел извлеченье,
Казались от смерти надежной оградой,
Но Бхишма сказал: «Отпустите с наградой
Своих лекарей: не нужны мне лекарства, —
Навек ухожу из непрочного царства.
Как воин я жил и достиг высшей цели,
Исполнил свой долг в этом бренном пределе.
На ложе из стрел я взошел ради чести, —
Да буду сожжен я со стрелами вместе».
Дуръйодхана, сын твой, о царь над царями,
Врачей отпустил, наградив их дарами.
Пред Бхишмой с восторгом склонились владыки:
Исполнил он долг наивысший, великий![116]
Смотрели цари на него изумленно:
Достиг он величья, хранитель закона!
И вот с кауравами вместе пандавы
Вкруг ложа из стрел, где лежал белоглавый
Воитель, прошли, о бесстрашном печалясь:
Почтительно воины с Бхишмой прощались.
Вкруг славного ложа расставив охрану,
Тая в своем сердце тяжелую рану,
Покрытые кровью, вожатые рати
Неспешно вернулись в шатры на закате,
И стало Юдхиштхире с братьями слышно
То слово, что молвил всезнающий Кришна:
«Сын Долга! Не братом твоим, не тобою
Повергнут блистательный муж, а Судьбою.
Иль думаешь: Бхишма, помедлив с отпором,
Сожжен был твоим всесжигающим взором?»
Ответил Юдхиштхира Кришне: «Ты — наше,
О Кришна, прибежище, наше бесстрашье!
Ты — тот, от кого храбрецов возвышенье,
Чья милость — победа, чей гнев — пораженье.
Не странно, что ты — для воителей благо:
Где ты — там победа, где ты — там отвага.
Мудрец, обособивший вечные веды,
Для воинов правых ты знамя победы!»
Доволен был Кришна, познаньем богатый:
«Сказал ты, как должно, пандавов вожатый!»
«Едва загорелся рассвет златоглавый,
Явились пандавы, пришли кауравы
И встали вкруг ложа из стрел, на котором
Сын Ганги лежал с затуманенным взором.
И люди простые пришли на рассвете —
Мужчины и женщины, старцы и дети,
С цветами, с сандаловой мазью[117] девицы, —
Как будто молились блистанью денницы!
К тому, кто из рода царей всех сильнее,
Пришли музыканты, певцы, лицедеи.
Оружье с доспехами сбросив на травы,
Пандавы пришли и пришли кауравы.
Они, о вражде позабыв и о сече,
Друг с другом ведя только добрые речи,
Годам прожитым сообразно и сану,
Расселись вкруг сына Реки и Шантану,
Расселись герои вкруг Бхишмы на поле:
То солнце сверкало в своем ореоле!
Расселись вкруг деда, полны состраданья,
Как боги — вкруг Брахмы, творца мирозданья.
А Бхишма дышал, как змея, проявляя
Спокойствие, тяжкую боль подавляя.
Сказал: «Я калеными стрелами мучим,
Как будто охвачен я пламенем жгучим.
Воды я хочу, о цари-властелины!»
И воины с влагой холодной кувшины
И яства ему принесли отовсюду,
Но Бхишма сказал им: «Вкушать я не буду
Того, чем питается род человечий:
От мира людского ушел я далече,
На ложе из стрел я лежу, ожидая,
Чтоб солнце взошло и луна молодая».
Всех воинов он опечалил отказом
И Арджуну кликнул, хваля его разум.
Почтительно витязь сложил свои руки,
Спросил: «Как смогу облегчить твои муки?»
Сказал сын Шантану, в боях поседелый:
«Меня истерзали каленые стрелы.
Мой рот пересох, и горит мое тело, —
Воды принеси, чтоб оно охладело.
Ты — лучник великий, и деду в угоду
Добудешь желанную, нужную воду»,
«Пусть будет, как хочешь», — ответствовал деду
Сей Арджуна, завоевавший победу,
И на колесницу взошел, и Гандивы
Натягивать стал тетиву, горделивый,
И вздрогнули твари земные от звука
Гудящего при напряжении лука.
Неспешно свершил он затем круг почета
Вкруг Бхишмы — воинственных ратей оплота,
И вставил стрелу, и заклял ее властно,
Чтоб молнии стала она сопричастна,
И прянула эта стрела к исполину,
И к югу от Бхишмы вонзилась в долину.
Источник забил в этом месте, и благо
Явила прохладная, чистая влага,
Подобная амрите животворящей,
И Бхишма припал к ней всей плотью горящей,
И жажду свою утолил той водою
Старик, наделенный отвагой святою.
Деяние Арджуны всех поразило:
Невиданной, нечеловеческой силой
Исполненный, с грозным, сверкающим ликом,
Он Индрой казался царям и владыкам!
Цари-кауравы, дрожа, как коровы,
Когда на них ветер повеет суровый,
Плащами размахивали в изумленье,
А гром барабанов гремел в отдаленье.
«О Арджуна, — Бхишма сказал пред кончиной, —
Не диво, что мужества стал ты вершиной.
От На́рады знаем, что в новом обличье
Святого жреца ты являешь величье.
Свершишь ты такие деяния вместе
С блистающим Кришной, опорою чести,
Что Индра и Индре подвластные боги
И трепета будут полны и тревоги!
Из лучников лучший, храбрейший из смелых,
Ты всех превзошел в этих бренных пределах.
Гару́да — прекраснее всех быстролетных,
Корова — достойнее прочих животных,
Из тех, кто живет, человек всех мудрее,
Из тех, кто течет, Океан всех сильнее,
Из тех, кто пылает, — всех Солнце светлее,
Из гор — Гималаи всех выше, белее,
Всех более брахман почета достоин,
А ты из могучих — достойнейший воин!
Но горе: Дуръйодхана требует мщенья,
Ему ни к чему от меня поученья,
А также от Ви́дуры, Дроны и Рамы,
Он даже Санджайе не внемлет, упрямый!
Не внемлет разумным речам и наказам
Сей жадный властитель, утративший разум!
Но он, отошедший от веры священной,
Погибнет, могучим сражен Бхимасеной!»
Дуръйодхана, царь кауравов, с тоскою
Взглянул, опечаленный речью такою,
А Бхишма сказал: «Подвиг Арджуны чудный
Увидел ли ты, властелин безрассудный?
Увидел ли ты, как смельчак непоборный
Родиться помог той воде животворной?
Не знаю, кто Арджуне в мире подобен,
Кто в мире такое содеять способен!
Владеет бесстрашный тем самым оружьем,
Чью сущность извечную мы обнаружим:
Как боги — огня и воды властелины,[118]
Бог ветра, бог солнца, бог нашей судьбины,[119]
Как боги — владыки зверей и растений,[120]
Как бог — повелитель всех божьих владений,[121]
Как Брахма-создатель и Вишну-хранитель, —
Оружьем извечным владеет воитель!
Лишь Арджуне с Кришной, чья сила чудесна,
Оружия этого тайна известна.
В сей битве победу одержат пандавы, —
Затем, что пандавы, о милый мой, правы!
Пойми же — никто из людей не сравнится
С тем Арджуной, чья так мощна колесница.
Пока перед миром ты не опорочен,
Да будет союз между вами упрочен.
Пока еще Кришною ты не наказан,
С пандавами ты помириться обязан.
Пока твоя рать не бежит с поля брани
От Арджуны — с ним помирись ты заране.
Пока не легли в этом страшном сраженье
Все родичи — с ним заключи соглашенье.
Пока от Юдхиштхиры, полного гнева,
Ты гибель не принял, пока Сахадева,
И Накула, и Бхимасена в той схватке
Бойцов твоих не разгромили остатки, —
С пандавами ты заключи соглашенье,
И это достойное будет решенье!
Конец мой пришел — да настанет с ним вместе
Конец этой битвы, конец этой мести!
Пусть речь мою примет рассудок твой здравый
На благо тебе и для счастья державы.
Не ведая алчности, гнева, гордыни,
Пандавам ты сделайся другом отныне.
Не страшен ли Завоеватель Богатства?
С кончиною Бхишмы да будет вам братство!
Да будет союз этот прочно основан:
Ему наилучший удел уготован.
Юдхиштхире ты возврати полдержавы,
В столице своей да воссядут пандавы,
Не то тебя будут потомки стыдиться:
«Он, — скажут, — предатель и братоубийца!»
Да будет с кончиной моей — мир народам,
Да род будет в добром согласии с родом,
Брат — с братом, открыто и радостно глядя,
И с сыном — отец, и с племянником — дядя.
А если согласье отвергнешь ты сдуру, —
Погибнет потомство великого Куру,
Все кончится вместе с моею кончиной,
И ты будешь этого горя причиной».
Так Бхишма царя кауравов наставил,
Так благо и братство пред смертью восславил.
Он боль обуздал свою, праведник строгий,
Навеки замолк, поручив себя йоге».[122]
Когда кауравы лишились непобедимого Бхишмы, им стало страшно, и они вспомнили о Карне́, сыне Кунти и Солнца: только Карна, решили они, может спасти их от поражения. Карна предложил, чтобы Дрона, наставник кауравов и пандавов в военном деле, стал предводителем войска. Юдхиштхира отправил на бой против Дроны и его соратников Абхима́нью, юного сына Арджуны. От руки молодого воина погибли на поле боя дети и внуки Дхиратараштры, но и сам Абхиманью был убит. На пятнадцатый день великой битвы пали Друпада, царь панчалов, Вирата, царь матсьев, и другие сторонники пандавов. Никто не мог нанести поражения Дроне. Тогда Кришна посоветовал пандавам обмануть Дрону, сказать ему, что погиб его сын Ашваттха́ман. «Дрона при этом известии выронит лук, перестанет сражаться, и тогда его осилит любой воин», — сказал Кришна.
Пандавы не хотели пойти на обман, но военные неудачи вынудили их последовать совету Кришны. Бхимасена убил слона по имени Ашваттхаман, а Дроне сообщили, что убит его сын. Юдхиштхира, которому Дрона верил безгранично, подтвердил слова обмана. Тогда Дрона в отчаянье выронил свой лук, перестал сражаться. Дхриштадьюмна, сын царя Друпады, обезглавил старца.
Весть о гибели Дроны поразила кауравов. Ряды их дрогнули. В это тяжкое время предводителем их войска был назначен Карна. Младший из кауравов, царевич Духша́сана, вступил в поединок с Бхимасеной.
«Твой сын самый младший, — поведал Санджайя, —
Отважно сражался, врагов поражая.
Стрелу уподобил он режущей бритве
И лук Бхимасены рассек в этой битве,
Пустил и в его колесничего стрелы,
И тот, окровавлен, упал, помертвелый.
В ужасную ярость пришел Бхимасена,
В царевича дротик направил мгновенно.
Увидел твой сын, этот воин могучий,
Что дротик звездою низвергся падучей,
И лук натянул он в четыре обхвата,
И стрелами дротик разбил супостата.
Почтили царевича все кауравы:
Он, подвиг свершив, удостоился славы!
Тотчас же твой сын, вдохновленный хвалою,
Опять поразил Бхимасену стрелою.
Тогда Бхимасена разгневался снова,
Сказал, на царевича глядя сурово:
«Стрелою меня поразил ты со злобой,
Удар моей палицы ныне попробуй!»
И с ненавистью, что полна упоенья,
Схватил он ту палицу для убиенья
И крикнул: «Теперь трепещи ты заране:
Напьюсь твоей крови на поприще брани!»
Но дротик свой, смерти подобный обличьем,
Царевич метнул с победительным кличем.
Бхима́ раскрутил свою палицу яро
И, гибельную, отпустил для удара,
И палица, дротик разбив смертоликий,
Низверглась на голову сына владыки.
Бхима же, как слон в пору течки, ярился,[123]
И пот по вискам его гневно струился.
Отбросил Духша́сану на расстоянье
В одиннадцать луков сей страшный в деянье!
Упал твой царевич, сраженный ударом,
Объятый предсмертною дрожью и жаром.
Возничий и кони мертвы; колесница —
Зарылась во прах, чтобы с прахом сравниться;
Свалились доспехи, гирлянды, одежды;
Смежил он, страданьем терзаемый, вежды.
Средь воинов знатных и бранного шума
Бхима на царевича глянул угрюмо, —
И многое-многое было в том взгляде!
Он вспомнил, — кто платье срывал с Драупади,
Во дни ее месячного очищенья,[124]
А братья-мужья от того поношенья
Глаза отвернули, — о, где их гордыня!
Со смехом Духша́сана крикнул: «Рабыня!».
За волосы низкий схватил Драупади…
Так нужно ль Бхиме размышлять о пощаде?
Он жертвенным вспыхнул огнем, напоенным
Для гневного действия маслом топленым.
«Дуръйодхана, — крикнул Бхима разъяренный, —
О Крипа, Карна́, Критава́рман, сын Дроны!
О, как ни старайтесь, оружьем владея, —
Духшасану я уничтожу, злодея!»
С тем словом возмездия, страшным для слуха,
Он ринулся в битву, — Бхима, Волчье Брюхо[125], —
Как лев на слона. Велика его злоба!
Карна и Дуръйодхана видели оба:
Напал на Духшасану, мощью обильный,
Потом с колесницы он спрыгнул, и пыльной
Тропою пошел, и уставил он дикий
Свой взгляд на поверженном сыне владыки,
И, меч обнажив, наступил он на горло
Духшасаны: тень свою гибель простерла!
Он грудь разорвал его, местью объятый,
И крови испил он его тепловатой.
Он сына, о царь, твоего обезглавил,
И голову ту покатиться заставил. —
Исполнил он клятву, — явился с расплатой,
И крови испил он его тепловатой.
И пил, и смотрел он, и пил ее снова.
С волненьем воинственным выкрикнул слово:
«Теперь я напиток узнал настоящий!
О, ты молока материнского слаще,
Ты меда хмельнее, ты масла жирнее,
О кровь супостата, — всего ты вкуснее!
Я знаю, — ты лучше божественной влаги,
О кровь, что добыта на поле отваги!»
И, вновь твоего озирая потомка,
Чья жизнь отошла, — рассмеялся он громко:
«Что мог, то и сделал я в этом сраженье.
Лежи, ибо в смерти обрел ты спасенье!»
Казалось, той крови вкусил он с избытком.
На мужа, довольного страшным напитком,
Смотрел неприятеля стан оробелый.
Иные решились метнуть свои стрелы,
Другие, в смятении выронив луки,
Застыли, к земле опустив свои руки,
А третьи, с закрытыми стоя глазами,
Кричали испуганными голосами!
Бхима, напоенный напитком кровавым,
Погибельный ужас внушал кауравам:
«О нет, не дитя человечье, а дикий
Он зверь!» — отовсюду их слышались крики.
Бхима, пьющий кровь, убежать их заставил.
Читра́сена, сын твой, бегущих возглавил.
Кричали: «Чудовище сей Бхимасена,
Он — ра́кшас, и он — трупоед, несомненно!»
Юдха́манью, витязь, привыкший к победам,
Пандавов умчал за Читрасеной следом.
Летел он, как вихрь, за его колесницей,
Пронзил его стрелами — острой седмицей.
Читрасена, словно змея извиваясь,
Как яд, заключенный в змее, извергаясь,
Метнул три стрелы, — и летящая сила
Юдха́манью вместе с возничим пронзила.
Тогда-то, исполнен отважного духа,
Из лука, натянутого вплоть до уха,
Юдхаманью, ожесточенный бореньем,
Стрелу, удивлявшую всех опереньем,
О раджа, в Читрасену метко направил,
Царевича острой стрелой обезглавил.
Карна, потрясен этой смертью нежданной,
С воинственным гневом, с отвагою бранной,
Пандавов погнал, проявляя упорство,
И с Накулой начал он единоборство.
А тот, кому были победы не внове,
Кто снова пригоршню попробовал крови,
Духшасану смерти предав, — Бхимасена
Сказал: «Посмотри, из презренных презренный, —
Я пью твою кровь! Не забыл я и крика:
«Эй, буйвол!» — кричал ты мне. Ну, повтори-ка!
«Эй, буйвол!» — крича, вы плясали на нашем
Позорище… Ныне мы сами попляшем!
Мы ложе забудем ли в Праманако́ти,
И яд, что вкушали от вас, плоть от плоти,
И в кости игру, страшный проигрыш царства,
И тяготы наши в лесу, и мытарства,
И змей нападенье, и дым пепелища —
Коварный поджог смоляного жилища,
И то, как Духшасана, подлости ради,
За волосы нашу хватал Драупади,
И стрелы, из луков летящие сдуру,
И горе пандавов, и смерть в доме Куру…
Мы счастья не знали! Мы счастья не знали!
А наши страданья, а наши печали —
От зла Дхритараштры, с которым едина
И злоба его скудоумного сына!»
Над трупом врага усмехаясь надменно,
Так Арджуне, Кришне сказал Бхимасена:
«Исполнил я клятву на этой равнине.
Духшасаны кровь я отведал отныне.
Но так же я выполню клятву другую,
Потом успокоюсь, потом возликую:
Дуръйодхану жертвенным сделав животным,
Прирежу, — и стану тогда беззаботным!» ё
Санджайя сказал: «Государь именитый, —
Так были твои кауравы разбиты.
Как молния мести, — достигнув накала, —
Оружие Арджуны грозно сверкало,
Но Арджуны лук, что был страшен и дивен,
Карна уничтожил: он выпустил ливень
Стремительных стрел, — оперило их злато, —
И, мощный, он лук расщепил супостата.
Оружье, что гибельным блеском сверкало,
Что рать кауравов на смерть обрекало,
Оружье, врученное Арджуне Рамой:
Карна от него да погибнет упрямый, —
Оружье, что мощью блистало военной,
Как бога Атха́рвана лук несравненный,
Оружье героя, подобное чуду, —
Карна уничтожил! И вот отовсюду
Твоих кауравов послышались клики:
«Сей лук уничтожил Карна солнцеликий,
И в Арджуну, гневным пылая гореньем,
Он стрелы метнул с золотым опереньем!»
Так Арджуна ринулся в битву с Карною:
То было воистину страшной войною!
Один — слоновидный, другой — слонотелый,
Сверкали, казалось, клыки, а не стрелы!
Казалось, что поле — от падавших с гневом
Бесчисленных стрел — зашумело посевом.
Казалось, что поле войны непрерывным
Струящихся стрел заливается ливнем.
Казалось, что стрелы и день побороли,
Всеобщую ночь воздвигая на поле.
Те двое, что всё украшали живое,
Из рода людского те лучшие двое, —
Почувствовали ратоборцы усталость,
Но с мужеством сердце у них не рассталось!
Следили за ними в небесном чертоге
Святые мужи, полубоги и боги,
Смотрели и праотцы, радуясь громко,
Как славно сражаются два их потомка.
А те, пламенея, сходились в сраженье,
Постигнув могучее вооруженье,
Искусно свои применяя приемы:
Все тонкости битвы им были знакомы!
То мнилось: Карна, сын возничего гневный,
Одержит победу в борьбе многодневной,
То Арджуна, мнилось, короной венчанный,
Врага одолеет отвагою бранной.
Той битвы жестокостям невероятным
Дивились мужи в одеянии ратном.
Распался весь мир в эти дни на две части:
Все звезды на небе желали, чтоб счастье
Досталось Карне, а земные просторы, —
Леса, и поля, и долины, и горы, —
Для Арджуны быстрой победы хотели.
Повсюду в земном и небесном пределе
И боги и люди кричали пристрастно:
«Карна, превосходно!», «Сын Кунти, прекрасно!».
Земля сотряслась: на истоптанном лоне
Шумели слоны, колесницы и кони.
Из глуби земли выползал постепенно
Опасный для Арджуны змей Ашвасена.
Его существо было гневом объято:
Сжег Арджуна мать Ашвасены когда-то.
И змей, увидав ратоборцев деянья,
Подумав, что время пришло воздаянья,
В стрелу превратился на поприще брани
И вот у Карны оказался в колчане.
Тогда потемнело вблизи, в отдаленье:
Вселенную стрел закрывало скопленье.
Земля из-за их густоты совокупной
Для воинов сделалась труднодоступной.
И со́маки, и кауравы от страха
Тряслись при смешении ночи и праха,
Во тьме, что возникла от стрел быстролетных,
Дрожали воители ратей бессчетных.
Сходясь, расходились противники снова:
Устали два тигра из рода людского!
Двух лучников лучших, блиставших отвагой,
Обрызгали боги сандаловой влагой,
Небесные девы прелестной гурьбою
По тропам надмирным приблизились к бою,
Повеяли пальмовыми веерами,
А Индра и Сурья, восстав над горами,
Простерли к воителям лотосы пальцев
И вытерли потные лица страдальцев.
Карна, оперенными стрелами мучим,
Поняв, что не справится с мужем могучим,
Решил: он метнет среди гула и воя
Стрелу, что берег для последнего боя.
Он вынул стрелу, что врагов устрашала
И чье острие — как змеиное жало.
Она обладала губительным ядом;
Лежал порошок из сандала с ней рядом;
Ее почитали, как страшного духа…
Карна тетиву натянул вплоть до уха,[126]
Прицелился в Арджуну грозной стрелою,
Недавно змеей извивавшейся злою,
Стрелою, чьим предком был змей Айравата.
Теперь обезглавит она супостата!
Весь мир засветился, всем людям открытый,
И с неба посыпались метеориты.[127]
Увидев змею, засверкавшую в луке,
Миры вместе с Индрой заплакали в муке:
Не ведал Карна то, что видели боги:
Змея превратилась в стрелу силой йоги!
Царь мадров[128], возничий Карны, — молвил Шалья:
«Твою, мощнорукий, предвижу печаль я,
Метни в сына Кунти стрелу поострее,
А этой достичь не дано его шеи».
Карна возразил ему, ярость являя,
С огромною силой стрелу направляя:
«Бесчестье — стрелу устанавливать дважды.
Мне это не нужно, — да ведает каждый!»
И в голову Арджуны, яростью вея,
Метнул он стрелу — сокровенного змея.
Сказал: «Ты погиб, о Пхальгу́на, Багряный!»
Стрела, точно пламень прожорливый, рьяный,
Взвилась, понеслась по небесным просторам,
Как волосы, их разделила пробором,
И стало везде громыхание слышно.
Увидел ее, огневидную, Кришна,
Ужасную, — смерти предвестье, — зарницу,
И быстро ударом ноги колесницу
Он в землю на локоть вдавил, и пригнулись
К земле скакуны, — и на ней растянулись!
Все боги, на небе следя за стрелою,
Могучего Кришну почтили хвалою,
Речами они огласили пространство,
Цветы ниспослали[129] — героя убранство.
Послышались также и львиные рыки:
Он, демонских сил сокрушитель великий,
Свою колесницу, — сей славный возница, —
Заставил на локоть во прах погрузиться,
И цели стрела не достигла желанной,
Но с Арджуны сбила венец несказанный.
Прославленный всюду людьми и богами,
Украшенный золотом и жемчугами,
Сияющий пламенем чистым и грозным,
И солнечным светом, и лунным, и звездным, —
Был Брахмой, создателем нашей вселенной,
Для Индры венец сотворен драгоценный,
А Индра, суровый глава над богами,
Вручил его Арджуне, ибо с врагами
Богов, — бился с бесами Арджуна юный.
Ни Шивой, ни влаги владыкой Варуной,
Ни богом Куберой, Богатства Таящим,
Ни палицей и не трезубцем разящим,
Ни воинской мощью, ни славой небесной
Венец еще не был низринут чудесный,
А ныне Карна его сбил при посредстве
Коварного змея, желавшего бедствий.
Красивый, блестящий, пылающий, сбитый
Не острой стрелой, а змеей ядовитой,
Свалился венец: за высокой горою
Так падает солнце вечерней порою.[130]
Змеи ядовитая, злобная сила
Венец с головы сына Кунти свалила, —
Как будто бы Индра, громами играя,
С горы, многоплодной от края до края,
Сбил быстрой стрелой громовою[131] вершину!
И небо, и землю, и моря пучину
Стрела содрогнуться заставила в муке,
Казалось, что были расколоты звуки,
Над миром такие гремели раскаты,
Что трепетом были все люди объяты,
Но Арджуна, снова готовый к деянью,
Прикрыв свои волосы белою тканью,
Казался горой, над которой с востока
Рассвет разгорается утром широко, —
И радостно мир озаряется сонный…
Да, был он горой, но с вершиной снесенной!
А змей Ашвасена, явивший подобье
Стрелы в этом гибельном междоусобье
И к Арджуне давней враждою палимый,
Вернулся, венец сокрушив столь хвалимый.
Он сжег, он разбил сей венец, чьи каменья
И злато сверкали сверканьем уменья,
И молча опять оказался в колчане,
Но, спрошен Карною, нарушил молчанье:
«Неузнанный, был я тобою направлен, —
Поэтому не был наш враг обезглавлен.
Вглядевшись в меня, ты пусти меня снова
С твоей тетивы, и даю тебе слово,
Что Арджуну без головы мы увидим:
Недаром мы оба его ненавидим».
Карна, чей отец величался возничим,
Спросил: «Кто ты есть, со свирепым обличьем?»
«Я змей, — молвил змей, — я возмездья желаю,
Я к Арджуне давней враждою пылаю:
Он сжег мою мать. Но погибнет Багряный,
Хотя бы сам Индра ему был охраной.
Внемли мне, Карна, и взлечу я крылато,
Взлечу и убью твоего супостата!»
Карна: «Не надеюсь на силу другого.
В бою моя доблесть — победы основа.
Пусть Арджун убить мне придется десятки, —
Вторично стрелу не пущу в этой схватке.
Усилья умножу и ярость утрою,
Врага уничтожу другою стрелою,
Другой, змеевидной, врага поражу я, —
Ступай же, подмоги твоей не прошу я».
Но змей-государь недоволен был речью
Карны — и последовал битве навстречу.
Он принял свой истинный облик змеиный, —
Да гибели Арджуны станет причиной!
Открылся предательский замысел Кришне.
«Сын Кунти, — сказал он, — твой недруг давнишний
К тебе устремился, возмездье лелея.
Убей же, о мощный, огромного змея».
Так Арджуне Кришна сказал справедливый.
Спросил его лучник, владевший Гандивой:
«О, кто этот змей, что ко мне, крепкогрудый,
Спешит ныне сам, словно в когти Гаруды?»
А Кришна: «Когда, богу Агни служенье
Свершая, ты леса устроил сожженье,
Стрелою змею поразил ты во гневе,
Но сын, у нее пребывавший во чреве,
Ушел из горящего леса Кхандавы.
Теперь, — многоликий, жестокий, лукавый, —
Летит он, пугая сжигающим взором, —
Иль огненным с неба упал метеором?
Смотри же, о воин, цветами увитый:
Тебя уничтожить решил ядовитый».
Снял воин гирлянду, сверкавшую пестро,
Шесть стрел он уставил, отточенных остро,
Метнул их, — и змей, ему зла не содеяв,
Распался на шесть уничтоженных змеев.
Так страшного змея убил Венценосный!
Склонясь к колеснице своей двухколесной,
Из праха извлек ее Кришна могучий,
И наидостойнейший и наилучший.
Тогда десять стрел, хорошо заостренных,
На камне отточенных и оперенных
Павлиньими перьями, в Арджуну целясь,
Направил Карна, — но они разлетелись
И Кришну поранили, падая глухо.
Но Арджуна лук натянул вплоть до уха,
Уставил стрелу, что врагу угрожала,
Как сильной змеи ядовитое жало.
Стрела, видно, смерти Карны не хотела:
Она сквозь доспехи вошла в его тело,
И, выйдя, бессильно поникла в унынье,
И были в крови ее перья павлиньи.
Как змей, потревоженный палкой бродячей,
Карна раздосадован был неудачей.
Как змей, выпускающий капельки яда,
Он выпустил стрелы, — чужда им пощада!
Двенадцатью Кришну пронзил он сначала,
И в Арджуну сто без единой попало,
Потом поразил он пандава и сотой, —
И начал смеяться, довольный работой.
Сын Кунти от смеха врага стал жесточе
И, зная, где жизни его средоточье,
Как Индра, сражавшийся с демоном Балой,
Пустил в него стрелы с их мощью двужалой.
Они, — девяносто и девять, — той цели
Достигнув, как скипетры смерти, блестели.
Когда они тело Карны поразили,
Карна задрожал в разъяренном бессилье.
Не так ли дрожит и гора от удара
Стрелы громовой, что грозна, словно кара?
Упали доспехи, что гордо блестели, —
Усердных, искусных умельцев изделье, —
Упали и вдруг потускнели от пыли:
Их Арджуны острые стрелы пробили.
Когда, среди гула, возникшего в мире,
Остался Карна без доспехов, — четыре
Стрелы в него Арджуна быстро направил,
И Солнцем рожденного он окровавил,
И тот ослабел, будто чуждый здоровью
Несчастный, что харкает желчью и кровью.
Сын Кунти, бесстрашный на поле сраженья,
Из лука, округлого от напряженья,
Прицелился в жизни его средоточье, —
Да станет от стрел она сразу короче.
От стрел, развивавших ужасную скорость,
Карну одолела тяжелая хворость,
Горой он казался, где залежи охры
Дождями размыты, — и высился, мокрый
От красных потоков, бегущих с вершины!
Вновь Арджуна, в этих боях неповинный,
Метнул в него стрелы: прожгли бы и камень
Те скипетры смерти, одетые в пламень!
Пронзил он Карну, кауравов опору,
Как бог семипламенный — древнюю гору.[132]
Карна без колчана и лука остался,
Он, мучимый болью, дрожал и шатался,
И вдруг застывал, неподвижный, и снова,
Изранен, удара он ждал рокового.
Но Арджуны ярость погасла былая.
Он медлил, врага убивать не желая.
Тогда ему Кришна сказал возбужденный:
«Чего же ты медлишь, для битвы рожденный?
Боец о пощаде к врагам забывает,
Он даже и тех, кто ослаб, — убивает,
А если убьет неразумных, — по праву,
Разумный, и честь обретет он, и славу.
Великий воитель, твой недруг давнишний,
Да будет убит, а сомненья излишни,
Не то к нему силы вернутся, быть может,
И витязь, окрепнув, тебя уничтожит.
Как Индра, небес повелитель, — Шамбару,
Его ты пронзи — и сверши свою кару».
«Да будет, как ты говоришь, повелитель!» —
Так Арджуна Кришну почтил, и воитель
Карну поразил бесподобной стрелою,
Как демона — Индра, окутанный мглою,
Осыпал он стрелами кары и мести
Карну с лошадьми и возницею вместе.
И стрелы, как облако черного цвета,
Внезапно закрыли все стороны света.[133]
Карна, крепкогрудый и широкоплечий,
Облитый калеными стрелами в сече,
Казался горой, где листва трепетала,
Где тихо дрожали побеги сандала,
Где шумно цвели на вершинах и скалах
Деревья со множеством листиков алых,
Где ветви вздымала свои карникара[134]
С цветами, что были краснее пожара.
Карна, сонмом стрел обладавший когда-то,
Сверкал, словно солнце во время заката,
Лучи его — острые стрелы, и близко
Сверканье его красноватого диска.
Но стрелы Карны, что, казалось, как змеи
Огромные, жалили злее и злее, —
Погибли от стрел сына Кунти, как тучей
Закрывших весь мир своей тьмою летучей.
Карна, свою боль, на мгновенье развеяв,
Метнул двадцать стрел — двадцать яростных змеев:
Двенадцать вонзил в сына Кунти, а восемь —
В премудрого Кришну, чей ум превозносим.
Из лука, что грозно гремел, потрясая
Окрестность, как Индры стрела громовая,
Задумал направить сын Кунти правдивый
Стрелу, что сравнима с оружием Шивы.
Но Кала, невидимый, сильноголосый,
Воскликнул: «Твоей колесницы колеса
Поглотит земля, о Карна, ибо скоро
Придет твоя смерть, кауравов опора!»
(Теленок жреца был Карною случайно
Когда-то убит; рассердясь чрезвычайно,
Карну проклял брахман: «Твоя колесница
Да в землю во время войны погрузится!»)
И то колесо колесницы, что слева,
Земля начала поглощать, ибо гнева
Святого должно было слово свершиться,
И стала раскачиваться колесница!
Не так ли священное дерево в храме[135]
Дрожит на дворе всей листвой и цветами?
Карна всем своим существом удрученным
Забыл об оружии, Рамой врученном.[136]
Его одолела в сраженье усталость, —
Меж тем колесница землей поглощалась.
Оружье, врученное Рамой, забыто,
Стрела со змеиною пастью разбита,
Дрожит колесница, подвластна проклятью, —
И вот, окруженный поникшею ратью,
Карна пред соратниками и врагами
Стал жаловаться, потрясая руками:
«Гласят мудрецы: «Будет дхармой поддержан,
Кто дхарме — Закону и Долгу — привержен».
Ничто меня, верного ей, не порочит,
Но дхарма в несчастье помочь мне не хочет!»
Ослаблен, он так говорил о Законе.
Шатались его колесничий и кони.
Он стал неуверенным в каждом движенье,
И дхарму — свой Долг — порицал он в сраженье!
Метнул три стрелы в сына Кунти, а следом —
Семь новых направил, подверженных бедам,
И стал он смеяться, узрев свою меткость.
Но Арджуна выбрал семнадцать на редкость
Ужасных, пылающих, змееподобных,
И выпустил их, уничтожить способных.
Карну поразив, наземь рухнули стрелы.
Карна содрогнулся, но, стойкий и смелый,
Стал снова уверенным в действиях мужем, —
Стал действовать Рамой врученным оружьем.
Но Арджуна тоже родился для битвы!
Заклял он стихами священной молитвы
Свой лук, что в сраженье разил супостата, —
Оружье, врученное Индрой когда-то, —
И стрел своих ливень обрушил жестокий:
Так Индра дождей низвергает потоки, —
И пред колесницей Карны засверкали
Те стрелы, соперничавшие в накале.
Карна не смутился пред мощью железной, —
Разбил их и сделал их мощь бесполезной.
Сын Кунти услышал от Кришны-провидца:
«Сын Радхи[137], — смотри, — твоих стрел не страшится.
Оружие Брахмы теперь примени ты!»
Священными мантрами[138] лук знаменитый
Сын Кунти заклял, — и стрела за стрелою
Облили Карну дождевою струею.
Но скорость и стрелы Карны развивали, —
И сына Панду тетиву разорвали.
Потом тетиву, ударяя, как плетью,
Они разорвали вторую и третью,
Четвертую с пятой, шестую, седьмую,
Восьмую, — летели они не вслепую,
Девятую тоже с десятою вместе!
Запасом в сто стрел обладая для мести,
Не думал сын Радхи, презревший обманы,
Что сотней тетив обладает Багряный.
А тот, будто смертному радуясь бою,
Одну тетиву натянув за другою,
Карну обливал сонмом стрел с остриями,
Одетыми в злато и мечущих пламя,
Карна разбивал тетиву, но тугую
Натягивал Арджуна быстро другую.
Дивился Карна быстроте этой смены:
Так витязь не действует обыкновенный!
Но все же, воитель с отважной душою,
Карна превосходства достиг над Левшою[139].
Тогда крикнул Арджуне Кришна-возничий:
«Ты видишь ли, Завоеватель Добычи,
Что враг превзошел тебя яростью злою?
Срази же его наилучшей стрелою!»
Сын Кунти решил, что врага беспощадно
Сразит он стрелой, изготовленной ладно
Из горной скалы, — чтобы в сердце вонзилась!
Но тут, наконец, колесом погрузилась
В суровую землю Карны колесница, —
А смерть над Карною спешит разразиться!
Тогда, со своей соскочив колесницы,
Ее приподнять порешил сын возницы.
Двумя колесо обхватил он руками,
И землю обширную, с материками
Семью[140], с родниками, с травою густою,
Приподнял на уровень он, высотою
В четыре перста. И, от ярости плача,
Он крикнул: «Постигла меня неудача,
Помедли, о Арджуна Багрянолицый,
Дай вытащить мне колесо колесницы!
По воле богов оно в прахе увязло, —
Коварств и предательств не делай мне на́ зло!
Отшельник, и брахман — блюститель науки,
И воин, сложивший почтительно руки,
Чьи выпали стрелы, кольчуга разбилась,
Готовый противнику сдаться на милость, —
Пощады, пощады достойны те трое,
О Арджуна, в них не стреляют герои!
Не ищет герой для убийства предлога,
А ты же герой, — так помедли немного!
Ослаблен, подбитой подобен я птице,
А ты возвышаешься на колеснице.
Меня пощади ты, покуда из праха
Не вытащу я колесницу без страха.
Я знаю, — ты рода великого витязь.
И Кришна и ты — оба к благу стремитесь.
Закона и Долга припомни веленье, —
Помедли мгновенье, помедли мгновенье!»
Санджайя сказал: «Кришна, мудрый вожатый,
Воскликнул: «Сын Радхи, смятеньем объятый!
Наказан судьбою на этой равнине,
И Долг и Закон вспоминаешь ты ныне.
Известно, что низкий, в злодействе повинный,
Винит не себя, а напасти судьбины.
Когда Драупади в одном покрывале
Тащили вы, платье с безгрешной срывали
С Духшасаной, с глупым Дуръйодханой вместе, —
Ты думал о Долге, Законе и Чести?
Когда ты советовал, чтоб кауравы
Едой, что полна была страшной отравы,
Кормили Бхиму, — на погибель бедняге, —
Ты думал о Долге, Законе и Благе?
Когда для пандавов блужданья лесного
Окончился срок и ты не дал им снова
Воссесть на отцовском наследственном троне, —
Ты думал о Долге, Любви и Законе?
Когда пятерых попытался ты братьев
В жилище поджечь смоляном, честь утратив, —
Их сон да вовеки не кончится долгий, —
Ты думал о Правде, Законе и Долге?
Когда царь Шаку́ни, столь дерзкий от злости,
Игравший с огромным умением в кости,
Юдхиштхиру, даже не знавшего правил,
С собою играть в царском доме заставил,
Когда обыграл его в грязной забаве, —
Ты думал о Долге, Законе и Праве?
Когда, в пору месячного очищенья,
Пришла Драупади, дрожа от смущенья,
А ты издевался над нею без меры, —
Ты думал о святости Долга и Веры?
Когда ты сказал ей, страдающей тяжко:
«Другого супруга найди, о бедняжка, —
В чистилище скрылись пандавы без вести», —
Ты думал о Долге, Законе и Чести?
Когда, благородному предан деянью,
Сын Арджуны, юный герой Абхиманью,
Был вами убит на истоптанном лоне, —
Ты думал о Долге, Любви и Законе?
А если не знаешь Закона и Долга,
Зачем языком ты болтаешь без толка?
Теперь-то Закону ты вспомнил служенье,
Но поздно: погибнешь ты в этом сраженье!
Как Нала, обыгранный в кости Пушкарой,[141]
Вновь царство добыл себе доблестью ярой,
Так, доблестью все уничтожив коварства,
Пандавы опять обретут свое царство.
Им сомаки в битве помогут всеправой,
И отчей они овладеют державой,
Сынов Дхритараштры они уничтожат:
Их Долг поведет и Закон им поможет.
Ты царство забрал, — по какому же праву
Взываешь теперь о пощаде к пандаву?
Когда твоя служба Дуръйодхане длилась, —
Где был твой Закон? Где была Справедливость?»
Так спрашивал Кришна, блюститель завета.
Сын Радхи, пристыженный, не дал ответа,
Но губы героя от гнева дрожали.
Таким же он яростным стал, как вначале,
И с Арджуной снова повел он сраженье.
Сын Кунти от Кришны услышал реченье:
«О мощью обильный, Закону мы служим,
Срази же врага богоданным оружьем!»
И Арджуна вспомнил, пылая от гнева,
Все то, что Карне говорил Васудева,
И огненный блеск, — небывалое дело! —
Тогда излучило воителя тело.
Из лука, что был им от Брахмы получен,
Сын Радхи метнул в него стрелы, измучен,
Поднять колесницу подбитую силясь, —
Но Арджуны стрелы в героя вонзились.
Из лука, что дал ему семиязыкий
Огня повелитель, — сын Кунти великий
Метнул в него стрелы, — и огненно-ало
Оружие Агни тогда запылало,
Но стрелы направил Карна солнцеликий
Из лука Варуны, всей влаги владыки,
И Агни оружье они усмирили, —
Вселенную черные тучи закрыли!
Но стрелами Вайю сын Кунти могучий
Развеял, как ветром, огромные тучи,
Тогда-то сын Радхи решил: непомерной,
Грозящею недругам гибелью верной,
Сразит сына Кунти стрелой огневою!
И только он сблизил стрелу с тетивою,
Как сдвинулась, ход мирозданья наруша,
Земля — и кипучая влага, и суша.
Нагрянула буря, песок поднимая,
Вселенную тьма поглотила густая.
«О, горе нам, горе!» — в небесном чертоге
Кричали, о царь, потрясенные боги.
Одни лишь пандавы теперь не кричали:
Замолкли в смятенье, замолкли в печали.
Сверкнула стрела, о возмездье взывая,
Как мощного Индры стрела громовая,
И в грудь сына Кунти вошла, свирепея,
Как в глубь муравейника — детище змея.[142]
И Арджуна вздрогнул, стрелою пробитый,
Гандиву он выронил — лук знаменитый, —
Иль это земля затряслась беспричинно,
А с ней — и горы высочайшей вершина?
Сын Радхи вселил в неприятеля ужас,
И на землю спрыгнул он, и, поднатужась,
Решил, напрягая усилия снова,
Извлечь колесницу из праха земного,
Но вновь неудачею кончилось дело, —
Судьба ему, видно, помочь не хотела!
Сын Кунти пришел в это время в сознанье.
Он вынул стрелу, чье ужасно блистанье.
Казалось ее острие заостренней
Двух крепких, двух сложенных вместе ладоней, —
Иль Яма всеправый свой скипетр уставил?
И сына Панду Васудева наставил:
«Карну обезглавь: да погибель обрящет,
Пока из земли колесо свое тащит!»
Внял Арджуна слову его, как приказу.
Своею стрелой всегубительной сразу
Он стяг сына Радхи низверг с колесницы, —
Алмазом украшенный, цвета денницы,
Усыпанный золотом и жемчугами,
Встречаемый с ужасом всеми врагами,
Войскам придававший отваги в боренье,
Умельцев, художников лучших творенье,
Сверкающий блеском сиянья живого,
Пугающий обликом льва боевого,
Стрелой сына Кунти повергнутый ныне, —
Во прахе лежал этот стяг на равнине:
Мечты о победе, о славе и чести
Повергнуты были со знаменем вместе!
Увидев повергнутый стяг величавый,
«О, горе!» — вскричали твои кауравы,
Уже не надеясь, что в схватке великой
Одержит победу Карна солнцеликий.
Сын Кунти извлек между тем из колчана
Стрелу, что разила врага невозбранно,
Как жезл многогневного Индры, сверкала,
Как луч многодневного Солнца, сжигала,
Людей, лошадей и слонов низвергала,
Любое дыханье на смерть обрекала!
Она, шестиперая, прямо летела,
Как Индры стрела громовая, блестела,
Взвивалась, насыщена кровью и мясом,
Страшней становясь с каждым мигом и часом, —
Не диск ли Нараяны смертоточивый?
Иль это — ужасная палица Шивы?
Иль это есть демон — кровавый Кравьяда,
Для коего мясо сырое — отрада?
Стрелу, наполнявшую страхом и дрожью
Не только бесовскую рать, но и божью,
Сын Кунти извлек, быстроту ее зная, —
И сдвинулась разом поверхность земная
Со всем, что в покое на ней находилось
Иль было в движенье, росло и плодилось.
Сказали святые на небе высоком:
«Да мир не погубит она ненароком!»
Извлек ее Арджуна славолюбивый
И сблизил стрелу с тетивою Гандивы,
И лук натянул, и уверенно, властно
Он, сведущий в мантрах, сказал громогласно:
«Да будет стрела, что сработана прочно,
Дыханье врага унести правомочна!
Наставникам преданный, в чащу густую
Ушел я, отшельника долю святую
Познал и услышал друзей наставленья.
Во имя такого ко благу стремленья,
Пусть эта стрела супостата низложит,
Карну, всепобедная, пусть уничтожит!»
Стрелу, что похожа была на творенье
Того, от кого происходит горенье,
Стрелу, что своею сверкающей сутью
И смерть наполняла смятеньем и жутью, —
Сын Кунти метнул и воскликнул, ликуя:
«Да радость победы стрелой извлеку я!
Как месяц — пылая, как солнце — сверкая,
Карну да повергнет стрела боевая,
Пусть мне над Карною победу доставит,
Карну в обиталище Ямы отправит!»
Владелец гирлянды и яркой короны,
Огнем торжества изнутри озаренный,
Метнул он, победы ища над Карною,
Стрелу, что и солнцем зажглась и луною.
Стрела полетела — и грозное пламя
Объяло всю землю — с лесами, полями,
И Арджуна, яростью гневной богатый,
Карну обезглавил стрелою заклятой:
Так Индра от зла все живое избавил,
Он Ври́тру стрелой громовой обезглавил.
Так был обезглавлен на поприще бранном
Сын Солнца, Карна, — сыном Индры, Багряным!
С тех плеч голова на равнину слетела,
Упало затем и могучее тело.
Как солнце в зените на небе осеннем,
Наполнив сердца храбрецов потрясеньем, —
Свалилась во прах голова: наступила
Пора, чтоб за гору скатилось светило,
И вот его диск, цветом крови окрашен,
Горит за горой среди пастбищ и пашен…
Познавшая благо, душа не хотела
Покинуть красивое, мощное тело, —
Вот так покидает свой дом неохотно
Владелец дворца, где богатство — бессчетно.
А тело лежало, безгласно, безглаво,
Потоки из ран извергались кроваво, —
Не горный ли кряж ниспровергнут высокий
И, охрой окрашены, льются потоки?
Сиянье из тела Карны излучалось,
Рожденное Солнцем, к нему возвращалось,
Сливалось с закатным свечением алым…
Застыли пред зрелищем столь небывалым
В молчании две потрясенные рати:
О, так еще день не пылал на закате!
Но сомаки, быстро и шумно воспрянув,
Содеяли весело бой барабанов,
В литавры ударили перед войсками,
Плащами размахивали и руками,
И в раковины затрубили пандавы:
Их недруг лежал бездыханный, безглавый.
Довольны и Кришна и Арджуна были
И радостно в раковины затрубили.
Так Солнца достигло сияние тела,
А тело — в пыли — словно Солнце горело!
В нем стрелы торчали, и ток непрестанный
Струился из каждой зияющей раны.
Восславили Арджуну воины рати,
Гремели восторг и веселье объятий,
Теперь для пандавов не стало печали,
Плясали одни, а другие кричали:
Сын Радхи, внушавший им ужас дотоле,
Лежал распростертый на воинском поле!
Его голова — предвечерней порою —
Горела, как солнечный шар за горою.
Она, словно жертву принявшее пламя,[143]
Теперь отдыхала, насытясь дарами.
А тело со множеством стрел красовалось, —
Иль Солнцем сиянье лучей создавалось?
Те стрелы-лучи, среди праха и пыли,
Пандавов слегка лишь огнем опалили.
Был Временем срезан Карна, и светило
За кряжем закатным свой свет закатило.
Был Временем-Арджуной муж обезглавлен,
Судьбой венценосной за гору отправлен.
Сраженного в битве узрев исполина,
Узрев отсеченную голову сына,
Померкло печальное Солнце в лазури,
Замолкли и флейты, и трубы, и турьи[144],
Поникла и войск Дхритараштры гордыня:
Скончался Карна — их оплот и твердыня!
Не демон ли Раху похитил светило,
И тьма побежденную рать обступила?»
Ободренные гибелью Карны, пандавы ринулись на кауравов и обратили их в бегство; и тщетно пытался Дуръйодхана остановить бегущих. Шалья и Ашваттхаман, собрав уцелевших воинов, повели их на отдых на плоскогорье у подножья Гималаев. К ним присоединился Дуръйодхана. Утром, по совету царя кауравов, воины снова вступили в битву под предводительством Шальи, царя мадров. Шалья в этой битве погиб. Из ста сыновей Дхритараштры в живых осталось одиннадцать, не считая Дуръйодханы, но и они вскоре погибли от руки Бхимасены. Сахадева, младший из пандавов, обезглавил Шакуни, царя Гандхары.
От войска кауравов остался небольшой отряд, возглавляемый царем Дуръйодханой, а пандавы насчитывали две тысячи колесниц, семьсот слонов, пять тысяч всадников и десять тысяч пеших. Дуръйодхана укрылся от врагов в камышах на берегу озера Двайпаяна, к востоку от Курукшетры.
Спросил Дхритараштра: «Скажи, о Санджайя, —
Когда, сыновей моих рать поражая,
Пандавы ее разгромили в той схватке, —
Что сделали воинов наших остатки?
Герой Критава́рман и сын Гаутамы[145],
Сын Дроны[146], Дуръйодхана, в гневе упрямый, —
Что сделали, бившиеся неустанно?»
Санджайя: «Когда из военного стана
Бежали подруги отважных и жены,
И стан опечалился опустошенный,
И стали слышны победителей крики,
И горсть кауравов была без владыки,
И к озеру вслед за царем неразумным
Те трое помчались по тропам бесшумным, —
Пять братьев-пандавов, кружа по равнине,
Решили: «Покончим с Дуръйодханой ныне!»
Но где же был сын твой, от взоров сокрытый?
На раджу три витязя были сердиты:
Он, с палицей мощной, своим не внимая,
Бежал с поля битвы, и ложная майя[147]
Ему помогла: прыгнул в озеро с ходу,
Принудив к покорству озерную воду,
А в стан кауравов пандавы вступили, —
Уставших коней удальцы торопили.
Тогда Критаварман, и славный сын Дроны,
И Крипа примчались на берег зеленый,
Сказали царю, что улегся на отдых
В озерных, ему покорившихся водах:
«О раджа, вставай, не роняй своей чести,
Давай на Юдхиштхиру двинемся вместе!
Живой — на земле насладись ты победой,
А мертвый — на небо со славой последуй!
О раджа, противник разгромлен тобою, —
И много ли там приспособленных к бою?
Не выдержит натиска стан поределый,
Вставай же и дело сражения делай!»
А царь: «Эту ночь проведу я в покое,
А завтра на поле вернусь боевое…»
…Охотники, мучимы жаждой, случайно
С добычею к озеру вышли, и тайна
Царя кауравов открылась им сразу.
На витязей глядя, внимавших приказу,
А также услышав неумные речи
Царя, что в воде укрывался от сечи,
Те люди решили: «Пандавам поможем,
К Юдхиштхире мы поспешим и доложим,
Что ныне Дуръйодхана, царь непоборный,
Уснул, окруженный водою озерной,
Расскажем воинственному Бхимасене,
Что в озере прячется царь от сражений, —
И нас наградит он, являя величье…
Что пользы в охотничьей нашей добыче, —
А сколько пришлось одолеть нам препятствий!»
Охотники, с давней мечтой о богатстве,
К пандавам отправились, чтоб донесенье
Доставить Юдхиштхире и Бхимасене…»
Санджайя сказал: «О владыкой рожденный!
Когда Критаварман, и славный сын Дроны,
И Крипа ушли от царя, опечалясь, —
На берег озерный пандавы примчались.
Царю, потрясенному рати разгромом,
Двайпа́яна-озеро сделалось домом.
Юдхиштхира Кришне сказал: «Чародея
Дуръйодхану видишь ли? Майей владея,
Врагов не страшась, воду сделав покорной,
Обрел он приют среди влаги озерной.
Он с помощью майи достиг своей цели,
Но, лживый, живым не уйдет он отселе.
Сам Индра ему пусть подмогу окажет,
А все-таки мертвым Дуръйодхана ляжет!»
А Кришна: «О Бхаратов сын знаменитый,
Обманную майю теперь устрани ты
И, более сильною силой владея,
Убей чародея, низвергни злодея!»
Юдхиштхира с берега крикнул с насмешкой
Дуръйодхане: «Встань, многомощный, не мешкай!
Зачем свое войско до битвы позорной
Довел ты? Зачем убежал и в озерной
Воде, полон страха, обрел ты обитель?
Вставай же и с нами сразись, о властитель!»
Юдхиштхиры, братьев-пандавов обидна
Насмешка была, стало больно и стыдно,
О царь, твоему венценосному сыну,
И, силою лжи погруженный в пучину,
Он шумно и долго вздыхал то и дело,
А влага над ним и под ним голубела.
Но радже сражаться приказывал разум.
Юдхиштхире царь не ответил отказом.
Он крикнул, таясь под водой от погони:
«Вас много, у вас колесницы и кони,
Несчастный, могу ли я с вами сразиться?
Где кони мои? Где моя колесница?
Как в битву вступлю я, врагом окруженный,
Друзей, и коней, и оружья лишенный?
Один на один я убью полководца, —
Один против многих не стану бороться!»
Юдхиштхира: «Вижу, тобою усвоен
Закон, по которому действует воин.
Великий, ты воином создан Судьбою,
И ныне Судьбою направлен ты к бою.
Любое ты выбери вооруженье,
С любым из пандавов начни ты сраженье.
Сражайся с одним, проявляя проворство, —
Для нас будет зрелищем единоборство!
Коль ты победишь — я даю тебе слово,
Что царствовать станешь с величием снова,
А будешь убит — возродишься на небе:
И тот и другой многорадостен жребий!»
Дуръйодхана: «Если даешь ты мне право
Сразить в поединке любого пандава,
Оружье избрать мне даешь разрешенье, —
То с палицей в это вступлю я сраженье.
Из братьев с одним буду биться, но с пешим,
И палицей вооружиться успевшим.
Пусть нет колесниц и пусть рати распались, —
Сегодня сразимся мы с помощью палиц:
Как пищу, оружие разнообразим,
Кому суждено, пусть и свалится наземь.
Вдвоем — я и палица — мы угрожаем
Тебе, твоим братьям, панчалам, сринджайям!»
Юдхиштхира: «Встань, устремившийся к бою!
Один на один мы сразимся с тобою,
Хоть Индру ты кликнешь на помощь, — увидишь:
Сегодня из битвы живым ты не выйдешь!»
Не снес этой речи твой сын превосходный,
От злости шипел он змеею подводной,
Его, словно лошадь тяжелые плети,
Слова эти били, нуждаясь в ответе.
Восстал он, озерную гладь рассекая,
И ненависть в нем закипела такая,
Что стал он дышать, жаждой битвы объятый,
Как буйный слонового стада вожатый,
А палица, перстнем из злата блистая,
Была тяжела, как скала вековая.
Как солнце, восстал он из вод ранней ранью,
Сжимая железную палицу дланью,
Восстал, расколов примиренные воды,
Как будто на страны сердясь и народы,
С трезубцем явился разгневанный Шива,
Как будто гора поднялась горделиво,
Как будто не палицу — скипетр железный
Бог смерти взметнул над погибельной бездной,
Как будто бы Индры стрела громовая
Взлетела, всему, что живет, угрожая!
Изранен, а все же не сломлен бедою,
Восстал он, и кровью покрыт и водою,
Казалось, что кряж низвергает высокий
И крови, и влаги прозрачной потоки.
Так сын твой, о раджа, восстал перед всеми
В доспехах из злата, в сверкающем шлеме, —
Казалось, что, золотом всех ослепляя,
Из влаги восстала гора золотая!
Промолвил Дуръйодхана братьям-пандавам:
«Готов я сойтись в поединке кровавом
С Бхимой, или с Накулой, иль с Сахадевой,
Иль с Арджуной, дланью воюющим левой,
Иль, может, с тобой, — среди трав этих росных, —
Юдхиштхира, лучший из всех венценосных!»
Как слон со слоном из-за самки, — мгновенно
С Дуръйодханой биться решил Бхимасена.
Как будто двух львов раззадорила львица, —
Решил с Бхимасеной Дуръйодхана биться.
Он вызвал Бхиму своим гласом суровым, —
Так бык вызывает быка долгим ревом.
Зловещие знаменья люди узрели:
Такого еще не бывало доселе!
Песчаных дождей началось изверженье,
Бураны подули, неся разрушенье,
Великие громы упали на воды,
Во тьму погрузились небесные своды,
Почувствовал мир, что убьет его холод,
И метеоритами был он расколот,
И солнце с небес устремилось ко праху,
И стало добычею демона Раху,
Земля, не надеясь уже на спасенье,
Тряслась в непрерывном и жутком трясенье,
Вершины рассыпались — груда на груду,
И разные звери сошлись отовсюду,
Пугая обличьем, завыли шакалы, —
Несчастье сулил этот вой небывалый,
От страха в колодцах вода содрогнулась
И шумно повсюду наружу взметнулась,
Из тел-невидимок, о раджа великий,
Везде исходили ужасные крики…
Страшны были знаки для взора и слуха, —
Юдхиштхире молвил Бхима, Волчье Брюхо:
«Дуръйодхана грозен, но духом ничтожен.
Я верю, что будет он мной уничтожен.
Я знаю, — сожжет его гнев мой всеправый,
Как Арджуны пламя — деревья Кхандавы.
О брат мой, мне вырвать судьба наказала
Колючку, что сердце твое истерзала.
Сегодня потомка сквернейшего Куру
Рассечь попытаюсь я палицей шкуру!»
Дуръйодхана, с яростной бодростью духа,
Напал, закричав, на Бхиму, Волчье Брюхо.
Всем ужас внушало той схватки величье,
Друг друга бодали рогами по-бычьи.
От шума их палиц весь мир раскололся, —
Не Индра ли с бесом Прохладой боролся?
На теле их рана зияла над раной,
И все они рдели киншу́кой[148] багряной.
Их палицы, искры взметая, сшибались, —
И сто светляков отлетало от палиц!
Им тяжкая битва на долю досталась,
Испытывали многократно усталость, —
Тогда, отдохнув, напрягаясь в усилье,
Удары друг другу опять наносили.
Как бы из-за самки, соития ради,
Дрались два слона, наизлейшие в стаде!
И жители неба, и бесов скопленье,
Увидев их ярость, пришли в изумленье.
Бхима, будто Индры стрелой громовою,
Вращал своей палицей над головою,
Была эта палица грозным орудьем,
Жезлом бога смерти казалась всем людям!
Твой сын, поединок ведя рукопашный,
Стал тоже вращать своей палицей страшной,
Он поднял ее, — и затрясся от гула
Весь мир, и ужасное пламя сверкнуло.
Кружась, приближаясь к врагу постепенно,
Был сын твой красивее, чем Бхимасена,
Чья палица грохотом землю пугала,
Казалось, — и дым и огонь извергала.
Дуръйодханы палица снова и снова
Вращалась со скоростью ветра морского,
Она как скала нависала большая,
Пандавам и сомакам ужас внушая.
Враги, как слоны, приближались, и ливни
Их крови текли, и стучали их бивни!
Ударил Дуръйодхану в бок Бхимасена,
И сын твой упал на колени мгновенно.
Сринджайи взревели тогда в исступленье:
Глава кауравов упал на колени!
Твой сын разъярился от этого рева,
В глазах его пламя блеснуло багрово,
И, встав, он дышал, словно змей с жутким ядом,
Он сжечь Бхимасену хотел своим взглядом.
Решив раздробить его голову разом,
Он ринулся в битву, сверля его глазом.
Бхиму он ударил в висок, но вознесся
Над полем Бхима наподобье утеса,
Как слон в пору течки, стоял он, могучий,
А кровь из виска — словно мускус пахучий.
Напряг свои силы Бхима, Волчье Брюхо,
Владыку ударил он палицей глухо,
Свалился твой сын, — будто буря напала
И ствол повалила огромного шала.
Пандавы обрадовались, возопили,
Врага увидав среди праха и пыли,
Но сын твой поднялся, исполнен отваги,
Как слон — из озерной взволнованной влаги.
Он встал и ударил пандава с размаха,
И тот, обессилен, упал среди праха:
Доспехи разбиты ударом великим,
И сын твой рычит на него львиным рыком!
И вскрикнули сонмы богов и апсары,
Услышав той палицы страшной удары,
И быстро извергли небесные склоны
На витязей ливень цветов благовонный.
Узрев, что упал Бхимасена в сраженье,
Увидев железных доспехов крушенье,
Губители войск задрожали от страха,
Но тут Бхимасена поднялся из праха,
Облитое кровью лицо утирая, —
И стойкость к нему возвратилась былая.
Он вывернутые вперил свои очи
В того, кто сражался все жарче, жесточе.
И Арджуне Кришна сказал: «Несомненно,
Хоть оба отважны, — сильней Бхимасена,
Но бьется Дуръйодхана с огненным пылом,
И, видно, Бхиме с ним борьба не по силам.
Он действовать должен хитро и лукаво,
А в честном бою не убьет каурава.
Мы знаем, что, а́суров рать разгоняя,
Богам помогала обманная майя.
Мы знаем, что Индра на поприще бранном
Виро́чану-беса низвергнул обманом.
Мы знаем, — он справился с демоном Вритрой
При помощи майи обманной и хитрой.
Припомнить нам клятву Бхимы не пора ли?
Когда вы, несчастные, в кости играли,
Сказал он Дуръйодхане: «Двинусь я бодро,
Твои уничтожу я палицей бедра!»
Пусть клятву исполнит он, майей владея,
И пусть колдовством сокрушит чародея.
А ежели с помощью майи обманной
Врага не убьет богатырь крепкостанный,
То сын Дхритараштры, чье дело — коварство,
Властителем станет всего государства».
Был Арджуна речью взволнован такою.
Себя по бедру он ударил рукою.
Бхима понял знак и, вступая в сраженье,
На поле умелое начал круженье.
Он то отступал от противника, ловкий,
То делал, приблизившись, перестановки,
Отскакивал воин то влево, то вправо,
О раджа, обманывал он каурава!
Но сын твой, владеющий палицей воин,
Искусен и опытен, крепок и строен,
К врагу продвигался легко и красиво,
Убить его жаждал, исполнен порыва!
Тогда смертоносная мощь заблистала
Двух палиц, обсыпанных пылью сандала.
Два воина, в противоборстве упрямы, —
Как два повелителя смерти, два Ямы.
Казалось, две птицы Гаруды взлетели, —
Одну уничтожить змею захотели.
Когда раздавались их палиц удары,
На поле сраженья рождались пожары.
Сражались два мужа, отвагою споря,
Как будто два бурей волнуемых моря.
Сражались, достичь убиения силясь, —
Как бы два слона в пору течки взбесились!
Они уставали в неслыханной схватке,
Но были мгновения отдыха кратки,
И снова, в смертельном кружении круга,
Ударами палиц разили друг друга,
Приемов обучены разнообразью, —
Два буйвола буйных, измазанных грязью!
Измученных, раненных, — кровь облила их:
Два древа киншука в цвету в Гималаях!
Владыку увидев на выгодном месте,
Подумал Бхима о свершении мести,
И палицу, вдруг усмехнувшись надменно,
В Дуръйодхану быстро метнул Бхимасена.
Но царь отскочил от угрозы смертельной,
И палица наземь упала бесцельно.
А сын твой, заметив противника промах,
Ударил пандава, искусный в приемах.
Ужасным ударом его оглушенный,
С сочащейся кровью, сознанья лишенный,
Застыл Бхимасена как бы в одуренье,
Но сын твой не понял, что в этом боренье
Ослаблен противник, сражавшийся смело,
Что держит с трудом на земле свое тело.
Он ждал от пандава удара второго,
И, медля, его не ударил он снова.
Бхима отдышался, спокоен снаружи,
И ринулся в битву, вздымая оружье.
Увидев могучего, полного жара,
Твой сын уклониться решил от удара,
Хотел он подпрыгнуть, — хитрец этот ловкий, —
Хотел он обман сочетать со сноровкой,
Уловку его разгадал Бхимасена,
Как лев, на царя он напал дерзновенно,
Сумел он противника хитрость постигнуть,
И только Дуръйодхана вздумал подпрыгнуть, —
Удар ниже пояса витязь направил,
Ударил по бедрам царя против правил,
И палица всей своей мощью тяжелой
Могучие бедра царя расколола,
И, землю звенеть заставляя, владыка
Упал, весь в крови, без дыханья и крика.
Задули губительные ураганы,
Завыли стремительные океаны,
Земля содрогнулась, поля завопили,
А ливни полны были праха и пыли.
Упал царь царей, жаркой кровью облитый, —
И с неба посыпались метеориты.
Великие смерчи, великие громы
Низверглись на горы, леса, водоемы,
И сын твой упал, — и, стремясь к их обилью,
Дождил грозный Индра и кровью и пылью.
И сын твой упал, не дождавшись победы, —
Взревели и ракшасы и людоеды.
И сын твой упал, — и тогда о потере
Заплакали птицы, растения, звери.
И сын твой упал, — и на поле, в печали,
Слоны затрубили и кони заржали.
И сын твой упал, — и вошли в прах угрюмый
Литавров и раковин долгие шумы.
И сын твой упал, — и во время паденья
Безглавые выросли вдруг привиденья,
Но все многоноги, но все многоруки,
Их плясок страшны были жуткие звуки!
И сын твой упал, — и утратили смелость
Бойцы, у которых оружье имелось.
И сын твой упал, — властелин полководцев,
И хлынула кровь из озер и колодцев.
И сын твой упал, он смежил свои веки, —
И вспять повернули бурливые реки.
И сын твой упал, — и тогда, о всевластный,
Мужчины и женщины стали двуснастны![149]
Увидев те знаменья, страх небывалый
Познали пандавы, а с ними — панчалы.
Испуганы битвой, сокрылись в тревоге
Апсары, гандхарвы и мощные боги.
Восславив отважных, — за тучи густые
Ушли полубоги, певцы и святые[150].
Но стан победителей стал беспечален:
Дуръйодхана был, словно древо, повален!
И сомаки радовались и пандавы:
Слона ниспровергнул их лев гордоглавый!
Приблизясь к поверженному, Бхимасена
Воскликнул: «О раджа, чья участь презренна!
«Эй, буйвол!» — орал ты, смеясь надо мною,
При всех издевался над нашей женою,
При всех оскорблял Драупади, как девку, —
Теперь ты сполна получил за издевку!»
Дуръйодхану речью унизив такою,
Он голову раджи ударил ногою.[151]
Увидев, что раджу Бхима обесславил,
На голову левую ногу поставил, —
Из гордых мужей благородного нрава
Никто не одобрил поступка пандава.
Но пляску победы плясал Волчье Брюхо,
И брату, исполненный светлого духа,
Юдхиштхира молвил: «Во мраке ты бродишь,
А свет пред тобою! Он — царь, он — твой родич,
Не смей же, безгрешный, с душою благою,
Пинать его голову левой ногою!
Он пал в поединке, державу утратив,
А также друзей, сотоварищей, братьев.
О муж справедливый, чья участь завидна,
Зачем оскорбляешь царя столь постыдно?»
Склонившись потом над простертым владыкой,
Он слово промолвил в печали великой:
«На нас ты не гневайся, раджа: Судьбою
Ведомы, в борьбу мы вступили с тобою,
Не наши — Судьбы ты изведал удары,
За прежние вины дождался ты кары!»
Подняв свои дротики, пики, трезубцы
И в раковины затрубив, славолюбцы —
Пандавы с весельем в шатры возвратились,
Смеясь и ликуя, победой гордились…»
Санджайя сказал: «От глупцов повсеместно
О смерти Дуръйодханы стало известно.
Тогда Критаварман, а также сын Дроны
И Крипа помчались на берег зеленый.
Их стрелы изранили, дротики, пики…
Примчались — увидели тело владыки:
Казалось, что гибелью буря дышала.
Напала на ствол непомерного шала.
Казалось, охотник в лесной глухомани
Большого слона повалил на поляне.
Дуръйодхана корчился, кровь извергая, —
Иль солнечный шар, на закате сверкая,
Упал среди стада и жаркою кровью
Он залил внезапно стоянку коровью?
Иль месяцем был он, закрытым туманом?
Иль бурею вздыбленным был океаном?
И, как окружает главу ратоборцев,
Подачки желая, толпа царедворцев,
Его окружили тогда, безголосы,
Невидимые упыри-кровососы.
Глаза свои выкатив в яростной злобе,
Он тигром казался, что ранен в чащобе.
Великие воины оцепенело
Смотрели, как мощное корчилось тело.
Узрев умирающего властелина,
Сошли с колесниц своих три исполина.
Пылал Ашваттха́ман, воитель великий,
Как огнь всепогибельный, семиязыкий.
Рыдая и руку сжимая рукою,
Сказал он Дуръйодхане с болью, с тоскою:
«Отец мой, коварством и ложью сраженный,
Погиб, но не так я страдал из-за Дроны,
Как я твоей мукою мучаюсь ныне!
Во имя приверженности к благостыне,
Во имя моих благородных деяний,
И жертв приношений, и щедрых даяний,
Во имя того, что всегда я сурово
Свой долг исполняю, — услышь мое слово.
Сегодня, в присутствии Кришны, пандавам
Разгром учиню я в неистовстве правом,
Да примет их грозного Ямы обитель, —
На это мне дай дозволенье, властитель!»
Довольный бесстрашьем таким сына Дроны,
Сказал венценосец, с Судьбой примиренный:
«О Крипа, наставник и жрец благородный,
Кувшин принеси мне с водою холодной!»
Тот брахман предстал пред своим властелином[152]
С наполненным чистою влагой кувшином.
И сын твой, вожатый полков побежденных,
Сказал ему: «Лучший из дваждырожденных!
Да будет сын Дроны, — прошу благодати, —
Помазан тобой на водительство рати».
И жрец окропил его влагой живою,
И стал Ашваттхаман всей рати главою.
О царь, твоего они обняли сына,
И рыком трех львов огласилась долина».
Спросил Дхритараштра: «Когда был коварством
Низвергнут мой сын, обладающий царством,
Что сделали тот Ашваттхаман, сын Дроны,
Герой Критаварман и Крипа ученый?»
Санджайя ответил: «Расставшись с владыкой,
Достигли три витязя местности дикой.
Там были чащобы, там были поляны,
Вкруг мощных стволов извивались лианы.
Помчались облитой закатом тропою, —
Усталых коней привели к водопою.
В лесу было множество птиц быстролетных,
Диковинных, крупных зверей и животных,
Везде родниковые воды кипели,
И лотосы в тихих прудах голубели.
Там, — с тысячью веток, с листвою густою, —
Баньян изумил их своей высотою.
Решили те трое: «В лесной этой сени
Баньян — государь всех дерев и растений!»
Коней распрягли у воды, среди листьев,
И, тело, как должно, от скверны очистив,
Вечернюю там сотворили молитву,
Чтоб с новою силою ринуться в битву.
Зашло за высокую гору светило,
И вот многозвездная ночь наступила, —
Явилась держательница мирозданья!
И столько на небе возникло блистанья,
Что высь, точно вышивка, тешила взгляды,
А вышиты были миры и плеяды.
Все твари ночные проснулись при звездах,
Дневные — заснули в норах или в гнездах,
И рыскали звери, что жрали живое,
И гибель была в их рычанье и вое.
Поникли три воина в горе великом
Пред этим ночным устрашающим ликом.
О братоубийственной думая брани,
О стане пандавов, о собственном стане,
Они улеглись под ветвями баньяна, —
Над раной зияла у каждого рана!
И вот Критаварман и Крипа на голой
Заснули земле, — после битвы тяжелой.
Израненных, их одолела усталость, —
О, разве такая им доля мечталась!
Но, мучим тоской, побуждаем возмездьем,
Не спал Ашваттхаман под ярким созвездьем,
Не спал он под лиственным тихим навесом,
Не спал, окруженный таинственным лесом.
На ветках баньяна, — увидел сын Дроны, —
Спокойно бессчетные спали вороны.
Внезапно, средь ночи, сова прилетела:
Багрово-коричнева, и крупнотела,
И зеленоглаза, и широкогруда,
Она ужасала, как птица Гаруда,
Когтями свирепыми, клювом огромным
И, крадучись в этом безмолвии темном,
Творенье, яйцо почитавшее предком, —
Сова устремилась к баньяновым веткам
И стала на дереве том, кровожадна,
Заснувших ворон истреблять беспощадно,
Вонзая в них острые когти насилья,
И головы им отрывая, и крылья.
Всю землю при этом ночном беззаконье
Покрыли погибшие тельца вороньи.
Сова ликовала: была ли виновна,
Заснувших врагов истребив поголовно?
Коварным деяньем совы потрясенный,
Решил одинокий воитель, сын Дроны:
«Сова меня учит, как следует биться.
«Воспользуйся ночью!» — советует птица.
Пандавов, восторгом победы объятых,
Удачливых, воинской мощью богатых,
Подвергнуть разгрому не в силах я ныне.
Однако поклялся я при властелине,
Что их уничтожу, погнав колесницу:
Тем самым напомнил я самоубийцу, —
Того мотылька, что врывается в пламя!
Я в честном бою буду сломлен врагами,
Но если с коварством я дерзко нагряну —
Разгром учиню я враждебному стану.
Гласит «Артха-Шастра»[153]: «Где цель благородна,
Там каждое средство полезно, пригодно».
И пусть я презрением буду наказан, —
Как воин, отмщенье свершить я обязан:
На каждом шагу совершали пандавы
То низкий обман, то поступок неправый!
По этому поводу шлоки пропеты, —
От истинно-мудрых дошли к нам советы:
«Усталых, вкушающих, раненых, сонных, —
Врагов уничтожьте и пеших и конных.
Лишенных вождя, погруженных в истому, —
Их надо подвергнуть ночному разгрому».
Сын Дроны решил: против правил-уставов,
Он спящих панчалов убьет и пандавов!
И он, утвердясь в этой мысли жестокой,
Друзей разбудил среди ночи глубокой.
Воители вздрогнули, выслушав друга,
Исполнены горечи, срама, испуга.
Тогда Ашваттхаман, враждой воспаленный,
Напомнил убийство отца его — Дроны:
«Он лук отложил среди схватки безумной
И с помощью лжи был сражен Дхриштадьюмной:
Сказали отцу, что убит я нежданно,
Потом подтвердил это слово обмана
Юдхиштхира, этот блюститель закона, —
И лук свой в отчаянье выронил Дрона.
Теперь, безоружен, заснул сын Друпады,
Приду — и злодею не будет пощады!
Деянием скверным сраженный, — от скверны
Не будет избавлен панчал этот скверный!
Скорее оденьтесь одеждою ратной
И стойте, пока не вернусь я обратно».
Сын Дроны погнал колесницу для мести, —
Помчались и оба отважных с ним вместе:
Три светоча грозных, чье пламя не гасло,
Чью ярость питало топленое масло![154]
К становью врагов, погруженному в дрему,
Они прискакали по полю ночному.
Когда перед ними возникли ворота,
Сын Дроны увидел, что высится кто-то,
И то существо, велико, крупнотело,
Как солнце и месяц, в ночи пламенело.
Оно было шкурой тигровой одето, —
По шкуре текла кровь багряного цвета, —
Но также и шкурой оленьей покрыто,
Как жертвенным вервием, змеем обвито.
Мясистые, длинные, страшные руки
Сжимали секиры, булаты и луки,
Ручные браслеты свивались, как змеи,
Гирлянды огней полыхали вкруг шеи,
Огромные черные зубы торчали
В распахнутом рту — и весь мир устрашали.
И то существо было тысячеглазым,
Оно ужасало и сердце и разум.
Беспомощны были бы все описанья
Его очертаний, его одеянья!
И тысяча глаз его, ноздри, и уши,
И рот извергали, — и влаге и суше
Грозя, — всегубительный пламень, который
Дрожать заставлял и раскалывал горы.
Как тысячи Вишну, снабженных мечами,
Оно ослепляло своими лучами!
Страшилище это увидев, сын Дроны
Не дрогнул, он стрел своих ливень каленый
Извергнул из лука над тысячеглазым, —
Но их поглотило чудовище разом:
Вот так океан поглощает волнами
Подземного мира свирепое пламя.[155]
Тогда Ашваттхаман метнул с колесницы
Свой стяг, полыхавший пыланьем зарницы.
Древко полетело, древко заблестело
И, крепко ударив страшилища тело,
Разбилось, — подобно тому метеору,
Что ринулся по мировому простору,
И солнце ударил, и был уничтожен!
Тогда, как змею из укрытья, — из ножен
Сын Дроны извлек цвета выси небесной
Кинжал с золотой рукоятью чудесной,
Но в тело той твари, без звона и хруста,
Кинжал погрузился, как в норку — мангуста.
Метнул свою палицу воин могучий, —
Иль знаменье Индры сверкнуло сквозь тучи?
Иль новое с неба упало светило?
Но палицу то существо поглотило?
Всего боевого оружья лишенный,
В смятении стал озираться сын Дроны, —
Не небо узрел над собою, а бога:
То Вишну смотрел на воителя строго![156]
Невиданным зрелищем тем устрашенный,
Терзаясь и каясь, подумал сын Дроны:
«Хотел совершить я дурное деянье, —
И вот получаю за зло воздаянье.
Судьбой предназначено мне пораженье, —
А разве Судьбы изменю я решенье?
Теперь обращаюсь я к Шиве с мольбою:
«Лишь ты мне поможешь бороться с Судьбою!
Гирляндою из черепов ты украшен,
И всем, пребывающим в скверне, ты страшен!
К стопам припадаю ревущего Рудры:
Лишь ты мне поможешь, всесильный, премудрый!
Я в жертву тебе отдаю свое тело,
Но дай мне свершить свое трудное дело!»
Сказал он — и жертвенник жарко зажегся
Пред мужем, который от жизни отрекся!
Возникли сиянья различного цвета,
Наполнились блеском все стороны света.
И твари явились, — престрашны, премноги,
И все — многоруки, и все — многоноги,
А те — многоморды, а те — многоглавы,
А эти — плешивы, а эти — кудрявы.
Порода у тех обозначилась птичья,
У этих — различных животных обличья.
Здесь были подобья собачьи, кабаньи,
Медвежьи, верблюжьи, кошачьи, бараньи,
Коровьи, тигриные и обезьяньи,
Змеиные — в жутком и грозном сверканье,
Шакальи, и конские, и крокодильи,
И волчьи, в которых бесилось насилье!
Одни — словно львы, а другие — дельфины,
У тех — голубей или соек личины,
Здесь — помесь акулы с китом-великаном,
Там — помесь морской черепахи с бакланом.
Одни — рукоухи, другие — стобрюхи,
А третьи — как будто бесплотные духи,
Те — раковинами казались: и морды
И уши — как раковины, да и твердый
Покров, как у раковин, и в изобилье
Их пенье лилось, будто в них затрубили.
Вон те — безголовы, безглазы и немы,
На этих — тиары, на тех — диадемы,
На третьих — тюрбаны, гирлянды живые
И лотосы белые и голубые.
Те — обликом грубы, а те — светлолики,
А те — пятизубы, а те — трехъязыки,
В руках у них палицы, луки и копья,
И всюду — подобья, подобья, подобья!
Весь мир оглушая и воплем и визгом,
Один — с булавой, а другой — с грозным диском,
Все с хохотом, с грохотом, с плясом и топом, —
Они приближались к воителю скопом,
Желая вселить в Ашваттхамана гордость,
Узнать его мощь, испытать его твердость,
Приблизиться к грозному Шиве вплотную,
Увидеть резню или схватку ночную.
Чудовищ толпа надвигалась густая,
Все три мироздания в страх повергая,
Сверкали их стрелы, трезубцы и пики, —
Однако не дрогнул сын Дроны великий.
Сей лучник, на воина-бога похожий,
Чьи пальцы обтянуты ящериц кожей,
Не думал о чудищах, сильных во гневе:
Он сам себя в жертву принес Махадеве!
Стал жертвенным пламенем лук драгоценный,
А острые стрелы — травою священной,[157]
А сам, всем своим существом, всем деяньем
Для Шивы он жертвенным стал возлияньем!
Увидев того, кто, воздев свои руки,
Бестрепетно ждал с этим миром разлуки,
Кто богу с трезубцем, на воинском поле,
Обрек себя в жертву по собственной воле, —
Сказал с еле зримой улыбкою Шива:
«Мне Кришна служил хорошо, терпеливо,
Свершил для меня много славных деяний,
Всех честных, безгрешных мне Кришна желанней.
Тебя испытал я, его почитая,
Сокрытье панчалов содеяла майя,[158]
Но так как безжалостно Время к панчалам,
Пусть ночь эта будет их смерти началом!»
Так Шива сказал, — и вошел в его тело,
И меч ему дал, и земля загудела.
И, Шиву приняв в свое тело, сын Дроны
Тогда воссиял, изнутри озаренный.
Отныне он стал всемогущим в сраженье,
Приняв излученное богом свеченье.
За ним устремились, рождаясь двояко,
Незримые твари и детища мрака.
К становью врагов приближался он смело,
Как Шива, который вошел в его тело!
Заснул ратный стан, от сражений усталый.
Бесстрашно, доверчиво спали панчалы.
Во мраке вступил Ашваттхаман бесшумно
В шатер, где на ложе лежал Дхриштадьюмна, —
На нем покрывало, весьма дорогое,
И сладостно пахли сандал и алоэ.
Тот раджа лежал, тишиной окруженный, —
Ногою толкнул его грубо сын Дроны.
Проснулся властитель, ударом разбужен.
Могучий в сраженье, он был безоружен!
Схватил его недруг, — встающего с ложа,
Зажал его голову, ярость умножа.
А тот и не двигался, страхом объятый,
К земле с неожиданной силой прижатый.
Сын Дроны с царем поступил беззаботным,
Как будто бы жертвенным был он животным:
На горло ему свою ногу поставил,
Руками и горло и грудь окровавил,
А кровь растекалась по телу струями!
Воителя раджа царапал ногтями,
Молил сына Дроны панчал именитый:
Оружьем, прошу я, меня умертви ты!
Наставника сын, не чини мне обиду,
Да с честью я в мир добродетельных вниду!»
Но, это невнятное выслушав слово,
Сказал Ашваттхаман: «Нет мира благого,
Наставников нет для тебя, Дхриштадьюмна, —
Свой род опозоривший царь скудоумный!
Пойми же, о ставший убийцею воин,
Что пасть от оружия ты недостоин!»
Сказав, растоптал он царя каблуками,
Его задушил он своими руками.
Услышали раджи предсмертные крики
И люди, и стражи, и жены владыки.
Их — сверхчеловеческая — устрашила
Того неизвестного воина сила.
Подумали, жуткой охвачены дрожью:
«Он — ракшас, отринувший истину божью!»
Душа Ашваттхамана гневом дышала.
Вот так богу смерти он предал панчала.
Покинул убитого раджи обитель
И двинулся на колеснице как мститель,
Заставив звучать и дрожать мирозданье,
Решив убивать и забыв состраданье.
А мертвого раджи и стражи и жены
Из сердца исторгли рыданья и стоны.
Проснулись воители, женщин спросили:
«Что с вами?» — и женщины заголосили:
«Бегите за ним, за его колесницей!
Бегите за ним, за свирепым убийцей!
Царя он в постели убил, а не в сече,
Не знаем, — он ракшас иль сын человечий!»
Тогда, окруженный и справа и слева,
Сын Дроны оружьем, что сам Махадева
Вручил ему, — всех удальцов обезглавил
И дальше свою колесницу направил.
Узрел: Уттама́уджас дремлет, — и тоже
Его умертвил, как и раджу, на ложе.
Юдха́манью выбежал, воспламененный,
Метнул свою палицу в грудь сына Дроны,
Но тот его поднял могучею дланью,
Как жертву, подверг его тут же закланью.
Вот так он губил, средь потемок дремотных,
Врагов, словно жертвенных смирных животных.
Сперва убивал колесниц властелинов,
Потом обезглавливал простолюдинов.
Под каждый заглядывал куст, и мгновенно
Рубил он заснувшего самозабвенно,
Рубил безоружных, беспомощных, сонных,
Рубил и слонов, и коней потрясенных,
Как будто он Времени грозный посланец —
Бог смерти, одетый в кровавый багрянец!
Казалось, — причислить нельзя его к людям:
Он — зверь или чудище с острым орудьем!
Все воины в страхе смежали ресницы:
Казалось, что бес — властелин колесницы!
Казалось, карающий меч надо всеми
Уже занесло беспощадное Время!
Нагрянул он с жаждою мести во взгляде
На сомаков, на сыновей Драупади.
Узнали они, что убит Дхриштадьюмна,
И с луками ринулись гневно и шумно,
Осыпали стрелами отпрыска Дроны.
Шикхандин, услышав и крики и стоны,
Доспехи надел и во мраке глубоком
Облил его стрел смертоносным потоком.
Сын Дроны, убийство отца вспоминая,
Взревел, закипела в нем ярость живая,
Сойдя с колесницы, повел он сраженье,
И кровь отмечала его продвиженье.
Вздымая божественный меч обнаженный
И тысячелунным щитом защищенный,
В живот поразил он, убил исполина —
Того Пративи́ндхью, Юдхиштхиры сына.
Тогда булавою, чья сила весома,
Ударил его сын Бхимы Сутасома.
Сын Дроны отсек ему руку и снова
Ударил мечом удальца молодого,
И тот, среди мраком одетой равнины,
Упал, рассеченный на две половины.
Тогда, обхватив колесо колесницы,
Шата́ника, Накулы сын юнолицый,
Бесстрашно метнул колесо в сына Дроны,
Но смелого юношу дваждырожденный
Мечом обезглавил в ночи многозвездной.
Тогда Шрутака́рман, сын Арджуны грозный,
В предплечье ударил его булавою.
Сын Дроны занес над его головою
Свой меч — и тогда на равнину ночную,
С лицом, превратившимся в рану сплошную,
Упал Шрутакарман, внезапно сраженный.
Но, луком блистательным вооруженный,
Взревел Шрутаки́рти — ветвь мощного древа:
Родителем воина был Сахадева.
Он стрелы метнул во врага, но прикрытый
Щитом и стрелой ни одной не пробитый,
Взмахнул Ашваттхаман мечом, и от тела
С серьгами двумя голова отлетела.
Шикхандин, победой врага разъяренный,
Напал, многосильный, на отпрыска Дроны,
Стрелою ударил его по межбровью,
Лицо его залил горячею кровью.
Сын Дроны чудесным мечом в миг единый
Шикхандина на́ две рассек половины,
Убийцу Бхимы умертвив, и, объятый
Губительным гневом, на войско Вираты
Напал — на владетелей копий и луков.
Друпады сынов убивал он и внуков,
Всех близких его, всех способных к сраженью
Подверг поголовному уничтоженью.
Живых в мертвецов превращая, повсюду
Тела громоздил он — над грудою груду.
Пандавы, которые мести алкали,
Внезапно увидели черную Кали.
Был рот ее кровью густою окрашен,
А стан — одеяньем кровавым украшен,
И крови теплее, и крови алее,
Гирлянды цветов пламенели вкруг шеи,
Она усмехалась на темной равнине.
Силки трепетали в руках у богини:
Она уносила в силках своих цепких
Богатых и бедных, бессильных и крепких,
И радостно смерти вручала добычу —
Породу людскую, звериную, птичью.
Пандавам являлась она еженощно
Во сне, а за нею, воюющий мощно,
Вставал Ашваттхаман в ночном сновиденье!
С тех пор как вступили пандавы в сраженье
С потомками Куру, — когда засыпали,
Во сне они видели черную Кали,
А с ней — сына Дроны, готового к бою…
А ныне на них, убиенных Судьбою,
Напал Ашваттхаман под звездным покровом,
Весь мир ужасая воинственным ревом.
Пандавы, богиню увидев, в смятенье
Решили: «О, горе! Сбылось сновиденье!»
Сын Дроны, как посланный Временем строгий
Крушитель, — рубил им и руки, и ноги,
И ягодицы, — превращались пандавы
В обрубки, что были безбрюхи, безглавы.
Ревели слоны, кони ржали от боли,
И месивом плоти усеялось поле.
«О, кто там? О, что там?» — дрожа от испуга,
Бойцы и вожди вопрошали друг друга,
Но меч возносил надо всеми сын Дроны,
Как смерти владыка, судья непреклонный.
Он трепет пандавам внушал и сринджайям,
Враг падал, оружьем возмездья сражаем.
Одни, ослепленные блеском оружья,
Тряслись, полусонные, страх обнаружа,
Другие, в безумье, в незрячем бессилье,
Своих же копьем или саблей разили.
Опять на свою колесницу взошедший,
Сын Дроны, оружие Шивы обретший,
Рубил, убивал, становясь все жесточе:
Он сваливал жертвы на жертвенник Ночи.
Давил он людей передком колесницы,
Стонали безумцы и гибли сновидцы,
А щит его тысячей лун был украшен,
А меч его, синий, как небо, был страшен!
Он воинский стан возмутил ночью темной,
Как озеро слон возмущает огромный.
В беспамятстве жалком, в забвении сонном,
Воители падали с криком и стоном,
А кто поднимался, — в смятенье и в спехе
Не видели, где их оружье, доспехи.
Они говорили беззвучно, бессвязно,
И корчились в судорогах безобразно,
И прятались или, рассудок утратив,
Ни родичей не узнавали, ни братьев.
Кто, ветры пуская, как пьяный слонялся,
А этот — мочился, а тот — испражнялся.
А кони, слоны, разорвав свои путы,
Топтали бойцов среди мрака и смуты,
И не было на́ поле счета убитым
Под бивнем слона и под конским копытом.
Шли ракшасы за победителем следом:
Большая добыча была трупоедам!
И бесы, увидев побоище это,
Наполнили хохотом стороны света.
Отцы в поединок вступали с сынами,
А кони — с конями, слоны — со слонами,
И все они ржали, ревели, вопили,
И тьма уплотнялась от поднятой пыли.
Живые вставали и падали снова,
И мертвый раздавливал полуживого,
И свой убивал своего, уповая,
Быть может, что выживет он, убивая!
Бежали от врат часовые, в какую
Неведомо сторону, все — врассыпную,
Те — к северу, эти — в отчаянье — к югу,
«О, сын мой!», «Отец мой!» — кричали друг другу,
Но если отцы и встречались с сынами,
То перекликались они именами
Родов своих, не узнавая обличий,
И слышалось горе в том зове и кличе,
И падал воитель, не зная, что рядом —
Племянник иль шурин с безжизненным взглядом.
Одни помрачились умом среди бедствий,
Другие искали спасения в бегстве, —
Из стана гнала их о жизни забота,
Но лишь выбегали они за ворота,
Гонимые горем, познавшие муки,
Сложившие с робкою просьбою руки,
С расширенными от испуга глазами,
Без шлемов, с распущенными волосами,
Без ратных доспехов, одежд и оружья, —
Тотчас Критаварман и Крипа, два мужа,
Не ведавших жалости, их убивали:
Один из ста тысяч спасался едва ли!
Чтоб сделалось поле добычей пожарищ,
Чтоб этим доволен был их сотоварищ,
Весь вражеский стан подожгли они оба.
Огня — с трех концов — ярко вспыхнула злоба,
И в стане пандавов, при свете пожара,
Сын Дроны свирепствовал грозно и яро.
Разил он отважных, рубил он трусливых,
Как стебли сезама на землю свалив их,[159]
Во прах повергал их, и до середины
Мечом рассекал их на две половины.
Ревущих слонов, и коней вопиющих,
И воинов, с криками жизнь отдающих,
Сын Дроны, разгневанный, сваливал в кучи, —
И двигался дальше воитель могучий.
О, сколько их было — безногих, безглавых
Обрубков, плывущих в потоках кровавых!
Валялись, усеяв собою становье,
А бедра и ноги — как бивни слоновьи,
С браслетом рука, голова молодая,
И пальцы валялись, оружье сжимая.
Сын Дроны у тех отсекал оба уха,
У этих он вспарывал горло и брюхо,
С размаха одних обезглавливал в сече,
Другим же он головы вдавливал в плечи.
Пред миром, раскрывшим в смятении очи,
Явилось ужасное зрелище ночи,
Явилось пред миром, средь мрака ночного,
Ужасное зрелище праха земного.
Здесь якшей и ракшасов было обилье,
Слоны, увидав свою гибель, трубили,
И вместе с конем от меча падал конный,
Сраженный разгневанным отпрыском Дроны.
Бойцы умирали в логу иль у ската
И звали отца, или мать, или брата,
А то говорили: «О, нам кауравы
Содеяли менее зла, чем оравы
Нечистых, на спящих нагрянувших ночью, —
И вот свою смерть мы узрели воочью!
О, если бы Кунти сыны были с нами,
Не гибли б мы вместе с конями, слонами!
Ни якши, ни ракшасы, ни полубоги,
Ни бесы, ни боги в небесном чертоге
Не властны над жизнью пандавов всеправых:
Заботится Вишну о братьях-пандавах!
Привержен божественной истине свято,
Наш Арджуна разве убьет супостата,
Который оружье сложил беззаботно,
Иль просто заснул среди ночи дремотной,
Иль робко скрестил на груди свои руки,
Иль, видя, что гибнут и деды и внуки,
Бежит без доспехов, бежит без оглядки!
О нет, это ракшасов страшных повадки!
Свершить преступленье такое способны
Лишь бесы, которые мерзки и злобны!»
Так воины жаловались перед смертью,
Но тщетно взывали они к милосердью.
И стихли последние вопли и стоны.
Улегся и ропот, убийством рожденный,
Тяжелая пыль улеглась постепенно,
Остыла коней умирающих пена.
Сын Дроны поверг в запредельную область
Утративших стойкость, уверенность, доблесть:
Так Шива, хозяин гуртов неиссчетных,[160]
Во прах повергает домашних животных.
Дрожавших, лежавших, встающих, бегущих,
Сражавшихся храбро, скрывавшихся в кущах,
Обнявшихся иль убивавших друг друга,
Здоровых иль ставших добычей недуга, —
Их всех истреблял Ашваттхаман, сын Дроны,
Всесильный, разгневанный, ожесточенный!
И вот уже ночи прошла половина,
И вражьи бойцы полегли до едина.
Познала нечистых толпа упоенье,
А люди и лошади — гибель, гниенье.
Как пьяные, ракшасы всюду шатались:
Они мертвой плотью и кровью питались.
Огромны, покрыты коричневой шерстью,
Измазаны жиром, и грязью, и перстью,
Страшны, пятиноги и великобрюхи,
С короткими шеями и лопоухи,
С перстами, что загнуты были неладно,
С зубами, что скалились остро и жадно,
С коленями, с бедрами вроде колодцев,
В сообществе жен и младенцев-уродцев,
Склонились над падалью ада исчадья:
Устроили ракшасы пир плотоядья!
Хмельные от крови, насытившись мясом,
Они наслаждались уродливым плясом.
«Как сытно! Как вкусно! Мы рады! Мы рады!» —
Кричали в ночи кровопийцы-кравьяды.
Великое множество бесов плясало,
Наевшись и костного мозга, и сала.
Их были мильоны, мильоны, мильоны,
Их злу ужаснулся весь мир потрясенный.
Они веселились, — для них не отрада ль,
Что мясо живых превращается в падаль?
Где поле в крови, где людей гореванье,
Там силы бесовской — гульба, пированье!
Сын Дроны стоял над кровавой рекою,
А меч его слился с могучей рукою.
Отсель он решил удалиться с рассветом.
Покончив с врагом, на побоище этом
Пожрал он, как пламя в конце мирозданья,
Все твари земли, все живые созданья!
Исполнил он клятву, свершил он расплату,
За гибель отца отомстил супостату.
И так же, как тихо здесь было вначале,
Когда он пришел ради мести, и спали
И люди, и кони, — на мертвом становье
Опять воцарилось повсюду безмолвье,
И вышел из вражьего стана сын Дроны,
Молчаньем убитых врагов окруженный.
Пришел к Критаварману, к Крипе с известьем,
Что недругу страшным воздал он возмездьем.
Обрадовавшись, рассказали те двое,
Что тоже занятье нашли боевое,
Что здесь, где проход преграждают ворота,
Они истребили панчалов без счета.
От горя избавившись, точно от ноши,
Довольные, хлопали громко в ладоши.
О ночь, истребившая бесчеловечно
Панчалов и сомаков, спавших беспечно!
О царь, от Судьбы никому нет защиты:
Они убивали — и были убиты!»
Спросил Дхритараштра: «Зачем же сын Дроны,
Столь доблестный, силою столь наделенный,
Для нашего сына на поприще брани
Не сделал такого деяния ране,
А сделал тогда лишь, — мне правду поведай!
Когда наслаждались пандавы победой?»
Санджайя сказал: «Он пандавов страшился.
Тогда лишь на дело свое он решился,
Когда он узнал, что отсутствует Кришна,
Что гласа Юдхиштхиры в поле не слышно,
Что нет и возничего Кришны Сатьяки, —
Тогда лишь на спящих напал он во мраке.
А были б они, — о, пойми, миродержец, —
Врагов не разбил бы и сам Громовержец!
Уснувших людей истребив столь ужасно,
Три витязя крикнули великогласно:
«Судьба покарала их всех без изъятья!»
Затем Критаварман и Крипа в объятья
Свои заключили рожденного Дроной,
И молвил он, радостный и возбужденный:
«Убил я бессчетных панчалов отряды,
И сомаков смелых, и внуков Друпади,
В ночи уничтожил я матсьев остатки,
И ныне, когда не предвидится схватки, —
Покуда он жив, к властелину поспешно
Пойдем: наша весть ему будет утешна».
Санджайя сказал: «Истребив без пощады
Панчалов, и матсьев, и внуков Друпады,
Три воина смелых, о царь непоборный,
Поспешно помчались на берег озерный,
Где раджа, твой сын, в ожиданье кончины
Лежал на поверхности дальней долины.
Склонились они над владыкой сраженным.
Еще он дыханьем дышал затрудненным.
Он мучился, собственной кровью облитый,
И были два мощных бедра перебиты.
Вокруг него двигалась хищников стая,
И выли шакалы, еду предвкушая,
И царь зарывался в траву головою,
Со страхом внимая шакальему вою,
И харкал он кровью, и корчился в муках, —
Сраженный предательством вождь сильноруких!
Он был окружен, как тремя алтарями,
Тремя огненосными богатырями.
И, глядя, как раджа, всесильный дотоле,
Страдает, — они разрыдались от боли.
Руками с лица его кровь они стерли.
Сказал Ашваттхаман с рыданием в горле:
«О лучший из Куру! Мы будем отныне
Бродить по земле в бесконечном унынье.
О, где без тебя мы отраду отыщем?
Теперь небеса твоим станут жилищем.
Погибших в сраженьях, отвагой богатых,
Ты встретишь на небе военных вожатых.
Они, услыхав мои скорбные речи,
Тебя да почтут, о великий, при встрече!
Наставнику мудрому слово поведай,[161]
Что бой с Дхриштадьюмной я кончил победой.
Карну обними, обними всех ушедших
И новою жизнью на небе расцветших!»
Взглянув на царя, истекавшего кровью,
Припал Ашваттхаман к его изголовью.
«Послушай, — сказал богатырь миродержцу, —
Известье, приятное слуху и сердцу.
Лишь семеро живы из вражьего стана,
Из нашего — трое, о царь богоданный!
Те семеро: пятеро братьев-пандавов,
И Кришна, знаток и блюститель уставов,
И сильный Сатьяка, — вот эти герои!
А я, Критаварман и Крипа — те трое.
Убиты панчалов и матсьев отряды,
Сыны Дхриштадьюмны и внуки Друпады.
За зло было воздано злом. Погляди ты:
Все наши противники были убиты,
Когда они ночью заснули на ложе.
Их кони, слоны уничтожены тоже,
А я Дхриштадьюмну прикончил, злодея,
Животное в этом царе разумея!»
В сознанье пришел государь: утешенье
Обрел умирающий в том сообщенье.
Сказал он: «Ни я, ни Карна солнцеликий,
Ни славный отец твой, ни Кришна великий
Того не свершили всей мощью усилий,
Что ты, Критаварман и Крипа свершили
Для славы моей и для воинской чести!
И если сегодня с Шихкандином вместе
Убит Дхриштадьюмна, презренный убийца,
То с Индрой могу я величьем сравниться!
Да счастья и блага вам выпадет жребий!
Да будет нам новая встреча на небе!»
Сказал — и навеки замолк, и кручина
Объяла поникших друзей властелина.
Они обнялись и, царя на прощанье
Обняв, озираясь в печальном молчанье
И глядя на мертвого снова и снова,
Взошли на свои колесницы сурово».
После блистательного царствования Юдхиштхира отрекается от престола. Царем становится Пари́кшит, сын Абхиманью, внук Арджуны. Парикшита умерщвляет змей Такшака. На престол восходит сын Парикшита Джанаме́джая. Карая за смерть своего отца, Джанамеджая приказывает сжечь всех змей. Во время этого жертвоприношения и рассказывается «Махабхарата».
О повести этой мы скажем вначале,
Что люди ее в старину рассказали.
Одни и поныне хранят ее слово,
Другие придут и поведают снова.
Вторично рожден приобщенный к познанью:
Становится дваждырожденным по званью,
А кто пребывает в незнанье дремотном,
Среди человечества равен животным.
Читайте же это старинное чтенье,
И вы обретете второе рожденье!
Послушайте суту, он — царский возница,[163]
В душе его правда преданий хранится.
Спросите у суты, у суты спросите
О повести давней великих событий,
Спросите о птице, спросите о змее,
О том, кто сильнее, о том, кто мудрее,
Спросите об А́стике дваждырожденном,
В делах милосердия непревзойденном!
Как масло жирнее всей пищи молочной,
Как море сильнее всей влаги проточной,
Как мудрый в сравнении с темным, убогим,
Корова в сравнении с четвероногим,
Как все превосходит, бессмертных питая,
Блаженная а́мрита, влага святая,
Так слово предания — лучшее слово,
Источник познания, правды основа.
Спросите у суты, почтенные люди,
О Ва́суки-змее, о птице Гару́де,
О подвигах славных, о старых законах,
О Ка́шьяпе мудром, о двух его женах,
О Ка́дру прекрасной, о чистой Вина́те,
О том, как сражались небесные рати,
Спросите у суты, — расскажет о многом
Красивым, певучим, размеренным слогом.
Певец и подвижник божественноликий,
Был Кашьяпа мудрый всех тварей владыкой.
Святому дана была свыше награда:
Лекарство он знал от змеиного яда.
С красавицей Кадру, с прелестной Винатой
Делился он счастьем, на сестрах женатый, —
На двух тонкостанных, на двух богоравных,
На двух дивнобедрых, на двух благонравных.
Он жаждал потомства, сгорал он от жажды,
И жертву решил принести он однажды.
Потребовал он от всесильных подмоги, —
Пришли мудрецы, полубоги и боги.
Он Индре сказал, повелителю молний:
«Дрова принеси мне, приказ мой исполни».
Подобно горе возвышались поленья,
Но Индра, неся их, не знал утомленья.
Тогда мудрецы, ростом с маленький палец,[164]
Свирепому богу навстречу попались.
Духовные подвиги их истощили,
С трудом стебелек они вместе тащили.
Преграду поставил им жребий суровый:
Вошли они в след от копыта коровы,
И в ямке, наполненной мутной водою,
Боролись подвижники с грозной бедою.
Ревущий громами, гоняющий тучи,
Над ними тогда посмеялся могучий.
Они показались ничтожными богу,
Над ними занес он огромную ногу.
Но в пламени гнева, но в муках печали
Отшельники мудрые слово сказали.
Они совершили огню возлиянье,
Они возгласили свое заклинанье:
«Во имя того, что тверды мы в законах,
Суровы в обетах своих непреклонных,
Пусть явится Индра второй во вселенной,
Стократно сильнее, чем Индра надменный.
Отважный, стремительной мысли подобный,
Менять свою силу и облик способный,
Пусть первого доблестью он превосходит
И ужас на властного Индру наводит».
Ушел Громовержец от слабых и малых
В тоске, ибо гнев справедливый познал их.
Он Кашьяпу, в страхе, отвлек от занятья:
«Избавиться мне помоги от заклятья».
О том, что случилось, всех тварей властитель
Спросил у премудрых, войдя в их обитель.
Они отвечали: «Как скажешь, так будет.
Согласны мы с тем, что подвижник присудит».
И Кашьяпа так успокоил безгрешных,
Им счастья желая в деяньях успешных:
«Сей Индра, исполненный молний блистанья, —
Он Бра́хмою создан, творцом мирозданья.
Не делайте ложным создателя слово,
Не делайте, мудрые, Индру второго!
Но пусть ваша дума не будет напрасной,
Согласен и я с этой думой прекрасной.
Пусть Индра второй средь пернатых родится —
Отважная, сильная, славная птица.
Даруйте же Индре, о мудрые, милость,
Душа его с просьбою к вам устремилась».
Сказали отшельники: «Действуй умело.
Замыслили мы наше доброе дело,
Чтоб Индра явился, но Индра пернатый,
Чтоб цели достиг ты, потомством богатый».
Вината, жена мудреца, в это время
Под сердцем почуяла милое бремя.
Подвижник сказал дивнобедрой богине:
«Двум детям ты матерью станешь отныне.
Родишь ты мне двух сыновей наилучших,
Воителей смелых, счастливых, могучих.
Один из них, птиц повелитель крылатый,
Прославится в мире, как Индра пернатый,
Отважный, стремительной мысли подобный,
Менять свою силу и облик способный».
И молвил он Индре: «Не бойся заклятья.
Мои сыновья тебе будут как братья.
Ты, Индра, на свет сотворен миродержцем,
Навеки останешься ты Громовержцем.
Но впредь никогда не чини ты обиду
Премудрым подвижникам, крохотным с виду.
Почтенны и слабые телом творенья,
Никто твоего не достоин презренья».
Ушел Громовержец на небо с рассветом…
Главу «Махабха́раты» кончим на этом.
Два круглых яйца от Винаты-богини
В сосуды с водой положили рабыни.
Смотрел и на Кадру подвижник любовно:
Яиц принесла она тысячу ровно.
Их тоже на пять положили столетий
В сосуды с водой, чтобы вызрели дети.
Пять полных столетий прошли над вселенной,
И змеи родились у Кадру блаженной.
Их тысяча было — и смирных, и злобных,
И молниевидных, и тучеподобных,
Прекрасных, блиставших жемчужным нарядом,
Ужасных, грозивших губительным ядом,
Прелестных, с покрытыми чернью серьгами,
Уродливых, скользких, с пятью головами,
Коротких и длинных, спокойных и шумных,
И полных премудрости, и скудоумных,
Но грозных и слабых друг с другом сближало
С губительным ядом смертельное жало!
Был Ше́ша сначала, шел Ва́суки следом,
Стал каждому также и Та́кшака ведом.
Считать их? Но всех невозможно исчислить,
А сколько их стало, нельзя и помыслить!
А двойни Винаты все не было видно,
И сделалось будущей матери стыдно,
Детей она жаждала сильно, глубоко,
Яйцо, не дождавшись, разбила до срока.
Разбила яйцо — и увидела сына,
Но верхняя лишь развилась половина,
В зачатке была половина вторая,
И молвил ей первенец, гневом пылая:
«О жадная мать, не достигла ты цели,
Меня создала незаконченным в теле.
За это рабынею станешь ты вскоре,
Пять полных столетий прослужишь ты в горе.
Но брат мой родится и крылья расправит,
Несчастную мать от неволи избавит.
Однако яйцо разбивать не спеши ты,
Смиренная, жадностью впредь не греши ты,
Не надобно впредь поддаваться соблазнам,
Чтоб сын твой не вышел, как я, безобразным.
С тем сыном никто не сравнится на свете,
Но жди, чтобы пять миновало столетий».
Так молвил ей, верхней созрев половиной,
Сын А́руна, в горе своем неповинный.
Сказал и поднялся к небесным просторам.
Теперь по утрам он является взорам:
Когда разгорается в небе денница,
Мы Аруну видим: он — солнца возница…
И стала Вината, — глаголет преданье, —
Полтысячи лет проводить в ожиданье.
В то время к двум сестрам приблизился белый
Божественный конь, горделивый и смелый,[165]
Скакун вечно юный, скакун быстроногий, —
Его почитали и славили боги.
А был он подобен, скакун драгоценный,
Потоку нагорному с белою пеной.
Он вышел из влаги молочной, из масла,
Его красота не старела, не гасла.
Потом вы узнаете важные вести:
На свет появился он с амритой вместе…
Воскликнула Кадру, вкушавшая счастье:
«Скажи мне, какой он, по-твоему, масти?»
«Он — белый, — Вината промолвила слово, —
С тобой об заклад я побиться готова».
«О, мило смеющаяся, дорогая
Сестра, ошибаешься ты, полагая,
Что масти он белой. Ответ мой бесспорен:
Я вижу, я знаю, что хвост его — черен.
Давай об заклад мы побьемся с тобою,
А кто проиграет, пусть будет рабою
У той госпожи, что окажется правой!» —
Воскликнула Кадру с улыбкой лукавой.
Они разошлись по домам со словами:
«Мы завтра увидим, исследуем сами».
Но Кадру, сказав: «Победить мы сумеем!» —
Велела тогда сыновьям своим — змеям:
«О дети, должна я прибегнуть к обману,
Не то у Винаты рабынею стану.
Сейчас предо мной волосками предстаньте,
К хвосту скакуна черной краской пристаньте».
Но змеи не приняли слов криводушных,
И мать прокляла сыновей непослушных:
«Придет Джанаме́джая, змей уничтожит,
Змеиному роду конец он положит.
Придет властелин в заповедное время,
Предаст он огню ядовитое племя».
Такой приговор, и жестокий и строгий,
Одобрили Брахма-создатель и боги:
Воистину, всем существам угрожало
Губительным ядом змеиное жало!
Вот солнце явилось, проснулись Вината
И Кадру-красавица, гневом объята.
Они полетели быстрей урагана
Взглянуть на коня посреди океана.
Увидели тот океан необъятный,
Ужасный для смертных, бессмертным приятный,
Чудесный, бушующий, неукротимый,
И неизмеримый, и непостижимый;
То солнцу подвластный, то мраку покорный,
Он амритой — влагой владел животворной.
Колеблемый ветром, метался он дико,
Подземного пламени вечный владыка;
Вместилище вод многошумных, священных,
И всяких щедрот, и камней драгоценных;
Вместилище змей и подводных чудовищ,
И демонов черных, и светлых сокровищ;
В нем были киты, крокодилы и рыбы,
В нем воды рождались и рушились глыбы;
Порою, веселья безумного полный,
Плясал он: как руки, он вскидывал волны;
Порою был мрачен и страшен от рева,
От хохота, воя всего водяного;
Его приводило всегда в исступленье
Луны прибавленье, луны убавленье;
Он смертью грозил и растеньям и тварям,
Над реками был он царем-государем;
Обширный, подобно небесному своду,
Вздымал он и гнал он извечную воду!
Над влагой безмерною Кадру с Винатой
Промчались, исполнены силы крылатой.
Пред ними божественный конь показался,
Рожденный из пены, он пены касался.
Взглянули на хвост и увидели сами,
Что черными он испещрен волосами:
То змеи, страшась материнского гнева,
Чернели в средине, и справа, и слева.
И, Кадру-сестрой побежденная в споре,
Ей стала Вината рабыней. О, горе!
Настала пора и тоски и терзанья…
На этом главу мы кончаем сказанья.
Теперь поведем стародавние были,
Расскажем, как амриту боги добыли.
Есть в мире гора, крутохолмная Меру,
Нельзя ей найти ни сравненье, ни меру.
В надмирной красе, в недоступном пространстве,
Сверкает она в золотистом убранстве.
Блистанием солнца горят ее главы.
Живут на ней звери, цветут на ней травы.
Там древо соседствует с лиственным древом,
Там птицы звенят многозвучным напевом.
Повсюду озера и светлые реки,
Кто грешен, горы не достигнет вовеки.
Презревшие совесть, забывшие веру,
И в мыслях своих не взберутся на Меру!
Одета вершина ее жемчугами.
Сокрыта вершина ее облаками.
На этой вершине, в жемчужном чертоге,
Уселись однажды небесные боги.
Беседу о важном вели они деле:
Напиток бессмертья добыть захотели.
Нара́яна молвил: «Начнем неустанно
Сбивать многоводный простор океана,
Пусть боги и демоны, движимы к благу,
Как сливки, собьют океанскую влагу.
Мы амриту, этот напиток волшебный,
Получим совместно с травою лечебной.
Давайте же пахтать волну океана!» —
Нараяна молвил, вселенной охрана.
Есть в мире гора, над горами царица.
С ее высотою ничто не сравнится.
На Ма́ндаре птицы живут и растенья,
На Мандаре — диких животных владенья.
Ее оглашает напев стоголосый,
Зубчатым венцом украшают утесы.
И вырвать хотели в начальную пору
Небесные боги великую гору,
Чтоб Мандарой гордой сбивать неустанно
Безмерную синюю ширь океана.
Но гору не вырвали, как ни трудились.
К Нараяне, к вечному Брахме явились:
«Хотя домогаемся амриты чудной,
Одни мы с работой не справимся трудной».
Всесущие боги, к добру тяготея,
Тут кликнули Шешу, могучего змея.
И встал он, и вырвал он гору из лона
С цветами, зверями, травою зеленой.
Направились боги с горою великой
И речь повели с океаном-владыкой:
«Сбивать твою воду горою мы будем,
Мы амриту, влагу бессмертья, добудем».
Сказал океан: «Не страшусь я тревоги,
Но дайте мне амриты долю, о боги!»
Тогда-то к царю черепах, на котором
Стоит мирозданье[166], пришли с разговором
И боги и демоны: «Сделай нам милость,
Чтоб эта гора на тебе утвердилась».
Тогда черепаха подставила спину,
Подняв и подножье горы и вершину.
Могучие сделали гору мутовкой,
А Васуки, длинного змея, — веревкой,
И стали, желая воды животворной,
Сбивать океан, беспредельно просторный.
Сбивали, как масло хозяйки-подружки
Из сливок отменных сбивают в кадушке.
И стали совместно растягивать змея,
Конец у премудрых, у демонов — шея,
Вздымал его голову бог непрестанно
И вновь опускал в глубину океана.
Из пасти змеиной, шумя над волнами,
Взметались и ветры, и дымы, и пламя,
И делались дымы громадой летучей,
Обширной, пронизанной молнией, тучей.
На демонов, мучимых жаром жестоким,
Она низвергалась кипящим потоком,
Из горной вершины, во время вращенья,
Как ливень, струились цветы и растенья,
Сплетались цветы в вышине лепестками,
На светлых богов ниспадали венками.
Вращалась гора, — обреченные смерти,
Тонули насельники вод в круговерти,
Земля сотрясалась, и влага, и воздух,
Валились деревья с пернатыми в гнездах,
И древо о древо, и камень о камень,
Столкнувшись, рождали неистовый пламень.
Как синее облако — молнийным жаром,
Он искрами прыскал, он мчался пожаром.
В том пламени гибли неправый и правый,
И хищные звери, и кроткие травы.
Но Индра, играя громами, с отвагой
Огонь погасил бурнохлещущей влагой.
Тогда в океан устремились глубокий
И трав и деревьев душистые соки.
Вода в молоко превратилась сначала,
Затем благодатные соки впитала
И в сбитое масло затем превратилась, —
На время работа богов прекратилась.
Взмолились премудрые: «Дароподатель,
Смотри, как устали мы, Брахма-создатель!
Мы силы лишились, нам больно, обидно,
Что все еще амриты дивной не видно!»
Нараяне Брахма сказал первозданный:
«Дай силу свершающим труд неустанный».
В них силу вдохнул небожитель безгневный,
И месяц возник, словно друг задушевный.
Излил он лучи над простором безбрежным,
Он светом зажегся прохладным и нежным.
Явилась богиня вина[167] в океане,
Затем, в белоснежном своем одеянье,
Любви, красоты появилась богиня,[168]
За чудной богиней, могуч, как твердыня,
Божественно белый скакун показался,
Рожденный из пены, он пены касался.
Явился врачующий бог[169], поднимая
Сосуд: это — амрита, влага живая!
Все демоны ринулись жадно к сосуду.
«Мое!», «Нет, мое!» — раздавалось повсюду.
Тогда-то Нараяна, вечный, всевластный.
Предстал перед ними женою прекрасной.
Увидев красавицу, демоны разом
От вспыхнувшей страсти утратили разум.
Вручили сосуд появившейся чудом —
Нараяна скрылся с желанным сосудом,
И амриты дивной испили впервые
Премудрые боги, созданья благие,
Испили впервые — и стали бессмертны,
А демоны двинулись, грозны, несметны,
Рубили мечами, дрались кулаками, —
Так начали демоны битву с богами.
И в гуле проклятий, вблизи океана,
Столкнулись две рати, боролись два стана,
О палицу меч и копье о дубину
Сгибались, и падала кровь на долину.
Тела без голов на долине скоплялись,
А мертвые головы рядом валялись.
Пусть не было демонской рати предела,
Нечистые гибли, их войско редело,
И падали наземь в крови исполины,
Как яркие, красные кряжей вершины.
Багровое солнце меж тем восходило,
Скопления демонов таяла сила,
Но бой продолжался ужасный, великий,
Повсюду гремели свирепые клики:
«Руби! Нападай! Бей наотмашь и в спину!
Коли! Налетай! Заходи в середину!»
И демоны злые, теснимы богами,
Построили воинство за облаками,
Бросали с небес и утесы и кручи, —
Казалось, что дождь низвергался из тучи, —
Громадные горы бросали в смятенье,
Вершины срывались при этом паденье.
Земля содрогалась: такого обвала,
С тех пор как возникла, она не знавала!
Встал к месту сраженья Нараяна близко,
В небесные своды из грозного диска
Метнул заостренные золотом стрелы,[170]
Огонь охватил небосвода пределы,
Вершины, дробясь, исчезали во прахе,
И полчище демонов ринулось в страхе,
С протяжными воплями, с криком и стоном,
Сокрылись в земле, в океане соленом.
А боги, когда торжество засияло,
Поставили Мандару там, где стояла,
И, амриту спрятав в надежном сосуде,
Пошли, говоря о неслыханном чуде.
Пошли они, силы познав преизбыток,
Хвалили бессмертья волшебный напиток.
Пошли они, преданы твердым обетам…
Главу «Махабхараты» кончим на этом.
Пять полных столетий с тех пор миновало.
Вината рабыней сестры пребывала.
Но срок наступил, и родился Гаруда,
Разбил он яйцо и взлетел из сосуда.
Сверкал он, исполненный силы великой,
Громадою пламени многоязыкой.
Казалось, он рос без предела и края,
Пылая и ужас в живое вселяя.
Все твари пред Агни предстали с мольбою:
«Владыка огня, мы сгорим под тобою!
Ты в каждом земном существе обитаешь,
Миров разрушитель, ты всех очищаешь.
Чего ты огнем ни коснешься лучистым,
Становится светлым, становится чистым.
О жертв пожиратель, всевидящим взглядом
Следишь ты за жертвенным каждым обрядом.
О бог семипламенный, силы ты множишь, —
Ужели ты все существа уничтожишь?
Расширилось тело твое огневое, —
Ужели ты хочешь пожрать все живое?»
Ответил им Агни: «Ошиблись вы, твари,
Не я виноват в этом грозном пожаре.
Есть новое в мире, мне равное чудо —
Отважная, сильная птица Гаруда».
Собранье богов, мудрецы-ясновидцы
Явились тогда к обиталищу птицы,
Сказали Гаруде: «Владеешь ты славой.
Душою премудрый и видом кудрявый.
Пернатого царства ты царь благородный,
Ты — света источник, от мрака свободный.
Ты — мысли паренье, ты — мысли пыланье,
Причина и действие, подвиг и знанье.
Ты — длительность мира, его быстротечность,
Мгновенье и тленье, нетленность и вечность!
Ты — ужас вселенной, ты — жизни защита,
Гаруда, тебе наше сердце открыто!»
Так мир потрясенный пернатого славил,
И мощь свою гордый Гаруда убавил.
Гаруда, стремительной мысли подобный,
Менять свою силу и облик способный,
Помчался над влагой безмерной и синей
Туда, где Вината служила рабыней…
Однажды Винате, покорной всецело,
Чтоб слышал Гаруда, сестра повелела:
«Среди океана, во чреве пучины,
Есть остров прекрасный, есть остров змеиный.
Неси меня к змеям, сестра дорогая!» —
Воскликнула Кадру, глазами сверкая.
Вината взяла себе Кадру на плечи
И с матерью змей полетела далече,
А тысячу змей, по приказу Винаты,
Гаруда понес, повелитель пернатый,
И к солнцу поднялся он, мысли быстрее,
И впали от жара в бесчувствие змеи.
Но Кадру к властителю грома взмолилась:
«О Индра, даруй мне великую милость!
Ты — лето и осень, ты — зимы и вёсны,
Ты — ливень свирепый, ты — дождь плодоносный.
Ты — горькая участь, ты — радостный жребий,
Ты — молния в тучах, ты — радуга в небе.
То громом бушуешь, то ветром холодным, —
Пролейся же, Индра, дождем полноводным!»
Мгновенно разверзлись небесные своды,
На землю низверглись несметные воды.
Казалось: неслись по всему мирозданью,
Друг друга осыпав отборною бранью,
Гремящие тучи одна за другою;
Как чаша, земля наполнялась водою,
Дождил Громовержец из неба-громады,
А змеи смеялись, довольны и рады.
На остров прекрасный Гаруда принес их,
Где слышалось пение птиц стоголосых,
Где травы цвели на широких просторах,
Где лотосы были в прудах и озерах,
Деревья водой упивались проточной
И змей обдавали струею цветочной.
Воскликнули змеи: «Неси нас отсюда
На более дивное место, Гаруда!
Неси нас на остров другой, сокровенный,
Ты сам насладишься красою вселенной!»
Подумав, Гаруда спросил у Винаты:
«О милая мать, объяснить мне должна ты,
Скажи, почему отказаться не смеем,
Во всем подчиняться обязаны змеям?»
«О сын мой, — сказала Гаруде Вината, —
Я в нашей неволе сама виновата.
Обманом сестрой побежденная в споре,
У Кадру живу я рабыней в позоре».
И стала Гаруды печаль тяжелее.
Он молвил: «Всю правду скажите мне, змеи!
Разведать мне тверди, разведать мне воды
Иль подвиг свершить, чтоб добиться свободы?»
Сказали: «От рабства себя ты избавишь,
Как только ты амриту змеям доставишь».
«О мать, — услыхала Вината Гаруду, —
Я голоден. Амриту ныне добуду».
Уверившись в силе его исполинской,
Но все же тревоги полна материнской,
Вината, взволнована в это мгновенье,
Гаруде промолвила благословенье:
«Лети по пути многотрудному смело,
Лети и сверши благородное дело.
Возьми себе Солнце и Месяц в охрану,
Тебя ожидать я с надеждою стану».
На небо, где темные тучи нависли,
Поднялся Гаруда со скоростью мысли,
Поднялся и вспыхнул невиданным светом.
Главу «Махабхараты» кончим на этом.
В то время, исполнены смутной тревоги,
Увидели страшные знаменья боги:
Громов громыханье, и веянье бури,
И пламя таинственных молний в лазури;
Кровавые ливни и рек наводненье,
Средь ясного дня метеоров паденье;
Величье богов приходило в упадок,
Венки их поблекли, настал беспорядок,
И сам Громовержец, с душевною раной,
Дождил не дождями, а кровью багряной.
Явился он к Брахме, сказал властелину:
«Внезапной беды назови мне причину».
Ответствовал Брахма: «Причина смятенья —
Подвижников малых дела и моленья.
Над кроткими ты посмеялся в гордыне, —
Отсюда явились и бедствия ныне.
От Кашьяпы мудрого, чистой Винаты
Рожден исполин, повелитель пернатый,
Отважный, стремительной мысли подобный,
Менять свою силу и облик способный,
Он взял себе Солнце и Месяц в охрану,
Задумал он: «Амриту ныне достану».
Отвагой с Гарудой никто не сравнится.
Свершит невозможное мощная птица!»
К богам, охранявшим напиток, с приказом
Пришел Громовержец, и мудрые разом,
С мечами из остро отточенной стали.
В кольчугах, готовые к битве, предстали.
Огнем пламенели их светлые лики,
Рождали огонь их трезубцы и пики.
Железные копья прижались к секирам.
Крылатые стрелы сверкали над миром,
И поле сражения сделалось тесным.
И плавилось, мнилось, на своде небесном.
На войско бессмертных, что высилось и латах,
Нагрянул внезапно владыка пернатых.
Гаруда могучие крылья расправил
И крыльями ветер подняться заставил.
Вселенную черною пылью одел он,
Незримый во тьме, над богами взлетел он.
Когтями терзал он богов без пощады.
Он клювом долбил их, ломая преграды.
Обрушились ливнем и копья и стрелы.
Но грозный Гаруда, могучий и смелый,
Ударов не чувствовал копий железных.
А боги бежали и падали в безднах.
Бежали премудрые, страхом объяты. —
Волшебной воды домогался пернатый.
Увидел он: пламя неслось отовсюду,
Казалось, — сожжет оно мир и Гаруду!
Гаруде служили крыла колесницей.
Он стал восьмитысячеклювою птицей.
На реки текучие взор обратил он,
И восемь раз тысячу рек поглотил он.
Он реками залил огромное пламя,
Свой путь продолжая, взмахнул он крылами,
За труд принимаясь великий и тяжкий.
Помчался он в облике маленькой пташки.
Живая вода колесом охранялась,
И то колесо непрестанно вращалось,
Могуче, как пламя, ужасно, как битва,
А каждая спица — двуострая бритва.
Меж грозными спицами был промежуток,
А вход в промежуток и труден и жуток.
Но где тут преграда для маленькой птицы?
Ее не задели двуострые спицы!
На страже сосуда, в глубинах подводных,
Увидел Гаруда двух змей превосходных.
Они подчинялись божественной власти.
Огонь извергали их жадные пасти.
Глаза их, наполнены гневом и ядом,
Смотрели на всех немигающим взглядом:
Такая змея на кого-нибудь взглянет. —
И пеплом несчастный немедленно станет!
Гаруда расправил могучие крылья,
Змеиные очи засыпал он пылью.
Незримый для змей, он рассек их на части,
Сомкнулись огонь извергавшие пасти.
Тогда колеса́ прекратилось вращенье,
Разрушилось крепкое сооруженье.
Похитил он амриту, взмыл он оттуда,
И блеском соперничал с солнцем Гаруда.
Настиг его Индра за тучей широкой,
Стрелою пронзил его, тысячеокий.
Но тот улыбнулся властителю грома:
«Мне боль от стрелы громовой незнакома.
С почтеньем к тебе обращаюсь теперь я,
Но грома и молний сильней мои перья».
Пришла Громовержцу пора убедиться,
Что это великая, мощная птица!
«Но в чем твоя сила? — спросил он Гаруду, —
Скажи мне, и другом твоим я пребуду».
Гаруда ответил: «Да будем дружны мы.
Отвага и мощь моя — неодолимы.
Хотя похвальбы добронравному чужды
И речь о себе не заводят без нужды,
Но если ты друг мне, то другу я внемлю.
Узнай же: вот эту обширную землю,
Со всеми живыми ее существами,
С морями, горами, лугами, лесами,
На каждом из перьев своих пронесу я,
Усталости в теле своем не почуя».
Сказал Громовержец Гаруде с испугом:
«Похитивший амриту, будь моим другом,
Но влагу бессмертья верни мне скорее,
Чтоб недруги наши не стали сильнее».
Воскликнул Гаруда: «Желанную влагу
Теперь уношу я, к всеобщему благу.
Вовеки ее никому не отдам я,
Верну ее скоро премудрым богам я».
Сказал Громовержец: «Я рад нашей встрече,
Твои принимаю разумные речи.
За амриту дам все, что хочешь, о птица!»
Гаруда промолвил: «Хотя не годится
На то соглашаться владыке пернатых,
Но знай, что я змей ненавижу проклятых,
Да станут мне змеи отныне едою!»
Ответствовал бог: «Я согласен с тобою».
Помчался Гаруда к Винате-рабыне,
И змеям сказал он: «Принес я вам ныне
Напиток бессмертья, что радует душу,
Сосуд на траву я поставлю, на кушу.
Вкушайте же, змеи, желанную воду,
Но бедной Винате верните свободу!»
«Согласны!» — ответили змеи Гаруде,
Они устремились, ликуя, к запруде,
Хотели они совершить омовенье,
Но Индра низринулся в это мгновенье,
Схватил он бессмертья напиток чудесный
И сразу в обители скрылся небесной.
Увидели змеи, исполнив обряды:
Похищена амрита, нет им отрады!
Но куша-трава стала чище, светлее,
Лизать ее начали тихие змеи,
И змеи, траву облизав, поразились,
Тогда-то у них языки раздвоились.
А куша травою священною стала,
А слава Гаруды росла и блистала.
Винату он радовал, змей пожирая,
Свободу вернула ей влага живая.
Блаженны познавшие волю созданья…
На этом главу мы кончаем сказанья.
В то время был царь, повелитель державы,
Чьи жители так назывались: пандавы.
Пари́кшитом звали царя над царями,
Любил он охоту, борьбу со зверями.
Когда он в лесные заглядывал дебри,
Боялись его антилопы и вепри.
Однажды, пронзив антилопу стрелою,
За жертвой помчался он чащей лесною,
Забрел на глухие звериные тропы,
Но в темной глуши не нашел антилопы.
Еще не бывало, чтоб грозный и дикий,
Чтоб раненый зверь ускользал от владыки,
И царь, неудачей своей огорченный,
Блуждал, антилопою в лес увлеченный.
Страдая от жажды и долгих блужданий,
Отшельника царь увидал на поляне.
Отшельник сидел, молчаливый, суровый,
В загоне, в котором стояли коровы.
Сидел он, облитый сияньем заката;
К сосцам материнским припали телята.
Властитель приблизился к мужу седому.
Свой лук подымая, сказал он святому:
«Я — царь, я — Парикшит, я правлю страною.
Охотясь, пронзил антилопу стрелою.
Ищу я добычу, усталый, голодный.
Ее ты не видел ли, муж превосходный?»
Но старец в ответ не промолвил ни слова,
Молчанья обет соблюдая сурово.
Молчальник привел повелителя в ярость.
Презрел повелитель почтенную старость.
Отшельника мудрого предал он мукам:
Змею, что издохла, приподнял он луком,
Ее положил он святому на плечи,
Но царь не услышал от мудрого речи,
Отшельник царю не промолвил ни слова,
Ни доброго слова, ни слова дурного.
И выбрался царь пристыженный из чащи,
Сидел неподвижно отшельник молчащий.
Был сын у святого, он звался Шрингином.
Он был добронравным, почтительным сыном.
Могучею силой, умом наделенный,
Добра и любви соблюдал он законы,
Но, в гневе неистов, он вспыхивал разом,
И долго не мог успокоиться разум.
К познанию блага питая влеченье,
Он в доме жреца проходил обученье.
Трудясь неустанно, себя просвещал он.
Отца с позволенья жреца посещал он.
Учась, обретал он покой наивысший.
Вот слышит он речь от ровесника, Криши:
«Как ты, от жрецов родились мы сынами,
Так чем же гордиться тебе перед нами?
Мы знаньем священным, как ты, овладели,
Исполнив обеты, достигли мы цели.
Не смей говорить нам, безгрешным, ни слова,
Ведь ты от отца происходишь такого,
Который питается пищей лесною,
Увенчан издохшей, зловонной змеею.
Ужели себя ты причислишь к мужчинам,
Ты, отпрыск отшельника с трупом змеиным!
Не смей перед нами кичиться отныне,
У жалкого поводов нет для гордыни!»
Смеялся над юношей друг и ровесник,
Нежданного горя ликующий вестник.
Шрингин от обиды пришел в исступленье,
Вскипела душа, услыхав оскорбленье,
Но все же сдержал себя, глянул на Кришу
И молвил: «Впервые об этом я слышу!
Змея, говоришь ты, издохла, скончалась?
Но как же она у отца оказалась?
Кто старца решился подвергнуть мытарствам?»
Ответствовал Криша: «Владеющий царством
Подвижника предал неслыханным мукам,
Змею, что издохла, приподнял он луком,
Змеиное тело, при первой же встрече,
Седому жрецу положил он на плечи».
«О друг мой! — Шрингин произнес негодуя, —
Чтоб выслушать истину, силы найду я.
Открой мне всю правду, поведай мне слово:
Что сделал царю мой родитель дурного?»
И Криша поведал о трупе змеином,
О старце, что был оскорблен властелином.
Ровесника слушая повествованье,
Как бы превратился Шрингин в изваянье,
Стоял он, как бы небеса подпирая,
В глазах его ярость пылала живая.
Стоял он, поступком царя оскорбленный,
Обидой разгневанный и воспаленный.
Коснувшись воды посредине дубравы,
Он предал проклятью владыку державы:
«Владыка преступный, владыка греховный,
Повинный в злодействе, в коварстве виновный!
Владыка, не смыслящий в правых законах,
Владыка, позорящий дваждырожденных!
За то, что жреца оскорбил ты святого,
За то, что отца ты унизил седого,
За то, что, о царь, тяжело согрешил ты,
За то, что на плечи отца положил ты
Издохшей змеи непотребное тело,
Чтоб старца душа молчаливо скорбела, —
Пусть Такшака-змей властелина отравит,
Тебя в обиталище смерти отправит.
Ослушаться слов моих вещих не смея,
Придет он, — и гибель найдешь ты от змея!»
Так проклял владыку он в гневе и в горе,
Пошел — и с родителем встретился вскоре.
Отца он увидел в коровьем загоне:
Сидел он, смиренно сложивши ладони.
Сидел он, облитый сияньем заката.
К сосцам матерей прижимались телята.
На слабых плечах у святого темнело
Змеиное тело, издохшее тело!
Несчастье отца есть несчастье для сына…
Вновь яростью вспыхнуло сердце Шрингина.
Заплакал он в гневе, воскликнул он в горе:
«Когда о твоем услыхал я позоре,
Я проклял Парикшита, словом владея, —
Да гибель найдет он от гнусного змея!
Пусть Такшака мощный, для злобы рожденный,
Могучим заклятьем моим побужденный,
Придет и змеиную хитрость проявит,
Царя в обиталище смерти отправит!»
Отшельник Шрингину ответил печально:
«О сын мой, деянье твое не похвально.
Парикшит для нас — и закон и защита.
Пусть грубость его будет нами забыта!
Не нравится мне, что ты предал проклятью
Того, кто к державному склонен занятью.
Прощать мы обязаны без промедленья
Царей, стерегущих людские селенья.
Закон, если попран, виновных карает.
Сильнее он тех, кто его попирает.
Без царской защиты, без царской охраны
Мы знали бы горе и страх непрестанный.
Когда охраняет нас царь просвещенный,
Легко мы свои исполняем законы.
Народы закон созидают великий,
Участвуют в этом труде и владыки.
А мудрый Парикшит, как сам прародитель, —
Наш ревностный страж, неусыпный хранитель.
Меня он увидел в коровьем загоне,
Усталый, свое совершил беззаконье.
Молчал я, а путник нуждался в ответе:
Не знал о моем он суровом обете.
О сын мой, по младости лет согрешил ты,
Поступок дурной сотворить поспешил ты.
Твой нынешний грех не могу оправдать я,
Поступок царя не достоин проклятья!»
Ответил Шрингин: «Что свершил, то свершил я.
Пускай поспешил я, пускай согрешил я,
Одобришь ли гнев мой, отвергнешь ли властно,
Но то, что сказал я, сказал не напрасно.
Я молод? Согласен. Горяч я? Возможно.
Но то, что сказал я, сказал я не ложно!»
«О сын мой, — промолвил отшельник Шрингину, —
Я слово твое никогда не отрину.
Я знаю, ты правду во всем соблюдаешь,
Великим могуществом ты обладаешь,
Я знаю, что слово твое непреложно,
И если ты проклял — проклятье не ложно.
Отца наставленья в любую годину
Полезны и зрелому, взрослому сыну,
А ты еще горя не видел на свете,
Нуждаешься ты, о могучий, в совете!
От гнева и мудрость бывает незрячей,
А ты еще мальчик незрелый, горячий.
Я должен тебя наставлять неуклонно,
Хотя ты и мощный блюститель закона.
Живи же и пищей питайся лесною,
Беззлобно красой наслаждайся земною.
Кто любит людей, тот владеет вселенной.
Жестокий — силен, но сильнее — смиренный.
Пребудь милосерд и обуздывай страсти,
Тогда обретешь ты бессмертное счастье».
Так пылкого сына отшельник наставил,
К Парикшиту с вестью посланца отправил, —
То был ученик его, чистый и строгий.
Пришел он к царю и воскликнул в чертоге:
«О царь над царями, о тигр среди смелых!
В твоих, о властитель, обширных пределах
Отшельник живет, добронравный, спокойный,
Суровый подвижник, молчальник достойный.
О царь, положил ты при первой же встрече
Змею, что издохла, святому на плечи.
Простил он тебя, осенен благодатью,
Но сын его предал владыку проклятью.
Отец его старый не слышал, не ведал,
Когда он проклятью Парикшита предал:
«Пусть Такшака-змей властелина отравит,
Царя в обиталище смерти отправит!»
Отцу не под силу препятствовать сыну,
И вот он велел мне пойти к властелину.
Желая добра тебе, муж светлоликий
Велел мне поспешно явиться к владыке».
Когда повелитель услышал об этом
Подвижнике, преданном строгим обетам,
В отчаянье впал он, поник он в печали,
Раскаянья муки владыку терзали.
Не столь ему смерти страшна была близость,
Сколь мучила дела недоброго низость.
Сказал он посланцу: «Душа истомилась.
Иди, да подвижник дарует мне милость».
Чтоб сердце свое от тревог успокоить,
Дворец на столбе приказал он построить.
Собрал он бойцов, поседевших в сраженьях,
Собрал он жрецов, преуспевших в моленьях,
Собрал во дворце и врачей и лекарства,
Сидел и вершил он дела государства,
Собрал мудрецов и внимал их советам…
Главу «Махабхараты» кончим на этом.
А змей между тем умножалось потомство.
Обычаем было у змей вероломство.
Плодились они, размножались бессчетно,
Хотя пожирал их Гаруда охотно.
Но были и добрые, чистые змеи,
А всех благонравней, сильнее, мудрее
Был Шеша, в обетах своих неизменный,
Усердный паломник, подвижник смиренный.
Покинул он змей и молитвам предался,
Одним только воздухом Шеша питался.
Твердил он: «Голодная смерть мне милее,
Чем жить, как живут вредоносные змеи».
Рвались его мышцы, его сухожилья,
И высохла кожа его от бессилья.
Спросил его Брахма, великий деяньем:
«Зачем ты бичуешь себя покаяньем?
Чего ты желаешь? И в чем твое бремя?
Зачем ты покинул змеиное племя?»
«О Брахма, всю правду обязан сказать я:
Противны мне змеи, противны мне братья!
Жестоки, трусливы, сильны и коварны,
Они ненавидят наш мир светозарный.
Один перед силой другого трепещет,
Один, озлобясь, на другого клевещет,
И дни провожу я в посте, в покаянье.
Чтоб даже в посмертном своем состоянье,
Когда я покину змеиное тело,
Вовек не имел я со змеями дела!»
Всесущий ответствовал, выслушав Шешу:
«Доволен тобою, тебя я утешу.
Я знаю, о змей, каковы твои братья,
Над ними нависла угроза проклятья,
Но также, о Шеша, я знаю о средстве,
Которое может спасти их от бедствий.
Ты, лучший из змей, от коварства избавлен,
Твой разум к деяниям добрым направлен.
В одной справедливости ищешь отраду, —
О Шеша, чего же ты хочешь в награду?»
Ответствовал змей: «Ничего мне не надо,
Добро и любовь — правдолюбца награда».
Сказал ему Брахма: «О змей наилучший,
Смиренный, себя покаяньем не мучай.
Твою добродетель с любовью приемлю.
Отныне поддерживай шаткую землю
С ее городами, лесами, горами,
С ее рудниками, полями, морями.
О змей, потрудись для всеобщего блага,
Да станут устойчивы суша и влага!»
Был Шеша обрадован светлым уделом,
И стал он поддерживать собственным телом
Богиню Земли, что, на змее покоясь,
Моря́ повязала вкруг стана, как пояс.
Второй среди змей в государстве змеином
Был Васуки признан тогда властелином,
А с Такшакой, с третьим, во всем государстве
Никто не сравнялся во зле и коварстве.
Вот Кашьяпа, в царстве бывавший змеином,
Узнал, что, к тому побужденный Шрингином,
Змей Такшака ныне владыку отравит,
Его в обиталище смерти отправит.
Подумал подвижник, мудрец наилучший:
«Владыку от смерти спасу неминучей,
Царя исцелю от змеиного яда,
За доброе дело мне будет награда».
Он двинулся к цели, что в сердце наметил,
Но Такшака-змей на пути его встретил.
Постиг ядовитый и ложь и двуличье,
Он бра́хмана старого принял обличье.
Спросил у подвижника жрец престарелый:
«О бык средь отшельников, кроткий и смелый,
Куда ты спешишь? Для какого деянья?»
И Кашьяпа молвил: «Спасти от страданья
Парикшита мудрого: Такшака ныне
Ужалит его и приблизит к кончине.
Затем и спешу я, о жрец седоглавый,
Чтоб ныне царя не лишились пандавы.
Нависла беда. Торопиться мне надо,
Царя исцелить от змеиного яда».
«Я — Такшака, — змей отвечал, — я тот самый,
Кто ввергнет царя в обиталище Ямы,
Властителя смерти. Парикшита ныне
Ужалю я жалом в его же твердыне.
Сегодня владыки лишатся пандавы;
Царя не спасешь от змеиной отравы!»
Воскликнул подвижник: «Тобою отравлен,
Он мною от гибели будет избавлен.
Я верю, всесильно мое врачеванье:
Могущество знанья — его основанье!»
Ответствовал Кашьяпе змей непотребный:
«О, если владеешь ты силой целебной, —
Смоковницу, друг мой, тогда оживи ты:
Сейчас я кору укушу, ядовитый.
Ужалю, повергну я дерево в пламя, —
Погибнет с ветвями, листами, плодами!»
Подвижник сказал: «О пылающий злобой,
Со мною помериться силой попробуй!»
Змей Такшака мощный, блестя, пресмыкаясь,
Тогда по дороге пополз, усмехаясь,
Вонзил он в кору ядовитое жало,
Смоковница, яда вкусив, запылала.
Она отгорела и стала золою.
Змей Такшака крикнул с улыбкою злою:
«Ты можешь ли дерево сделать из пепла,
Чтоб снова оно зеленело и крепло?»
Весь пепел подвижник собрал и ответил:
«От знанья — могуч я, от разума — светел.
Владычицу этих лесов оживлю я,
Своим врачеваньем ее исцелю я».
Премудрость сильнее змеиного жала.
Из пепла он создал отросток сначала,
Затем деревцо, неумело, несмело,
Листочками тонкими зазеленело,
Затем зашумело великой листвою,
Затем налилось оно силой живою,
Затем заиграло густыми плодами, —
Мудрец был доволен своими трудами.
И, ствол увидав плодоносный, зеленый,
Тем Кашьяпой, мудрым врачом, оживленный,
Змей молвил: «Уменье твое мне открыло,
Что знанье сильней, чем змеиная сила.
Но что ты получишь, мудрец величавый,
Царя исцелив от змеиной отравы?
Ты знаешь, что проклят людей повелитель.
Зачем обреченному нужен целитель?
Достигнешь ли цели, о жалком радея?
Что даст тебе царь, то получишь от змея.
О мудрый, успех твой сомнителен, право,
Померкнет твоя громкогласная слава.
А я, чтобы сердцем познал ты отраду,
Вручу тебе все, что захочешь, в награду».
«Мечтаю, — подвижник сказал, — о богатстве,
Иду я к царю, не чини мне препятствий».
«Я дам тебе больше, чем хочешь, стократно,
Но, Кашьяпа, только вернись ты обратно».
Услышав подобные речи от змея,
Подвижник, движение дней разумея,
Постигнув, что в следствии скрыта причина,
Увидел, что дни сочтены властелина.
Поскольку проклятье должно совершиться,
Подвижник домой порешил возвратиться,
И, змеем богатством большим награжденный,
Обратно отправился дваждырожденный,
А змей, преисполненный злобной гордыни,
Поспешно направился к царской твердыне.
Узнал он, что царь, опасаясь коварства,
Собрал во дворце лекарей и лекарства,
Собрал храбрецов, поседевших в сраженьях,
Собрал мудрецов, преуспевших в моленьях.
А Такшака-змей не любил заклинаний:
Отраву они обезвредят заране!
Решил он: «Мне сильные средства потребны, —
Обман, и коварство, и морок волшебный…»
Есть в мире нетленная, мощная сила,
Она-то, великая, мир сотворила.
Она существует, творить продолжая.
Но в мире есть также и сила другая:
Обман осязанья, и выдумка зренья,
И видимость мощи, и призрак творенья,
Над истинной силой порой торжествует,
И кажется всем, что она существует.
Случается так, что и тот ее хвалит,
Кого она режет, и рубит, и жалит.
Влечет она многих, свой облик скрывая,
Зовут ее майя, обманная майя!
Смотрите на хитрость жестокого змея:
Он змей своих вызвал и, майей владея,
В подвижников праведных он превратил их,
Плодами, листами, водою снабдил их.
Потом приказал им: «К царю над царями
Ступайте спокойно с благими дарами».
Кто б мог догадаться, что лживы растенья,
Вода — наважденье, плоды — привиденья!
С плодами, листами, водой светлоликой
Предстали отшельники перед владыкой.
Он принял дары, мудрецам благодарный.
Не знал он, что странники эти коварны.
И стала душа у царя веселее.
Когда удалились отшельники-змеи,
Друзей и вельмож удостоил он чести,
Сказал им: «Со мною отведайте вместе
Плодов этих сладких, красивых, душистых.
Полученных мной от подвижников чистых».
И вот на плоде, что владыке достался,
Чуть видный, безвредный червяк показался.
Черны были узкие, томные глазки,
А скользкая кожица — медной окраски.
Советникам молвил властитель державы:
«Теперь ни к чему опасаться отравы.
День гаснет, и нечего больше страшиться.
Но так как проклятье должно совершиться,
То мы червяка возвеличить сумеем,
То мы наречем его Такшакой-змеем.
Меня он укусит, и в это мгновенье
Свершится греха моего искупленье!»
Советники, движимы роком всевластным,
Владыке ответили словом согласным,
А царь засмеялся и с вызовом змею
Себе червяка положил он на шею.
В беспамятство впал он, а все же смеялся,
Смеялся, а к смерти меж тем приближался.
Меж тем из плода, извиваясь кругами,
Змей Такшака вышел, прожорлив, как пламя.
Обвил он царя, смертным ужасом вея, —
Советники в страхе увидели змея!
Они разрыдались в безмерной печали,
От шипа змеиного прочь убежали.
В Парикшита жало вонзил ядовитый,
И царь задохнулся, кругами обвитый.
Тут на́ небо Такшака взвился могучий,
Подобный живой, огнедышащей туче,
И, лотос окраскою напоминая,
За ним полоса протянулась прямая,
Подобная женской прически пробору.
И рухнул дворец, потерявший опору,
Упал, словно молнией быстрой сожженный:
Сожрал его пламень, из яда рожденный.
А в груде развалин, с обломками рядом,
Лежал повелитель, отравленный ядом.
Суровей никто не видал наказанья…
На этом главу мы кончаем сказанья.
Затем совершили обряд погребальный.
Жрецы и вельможи, весь город печальный,
Простились навеки с царем знаменитым,
Коварной, змеиною силой убитым.
Замолкли унылые звуки рыданий, —
Другого избрали царя горожане.
То был Джанаме́джая, отрок незрелый,
Парикшита сын благородный и смелый.
Вы помните матери змей предсказанье?
Сказала она сыновьям в наказанье:
«Придет властелин в заповедное время,
Предаст он огню ядовитое племя.
Придет Джанамеджая, змей уничтожит,
Змеиному роду конец он положит».
Не знал о заклятии отрок-властитель,
И царствовал мудро державы блюститель.
Однажды, питая к богам уваженье,
Он жертвенное совершал приношенье.
Молитвы не молкли, и пламя не гасло,
Горело, шипело топлёное масло.
Рожден от Сара́мы, божественной суки,
Щенок прибежал на веселые звуки.
Смотрел он, как масло лилось в изобилье.
Тут братья царя его крепко избили.
Он ринулся к матери с визгом и лаем.
Сарама, — из сказа правдивого знаем, —
Считалась одним из творений почетных,
Являлась праматерью диких животных.
Спросила: «Сынок, кто побил тебя, милый?
Кто горя причина, обидчик постылый?»
«Царя Джанамеджаи старшие братья
Побили меня. Заслужил он проклятья!»
«Но ты пред царем виноват, очевидно?»
«Вины за мной нет, потому и обидно.
Спокойно стоял я, не пел, не плясал я,
И масла топленого там не лизал я».
Сарама, разгневана горестью сына,
Помчалась, предстала глазам властелина,
Предстала с обидой, с такими словами:
«Ни в чем не виновен мой сын перед вами,
А так как, ни в чем не повинный, избит он,
То будешь ты роком всевластным испытан,
Узнаешь ты мощь рокового удара,
Настигнет владыку нежданная кара».
Впервые в печали, впервые в тревоге,
Сидел Джанамеджая в царском чертоге.
Он думал: «Жреца мне домашнего надо,
От слов его чистых мне будет отрада,
Грехов моих действие он уничтожит,
Советом утешит, молитвой поможет».
В то время жил некий подвижник в покое.
Учились у мудрого юношей трое,
Учились его совершенному знанью
И Ве́да, и А́руни, и Упама́нью.
Вот Аруни кликнул мудрец поседелый:
«Ступай и отверстье в запруде заделай».
Отправился Аруни, начал трудиться,
Но это не ладится, то не годится,
И что ни предпримет и что ни построит,
Отверстье в запруде никак не закроет.
Хорошее средство искал он, горюя,
Нашел — и подумал: «Вот так поступлю я».
К воде наклонился он, широкогрудый.
Закрыл своим телом отверстье запруды.
Так несколько суток в воде пролежал он,
И собственным телом поток задержал он.
Наставник давно его ждал, волновался:
«Куда это Аруни верный девался?»
Он юношам молвил: «Что делать нам ныне?
Давайте все трое пойдемте к плотине».
Пришли — и воскликнул дающий обеты:
«Эй, Аруни, сын мой, мы ждем тебя, где ты?
Поняв, что друзья у реки появились,
Тотчас из отверстия Аруни вылез.
Сказал он, представ пред учителем:
«Вот я! Работал весь день и всю ночь напролет я,
Не смог я заделать отверстье в плотине,
И в реку вошел я по этой причине.
Хотел я с порученным справиться делом.
Поток задержал своим собственным телом.
Услышав твой голос, я выпустил воду
И встал, твоему благодарный приходу.
Приказывай: видишь, стою пред тобою,
Доволен я буду работой любою».
Ответил учитель: «За это смиренье,
За то, что исполнил мое повеленье,
Ты вечное счастье получишь в награду,
От гимнов священных познаешь усладу,
Сердца озаришь просвещенной беседой, —
Ступай же и людям закон проповедуй».
…Другой ученик, молодой Упаманью,
Однажды учителя внял приказанью:
«Иди, Упаманью, мой сын, по долине,
Смотреть за коровами будешь отныне».
Весь день проведя за работою мирной,
Пастух возвратился — румяный и жирный.
Увидев, что, полный, веселый, стоит он,
Воскликнул учитель: «Ты слишком упитан!
Но где ты источник нашел пропитанья?»
А тот: «Я прошу у людей подаянья».
Наставник ответил: «Со мною ты связан,
Ты жертвовать мне пропитанье обязан».
Сказал мудрецу Упаманью: «Понятно».
Послушный, он к стаду вернулся обратно.
Домой на закате пришел он однажды:
Ни голода, видно, не знал он, ни жажды!
Опять перед старцем, румяный, стоит он.
Воскликнул учитель: «Ты слишком упитан!
А я-то считал, что живешь ты не сладко,
Добытое — мне отдаешь без остатка!
Но где ты теперь достаешь пропитанье?»
А тот: «Отдаю тебе все подаянье,
Но я на Судьбу не ропщу, не горюю:
Я милостыню собираю вторую».
Воскликнул наставник: «Ты честь попираешь,
Ты жаден, мой сын, ты людей обираешь.
Притом ты и мне оскорбленье наносишь,
Когда подаянье вторично ты просишь».
Сказал Упаманью святому: «Понятно».
Послушный, он к стаду вернулся обратно.
Вот вскоре на время покинул он стадо:
Вручить подаянье учителю надо.
Опять перед старцем, румяный, стоит он.
Воскликнул наставник: «Ты слишком упитан!
Ты все подаянье сполна мне приносишь,
Вторично ты к людям не ходишь, не просишь,
Живешь ты, моим подчиняясь условьям, —
Но чем?» — «Молоком я питаюсь коровьим», —
Сказал Упаманью с глубоким поклоном.
А старец: «Пошел ты путем незаконным.
Тебе дозволенья на это я не́ дал,
Чтоб вкус моего молока ты изведал».
Сказал мудрецу Упаманью: «Понятно».
Послушный, он к стаду вернулся обратно.
С коровами побыл их друг неразлучный,
Пришел на закате по-прежнему тучный.
И вот пред учителем робко стоит он.
Воскликнул мудрец: «Ты все так же упитан!
Ты все подаянье сполна мне приносишь.
Вторично ты к людям не ходишь, не просишь,
Живешь, молоком не питаясь коровьим, —
Скажи, почему же ты пышешь здоровьем?»
Сказал ученик: «О наставник почтенный!
Теперь я питаюсь обильною пеной:
Ее подают мне губами своими
Телята, сося материнское вымя».
Наставник сказал: «Благородны телята.
Добру, состраданью верны они свято.
Тебя сожалея, — узнай же им цену! —
Они испускают обильную пену.
Страдают они от своей благостыни.
Не смей же и пеной питаться отныне!»
Святому ответив послушливым словом,
Опять Упаманью вернулся к коровам.
Жрецу отдавал он суму с пропитаньем,
А после не шел за вторым подаяньем,
Не пил молока и не трогал он пены.
Почувствовал голод страдалец смиренный!
Однажды, унылой дорогой блуждая,
Четвертые сутки в лесу голодая,
Увидел он листья растения арки[171],
Что были, увы, непригодны для варки,
На вкус отвратительны, горьки и едки.
Но листья сорвал он, в отчаянье, с ветки,
Поел их — и вздрогнул от боли великой:
Ослеп он, калекою стал, горемыкой.
Он долго скитался, не зная удачи,
И в яму внезапно свалился, незрячий…
Воскликнул учитель, подвластный обетам:
«Отныне для юноши — все под запретом,
Он крепко теперь на меня рассердился,
Надолго теперь он со мной разлучился!»
Учитель пришел на дорогу лесную.
Он крикнул, приблизившись к яме вплотную:
«Да будет успех твоему упованью!
Ответствуй мне, где ты, мой сын Упаманью?»
«Я здесь! — загудело с травой и листами, —
Учитель, я здесь, оказался я в яме!»
Наставник спросил: «Как ты в яму свалился?»
«Затем и свалился, что зренья лишился.
Прельстился я листьями арки-растенья,
Поел их и сразу лишился я зренья».
Наставник сказал: «Помолись двуединым,
Дневной и вечерней зари властелинам,
Восславь близнецов — и вернешь себе зренье:
Даруют они и богам исцеленье».
Незрячий воскликнул, восстав на дороге:
«Я славлю вас, перворожденные боги!
Томительно яркие, вы лучезарны,
Живое поет вам напев благодарный.
Вы — светлые птицы, могучи в полете,
Две ткани на дивном станке вы прядете.
День белою тканью блестит мирозданью,
А ночь опускается черною тканью.
Есть в стойбищах ваших, обильных, прекрасных,
Двенадцать раз тридцать коров ярко-красных.
Все вместе приносят теленка с восходом,
Теленок такой именуется годом.
У вас — колесо, что вращается вечно,
Окружность того колеса бесконечна,
Вращается быстро, не зная износа,
И в том колесе — все земные колеса.
Оно обладает покоем и сменой,
Двенадцатью спицами, осью бесценной,
Дает оно возраст и землям и водам,
И то колесо именуется годом.
Вы — всадники света, вы — первые ласки,
И вестники цвета, и пестрые краски.
Пьют амриту боги, бессмертья напиток,
Я знаю, вы — амриты этой избыток.
Младенцы к груди материнской припали,
Вы — то молоко, что возникло вначале.
Ашви́ны, для вас облака — изголовье,
Лишь вы, близнецы, мне вернете здоровье.
Лишь вас почитая, мы будем здоровы.
Недаром расцвечены вами коровы.
И я, обездоленный, жалкий и нищий,
Прошу вас: небесной подайте мне пищи!»
Воспеты незрячим, отведавшим арки,
Явились два бога, томительно ярки.
«Лепешки поешь, — предложили с любовью, —
Мы рады, слепой, твоему славословью».
«Нельзя мне поесть, так как буду наказан:
Наставнику пищу отдать я обязан».
Владыки восхода, владыки заката
Сказали: «Наставник твой тоже когда-то
Вознес нам хваленья, источникам света,
Лепешку от нас получил он за это,
Он съел ее сам, чтобы сделаться чище,
Он тоже не отдал наставнику пищи.
Весьма мы довольны тобой, Упаманью,
Да будет награда смиренью, страданью.
И ты поступи, как наставник твой прежде,
Свой путь продолжая к добру и надежде!»
Поел он лепешки — и зренье обрел он.
Явился к наставнику, радости полон.
Наставник сказал: «Я доволен тобою.
Ты будешь обласкан счастливой Судьбою».
Так был он испытан большим испытаньем,
Но радость пришла к нему вслед за страданьем.
Учился у старца и юноша третий,
Чьи силы тогда находились в расцвете.
«О Веда, — наставник сказал, — поработай
Ты в доме моем, послужи мне с охотой,
Придут к тебе благо, и свет, и победа».
«Согласен», и ответил учителю Веда.
Так Веда занялся работой домашней,
А также и садом, и лугом, и пашней.
Сушил его зной, и терзал его холод,
Изведал он жажду, познал он и голод,
Но, вечно приветливый, кроткий, веселый,
Влачил он без ропота жребий тяжелый,
Тащил он, как вол, непомерное бремя.
Провел у наставника долгое время.
Сказал ему жрец: «Я доволен тобою.
Пошел ты прямой, справедливой тропою.
Нужна и в труде терпеливом отвага.
Теперь ты достиг совершенного блага».
Простился наставник с послушливым Ведой:
«О Веда, ступай и закон проповедуй».
Он стал проповедовать, знанью причастный.
Услышал о нем Джанамеджая властный.
Сказал ему: «Стань моим другом всегдашним,
Жрецом и наставником стань мне домашним.
Грехов моих действие ты уничтожишь,
Советом утешишь, молитвой поможешь».
И юноши стали учиться у Веды,
К нему собираясь для мудрой беседы,
Но, помня житья подневольного тягость,
Он к ним проявлял снисхожденье и благость,
Они познавали отраду ученья,
Не зная в учительском доме лишенья,
Не зная трудов ни зимою, ни летом…
Главу «Махабхараты» кончим на этом.
Учился у Веды подвижник прилежный,
Утта́нка по имени, юноша нежный.
Сказал ему Веда: «Пора мне в дорогу,
Пойду совершать приношения богу.
Останься, мой дом содержи ты в порядке,
Чего недостанет, пусть будет в достатке».
Тот юноша с Ведой на время расстался,
Он старшим в учительском доме остался.
Пришли к нему женщины, жившие в доме:
«Смотри, госпожа пребывает в истоме,
Супруг совершает сейчас приношенья,
А месячные у нее очищенья.
Чтоб не было время такое бесплодным,
Утешь ее делом, семейству угодным».
Ответствовал женщинам юноша чистый;
«Мне Веда велел: «По хозяйству трудись ты,
Уйду я, — мой дом содержи ты в порядке,
Чего недостанет, пусть будет в достатке».
Но мне не велел он, прощаясь приветно:
«Ты сделай и то, что грешно и запретно».
О том, что случилось, вернувшись обратно,
Учитель узнал ото всех многократно.
Восторгом душа мудреца озарилась:
Сказал он: «Какую желаешь ты милость,
О сын мой Уттанка? За верную службу
Прими от меня задушевную дружбу.
Ступай же, другим проповедуй ученье,
На это тебе я даю разрешенье».
Уттанка ответствовал, радость почуя:
«Тебе удовольствие сделать хочу я.
Постиг я ученье, что мудро и свято.
За это учителю следует плата».
Учитель доволен был речью прямою.
Сказал: «Оставайся покуда со мною».
Минуло короткое время, и снова
Уттанка промолвил наставнику слово:
«Приказывай мне, разуменьем богатый:
Что сделать взамен, коль не хочешь ты платы?»
А тот: «Видно, жаждешь со мной распроститься,
Поэтому хочешь скорей расплатиться.
Ну что же, мою ты послушай супругу.
Какую прикажет, исполни услугу».
Пришел он к супруге учителя сразу,
Сказал: «Твоему подчинюсь я приказу.
Твой муж мне позволил домой возвратиться,
Но я за ученье хочу расплатиться.
Какое желанье в душе сберегла ты
И что принести тебе в качестве платы?»
Ответила та госпожа: «Знаменитый
Есть Па́ушья-царь; у него и возьми ты
Те серьги, которые носит царица;
Серьгами ты сможешь со мной расплатиться.
Четыре даю тебе дня, а на пятый
Вернись: я тотчас же потребую платы.
Наш праздник священный мы праздновать будем.
Я серьги надену, и выйду я к людям.
На серьги свой взор устремив восхищенный,
Исполнятся зависти брахманов жены!»
Уттанка отправился в путь и нежданно
Увидел быка, не быка — великана!
Был всадник на нем исполинского роста.
«Уттанка! — он крикнул подвижнику просто. —
Испробуй быка моего испражненья!»
Уттанка не принял его предложенья.
Тогда обратился он к юноше снова:
«Не медли. Тебе не желаю дурного.
Наставник твой, Веда, отведал того же.
Последуй учителю, юный прохожий!»
У юноши спорить пропала охота,
Испил он мочи и поел он помета.
Свой путь он продолжил и прибыл, спокоен,
В тот город, где царствовал Па́ушья-воин.
Сказал он царю: «Благоденствуй, властитель.
К тебе во дворец я пришел как проситель».
А царь: «Лицезренье святого — отрада.
Скажи, господин мой, что сделать мне надо?»
Ответствовал Паушье гость юнолицый:
«О царь, подари ты мне серьги царицы.
Хочу, если ты не жалеешь утраты,
Отдать их учителю в качестве платы».
Царь молвил: «Войди ты к царице в покои,
Быть может, исполнит желанье такое».
В покои царицы ввели его слуги,
Но там не увидел он царской супруги.
Он Паушье крикнул: «Владыка и воин!
Там нет никого, твой обман непристоен!»
А царь: «Ну-ка, вспомни: ты чист? Не сердись ты,
Но видеть царицу не может нечистый.
Вовеки не смеет к царице в жилище
Войти оскверненный остатками пищи.
Погрязший в пороке ее не увидит:
Жена благонравная к гостю не выйдет».
Услышав ответ непреклонный и строгий,
Уттанка воскликнул: «Я вспомнил: в дороге
Я пищи отведал, но так утомился,
Что после еды второпях я умылся».
Ответствовал Паушья: «В том-то и дело!
Лица омовенье, а также и тела,
Нельзя совершать на ходу или стоя,
Когда ты не хочешь лишаться покоя!»
Греха своего ученик устыдился,
Уселся, лицом на восток обратился,
Он вымыл лицо свое, руки и ноги,
Омылся от скверны, от пыли дороги,
Затем, приближаясь к желанному благу,
По грудь погрузился в беззвучную влагу,
Испил ее трижды в предчувствии жажды,
Лицо свое чистое вытер он дважды,
В покои вошел и увидел: царица
Спокойно сидит, от него не таится.
Тогда поднялась она гостю навстречу,
Уттанку приветствуя нежною речью:
«Входи, господин. Говори: что ты просишь?»
«Те серьги прошу я, которые носишь:
Хочу, если ты не жалеешь утраты,
Отдать их учителю в качестве платы».
Был юноша чист, и прекрасен, и строен.
Решила царица: «Он дара достоин.
Заслужена юношей радость большая!»
Сняла она серьги, сказала, вручая:
«Змей Такшака жаждет их, злобный, могучий.
Ты будь осторожен и спрячь их получше».
Ответствовал гость: «Будь покойна, царица,
Змей Такшака биться со мной побоится!»
Взяв серьги, обратно пошел он без страха.
Вдали он увидел святого монаха.
Едва лишь возникнув, терялся он сразу,
То зримый очам, то невидимый глазу.
Вдруг встретился юноша с бурным потоком.
Он серьги оставил на камне широком,
Пошел он к воде, чтобы сделаться чище,
А странник подкрался, приблизился нищий,
Он серьги схватил — и умчался, но скоро
Хозяин поймал двоедушного вора.
Тут выскользнул нищий монах, изогнулся
И Такшакой-змеем тотчас обернулся.
Проворно вошел он в отверстье долины,
В ту область, где род обитает змеиный.
В отверстье, прорытое алчным злодеем,
Спустился и юноша следом за змеем.
За Такшакой долго блуждал он во прахе.
Возникли пред ним две чудесные пряхи.
Сидели и пряли, и снова, и снова
Сливались в станке и уток и основа,
И черные нити и белые нити
Сплетались единою тканью событий.
Шесть мальчиков около женщин сидели,
Они колесо непрерывно вертели.
И мужа увидел он с пряхами рядом,
С челом необычным, с пронзительным взглядом.
Стоял возле мужа, источника власти,
Огромный скакун дымно-огненной масти.
Уттанка приблизился, плечи расправил,
И всех он такими стихами восславил:
«Хвала и привет шестерым юнолицым,
Привет колесу и двенадцати спицам!
О женщины-пряхи, пребудьте в почете,
Я вижу, что ткань вы все время прядете,
При этом миры, существа создавая,
И ткань ваша движется вечно живая!
Хвала и тому, чье лицо мне знакомо,
Хранителю мира, властителю грома!
Хвала: ты душой обладаешь великой,
Ты сделался трех мирозданий владыкой —
Подземной, земной и заоблачной шири,
Ты отпрыском вод почитаешься в мире.
Воссев на коня, ты его возвеличил.
Ты грозен, ты правду и ложь разграничил!»
Ответствовал муж: «Я доволен тобою.
Доволен я также твоею хвалою.
Какой же ты ждешь от меня благостыни?»
«Да будут мне змеи подвластны отныне!»
«Ты видишь коня? На него посильнее
Подуй — и тогда испугаются змеи».
Тут начал он дуть на коня до отказу.
Дым, смешанный с пламенем, вырвался сразу
Из пасти коня, из раздутого тела.
Змеиное племя, дрожа, зашипело,
Кругами виясь, заметалось в испуге,
Окурены были вельможи и слуги.
Змей Такшака выполз, охваченный страхом,
Окутанный дымом, осыпанный прахом.
Казалось, что змея трясла лихоманка,
Взмолился он: «Серьги возьми же, Уттанка!»
Уттанка, вернув себе дар драгоценный,
Подумал: «Сегодня ведь праздник священный,
Конец наступает мне данного срока,
А я нахожусь от хозяйки далёко!»
Утешил подвижника муж величавый:
«На этом коне из змеиной державы
Домчишься ты мигом, достигнешь ты цели.
Ступай же к супруге святого отселе».
Уттанка вскочил на коня огневого,
И конь, словно ветер, понес верхового.
Тот прибыл к хозяйке своей во мгновенье.
Жена мудреца, совершив омовенье,
Причесывать влажные косы уселась.
Ей серьги царицы надеть не терпелось,
Но видя: подвижника нет молодого, —
Сердилась, проклясть нерадивца готова.
Вот прибыл Уттанка со скоростью птицы,
Вошел к ней и подал ей серьги царицы.
Сказала в ответ госпожа: «Мне приятно,
Что вовремя ты возвратился обратно.
О сын мой, тебя собиралась проклясть я,
Но, славный, ты сделался спутником счастья!»
К наставнику также пришел он с приветом.
Тот молвил: «Я ждал тебя, сын мой, с рассветом.
Скажи, по какой задержался причине?»
Сказал ученик: «Я спешил по долине
И Такшаку встретил. Он, полон коварства,
Завел меня в пропасть, в змеиное царство.
В такие завел меня дальние дали,
Где пряхи, две женщины дивные, пряли,
Их белые нити, их черные нити
Сплетались единою тканью событий.
Учитель, ты многое видел на свете,
Скажи мне, кто дивные женщины эти?
Шесть мальчиков около женщин сидели,
Они колесо непрерывно вертели.
Вращаясь, мелькала за спицею спица.
Их было двенадцать, я мог убедиться.
Немало дорог исходил ты на свете,
Скажи мне, учитель: кто мальчики эти?
Увидел я мужа с пронзительным взглядом,
Увидел коня необычного рядом.
Но кто этот муж? Кто скакун быстроногий?
Когда еще раньше я шел по дороге,
Мне встретился муж на широкой долине,
Сидел он верхом на быке-исполине.
Сказал он мне с лаской: «Веленью последуй,
Быка моего испражненья отведай».
Поел я помет, чтобы не было бедствий.
Но что это значит? Учитель, ответствуй!»
«Две пряхи, — учитель сказал вдохновенно, —
Закон и Творенье, Недвижность и Смена.
Прядут они дни, и прядут они ночи,
Вовек не становятся нити короче.
Шесть раз изменяется наша природа,
Шесть мальчиков — шесть разновидностей года,
В году — колесе — будут вечно кружиться
За месяцем месяц, за спицею спица.
Тот муж — это Индра, громами гремящий.
Тот конь — это Агни, огнями горящий.
Тот бык — первосозданный слон Айравата,
Сидел на нем Индра, чья сила крылата.
Не бычьим пометом, не бычьей мочою, —
Нет, амритой ты подкрепился святою!
От амриты дивно пришла к тебе сила,
Змеиная злоба тебя не сломила!
А Индра — мой друг. Он явил тебе милость,
И счастьем дорога твоя осветилась.
Ты Индре признателен будь за участье.
Ступай же, мой милый, найди свое счастье».
Уттанка отправился в путь, пламенея
Враждой против Такшаки, гнусного змея.
Увидел он в городе толпы народа:
Пришел Джанамеджая-царь из похода.
Почтил его царь-победитель беседой.
Поздравив сначала владыку с победой,
Уттанка сказал ему: «Царь над царями!
Как мальчик, ты занят пустыми делами,
Ты подвигам битвы предался всецело,
Забыл про другое, про главное дело!»
Сказал Джанамеджая, царь знаменитый:
«Для собственных подданных стал я защитой,
Я делаю все, что я сделать во власти,
Храню я приверженность воинской касте, —
Какого же дела не сделал иного?
Хочу твоего я послушаться слова».
Уттанка ответствовал прямо и смело:
«Твое это дело, сыновнее дело!
О царь, что над всеми царями прославлен!
Отец твой был Такшакой-змеем отравлен.
Душою великий, деяньем невинный,
Он умер, отведав отравы змеиной.
Как древо, сраженное громом в ненастье,
Отец твой от яда распался на части.
Всю землю подлейший из змей опечалил,
Когда богоравного жалом ужалил.
Заставил он Кашьяпу хитрым коварством
Вернуться обратно с целебным лекарством
И гнусно отца твоего уничтожил,
Царя, что людей благоденствие множил!
Ступай, отомсти за отца лиходею,
Ступай, отомсти многомерзкому змею!
О царь, ты пришел в заповедное время,
Сожги же в огне ядовитое племя!
Святому огню вознеси ты моленье,
Змеиного рода начни истребленье.
Всех змей ты сожги ради праведной мести,
А Такшаку злобного — с прочими вместе.
Тем самым и мне ты окажешь услугу:
Мне Такшака — враг. Помоги мне как другу».
От слов этих сделался царь воспаленным,
Как пламя, слиянное с маслом топленым.
Он крикнул советникам, крикнул вельможам:
«Змеиное племя дотла уничтожим!
Мы жертвенное совершим приношенье,
Змеиного рода устроим сожженье!
Идемте же, следуя мудрым заветам!..»
Главу «Махабхараты» кончим на этом.
В то время владыкой змеиной державы
Был Васуки, опытный, сильный, лукавый.
Ему причиняло печаль и терзанье
Ужасное матери змей предсказанье:
«Придет властелин в заповедное время,
Придет — и сожжет он змеиное племя».
Чтоб как-нибудь сердце свое успокоить,
Решил он совет государства устроить.
Пришли на совет всевозможные змеи:
Монахи, врачи, мастера, чародеи,
Гуляки, ученые, стражи, вельможи
И воины с пышной раскраскою кожи.
Их множество было — усердных и праздных,
С красивой наружностью и безобразных,
Но, разных, не схожих, — друг с другом сближало
С губительным ядом жестокое жало!
Так Васуки начал: «Вы знаете, братья:
Над нами нависла угроза проклятья.
Быть может, найти избавленье сумеем
От ужаса, ныне грозящего змеям.
Ломая преграды, с опасностью споря,
Мы средство находим от всякого горя,
Но это несчастье с другим несравнимо:
Проклятие матери неотвратимо!
Поныне, как вспомню я слово проклятья,
В испуге, в тоске начинаю дрожать я.
Я слышал, как вскрикнула мать на рассвете:
«Да будьте вы прокляты, злобные дети!»
При этом присутствовал Брахма извечный,
Творец изначальный, творец бесконечный.
Одобрил он матери каждое слово,
И стали мы жертвами жребия злого.
Да, гибель грозит поголовная змеям,
Проклятие матери мы не развеем,
Но, может быть, меры предпримем поспешно,
Чтоб месть властелина была безуспешна,
Чтоб с нами бороться Судьба побоялась,
Чтоб месть Джанамеджаи не состоялась».
Так начали змеи совет многошумный.
Одни зашипели, весьма скудоумны:
«Мы примем подвижников мудрых обличье,
Являющих кротость, добро и величье,
Царю Джанамеджае скажем веленье:
«Ты праведных змей отмени истребленье».
Но им возразили ученые змеи:
«Вы глупы. Нам действовать надо хитрее.
К царю мы придем как советники, слуги.
Окажем его государству услуги.
От нас он захочет услышать сужденье:
Как надобно змей совершить всесожженье?
Тогда-то придумаем сотни препятствий.
Его мудрецов обвиним в святотатстве.
Царю мы свои приведем толкованья,
Примеры, и доводы, и основанья,
Докажем, что гибель змеиного рода
Для мира — несчастье, напасть и невзгода.
А если он хитрых речей не оценит,
А если сожжения змей не отменит,
То мы позовем остроумного змея,
Который, как бы о владыке радея,
Предстанет как жрец, с ним согласный во взглядах
И сведущий в жертвенных сложных обрядах.
Войдя к властелину в доверье сначала,
Вонзит в Джанамеджаю грозное жало.
Когда же царя он смертельно отравит,
То змей от погибели страшной избавит».
Но добрые змеи тогда возразили
Ученым: «О нет, не желаем насилий!
Должны мы о деле судить без пристрастья:
Не даст нам убийство покоя и счастья.
В опору возьмем, если беды нависли,
Невинность души, целомудрие мысли!
Убийство — ужаснее всех беззаконий.
Чем будете жаждать его исступленней,
Тем раньше погибнете смертью презренной:
В убийстве заложена гибель вселенной!»
«Ошиблись равно, — изрекли чародеи, —
Ученые змеи и добрые змеи!
Мы тучами станем и ливнем зловещим,
Как молнии, мы, извиваясь, заблещем.
Мы жертвенный пламень водою потушим,
Тем самым и замысел царский разрушим».
«О братья! — воскликнули змеи-святоши, —
Давайте мы вспомним обычай хороший.
Чем эти пустые вести разговоры,
Пусть ловкие змеи, умелые воры,
Похитят и ковш и сосуд для обряда
У спящих жрецов. Так возникнет преграда.
Возможна, друзья, и другая помеха,
Чтоб дело царя не имело успеха.
Прикажем бесчисленным двинуться змеям,
Народ искусаем и ужас посеем.
А то мы вползем в человечьи жилища,
И змеями будет испорчена пища.
Окажутся в пище моча, испражненья, —
Откажется царь от обряда сожженья!»
«Мы станем жрецами, — сказали вельможи, —
К владыке придем, с многомудрыми схожи,
Огромной потребуем жертвенной платы,
И царь Джанамеджая, страхом объятый,
Тогда-то в змеиной окажется власти,
И змей мы избавим от страшной напасти.
Услышал ты, Васуки, наши сужденья,
Скажи, как избавиться нам от сожженья?»
Сказал повелитель змеиной державы:
«И вы, и другие, и третьи — не правы.
А что предпринять — я не знаю, о змеи,
От этого боль моя только острее!»
Тогда Элапа́тра сказал осторожный:
«Сужденья, которые сказаны, — ложны.
Должно состояться огню приношенье,
Судьбы отменить невозможно решенье.
А так как от вечной Судьбы мы зависим,
То с просьбою к ней голоса мы возвысим.
Я нечто скажу вам на этом совете:
Когда были прокляты матерью дети,
От страха взобрался я к ней на колени.
Премудрых услышал я стоны и пени.
Затем они к Брахме явились в тревоге,
«О бог-прародитель! — промолвили боги, —
Лишь то существо, что безумно и злобно,
Проклясть сыновей своих кровных способно.
Зачем же ты Кадру одобрил проклятье?
Скажи, прародитель, даруй нам понятье!»
Ответствовал Брахма всесущий, всеправый:
«Увы, изобилуют змеи отравой,
Несметны, коварны, сильны и жестоки,
Они, расплодясь, умножают пороки.
Одобрил я Кадру слова роковые,
Чтоб стали счастливее твари живые.
Огонь уничтожит свирепых, кусливых,
Зловредных, злокозненных, втайне трусливых,
В предательстве ловких, в обмане искусных
И всех ядовитых, презренных и гнусных,
Но те, что правдивы, добры, справедливы,
Честны и смиренны, — останутся живы.
От них отвращу беспощадную кару:
Родится великий мудрец Джаратка́ру,
Свои обуздавший стремленья и страсти,
В смиренье познавший блаженное счастье.
Придет его сын, чистотой наделенный,
По имени А́стика дваждырожденный.
Придет он в назначенный день приношенья,
Спасет добродетельных змей от сожженья».
Тут боги спросили творца-властелина:
«Кто матерью будет великого сына?»
«Узнайте, о боги, что дваждырожденный
Подвижник возьмет соименницу в жены.
Возьмет он, причастный высокому дару,
Супруг Джараткару — жену Джараткару.
Родит ему тезка могучего сына,
То будет любви, милосердья вершина».
Так Брахма промолвил в небесном чертоге.
Одобрили речь прародителя боги.
О Васуки, есть у тебя молодая
Сестра, что цветет, красотою блистая.
Недаром зовется она Джараткару:
Они образуют желанную пару.
Как только попросит себе подаянья
Мудрец, что свершает благие деянья, —
Как дань милосердия, лепту простую,
Отдашь ему в жены сестру молодую.
Ты облик людской навсегда ей присвоишь,
Змеиное царство навек успокоишь.
Тем браком счастливым беду мы развеем!»
Слова Элапатры понравились змеям.
Они восклицали: «Прекрасно! Прекрасно!»
На сердце у Васуки сделалось ясно.
Сказал ему Брахма: «Не бойся напасти.
Ты принял в труде благородном участье.
Я помню, мы сделали гору мутовкой,
А Васуки, длинного змея, — веревкой
И стали, желая воды животворной,
Сбивать океан, беспредельно просторный.
За это сниму я с души твоей бремя.
Узнай же: пришло заповедное время.
Сгорят нечестивцы, погибнут злодеи,
Но живы останутся добрые змеи.
Живет уже мудрый подвижник на свете,
Безгрешный в законе, суровый в обете.
Чтоб не было то наказанье жестоко,
О Васуки, жди надлежащего срока,
Сестру молодую подвижнику выдай.
Судьба не обидит невинных обидой,
Но только исполни мои приказанья!..»
На этом главу мы кончаем сказанья.
В то время скитался паломник и нищий,
Суровый подвижник, умеренный в пище.
Томленья и страсти свои обуздал он,
Обет воздержанья давно соблюдал он.
Все дни проводил он в трудах покаянья,
И только добра совершал он деянья.
У мудрого было огромное тело,
Но, предан посту и молитвам всецело,
Уменьшил он тело, большое вначале, —
За это его Джараткару прозвали:
Ты, «Джара» услышав, — скажи: уменьшенье,
А «Кару» — суровость, суровость в решенье.
В обете суров, он удерживал семя.
Он с радостью нес непомерное бремя.
Покажется тяжким — он бремя утроит,
Где вечер застигнет — там ложе устроит.
В болотах лежал, по оврагам, в ухабах,
Свой подвиг свершал, непосильный для слабых,
В священных стихах обретал вдохновенье,
В священных местах совершал омовенье,
Ища совершенства, по свету скитался,
Одним только воздухом странник питался,
Он чахнул, сося только листики с ветки…
Однажды подвижнику встретились предки.
К виране-траве прикрепленные[172], в яме
Висели те праотцы вниз головами.
От стебля одно волокно лишь осталось,
Которым спокойная крыса питалась.
Приблизившись к праотцам с видом печальным,
Он молвил беспомощным, многострадальным:
«Вы держитесь только за слабый и рваный,
Изглоданный крысою стебель вираны.
Сгрызет его крыса, что сбудется с вами,
О в яме висящие вниз головами?
Скажите мне: кто вы? Ответьте, как другу,
Какую могу оказать вам услугу?
Могу ли спасти вас от бедствий, от бездны?
Да будут молитвы мои вам полезны!
Чтоб вызволить вас — мне поверьте, как сыну, —
Отдам своих подвигов треть, половину!»
Ответили предки: «Подвижник блаженный,
Быть может, поступки твои совершенны,
Быть может, спасенье несчастным несешь ты,
Но с помощью подвигов нас не спасешь ты,
На поприще этом и мы подвизались,
Но мы без потомства, увы, оказались,
Поэтому горя познали мы жгучесть,
О мудрый, чья блещет великая участь!
С тех пор как над бездною адской повисли,
Утратили мы озарение мысли,
Тебя мы не можем узнать, но недаром
Скорбящим сочувствуешь с болью и жаром:
Достоин ты славы, любви, почитанья
За то, что исполнился к нам состраданья.
Услышь угнетенных мученья и стоны,
Узнай же ты, кто мы, о дваждырожденный!
Когда-то монахи, святые скитальцы,
Ты видишь, мы жалкие ныне страдальцы.
Умеренны в пище, не ведая крова,
Мы строгий обет соблюдали сурово,
Но так как мы не дали миру потомства,
То с бездною адской свели мы знакомство.
Добро мы творили, забыв о досуге,
Не полностью наши иссякли заслуги,
Осталось у нас лишь одно волоконце,
Еще не совсем нас покинуло солнце,
Но стебель порвется — мы рухнем в потемки,
Затем что от нас не родились потомки.
У нашего рода, что прежде был громок,
Есть, правда, единственный в мире потомок,
Мудрец Джараткару, великий подвижник,
Хранитель преданий, отшельник и книжник.
Несчастный живет, не питая желанья,
Усердно блюдет он обет воздержанья,
Не зная любви, наслаждений взаимных,
Зато разбираясь в молитвах и гимнах.
Великий душою, бичует он тело,
Духовным делам предаваясь всецело.
Хотя и огромны святого заслуги,
У жалкого нет ни детей, ни супруги.
Он к подвигам, он к воздержанию жаден,
Поэтому жребий отцов безотраден.
В его голове — только глупые бредни,
Поэтому он в нашем роде — последний.
А мы, из-за глупого родича, в яме
Повисли, унылые, вниз головами.
Быть может, ты встретишь его на дороге,
Тогда ты скажи ему: «Праведник строгий,
Отшельник, мудрец, чьи достоинства редки!
На стебле вираны висят твои предки.
От стебля осталась им самая малость,
И ты — эта малость, что предкам осталась.
Как можешь ты предкам являть вероломство?
Супругу возьми, чтоб оставить потомство!»
На стебле вираны висим, не виновны.
Тот стебель непрочный — наш ствол родословный.
Изгрызана крысой вирана-растенье,
То — временем съедено все поколенье.
Висим на одном волоконце до срока, —
На сыне висим, что живет одиноко.
А крыса, которую видишь ты в яме,
То — время, что властно от века над нами.
Оно Джараткару съедает неспешно,
А тот, возомнив, что живет он безгрешно,
Гордясь, что обет соблюдает сурово,
Идет, отрешенный от горя людского.
Смотри, как бесчувственен, как малодушен
Мудрец, что одним лишь уставам послушен!
Нам подвигов мужа святого не надо,
Не ими спасемся от страшного ада!
О путник, услышал ты наше стенанье.
Разрушено временем наше сознанье,
Мы терпим душевные муки, болезни,
Как грешники, мы устремляемся к бездне.
Но будет и правнук наш временем скошен,
Как праотцы, в бездну мучения брошен.
Пойми ты, что подвиги, жертв приношенье,
Преданий, молений святых изученье,
Твое устремленье к делам превосходным —
Ничто, если ты оказался бесплодным!
Тебе говорим, как надежному другу:
Скажи Джараткару, чтоб взял он супругу,
Чтоб нам он помог, сострадания полон,
Чтоб с милой женой сыновей произвел он!»
Сказал Джараткару в тоске безутешной:
«Я — сам Джараткару, я правнук ваш грешный.
Я делал дурное, умом недалекий.
Меня вы подвергните каре жестокой!»
Воскликнули праотцы: «Славой богатый,
Скажи, почему ты живешь неженатый?»
Сказал Джараткару: «Я думал, о деды,
Путем воздержанья добиться победы.
Грехов уменьшенье, суровость в решенье —
Вот имя мое, вот мое назначенье.
Не мне, у которого нет достоянья,
Жену содержать — и просить подаянья.
В душе моей мысль утвердилась такая:
Невинности твердый обет соблюдая,
Себя от греха наслажденья избавлю
И тело свое в небеса переправлю.
Но ваши увидел я тяжкие беды,
Теперь прекращу воздержанье, о деды.
Угодное вам совершу, без сомненья:
Женюсь я для вашего, деды, спасенья.
Но знайте: для подвигов трудных рожденный,
Возьму лишь одну соименницу в жены.
Да будет мне имя ее в утешенье:
Грехов уменьшенье, суровость в решенье.
Пускай мне дадут ее как подаянье,
Я сам содержать ее не в состоянье.
Как только найдется такая девица,
Что лептою стать для меня согласится, —
Возьму ее в жены, но только такую,
И знайте: отвергну любую другую».
Промолвил он праотцам твердое слово,
Простился, и начал он странствовать снова.
Не мог отыскать себе девушку в жены
Затем, что состарился дваждырожденный.
В отчаянье впал он от долгих блужданий.
Он в лес удалился для громких рыданий:
«О вы, что недвижны, о вы, что подвижны,
И те, что сокрыты, уму непостижны,
И те, что увидели солнце впервые, —
Услышьте мой голос, о твари живые!
Я — бедный отшельник, суровый в обете,
Скитаясь, давно пребываю на свете.
Себе воздержанье избрал я оплотом,
Но предки мои, истомленные гнетом,
Велят мне: «Женись, чтобы чистая дева
Продлила с тобой родословное древо».
Скитаньям не зная предела и края,
Приятное праотцам сделать желая,
Брожу я по свету, надеясь жениться,
Но только такая нужна мне девица,
Что будет мне выдана как подаянье,
Затем, что живу я в посте, в покаянье.
Подвижные твари, недвижные твари!
Когда о подобном услышите даре,
О девушке, стать подаяньем готовой
Несчастному нищему с долей суровой,
Которому брак против воли навязан,
Который ее содержать не обязан,
О той, что моей назовется женою,
Что носит единое имя со мною, —
Живет она в близкой ли, в дальней округе, —
Отдайте мне девушку эту в супруги!»
О том, что подвижник задумал жениться,
Услышали зверь, насекомое, птица,
Каменья, и рыбы, и реки, и травы,
А также и племя змеиной державы.
За брахманом Васуки вслед их отправил,
Своих соглядатаев всюду расставил.
Услышав подвижника стоны и клики,
Те змеи с известьем примчались к владыке,
А тот повелел, возбужденный и бодрый,
Послать за сестрою своей дивнобедрой.
Невесту-змею, незнакомую с ядом,
Украсили ярким, веселым нарядом,
И в лес, где блуждал Джараткару с тоскою,
Отправился Васуки с юной сестрою.
Встречали их ветви плодами и цветом…
Главу «Махабхараты» кончим на этом.
Подвижнику Васуки молвил при встрече:
«Твои услыхал я призывные речи.
О странник, не шел ты по странам впустую:
Прими подаянье — жену молодую».
Спросил его праведник, радуясь дару:
«Как звать ее?» Змей отвечал: «Джараткару».
Но праведник, все еще не убежденный,
Колеблясь, не взял дивнобедрую в жены.
Сказал: «Содержать я супругу не стану».
Ответствовал Васуки, чуждый обману:
«Красавица эта — сестра мне родная.
Стезей добродетели твердо ступая,
Подвижнику сделаться хочет супругой,
Возлюбленной чистой и верной подругой.
Свою соименницу в жены возьми ты,
О славный отшельник, мудрец знаменитый,
А я содержать ее стану и всюду
Ей твердой защитой, охраной пребуду!»
Услышав слова: «Содержать ее стану,
Я дам ей защиту, я дам ей охрану», —
Взял за руку мудрый подвижник невесту,
Отправились оба к священному месту.
Пришлась ему девушка эта по нраву,
Они поженились согласно уставу.
Змеиный властитель отвел им покои,
Где странник убранство нашел дорогое,
Где были ковры в жемчугах, покрывала,
Которыми дивное ложе сверкало.
Супруге промолвил подвижник женатый:
«Лишь то, что угодно мне, делать должна ты,
А будет мне дело твое неприятно —
Уйду я, покину твой дом безвозвратно.
Коль хочешь ты быть мне хорошей женою,
Запомни слова, изреченные мною».
Услышав приказ, непреклонный и мрачный,
Затмилась печалью душа новобрачной.
Супруга, чтоб горе не вышло наружу,
«Да будет по-твоему», — молвила мужу.
И стала — стыдлива, нежна, величава —
Прислуживать мужу столь тяжкого нрава.
Пред ним трепетала жена молодая,
Малейшую прихоть его исполняя.
Свои продолжал он святые занятья.
Вот время благое пришло для зачатья.
Тогда, совершив омовенье заране,
К супругу приблизилась тонкая в стане.
Зародыш возник в ее чреве мгновенно,
Зажегся, как луч, засверкал сокровенно.
Как пламя, блестящий, как пламя, всесильный,
Он вспыхнул, духовною мощью обильный.
Как месяц в его полнолунное время,
Блистая, росло благородное семя.
А муж становился суровей и строже.
Однажды, с женой пребывая на ложе,
Он голову ей положил на колени,
Заснул, утомлен от трудов и молений.
Заснул величайший подвижник в ту пору,
Как солнце уже заходило за гору.
Жена, с мудрецом возлежавшая рядом,
С младенчества верная чистым обрядам,
Подумала: «Мужу, согласно обету,
Пора поклониться вечернему свету.
Будить мне его или будет пристойно
Но трогать его, чтобы спал он спокойно?
Будить? Но тогда его сон я нарушу!
Не трогать? Заставлю страдать его душу!
Так что же мне делать? Не ведаю, право:
Супруг мой крутого, сурового нрава!
Будить? На меня он обрушится гневно!
Не трогать? Но будет скорбеть он душевно:
Не видя, как солнце сошло с небосклона,
Допустит мой муж нарушенье закона!
Я знаю, что гнев мудреца — прегрешенье,
Но все же закона страшней нарушенье!»
Змея Джараткару, жена молодая,
Так мудро о благе и зле рассуждая,
Решилась — и мужу сказала учтиво,
Пленительно, ласково, сладкоречиво:
«Безгрешный в законе, могучий в ученье,
Услышь, господин мой, служанки реченье!
Как бог семипламенный, семиязыкий,
Ты спишь, наделенный судьбою великой.
О, встань, господин, ибо день на исходе
И скоро стемнеет на всем небосводе.
К воде прикоснувшись и верен уставу,
Воздай ты вечернему сумраку славу!
Есть в этом мгновенье и страх и отрада.
Начни, господин, совершенье обряда.
Пора приниматься за доброе дело,
На западе, муж мой, уже потемнело!»
Подвижник ответил супруге сурово, —
От гнева дрожали уста у святого:
«Жена, про свое ты забыла служенье,
Ко мне проявила ты пренебреженье.
Я верил, я черпал в той вере опору,
Что солнце не сможет в обычную пору
Зайти, если сплю я: сильней моя сила!
Меня разбудив, ты меня оскорбила.
Змея дивнобедрая, тонкая в стане!
Отныне уйду я для новых скитаний
Затем, что мудрец покидает обитель,
Где с ним обитает его оскорбитель!»
Змея Джараткару, дрожа от испуга,
Сказала, покорная воле супруга:
«К тебе не явила я пренебреженье,
Невольное ты мне прости прегрешенье.
К тому я стремилась, о верный обету,
Чтоб ты поклонился вечернему свету».
Сказал Джараткару, смягчившись немного:
«Я слово изрек непреложно и строго.
Уйду, как пришел я. Тебе это трудно,
Но так мы решили с тобой обоюдно:
Свершишь неугодное мне, господину, —
Уйду я, твой дом безвозвратно покину.
О милая, жил я счастливо с тобою,
Скитальческой снова пойду я тропою.
Служила ты мне терпеливым служеньем,
Прощай, о змея с безупречным сложеньем!
Ты брату скажи, что ушел я отныне.
Иди, не скорби о своем господине».
Лицо у жены потемнело от муки.
С мольбою сложила бессильные руки.
На мужа она посмотрела глазами,
Омытыми нежного сердца слезами.
Душа у стыдливой жены загорелась.
Не зная, откуда взялась ее смелость,
Прелестная, робкая, тонкая в стане,
Ответила голосом, полным рыданий:
«Супруг, соблюдающий свято законы,
Яви милосердие мне, благосклонный!
Я тоже закон исповедую свято,
Пред мужем возлюбленным не виновата.
О благе твоем я пекусь каждодневно,
Взгляни ж на меня, господин мой, безгневно.
Ужели, великий, уйдешь ты отселе,
Покинув меня, не достигшую цели?
Что скажет мне Васуки, жалкой, несчастной,
Чья брачная жизнь оказалась напрасной?
Я стала твоей, домогаясь зачатья
Во имя спасения змей от проклятья.
Еще не созрело желанное семя,
Которым спасется змеиное племя,
Оно еще только зародыш безликий,
А ты меня хочешь покинуть, великий!
Прошу я для блага породы змеиной:
Останься со мной, пред тобой неповинной!»
Ответил подвижник супруге стыдливой:
«Отныне себя почитай ты счастливой.
Зародыш, который в тебе возрастает,
Умом и великой душой заблистает.
Как бог вековечный, как пламя и влага,
Он явится в мир для всеобщего блага.
Он будет подвижником, мудрым ученым,
В преданьях, в священных стихах искушенным.
Могуч, как гроза, и, как воздух, целебен,
Всему человечеству будет потребен.
Он есть! — Джараткару сказал на прощанье. —
Исполнит он Брахмы-творца обещанье!»
Сказав, удалился подвижник блаженный,
Душой справедливый, умом совершенный.
Забыл о дворце, о блестящем убранстве,
Ушел он для нищенства, подвигов, странствий.
Жена молодая, грустна, безутешна,
Отправилась к Васуки-змею поспешно.
О том, что случилось, поведала брату,
Оплакала горько живую утрату.
Сказал он, печалью сестры огорченный
И сам еще больше судьбой удрученный:
«Ты с детства услышала вещие речи.
Ты облик навек приняла человечий.
Была в твоем браке и цель и причина.
Должна ты родить несравненного сына.
Вершины постигнув законоученья,
Избавит он родичей-змей от сожженья.
Не должен твой брак с мудрецом благородным,
Пойми же, сестра, оказаться бесплодным.
Скажи мне всю правду: могучий ученый,
Подвижник и праведник дваждырожденный,
Тебя одарил ли зародышем сына?
Я знаю, об этом не смеет мужчина
Расспрашивать, — мне же нужда повелела;
Спросил только вследствие важности дела!
Теперь Джараткару блуждает повсюду.
Преследовать мужа сестры я не буду:
Он может проклясть меня, в гневе горячий,
И нашему делу не будет удачи.
Но что нам до мужа, сурового в гневе?
Поведай, сестра: есть дитя в твоем чреве?»
Тогда, повелителя змей утешая,
Сказала сестра: «Ждет нас радость большая.
Сказал мне супруг, разуменьем богатый:
«Теперь, о змея, тосковать не должна ты.
Подобный палящему солнцу блистаньем,
Твой сын удивительным будет созданьем,
Чей жар будет равен полдневному жару.
Он есть! — на прощанье сказал Джараткару. —
Он есть!» — удаляясь, промолвил он снова,
А слово подвижника — верное слово!»
И змей, осчастливлен подобным ответом,
Сестру подношеньем почтил и приветом.
И все исполняли ее указанья…
На этом главу мы кончаем сказанья.
Как месяц в свое полнолунное время,
Блистая, росло драгоценное семя.
Росло, чтоб исполнить свое назначенье,
От солнца в нем были и мощь и свеченье.
Пылал и сверкал он, безликий покуда, —
Зародыш той силы, что сделает чудо.
Змея дождалась надлежащего срока,
Чтоб сын засиял и вблизи и далёко.
Младенец как солнечный отблеск явился, —
Казалось, божественный отпрыск родился.
От блага рождения принял он бремя:
Избавить от страха змеиное племя.
Он рос, изучая закон многоправый,
В чертоге владыки змеиной державы.
Изведал он гимны, узнал он преданья,
Которые были древней мирозданья.
От знанья он сделался дваждырожденным,
Святым правдолюбцем, премудрым ученым.
Он понял, что есть у творений бессчетных,
У птиц, у людей, у растений, животных, —
Единый язык и закон соучастья
В деяниях правды, сочувствия, счастья.
Он понял, великим умом озаренный,
Что все подчиняются наши законы
Закону тому, что рожден в человеке:
Живущему зла ты не делай вовеки,
Живи, никому не внушая боязни,
Исполненный к тварям добра и приязни,
Не смей убивать ни растенье, ни зверя,
Единою мерой себя с ними меря.
Отмеченный кротостью и бескорыстьем,
Будь милостив к людям, и птицам, и листьям,
Прощенье и правда в деянье и в речи, —
Вот высший закон, вот закон человечий!
Он рос, величайший закон постигая,
Дорога пред ним открывалась благая.
О нем, что в утробе лежал, не рожденный,
«Он есть!» — Джараткару сказал убежденный,
«Он есть! — повторяли все твари сердечно, —
Он — Астика, он — Существующий Вечно,
Затем, что всегда существует познанье!»
Прославленным сделалось это прозванье,
Оно прославлялось, подобное чуду,
И рос мальчуган, почитаем повсюду.
Возмездье меж тем приближалось к виновным,
Грозя истреблением змей поголовным.
Змей Васуки молвил сестре Джараткару:
«Предчувствую, милая, грозную кару.
Но сын твой мужает, растет мой племянник,
В грядущем — великий подвижник и странник.
Открой мальчугану его назначенье:
Несчастных спасти, отвратить всесожженье».
Послушалась добрая женщина змея
И молвила Астике, близких жалея:
«Мой сын, не стремясь к наслажденью, к веселью,
Я замуж пошла с предначертанной целью.
Узнай же замужества цель и причину,
Змеиного племени страх и кручину.
Решила красавица Кадру когда-то, —
Об этом, о сын, я узнала от брата, —
«Он черный!» — сказать о коне беломастном,
Как свежее, сбитое масло, прекрасном.
Промолвила змеям: «Коня перекрасим», —
Надеясь, что дети ответят согласьем.
Но змеи не приняли слов криводушных,
И мать прокляла сыновей непослушных:
«Придет Джанаме́джая, змей уничтожит,
Змеиному роду конец он положит.
Придет властелин в заповедное время,
Придет и сожжет он змеиное племя».
Но Брахма, создавший творенья живые,
Ответил на эти слова роковые:
«Сгорят нечестивцы, погибнут злодеи,
Спасутся невинные, добрые змеи.
Лишенные жала останутся живы.
Придет Джараткару, безгрешный, правдивый,
Придет и возьмет соименницу в жены.
Родится их сын, чистотой наделенный,
По имени Астика, правды блюститель, —
То будет змеиного рода спаситель».
Теперь ты узнал, о взлелеянный мною,
Зачем я подвижнику стала женою.
Тебя родила я с великою целью.
О сын мой, нельзя предаваться безделью,
К царю Джанамеджае двинуться надо:
Готовы уже и алтарь для обряда,
И жертвенный ковш, и сосуд, и поленья, —
Вот-вот загорится огонь истребленья!
О сын мой, рожденный для нашего блага,
В чьем сердце — добро, справедливость, отвага,
Скажи мне, могу ли спасения ждать я,
Скажи мне, избавишь ли змей от проклятья?»
Ответствовал Астика: «Правду восславлю,
Живые творенья от смерти избавлю».
Чтоб чудо свершить, порешил он сначала
О змеях узнать, не имеющих жала,
Узнал он подъявшего море и сушу, —
Он Шеши узнал справедливую душу,
Узнал он о змеях, лишенных отравы,
Узнал их поступки, и мысли, и нравы,
Услышал в правдивом преданье старинном
О добрых подвижниках в царстве змеином,
Стремящихся к благу, не склонных к наветам…
Главу «Махабхараты» кончим на этом.
Так сказано в древнем преданье известном:
Есть разные твари на своде небесном,
Там есть полудемоны, есть полубоги,
Проходят порой по земле их дороги.
Там есть песнопевцы, чьи звонки напевы,
Там есть дивнобедрые, стройные девы.
Однажды с небесною девой прекрасной
Сошелся один полубог сладкогласный.
От бремени срок наступил разрешиться,
Дитя подарила земле чаровница.
В прибрежных кустарниках, в месте безлюдном,
Оставила девочку с обликом чудным.
К реке приближался подвижник в ту пору.
Предстало дитя изумленному взору.
Увидев прелестное это созданье,
Почувствовал странник любовь, состраданье.
Он девочку взял, и взрастил, и взлелеял,
В душе у нее добродетель посеял.
Она ему дочерью стала приемной,
Росла, расцветая, в обители скромной.
Красавица лучшей из девушек стала,
И прелестью и благочестьем блистала.
Однажды чудесную, как сновиденье,
Подобную лотосу в нежном цветенье,
Увидел красавицу брахман красивый,
По имени Руру, подвижник правдивый.
Посватался к девушке дваждырожденный,
Стремительным богом любви побежденный.
Приемный родитель ответил согласьем,
Воскликнул: «Мы свадьбою землю украсим!»
Назначил он день по особенным знакам,
Который счастливым способствует бракам.
За несколько суток до свадьбы невеста,
С подругами выбрав прелестное место,
Играла, плясала в одежде блестящей,
Играя, змеи не заметила спящей,
Которая в скользкие кольца свернулась,
От песен и смеха подруг не проснулась.
Как вдруг наступила, влекомая роком,
Невеста на эту змею ненароком.
Змея, в состоянье еще полусонном,
К тому побужденная властным законом,
Вонзила в красавицу гнусное жало, —
Невеста, отравлена ядом, упала.
Но даже мертва, холодна, бездыханна,
Была она взору мила и желанна,
Лежала на теплой земле без движенья,
Подобная лотосу в пору цветенья.
От яда змеиного, ярко блистая,
Сильней расцвела красота молодая.
Взглянув на нее, испугались подруги,
И стон по лесной покатился округе.
Приемный отец и жених закричали,
Друзья зарыдали в безмерной печали,
Отшельники, чуждые горю доселе,
Подвижники, странники, плача, сидели
Вокруг бездыханного юного тела,
И все, что цвело, об усопшей скорбело,
И Руру смотрел обезумевшим взглядом
На юность, убитую мерзостным ядом.
Снедаемый скорбью великой и жгучей,
Оттуда он в лес удалился дремучий.
Он жалобно сетовал, горем палимый.
Он плакал о ней, он рыдал о любимой:
«Лежит без движенья жена дорогая,
Безмолвно страданье мое умножая,
Лежит на земле бездыханною тенью,
Как лотос, который стремился к цветенью.
Но все возрастает ее обаянье,
И если я всем раздавал подаянье,
И если обет исполнял я сурово,
И если трудился для блага людского,
И если познал я духовное счастье,
Затем, что с рожденья обуздывал страсти,
И если не тщетно мое благочестье,
То жизнь да вернется к любимой невесте,
И если дана моим подвигам сила, —
Хочу, чтоб невесту она оживила!»
Внезапно богов появился посланник.
Сказал он: «О Руру, подвижник и странник!
К чему твои речи? От бренного слова
Нельзя мертвецу превратиться в живого,
И если от смертного жизнь отлетела, —
Не слово ему помогает, а дело!»
«Какое же дело судили мне боги?
Поведай, о путник с небесной дороги!»
«Змеею отравленной в злую годину
Ты собственной жизни отдай половину.
Зачтется подвижнику эта заслуга,
Отдашь — и воспрянет из мертвых подруга!»
Ответствовал Руру небесному сыну:
«Я жизни своей отдаю половину!
Пускай же, змеиным отравлена ядом,
Украшена прелести юной нарядом,
Любовью увенчана, счастьем сверкая,
Воспрянет невеста моя дорогая!»
Небесный посол, снаряженный богами,
Явился тогда к правосудному Яме,
К властителю, смерти, к владыке закона.
Сказал ему: «Просьбе внемли благосклонно!
Есть Руру, подвижник, познавший кручину,
Он жизни своей отдает половину,
Чтоб жизнь ты вернул его мертвой невесте.
Какие страдальцу поведать мне вести?»
Ответствовал вестнику бог правосудный:
«Да жизнь возвратится к красавице чудной!
Пусть тот, кто сильнее отравы змеиной,
Пожертвует жизни своей половиной.
Воспрянет красавица этой ценою,
Подвижнику доброму станет женою».
Так сказано было владыкой закона,
И мертвая дева, без боли, без стона,
Как будто от сна для блаженного бденья,
Как лотос, взлелеянный силой цветенья,
Воспрянула, заново жить начиная,
И сделалась ярче краса молодая.
Так праведной жизни своей половиной
Пожертвовал Руру подруге невинной.
Счастливый жених устремился к невесте,
И свадьбу сыграли, и зажили вместе
Две жизни, — супруг, отыскавший супругу, —
Добра и отрады желая друг другу.
А Руру поклялся, исполненный гнева:
«Пойду ли я вправо, пойду ли я влево,
В лесу или в поле, вблизи иль далёко,
Но змей истреблю я повсюду жестоко!»
Он палицей змей убивал повсеместно:
Святому пощада была неизвестна.
Однажды в лесу, у прогнившей колоды,
Он змея узрел незнакомой породы:
На солнышке грелся он, вытянув тело,
Бессильная старость его одолела.
Как будто орудьем Судьбы, свирепея,
Подвижник ударил дубиною змея.
Тот молвил: «Отшельник, услышь мое слово!
Тебе я вреда не нанес никакого,
Зачем же пришел ты, о праведник, в ярость?
Ты бьешь меня палкой, презрев мою старость!»
«О змей, я не внемлю твоей укоризне!
Супругу мою, что милее мне жизни,
Змея отравила смертельной отравой.
Поклялся я клятвою грозной и правой:
«Куда ни пойду я, всегда и повсюду
Я змей убивать многомерзостных буду».
Поэтому я и тебя уничтожу,
Убью, разорву непотребную кожу!»
Ответствовал змей: «О мудрец знаменитый!
Не все мы свирепы, не все ядовиты,
Не все мы жестоки и втайне трусливы,
Не все мы коварны и алчно кусливы,
Не все мы злодействуем, жалим, клевещем,
Не все мы в сообществе слиты зловещем!
Вот наша порода — людей не кусает
И даже порою от яда спасает.
Мы многих творений добрее, честнее,
О странник, мы только по запаху змеи,
Мы обликом схожи, окраскою кожи, —
Зато мы душою и сердцем не схожи.
Мы связаны с ними названием общим,
Но разное любим, по-разному ропщем.
Мы связаны с ними несчастьем единым,
Но счастьем не схожи со счастьем змеиным.
Не схожи по нашим делам и стремленьям,
Хоть нас презирают единым презреньем.
Иного мы жаждем, иное провидим,
И змей мы не меньше, чем вы, ненавидим».
Смутился, подумал испуганный Руру:
«На жизнь мудреца покусился я сдуру».
Сказал он тому необычному змею:
«Тебя убивать не желаю, не смею.
Но кто ты, кому даровал я прощенье?
Ты, может быть, змей, испытал превращенье?»
Ответствовал змей: «Был я праведник строгий,
Известный под именем Тысяченогий.
Но, проклятый брахманом, злом обуянным,
Стал змеем неведомым и безымянным».
Подвижник спросил: «По какой же причине
Ты проклят и ползаешь змеем поныне?
Ты в облике этом пребудешь доколе?
Ответь мне, причастный страдальческой доле!»
Сказал ему змей незлобивой породы:
«Был дружен я с брахманом в давние годы.
Однажды, огню исполняя служенье,
Он жертвенное совершал приношенье,
А я развлекался, как мальчик лукавый, —
Я сделал змею из травы для забавы.
Увидев змею, что ползла среди праха,
Подвижник сознанья лишился от страха.
Богатый молитвами, правдоречивый,
Взыскующий истины, благочестивый,
Обетам и подвигам предан сурово,
Не сразу пришел он в сознание снова.
Сказал он, меня точно гневом сжигая:
«Твоя ненавистна мне выдумка злая!
Змею из травы ты сработал недаром:
Решил посмеяться над брахманом старым!
Подобие сделал ты — мне в устрашенье,
Когда я огню совершал приношенье.
Ты был образцом, но подобием станешь,
Ты был мудрецом, — ныне к змеям пристанешь,
Ты будешь змеею, такой же бессильной!» —
Он крикнул, духовною мощью обильный.
Склонившись пред мужем, могучим в законе,
Смущенный, смиренно сложил я ладони,
Сказал я, свой жребий предчувствуя жуткий:
«Мой друг, я змею сотворил ради шутки,
Поверь же, мудрец, что совсем не по злобе
Я создал одно из противных подобий.
Ты строг, но для друга ты сделай изъятье.
Прости же меня, отмени ты проклятье!»
Так плакал, молил я, Судьбой удрученный.
Подвижник, раскаяньем чистым смягченный,
Ко мне обратился с таким заклинаньем, —
Дышал он горячим и частым дыханьем:
«Я слово сказал, и оно — непреложно.
Проклятье мое отменить невозможно.
Но так как с тобою дружили мы прежде,
То в сердце ты выбери место надежде.
Ты жди, о мудрец, надлежащего срока.
Родится подвижник, мудрец без порока.
Придет он к тебе, милосердье проявит,
Тебя от проклятия Руру избавит».
Жреца поразив этой мудрою речью,
Он принял и облик и стать человечью,
Подобьем он был — в образец превратился,
Исчезла змея, и мудрец возродился!
Сказал он: «Ты видишь, о твердый в обете,
Что есть и хорошие змеи на свете.
Поведал нам тот, кто творения множит:
«Придет Джанамеджая, змей уничтожит,
Сгорят нечестивцы, погибнут злодеи,
Спасутся невинные, честные змеи,
Которые жаждут добра и познанья!..»
На этом главу мы кончаем сказанья.
Сказал Джанамеджая, твердый в решенье:
«Устрою великое жертв приношенье,
Но прежде чем род уничтожу змеиный,
Хочу я узнать злодеяний причины,
Хочу я узнать о царе-государе,
В чьей смерти повинны коварные твари, —
За что он убит, незнакомый с пороком?
Каков его путь, предначертанный роком?
Узнав обо всем, предприму я отмщенье,
Иначе свершить откажусь я сожженье».
В ответ он услышал от мудрых ученых,
Суровых в обетах, безгрешных в законах:
«Отец твой, властитель с душою открытой,
Народу служил справедливой защитой.
Не знал он таких, кто б его ненавидел,
Он сам никого никогда не обидел.
Он царствовал правильно, радостно, властно,
Богиню Земли охранял ежечасно.
Стремился он к благу, чтоб зажили в мире,
Закон соблюдая, все касты четыре.
Хвалили его и слуга и владелец;
И жрец, и боец, и купец, и умелец
Трудились, блюдя вековые законы,
И царствовал царь, как закон воплощенный.
Любили его бедняки и калеки,
О каждом заботился он человеке,
Великий деянием, праведный словом,
Защитником был он сиротам и вдовам.
Луной, что плывет по небесному своду,
Он людям казался, любезный народу.
Сражался Парикшит, ведомый богами,
С шестью обитавшими в сердце врагами:
То были Гордыня, Стяжание, Чванство,
Алкание, Гнев и Безумие Пьянства.
Он жил, побеждая презренные страсти,
Он жил, утверждая бесценное счастье,
Пока не достиг рокового предела
И змей не свершил беззаконного дела.
Царя не спасли ни мольбы, ни ограда,
Отец твой погиб от змеиного яда,
И ты воцарился на этом престоле,
Защитник народного блага и воли».
Ответил им царь, над царями поставлен:
«Был Такшакой-змеем отец мой отравлен.
Но Кашьяпа, знавший от яда лекарство,
На помощь спешил к повелителю царства,
Я знаю, что, змеем к тому побужденный,
Обратно отправился дваждырожденный.
А было в лесу и безлюдно и глухо.
Так кто же, скажите, до вашего слуха
Довел о беседе святого со змеем?
Ответьте, и в сердце отмщенье взлелеем».
Советники молвили мудрые речи:
«Узнай же, о царь справедливый, о встрече
Коварного змея с подвижником славным,
С великим жрецом, с мудрецом богоравным.
Сказал исцелителю змей непотребный:
«О, если ты силой владеешь целебной,
То дерево, друг мой, тогда оживи ты:
Сейчас я кору укушу, ядовитый».
Не знали ни лекарь, ни змей пестрокожий,
Что был на смоковнице некий прохожий.
Он сучья ломал, на верхушку забрался:
Он жертвенным топливом там запасался.
Сожженный отравой змеиною, злою,
Он сделался с деревом вместе золою,
Но с деревом вместе его оживила
Премудрого Кашьяпы светлая сила.
Сей пепел, и тело и душу обретший,
Как дерево, снова для жизни расцветший,
В наш город пришел и поведал нам слово
О том, что от змея узнал и святого.
О царь, опечаленный этим рассказом,
Ты действуй теперь, как велит тебе разум».
Познал Джанамеджая горькие муки,
Снедаемый скорбью, ломал себе руки,
А лотосы — очи — росой заблистали…
Советникам славным сказал он в печали:
«Предам я сожжению Такшаку-змея,
За гибель отца уничтожу злодея.
Змеиного рода начну истребленье:
Я вижу, что змей велико преступленье.
Сгорел мой отец, повелитель державы,
Сожгло его пламя змеиной отравы.
Врагам уготовлю такую ж кончину:
Я в пламя змеиное племя низрину.
Теперь совершу я земли очищенье,
Теперь принесу я огню приношенье,
Согласно заветам, что мира древнее,
Огню будут преданы злобные змеи».
Сказал он жрецам: «Для такого обряда
Все то, что потребно, устроить вам надо».
Тогда-то пришли, как велел повелитель,
И жрец-охранитель, и жрец-исполнитель.
Избрали равнину под радостным небом,
Обильную солнцем, плодами и хлебом.
Воздвигли, чтоб род уничтожить змеиный,
Огромный алтарь посредине равнины.
Затем, после долгих трудов и усилий,
Они Джанамеджаю благословили:
«Да будет угодно твое приношенье —
Змеиного, злобного рода сожженье».
Явились в числе неисчетном святые,
Подвижники мудрые, старцы седые,
Они разместились удобно, в прохладе,
И речь повели о великом обряде.
Приблизился день, для него наилучший.
Случился тогда непредвиденный случай.
От главного зодчего, старца благого,
Услышал властитель правдивое слово:
«То место, что выбрано вами, прекрасно,
Но жертвенник здесь возвели вы напрасно.
Такое назначив ему положенье,
Не сможете змей завершить всесожженье.
Подвижник придет, неизвестный доселе,
Не даст вам достигнуть задуманной цели».
Сказал Джанамеджая в сильной тревоге:
«О стражи, приказ мой исполните строгий,
Сюда, к мудрецам, искушенным в законе,
Не должен пройти ни один посторонний».
Меж тем, в одеяниях черного цвета,
Жрецы приготовились к делу обета.
Явились прислужники с маслом топленым.
Тотчас на равнине запахло паленым.
Пылание вспыхнуло неотвратимо.
Глаза у жрецов покраснели от дыма.
Они совершили огню возлиянье,
Они возгласили свое заклинанье:
«Летите, как ветер, ползите, как тучи,
Как яркие молнии, станьте летучи,
Сюда, на алтарь, устремитесь быстрее,
О злобные змеи, кусливые змеи!
Спешите лесами, лугами, полями,
Сегодня сожрет вас великое пламя.
Вы будете пожраны Агни-владыкой,
Он — бог семипламенный, семиязыкий!»
В садах, где возвысился жертвенник дымный,
Тогда зазвенели молитвы и гимны.
Жрецы повторяли свои заклинанья,
Подняв в государстве змеином стенанья,
Заставив спокойно дремавших проснуться,
А самых жестоких и злых — содрогнуться.
И змеи, своим побужденные роком,
На гибель, на смерть устремились потоком.
Ползли, не желая, ползли они в страхе,
Вельможи, ученые, стражи, монахи,
Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки,
Творившие зло на свету и во мраке.
Единые в счастье, различные в горе,
Добычею пламени сделались вскоре.
Одни, умирая, тоскливо взвывали,
Иные друг друга хвостом обвивали,
Одни извивались и падали с треском,
Другие исполнились молнийным блеском,
Там с телом сплеталось горящее тело,
Казалось, что в пламени пламя горело.
Пугаясь, они издавали шипенье,
А те низвергались в огонь в нетерпенье,
Одни уцепиться за камень старались,
Другие растеньями там притворялись,
А третьи как нить растянулись тугая,
Беспомощных, дряхлых вперед пропуская.
Четвертые в скользкие кольца скрутились,
От зла отрешились, в длине сократились,
А пятые, страхом объятые жгучим,
Самих себя жалили жалом могучим.
Шестые бороться хотели с Судьбою,
Но были не властны уже над собою.
Огонь полыхал, становился суровей,
Иные белели, как хобот слоновий,
Другие, как черные крысы, чернели,
Как молнии, третьи, блестя, пламенели.
Различные силой, окраскою кожи,
Одни — со слонами безумными схожи,
А те оказались породою мелкой,
А те — как дубины с железной наделкой,
А те, еле видные, в травке сокрыты,
Но все двоедушны, но все ядовиты!
Так двигались к пламени змеи любые,
Зеленые, черные и голубые,
Их множество было — усердных и праздных,
С красивой наружностью и безобразных,
Но сильных и слабых друг с другом сближало
С губительным ядом смертельное жало!
Ползли, и ползли, и ползли миллионы, —
Поток бесконечный, огнем поглощенный.
Они, материнскою прокляты властью,
Ползли, пожираемы огненной пастью.
Что было для чистого сердца страшнее,
Чем гнусные змеи, коварные змеи?
А ныне смотрели живые творенья,
Как топливом стали они для горенья.
Те самые змеи, сообщество злое,
Что ужас на все наводило живое, —
Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,
Теперь устремлялись в огонь справедливый.
А пламя забыло про отдых и роздых,
Наполнился запахом тления воздух,
И реки змеиного мозга и жира
Текли по дорогам смятенного мира,
И змеи стонали, и твари живые
Преступников плач услыхали впервые.
Огонь бушевал, полный силы смертельной.
Почувствовал Такшака страх беспредельный.
Стонал он, метался, покоя не зная.
Он думал: «Как прежде, поможет мне майя.
Я брахманом стану, прибегнув к обману.
О нет, червяком я безвредным предстану!»
Но Такшаки сила ушла без остатка.
Уже душегуба трясла лихорадка.
Беспомощным он становился в обмане,
Как раб, он внимал голосам заклинаний,
Он видел, что скоро утратит он волю
И сам изберет себе страшную долю.
Тогда поднатужился змей ядовитый
И двинулся к Индре, желая защиты.
«О Индра, — сказал он властителю влаги, —
Прошу я, прибежище дай мне, бедняге,
От Агни спаси меня, Индра великий, —
Он хочет пожрать меня, многоязыкий!»
Сказал Громовержец дрожащему змею:
«Не бойся, тебя защитить я сумею.
В чертоге моем, в многовлажном тумане,
Спасешься от пламени и заклинаний!»
Был змей осчастливлен подобным ответом.
Главу «Махабхараты» кончим на этом.
Меж тем не смолкали заклятья, моленья,
Так жертвы стремились в огонь истребленья.
Алтарь справедливое пламя возвысил,
Чтоб змей сосчитать, не хватило бы чисел,
Ползли, и ползли, и ползли миллионы, —
Сменялся потоком поток истребленный.
Он корчился в пламени, род ядовитый,
И Васуки вскоре остался без свиты.
Унынье змеиным царем овладело.
«Сестра! — застонал он. — Горит мое тело,
Трепещет душа, и колеблется разум,
Я гибну, покорный священным приказам,
Весь мир говорит о конце моем скором,
Не вижу я света блуждающим взором,
Уже разрывается сердце на части,
И сам над собою не чувствую власти,
Готов я, с моими подвластными вместе,
Низринуться в пламя пылающей мести.
Ты видишь, я гасну, дрожа и стеная.
Поведай же милому сыну, родная,
Что он упованье мое и спасенье,
Что он, только он прекратит всесожженье!»
И сыну сказала тогда Джараткару:
«Иди, отврати беспощадную кару».
Воззвал к нему Васуки: «Астика милый,
Ты видишь, лишился я воли и силы,
Не вижу, не знаю, где стороны света,
Молюсь я творцу — и не слышу ответа».
Племянник ответил несчастному змею:
«Теперь успокойся. Твой страх я развею.
Спасу я от пламени пышущей мести
Творенья, что преданы правде и чести.
Да будет погибель одним лишь виновным,
Не должно возмездию быть поголовным.
Иду я, борьбу объявляя насилью,
Огонь задушу я водою и пылью».
Отправился Астика, юный годами,
Туда, где огонь пламенел над садами.
Увидел он дивное место обряда,
Вокруг широко простиралась ограда,
Увидел жрецов и скопленье народа,
Увидел он издали, стоя у входа,
Как змей обреченных ползли миллионы, —
Алтарь привлекал их, огнем озаренный,
Единые в счастье, различны в несчастье,
Ползли и в огне распадались на части.
Впилось в его сердце страдания жало,
Но мальчика стража тогда задержала.
Стремясь Джанамеджаи дело исправить,
Решил он сожженье стихами восславить.
Дошел до народа, жрецов и владыки,
Услышал алтарь и огонь грозноликий,
Который горел средь равнины безбрежной,
Мальчишеский голос, могучий и нежный:
«О царь, чья прославлена всюду отвага,
Жрецы, что живут для всемирного блага,
Огонь, что блестит, как луна и созвездья, —
Творите вы славное дело возмездья.
Но знайте, существ совершая сожженье,
Что жизнь есть несчастье, что жизнь есть мученье.
Возможно ль злодейство убить самовластьем?
Возможно ли горем бороться с несчастьем?»
«Сей мальчик, — сказал властелин удивленный, —
Умен, как мудрец, сединой убеленный.
Быть может, не мальчика слышим призывы,
Быть может, то старец пришел прозорливый.
У брахманов ныне прошу разрешенья:
Его допустите к обряду сожженья.
Он мальчик, но знанием равен он старым.
Его одарю я каким-нибудь даром».
Ответили брахманы словом единым:
«Жрецов почитать надлежит властелинам.
Хотя он и мальчик, познал он законы.
Почета и славы достоин ученый.
За мудрость его мы допустим к обряду.
Пусть примет, какую захочет, награду.
Чудесного мальчика, царь, одари ты,
Лишь явится Такшака, змей ядовитый».
Хотел было царь молвить мальчику слово:
«Не жаль для тебя мне подарка любого», —
Но жрец-возглашатель, в душе недовольный,
Сказал: «Не спеши ты, о царь своевольный!
Еще в наше пламя, живому враждебный,
Не ринулся Такшака, змей непотребный».
Сказал Джанамеджая: «Гимны возвысьте,
К погибели Такшаку-змея приблизьте».
Жрецы отвечали: «Открылось нам в гимнах,
В сверкании пламени, в угольях дымных,
Что прячется Такшака гнусный вне дома,
В обители Индры, властителя грома».
И брахманы, сильные мощью познанья,
Усилили гимны, мольбы, заклинанья,
И пламя, хранимое вечным законом,
Почтили, насытили маслом топленым.
Внезапно увидели: по́ небу мчится,
Сверкая, громами гремя, колесница.
То Индра летел, окружен облаками,
Небесными девами, полубогами.
Летел он, жрецов услыхав призыванья,
Летел он, а в складках его одеянья,
Где тучи простерлись могучим размахом,
Змей Такшака прятался, мучимый страхом.
Сказал повелитель, о правде радея:
«Жрецы, если Индра скрывает злодея,
То в чистое пламя пылающей мести
Вы Индру низвергните с Такшакой вместе».
Жрецы отвечали: «О царь, погляди-ка,
Внимает нам грома и молний владыка.
Святых заклинаний и он побоится!
Смотри, удалилась его колесница,
Он выпустил змея, тобой устрашенный.
Ты слышишь ли Такшаки вздохи и стоны?
Лишился он силы от наших заклятий,
Он в пламя летит, что гудит о расплате.
Ты видишь ли змея предсмертные корчи?
Он крутится в воздухе, будто от порчи,
По тучам он катится, как по ступеням,
Шипит он могучим и страшным шипеньем,
Сейчас он погибнет, сгорит в униженье, —
Как должно, проходит злодеев сожженье,
Теперь, повелитель, сдержи свое слово
И брахмана ты одари молодого».
Сказал Джанамеджая: «Гость безобидный,
По-детски невинен твой лик миловидный!
Чего ты желаешь? Мне будет нетрудно
Отдать даже то, что отдать безрассудно.
Что выбрал ты сердцем, мудрец несравненный?
Скажи мне, я дам тебе дар вожделенный».
Над жертвенным пламенем Такшаки тело,
Как пламя, уже извивалось, блестело,
Уже нечестивец, покинут сознаньем,
Готов был упасть, побежден заклинаньем,
Но Астика вскрикнул с мальчишеским жаром:
«О царь, лишь одним одари меня даром, —
Сожженья обряд прекрати поскорее,
И пусть в это пламя не падают змеи!»
Сказал повелитель, весьма огорченный:
«Огонь да не гаснет, для блага зажженный!
О праведник, просьба твоя тяжела мне.
Возьми серебро, драгоценные камни,
Тебе, может, золота множество надо,
Священных коров я отдам тебе стадо,
Но только для змей ты не требуй прощенья,
Не требуй святого огня прекращенья!»
Слова мальчугана в ответ зазвенели:
«О царь, золотых не хочу я изделий,
Камней, серебра и коров мне не надо,
Хочу одного: прекращенья обряда.
Ты видишь: заклятьям всесильным подвластны,
Уже устремляются в пламень ужасный
Не только убийцы, лжецы, лиходеи,
Но также и добрые, честные змеи».
Взглянули жрецы и властитель державы,
Увидели: змеи — двуглавы, треглавы,
Одни — о семи головах, а другие —
Безглавые, пестрые кольца тугие,
Одни — словно гордые горные цепи,
А те — словно долгие, душные степи,
Свиваясь хвостами, сплетаясь телами,
Шипя, низвергались в безгрешное пламя.
Различны они становились в несчастье,
Пылающий яд источали их пасти,
Пылал он, вливаясь в огонь справедливый,
Где меркли горящего яда извивы.
За этими гнусными змеями следом,
За сыном отец и внучонок за дедом —
Невинные змеи стекались в печали,
Лишенные жала, гореть начинали!
А в воздухе ясном над жаркой равниной,
Над этой великою смертью змеиной,
Змей Такшака, мучимый страхом сожженья,
Не падая в пламя, повис без движенья.
Хотя беспрерывно лилось возлиянье,
Хотя бушевало святое пыланье,
Хотя он и был у заклятья во власти,
Хотя и стремился он к огненной пасти, —
Застыл он без воли, застыл он в безумье,
И вот властелин погрузился в раздумье.
Спросил он, могучий в деяниях битвы:
«Ужель недостаточны ваши молитвы,
«Ужель недостаточны ваши стремленья,
Чтоб Такшаку ввергнуть в огонь истребленья?»
Сказали жрецы. «Это Астики сила
Падение Такшаки остановила,
«Стой, стой!» — он сказал, повторив троекратно:
Заклятье жреца стало Такшаке внятно.
Боязнь охватила безумного змея,
Он в воздухе ясном застыл, каменея,
Как путник, которому всюду преграда,
Когда он стоит средь коровьего стада.
Сказал Джанамеджая, царства блюститель:
«Друзья мои, местью насытился мститель.
Да будет исполнено Астики слово,
Оно — милосердного дела основа.
Отныне мы змеям даруем прощенье,
Великое мы прекращаем сожженье.
Но в память о пламени, нами зажженном,
Но в память об Астике дваждырожденном,
Который нам путь указал к милосердью, —
Пусть в воздухе ясном, под синею твердью,
Змей Такшака злобный до сумрака стынет,
Пока его ветер полночный не сдвинет!»
Когда раздалось повеленье владыки,
Восторга и счастья послышались клики,
Послышались громкие рукоплесканья
Всего озаренного благом собранья.
Жрецы, насладившись деянием правым,
Огонь прекратили согласно уставам.
Сказали: «Ты, Астика, твердый в решенье,
Свершил величайшее в мире свершенье,
Свершенье любви, милосердия, блага,
И в этом и сила твоя и отвага,
Ты — Астика, ты — Существующий Вечно,
Затем, что свершенье твое — человечно!»
Все были довольны: жрецы, и правитель,
И Астика праведный, змей избавитель.
Пришел он домой, завершив свое дело.
Змеиное племя теперь поредело.
Объятые страхом легли, цепенея,
Вкруг Васуки — скорбного, дряхлого змея.
Пришел избавитель, настало волненье,
И радость разрушила оцепененье.
Подвижника Васуки мудрый восславил:
«О ты, кто от гибели близких избавил,
О ты, кто пришел, чтобы кончилась кара, —
Скажи нам, какого желаешь ты дара?»
Подвижник ответил такими словами:
«Хочу я, чтоб страха не знали пред вами.
Хочу, чтобы в память о радостном чуде
Познали веселье великое люди.
Да будет в сердцах человечьих отрада
И пусть не боятся змеиного яда!»
Ответили Астике змеи согласно:
«О праведник, то, что сказал ты, прекрасно.
Пусть люди запомнят одно изреченье
И скажут потомкам своим в поученье.
Кто скажет заклятье, тот станет сильнее,
Чем самые злые, кусливые змеи:
«Подвижник с душою, для блага раскрытой,
Да будет мне Астика верной защитой,
Несчастных, страдающих друг постоянный,
Да будет мне Астика верной охраной,
Он — Астика, он — Существующий Вечно,
Затем, что деянье его — человечно!»
О добрые люди, пусть этим рассказом
Насытятся чистое сердце и разум.
Кто выслушал этот рассказ от начала,
Не будет бояться змеиного жала.
Начнем его снова рассказывать людям
И страха пред змеями ведать не будем.
Сожжения змей вы прочли описанье,
На этом кончается наше сказанье.
Святой подвижник Вальмики, красноречивейший из людей, просит всеведущего Нараду назвать безупречного мужа, самого отважного и добродетельного, прекрасного ликом, стройного статью и умудренного знаньями.
Нарада рассказывает ему о сыне царя Дашаратхи, доблестном Раме из рода Икшваку. Он призывает Вальмики восславить жизнь и подвиги витязя в мерных стихах песнопения, смысл которого был бы внятен всем живущим.
Они расстаются. Задумавшийся Вальмики медленно прогуливается, сопутствуемый учеником. Внезапно он замечает двух куликов-краунча. Они предаются любви и не видят, что к ним подкрался охотник. Краунча-самец падает наземь, убитый стрелой. Его подруга горестно кричит. Вальмики потрясен. Он проклинает охотника, и… слова проклятия оказываются мерными строками стихов.
Немного спустя Вальмики сознает, что случай исторг из его сердца неведомый прежде размер песнопения — шлоку.
Неожиданно Вальмики является бог-творец Брахма. По его слову, песнопенье о Раме должно быть создано размером шлоки.
Следуя веленью Брахмы и разуменью собственного сердца, Вальмики слагает эту прекраснейшую из поэм.
Сарайю-рекой омываясь, довольством дышала
Держава обширная — славное царство Кошала,
Где выстроил некогда Ману, людей прародитель,
Свой город престольный, Айодхью, величья обитель.
Двенадцати йо́джанам[173] был протяженностью равен
Тот город, и улиц разбивкой божественной славен.
На Царском Пути, увлажненном, чтоб не было пыли,
Охапки цветов ароматных разбросаны были.
И царь Дашаратха, владетель столицы чудесной,
Ее возвеличил, как Индра — свой город небесный.
Порталы ворот городских, защищенных оружьем,
Украшены были снаружи резным полукружьем.
Какие искусники здесь пребывали, умельцы!
На шумных базарах народ зазывали сидельцы.
В том граде величия жили певцы из Магадхи,
Возничие жили в том граде царя Дашаратхи.
И были на башнях твердыни развешаны стяги,
Ее защищали глубокие рвы и овраги.
А если пришельцы недоброе в мыслях держали,
Им ядра булыжные в острых шипах угрожали!
Столица, средь манговых рощ безмятежно покоясь,
Блистала, как дева, из листьев надевшая пояс.
Там были несчетные кони, слоны и верблюды.
Там были заморских товаров навалены груды.
С дарами к царю Дашаратхе соседние раджи
Съезжались — ему поклониться, как старшему младший.
Дворцы и палаты искрились, подобно алмазам,
Как в райской столице, построенной Тысячеглазым.
Был сходен отчасти с узорчатой, восьмиугольной
Доской для метанья костей этот город престольный.[174]
Казалось, небесного царства единодержавец
Воздвигнул дворцы, где блистали созвездья красавиц.
Сплошными рядами, согласья и стройности ради,
На улицах ровных стояли дома в этом граде.
Хранился у жителей города рис превосходный,
Что «шали»[175] зовется и собран порою холодной.
Амбары Айодхьи ломились от белого шали!
Там сахарный сок тростника в изобилье вкушали.
Мриданги[176], литавры и вины в том граде прекрасном
Ценителей слух услаждали звучаньем согласным.
Так божьего рая святые насельники жили,
За то, что они на земле, как отшельники, жили!
В столице достойнейшие из мужей обитали.
Они в безоружного недруга стрел не метали.
Отважные лучники, в цель попадая по звуку,[177]
Зазорным считали поднять на бессильного руку.
Им были добычей могучие тигры и вепри,
Что яростным ревом будили дремучие дебри.
Зверей убивали оружьем иль крепкой десницей,
И каждый воитель владел боевой колесницей.
Властитель Кошалы свой блеск увеличил сторицей,
Гордясь многотысячным войском и царства столицей!
Там были обители брахманов, знающих веды,
Наставников мудрых, ведущих с богами беседы.
Там лучшие жили из дваждырожденных, послушных
Велению долга, мыслителей великодушных,
Радевших о жертвенном пламени,[178] чтоб не угасло, —
В него черпаком подливавших священное масло.
Айодхьи достойные жители — вед достиженьем
Свой ум возвышали и пользовались уваженьем.
Их царь Дашаратха, священного долга блюститель,
Из рода Икшваку великоблестящий властитель,
Исполненный доблести муж, незнакомый с боязнью,
Для недругов грозный, за дружбу платящий приязнью,
Был чувствам своим господин[179], и могущества мерой
Он с Индрой всесильным сравнялся, богатством с Куберой.
Преславный Айодхьи владыка был мира хранитель,
Как Ману, мудрец богоравный, людей прародитель.
И град многолюдный, где властвовал царь правосудный,
Был Индры столице под стать, — Амара́вати чудной.
От века не ведали зависти, лжи и коварства
Счастливые и беспорочные жители царства.
Не знали в Айодхье корысти, обмана, злорадства.
Охотников не было там до чужого богатства.
Любой, кто главенствовал в доме, не мог нахвалиться,
Как род благоденствовал и процветала столица!
Исполненных алчности, не признающих святыни,
Невежд и безбожников не было там и в помине.
Владел горожанин зерном, лошадьми и рогатым
Скотом в изобилье, живя в государстве богатом.
Снискали мужчины и женщины добрую славу,
И этим обязаны были безгрешному нраву.
Привержены дхарме, в поступках не двойственны были,[180]
Души красота и веселость им свойственны были,
И сердцем чисты, как святые отшельники, были,
И перстни у них, и златые начельники были,
Никто не ходил без пахучих венков и запястий,
И не было там над собой не имеющих власти,
И тех, что вкушают еду, не очистив от грязи,
Что без омовений живут[181] и сандаловой мази,
Без масла душистого, без украшений нагрудных,
И не было там безрассудных иль разумом скудных.
А жертвы богам приносить не желавших исправно[182]
И пламень священный блюсти — не встречалось подавно!
И не было там ни воров, ни глупцов, ни любовной
Четы, беззаконно вступающей в брак межсословный.[183]
Мыслители и мудрецы, постигавшие веды,
Ученые брахманы, предотвращавшие беды,
Дары принимая, о благе радетели были,[184]
Собою владели, полны добродетели были.
Не знали в Айодхье мучителей и нечестивцев,
Уродов, лжецов, ненавистников и несчастливцев.
Вовек не встречались на улицах дивной столицы
Злодеи, глупцы, богохульники или тупицы.
Шесть мудрых порядков мышленья усвоены были
Мужами Айодхьи[185], что храбрые воины были.
Притом отличались они благородства печатью,
А женщины — редкой красой и пленительной статью.
Отважный, радушный, за гостя богам благодарный,
Делился народ на четыре достойные варны.
Держались дома́ долговечных и благосердечных
Мужей, окруженных потомством от жен безупречных.
Над воинством — брахманов славных стояло сословье.
Ему подчинялись с достоинством, без прекословья.
Отважных воителей чтили всегда земледельцы,
Торговцы, потомственные мастера и умельцы.
Купец ли, ремесленник, воин ли, брахман ли мудрый, —
Трем варнам служили с отменным усердием шудры.
Пещерой со львами был город, наполненный войском,
Готовым его защищать в нетерпенье геройском.
Свой род из Камбоджи вели жеребцы, кобылицы.
Бахлийские лошади[186] были красою столицы.
Слонов боевых поставляли ей горные кряжи:
Встречались в Айодхье слоны гималайские даже!
И это божественное поголовье слоновье
От А́нджаны, от Айрава́ты вело родословье,
От Ва́маны, от Махапа́дмы, что был исполином
И в царстве змеином подземным служил властелинам.
Бхадрийской, мандрийской, бригийской породы был каждый
Из буйных самцов, называемых «Пьющими Дважды».[187]
Айодхьи врагов устрашали их мощь и свирепость.
Слоны украшали ее неприступную крепость.
И, йо́джаны на́ две свое изливая сиянье,
Столица являлась очам на большом расстоянье.
Айодхьи властителю — недругов грозное войско
Сдавалось, как месяцу ясному — звездное войско.
Счастливой столицей своей управлял градодержец,
Как тысячеглазый владыка богов, Громовержец!
Дашаратха, престарелый царь Кошалы, бездетен. Он молит богов о потомстве. Боги отвечают согласием: не потому только, что с давних пор были добры к Дашаратхе, но и оттого, что могут наконец сокрушить всевластие Раваны, предводителя ракшасов-демонов, царя Ланки.
Когда-то Равана был подвижником. Его подвиги славились во всех трех мирах — среди богов, демонов и людей. Сам Брахма, потрясенный силою духа Раваны, предложил ему любой дар. Равана выбрал могущество перед богами и ракшасами; людей он считал недостойными противниками. С тех пор в трех мирах нет покоя. Равана истребляет добро и творит зло.
Боги решают воплотиться на Земле, потому что только земной муж способен одолеть Равану. Бог-хранитель Вишну должен родиться в облике четырех сыновей Дашаратхи, прочие боги — в облике обезьян, помощников в будущей битве с предводителем ракшасов.
Вишну является Дашаратхе с божественным яством. Старшая из царских жен, Каушалья, съедает половину яства, вторая, любимейшая, Кайкейи, — восьмую часть, Сумитра, младшая жена, — остальное.
В тот же день каждая из трех — понесла дитя под сердцем.
Каушалья разрешается первенцем — Рамой, Кайкейи рождает Бхарату, Сумитра рождает близнецов Лакшману и Шатругхну.
Царевичи растут. Они обучаются ратным искусствам, как то положено воинам-кшатриям, и искусству править страной. Они изощряют свой ум в науке и совершенствуются в долге и вере, и в этом им нет равных даже среди жрецов-брахманов.
К Раме очень привязан Лакшмана. Шатругхна особенно дружен с сыном Кайкейи.
К Дашаратхе приходит святой Вишвамитра, знаменитый подвижник. Он просит царя отпустить с ним Раму, чтобы тот защитил его лесную обитель от бесчинства ракшасов. Царю жаль отпускать юного Раму, но он опасается гнева Вишвамитры. Рама и с ним Лакшмана выходят в путь к подножью Гималаев.
Они переправляются через Гангу. Здесь великий отшельник благословляет их водою святой реки. Он предвещает им славную земную жизнь и блаженство на небесах.
По дороге в обитель, в густом лесу, Рама убивает ракшаси Тараку, злобную и мощную, словно тысяча взбесившихся слонов. Вишвамитра дарит ему волшебное оружие богов: оно является на поле боя по желанию обладателя и всегда приносит победу.
Охраняя обитель, Рама расправляется еще с двумя могущественными ракшасами — Ма́ричей и Суба́ху…
Вишвамитра просит Раму и Лакшману поехать с ним в Митхилу, правитель которой, Джа́нака готовится совершить великое жертвоприношение.
Они путешествуют. Вишвамитра рассказывает о местах, мимо которых они проходят.
Они являются ко двору царя Митхилы. Джанака повествует им о божественном луке Шивы.
Некогда Дакша, тесть Шивы, устроил на небесах великое жертвоприношение. Пригласили всех, кроме зятя. Взбешенный Шива явился на пир с огромным луком, грозя убить всех. Но небожители смягчили его гнев, и он согласился передать свой волшебный лук предку Джанаки, земному царю Деварате на хранение. Теперь этот лук перешел к Джанаке.
Джанака был бездетен и молил богов о потомстве. Когда он вспахивал священным плугом поле, чтобы возвести там алтарь, из борозды навстречу ему поднялась прекрасная дева. Джанака взял ее в дочери и назвал Сита, что означает «борозда». Когда Сита достигла совершеннолетия, Джанака объявил: Сита достанется в жены тому, кто сумеет надеть тетиву на священный лук Шивы. Но никто даже не мог поднять с земли этот лук.
Джанака предлагает Раме попробовать свои силы.
«Божественный лук, Девара́те подаренный Ру́дрой,
Дай Раме узреть», — Вишвами́тра сказал благомудрый.
И раджа велел принести этот лук знаменитый.
Душистым сандалом натертый, цветами увитый.
Пять сотен мужей превосходных, исполненных силы,
В телегу впряглись по приказу владыки Митхи́лы.
На восьмиколесной телеге сундук помещался.
Под крышкой железной блистающий лук помещался.
Узрел этот ларь и сложил для привета ладони
Митхилы властительный царь, восседавший на троне.
И мыслями он поделился тогда с Вишвамитрой,
И с тем, кто рожден Кауша́льей, и с тем, кто — Суми́трой…
Великий подвижник и храбрых царевичей двое
Услышали мудрого Джа́наки слово такое:
«Сей лук запредельный был нашего рода святыней.
Надеть на него тетиву, обуянны гордыней,
Соседние раджи напрасно пытались доныне.
Ни боги, ни демоны им не владеют, — рассудим,
Откуда уменье такое достанется людям?
Стрелу наложить и напрячь тетиву для посылу,
Когда этот лук человеку поднять не под силу!»
«О Рама, — воскликнул тогда Вишвамитра, — о чадо!
Увидеть воочью божественный лук тебе надо».
И ларь, где хранилось оружье Владыки Вселенной,
Открыл дивноликий царевич и молвил смиренно:
«Я Рудры божественный лук подниму и с натугой
Концы, если нужно, сведу тетивою упругой!»
Мудрец и Митхи́лы владетель вскричали: «Отменно!»
И Рама рукою за лук ухватился мгновенно.
И поднял, как будто играючи, над головою,
И туго сплетенной из му́рвы[188] стянул тетивою.
Внезапно раздался удар сокрушительный грома:
Десницей могучей царевич напряг до излома
Оружье, что Джанаки роду вручил Махаде́ва!
В беспамятстве люди попа́дали справа и слева.
Лишь царь, да мудрец Вишвамитра, да Рагху потомки
Смогли устоять, когда лук превратился в обломки.
«Воитель, сломавший божественный лук Махадевы,
Достоин моей, не из лона родившейся, девы.[189]
Явил он безмерное мужество нашему дому! —
С волненьем сказал государь Вишвамитре благому. —
А Сита прославит мой род, если станет женою
Великого Рамы, добыта отваги ценою».
Джанака провозглашает Раму женихом Ситы. Из Айодхьи приезжают Дашаратха с остальными сыновьями. Устраивается свадебное торжество. Одновременно с благородным царевичем Кошалы женятся и его братья: Лакшмана — на другой приемной дочери Джанаки, Бхарата и Шатругхна — на его прекрасных племянницах…
Проходит время. Царь Дашаратха слабеет. Он все чаще думает о наследнике.
С Шатру́гхной к царю Ашвапа́ти, любимому дяде,
Отправился Бхарата в гости, учтивости ради.
И были царем Ашвапати обласканы оба,
Как будто обоих носила Кайкейи утроба.
Но помнили братья, покинув родные пределы,
О том, что в Айодхье остался отец престарелый.
Шатругхна да Бхарата были средь поросли юной,
Как Индра великий с властителем неба, Варуной.
Айодхьи правитель, чье было безмерно сиянье,
Царевичей двух вспоминал на большом расстоянье.
Своих сыновей он считал наилучшими в мире:
Четыре руки от отцовского тела. Четыре!
Но Рама прекрасный, что Брахме под стать, миродержцу,
Дороже других оказался отцовскому сердцу.
Он был, — в человеческом облике — Вишну предвечный, —
Испрошен богами, чтоб Равана бесчеловечный
Нашел свою гибель и кончилось в мире злодейство.
Возвысилась мать, что пополнила Рамой семейство,
Как дивная А́дити, бога родив, Громовержца.
Лица красотой небывалой, величием сердца,
И доблестью славился Рама, и нравом безгневным.
Царевич отца превзошел совершенством душевным.
Всегда жизнерадостен, ласков, приветлив сугубо,
С обидчиком он обходился достойно, не грубо.
На доброе памятлив, а на худое забывчив,
Услугу ценил и всегда был душою отзывчив.
Мгновенно забудет он зло, а добра отпечаток
В душе сохранит, хоть бы жизней он прожил десяток![190]
Он общества мудрых искал, к разговорам досужим
Любви не питал и владел, как мужчина, оружьем.
Себе в собеседники он избирал престарелых,
Приверженных благу, в житейских делах наторелых.
Он был златоуст: красноречье не есть краснобайство!
Отвагой своей не кичился, чуждался зазнайства.
Он милостив к подданным был и доступен для бедных,
Притом — правдолюб и законов знаток заповедных.
Священной считал он семейную преданность близким,
К забавам дурным не привержен и к женщинам низким.
Он стройно умел рассуждать, не терпел суесловья.
Вдобавок был молод, прекрасен, исполнен здоровья.
Свой гнев обуздал он и в дружбе хранил постоянство.
Он время рассудком умел охватить и пространство.[191]
Чтоб суть человека раскрылась, его подоплека, —
Царевичу было довольно мгновения ока.
Искусней царя Дашаратхи владеющий луком,
Он веды постиг и другим обучался наукам.
Царевич был дваждырожденными долгу наставлен,
К добру и свершенью поступков полезных направлен.
Он разумом быстрым постиг обхожденья искусство,
И тайны хранить научился, и сдерживать чувства.
Не вымолвит бранного слова и, мыслью не злобен,
Проступки свои, как чужие, он взвесить способен.
Он милостиво награждал и смягчал наказанье.
Сноровист, удачлив, он всех побеждал в состязанье.
Как царства умножить казну — наставлял казначея.
В пиру за фиглярство умел одарить лицедея.
Слонов обучал и коней объезжал он по-свойски.
Дружины отцовской он был предводитель геройский.
Столкнув колесницы в бою иль сойдясь в рукопашной,
Ни богу, ни а́суру не дал бы спуску бесстрашный!
Злоречья, надменности, буйства и зависти чуждый,
Решений своих никогда не менял он без нужды.
Три мира его почитали; приверженный благу,
Он мудрость имел Брихаспа́ти, а Индры — отвагу.
И Раму народ возлюбил, и Айодхьи владетель
За то, что сияла, как солнце, его добродетель.
И царь Дашаратха помыслил про милого сына:
«Премногие доблести он сочетал воедино!
На царстве состарившись, радости ждать мне доколе?
Я Раму при жизни увидеть хочу на престоле!
Пугаются а́суры мощи его и отваги.
Он дорог народу, как облако, полное влаги.
Достигнуть его совершенства, его благородства
Не в силах цари, невзирая на власть и господство.
Мой Рама во всем одержал надо мной превосходство!
Как правит страной необъятной любимец народа,
Под старость узреть — головой досягнуть небосвода!»
Велел Дашаратха призвать благославного сына,
Чтоб царство ему передать и престол властелина.
Случайно с террасы, подобной луне в полнолунье[192],
На город взглянула Кайкейи служанка, горбунья.
Она, — с колыбели приставлена к этой царице, —
Жила при своей госпоже в Дашара́тхи столице.
И видит горбунья на улицах, свежих от влаги,
Душистые лотосы, царские знаки и флаги.
И дваждырожденных узрела она вереницы,
Что сладкое мясо несли и цветов плетеницы,
И радостных жителей города, валом валивших,
Омытых водою, сандалом тела умастивших.
Из божьих домов доносился напев музыкальный,
На улицах слышался гомон толпы беспечальной.
И чтение вед заглушалось порой славословьем,
Мешалось с коровьим мычаньем и ревом слоновьим.
Увидя льняные одежды на няньке придворной,
Что взором своим изъявляла восторг непритворный,
Горбунья окликнула няньку: «Скажи мне, сестрица,
С чего ликованья полна Дашаратхи столица
И щедро казну раздает Каушалья-царица?
Сияет владыка земной, на престоле сидящий.
Какое деянье задумал Великоблестящий?»
Придворную няньку вконец распирало блаженство.
«Наследника царь возлюбил за его совершенства,
И завтра, едва засияет созвездие Пу́шья, —
Ответила женщина эта, полна простодушья, —
Прекрасного Раму властитель венчает на царство!»
Проснулись дремавшие в Ма́нтхаре злость и коварство.
Поспешно горбунья покинула эту террасу,
Что видом своим походила на гору Кайласу.
Царицу Кайкейи нашедшая в спальном покое,
Прислужница гневно сказала ей слово такое:
«Я радость и горе делила с тобой год от года.
Ты — старшая раджи супруга[193] и царского рода!
Но диву даюсь я, Кайкейи! Неужто спросонья
Закон отличить не умеешь ты от беззаконья?
Медовых речей по жалея тебе в угожденье,
На ложе супруги послушной ища наслажденья,
Твой муж двоедушный наивную ввел в заблужденье!
Придется тебе, венценосной царице, бедняжке,
Ходить у любимой его Каушальи в упряжке!
Обманщик услал благосветлого Бхарату к дяде
И Раме престол отдает, на законы не глядя!
Твой муж — на словах, — он походит на недруга — делом.
И эту змею отогрела ты собственным телом!
Тебе и достойному Бхарате, вашему сыну,
Он чинит обиду, надев благородства личину.
Для счастья тебя, несравненную, рок предназначил,
Но царь Дашаратха тебя улестил, одурачил.
Спасибо скажи своему ротозейству, что ходу
В Айодхье не будет кекайя семейству и роду!
Скорей, Удивленно-Глядящая, действуй, поколе
Царевич еще не сидит на отцовском престоле!»
Царица, и впрямь изумленная речью горбуньи,
Сияла подобно осенней луне[194] в полнолунье.
Она подарила служанке, вставая с постели,
Свое украшенье, где чудные камни блестели.
«О Мантхара, это известье мне а́мриты слаще!
Пусть Раму на царство помажет Великоблестящий.
Мать Бхараты — Рамой горжусь я, как собственным сыном.
Ему из двоих предначертано быть властелином, —
Сказала царица Кайкейи: — Мне дороги оба,
Как будто обоих моя породила утроба.
Два любящих брата не станут считаться главенством.
О Мантхара, я упиваюсь душевным блаженством!
За то, что известье твое принесло мне отраду,
Проси, не чинясь, дорогая, любую награду!»
«Где Рама, там Бхарата… В мире не станет им тесно.
Отцовской державой они будут править совместно».
Ответила Мантхара: «Глупо ты судишь о власти,
Бросаешься, недальновидная, в бездну несчастий.
У Рагху потомка[195] — неужто не будет потомства?
Откроется Бхарате царской родни вероломство.
Глумленье изведает этот могучий: не брат же,
А сын богоданный наследует новому радже!
Известно, что дуб от порубки спасает колючий
Кустарник, растущий поблизости в чаще дремучей.
С Шатру́гхною Бхарата дружен, — его покровитель,
А Лакшмана ходит за Рамой, как телохранитель,
И а́швинами, божествами зари и заката,
Недаром зовутся в народе два преданных брата.
Пойми, госпожа, если Раму помажут на царство,
Не Лакшману — Бхарату он обречет на мытарства!
Пусть Раму отправит в изгнанье, в лесную обитель,
А Бхарате царский престол предоставит властитель!
Купаться в богатстве ты будешь, Кайкейи, по праву,
Когда он родительский трон обретет и державу.
Для льва трубногласный владыка слоновьего стада —
Противник опасный, с которым разделаться надо.
Так Рама глядит на твое несравненное чадо!
Над матерью Рамы выказывая превосходство,
Не можешь надеяться ты на ее доброхотство.
Коль скоро унизила ты Каушальи гордыню,
Не сетуй, найдя в оскорбленной царице врагиню,
И Раме, когда заполучит он земли Кошалы,
С горами, морями, где спят жемчуга и кораллы,
Покоя не будет, покамест он Бхарату-брата
Не сгонит со света, как недруга и супостата!»
Кайкейи с пылающим ликом и гневной осанкой
Беседу свою продолжала с горбатой служанкой:
«Любимому Бхарате нынче престол предоставлю.
Постылого Раму сегодня в изгнанье отправлю.
Дай, Мантхара, средство, найди от недуга лекарство,
Чтоб сыну в наследство досталось отцовское царство!»
Тогда, погубить благородного Раму желая,
Царице Кайкейи сказала наперсница злая:
«Припомни войну между а́сурами и богами,
Сраженья отшельников царственных с Индры врагами!
Когда на богов непоборный напал Тимидхва́джа,
Взял сторону Индры супруг твой, властительный раджа.
Но в битву с Громовником ринулся чары творящий,
Личину меняющий, имя Шамба́ры носящий!
Хоть а́суров стрелы впились в Дашаратху, как змеи,
В беспамятстве, с поля, его унесла ты, Кайкейи.
Его изреше́тили стрелы, но жизнью поныне
Твоей добродетели раджа обязан, богиня.
За то, что осекся Шамбара, людей погубитель,
Два дара в награду тебе посулил повелитель.
Но ты отвечала, довольствуясь царским обетом:
«Две просьбы исполнишь, едва заикнусь я об этом!»
Поскольку тебе изъявил повелитель согласье,
Ты можешь награду свою получить в одночасье!
Рассказ твой, царица, хранила я в памяти свято.
Правителя слово обратно не может быть взято.
У раджи проси, — ведь спасеньем тебе он обязан! —
Чтоб Рама был изгнан, а сын твой на царство помазан.
Чего же ты медлишь, прекрасная? Время приспело!
Престола для Бхараты нужно потребовать смело.
Народу полюбится этот счастливый избранник,
А Рама четырнадцать лет проживет как изгнанник.
В Дом Гнева ступай и, — царя не встречая, как прежде, —
На голую землю пади в загрязненной одежде!»
«На мужа не глядя, предайся печали притворной,
И в пламя он кинется ради тебя, безукорной!
Сносить не способен твой гнев и твое отчужденье, —
Он с жизнью готов распроститься тебе в угожденье.
Ни в чем Дашаратха супруге своей не перечит.
Пускай пред тобой жемчуга и алмазы он мечет,
Ты стой на своем и не вздумай прельщаться соблазном.
Даров не бери, упоенная блеском алмазным!
Свое осознай преимущество, дочь Ашвапа́ти:
Могущество чудной красы и божественной стати!
Когда бы не ты, Дашаратхе погибнуть пришлось бы.
Исполнить обязан теперь повелитель две просьбы.
Напомни, когда тебя с пола поднимет Всевластный,
Что клятвой себя он связал после битвы опасной.
Пусть Рама четырнадцать лет обретается в чаще,
А Бхарату раджей назначит Великоблестящий».
И слову горбуньи послушно Кайкейи-царица
Вверялась, как ложной тропе — молодая ослица.
«Почти с колесо, дорогая, твой горб несравненный.
Его по заслугам украшу я цепью бесценной!
В себе воплощает он все чародейства вселенной
И служит вместилищем хитростей касты военной.
Твой горб умащу я сандалом, — сказала царица, —
Когда на отцовском престоле мой сын водворится!
Как только прикажет властитель постылому Раме
В леса удалиться — тебя я осыплю дарами.
Убором златым увенчаю чело, как богине.
О Мантхара, будешь купаться в моей благостыне!»
Кайкейи на ложе блистала, как пламень алтарный,
Но сказано было царице горбуньей коварной:
«Коль скоро вода утечет — ни к чему и плотина!
Должна ты в своей правоте убедить господина».
В Дом Гнева царица прекрасная с этой смутьянкой
Вошла, как небесная дева с надменной осанкой.
Сняла украшенья свои золотые Кайкейи,
Свое ожерелье жемчужное сбросила с шеи,
И, в гневе, на голой земле распростершись, горбунье
Сказала: «Коль наши старанья останутся втуне,
Не будет ни Бхарате трона, ни Раме изгнанья,
Царя известите, что здесь я лежу без дыханья!
На что мне теперь жемчуга, и алмазы, и лалы?
Умру, если Раме достанутся земли Кошалы!»
Она отшвырнула свои драгоценности яро,
И, словно упавшая с неба супруга кимнара,
Приникла к земле обнаженной пылающим телом,
И скорую смерть объявила желанным уделом.
Царица, без ярких венков, без камней самоцветных,
Казалась угасшей звездой в небесах предрассветных.
В Кайкейи обитель, — подобье небесного рая, —
Вошел повелитель, безлюдный покой озирая.
Обычно царица Кайкейи, в своем постоянстве,
Царя ожидала на ложе, в роскошном убранстве.
И Ману потомок, любовным желаньем охвачен,
Задумался, видом постели пустой озадачен.
Царицей, некстати покинувшей опочивальный
Покой, раздосадован был повелитель печальный.
Привратницу спрашивать стал он о царской супруге,
И женщина эта ладони сложила в испуге:
«В Дом Гнева моя госпожа удалилась в расстройстве!»
Властительный раджа туда поспешил в беспокойстве.
Он жалость почувствовал к этой, презревшей приличье,
Жене молодой, что забыла свой сан и величье,
На голую землю сменив златостланное ложе.
Кайкейи была ему, старому, жизни дороже!
Безгрешный увидел ее, одержимую скверной.
Она, как богиня, блистала красой беспримерной.
Царица отломанной ветвью древесной казалась,
На землю низринутой девой небесной казалась,
Она чародейства игрой бестелесной казалась,
Испуганной ланью, плененной в лесу звероловом…
И царь наклонился к поверженной с ласковым словом, —
Слоновьего стада вожак со слонихою рядом,
Что ранил охотник стрелою, напитанной ядом.
Касаясь прекрасного тела супруги желанной,
Сказал Дашаратха: «Не бойся! Как сумрак туманный
Рассеяло солнце — твою разгоню я кручину.
Поведай мне, робкая, этой печали причину!»
Полна ликованья, во власти опасной затеи,
Как вестница смерти, к царю обратилась Кайкейи:
«Приверженный долгу подвижник, о благе радетель.
Ты дал мне великую клятву, Кошалы владетель.
Свидетели — тридцать бессмертных[196], сам Индра-свидетель,
И солнце, и месяц, и звезды, и стороны света[197]
Слыхали тобой изреченное слово обета.
Известно гандхарвам и ракшасам, духам и тварям
О щедрой награде, обещанной мне государем».
Властитель Айодхьи пылал, уязвленный любовью.
В объятьях Кайкейи, внимал он ее славословью.
Взывала к богам восхвалявшая мужа царица,
И лучник великий готов был жене покориться.
«Мой раджа, напомню тебе о сраженье давнишнем,
Где бились могучие асуры с Индрой всевышним.
Шамбара изранил тебя, ненавистник смертельный,
И ты бы, наверно, отправился в мир запредельный.
Но, видели боги, — в тяжелую эту годину
Кайкейи на помощь пришла своему господину!
И были два дара обещаны мне по заслугам.
Тобой, Дашаратха, моим венценосным супругом.
Будь просьба моя велика или слишком ничтожна —
Ты слово из уст изронил, и оно непреложно.
А если ты клятву преступишь, мне жить невозможно!
Властитель, нарушив обет, — пожалеешь об этом:
Тобой оскорбленная, с белым расстанусь я светом!»
Весьма опечалился раджа, собой не владея.
Казалось, оленя в капкан завлекает Кайкейи.
Она расставляла тенета, готовила стрелы.
Добычей охотничьей стал властелин престарелый.
И волю свою изъявила немедля царица:
«Хотя ожидает помазанья Рамы столица,
Не сын Каушальи, но Бхарата пусть воцарится!
А Рама четырнадцать лет из берёсты одежду
Пусть носит в изгнанье, утратив на царство надежду.
Ты Раму в леса прикажи на рассвете отправить,
Дабы от соперника Бхарату разом избавить!
Пускай возликует законный наследник, по праву,
Отцовский престол получив и Кошалы державу.
Два дара обещанных дай мне, Айодхьи владетель!
О царь, нерушимое слово — твоя добродетель!»
Злосердью Кайкейи-царицы, ее своеволью
Дивился властитель, пронзенный внезапною болью.
Он вслух размышлял: «Искушает меня наважденье,
Мутится мой ум или душу томит сновиденье?»
И раджа, Кайкейи жестокое слово услыша,
Всем телом дрожал, как олень, зверолова услыша.
Дыханье царя, оскорбленного речью супруги,
Казалось шипеньем змеи зачарованной в круге.
«О, горе!» — вскричал побуждаемый честью и долгом,
На голой земле пролежавший в беспамятстве долгом.
«Зачем, ненавистница, волю дала душевредству?
Какие обиды чинил тебе Рама, ответствуй?»
И, праведным гневом палим изнутри, как жаровней,
Добавил: «Дарил тебя Рама любовью сыновней!
Зачем же ущерб, недостойной натуре в угоду,
Наносишь ему и великому нашему роду?
Не царские дочери, но ядовитые змеи
Подобно тебе поступают, — сказал он Кайкейи. —
Себе на погибель я ввел тебя в наше семейство!
В упадок повергнет Кошалу твое лиходейство!
Скажи, за какую провинность я Раму отрину?
За что нанесу оскорбленье любимому сыну?
Его добродетели славит народ повсеместно.
Да будет об этом тебе, криводушной, известно!
С богатством расстался бы я, с Каушальей, Сумитрой…
Но Рама? Да что тебе в голову вспало, злохитрой!
Мой Рама — отрада отца, воплощенье отваги.
Без солнца земля проживет и растенье — без влаги,
Но дух мой расстанется с плотью, когда я безвинно,
По воле твоей изгоню благославного сына.
Пусть водами Индры не будет омыта природа,
И Сурья на землю лучей не прольет с небосвода!
Ни солнца не надобно нам, ни даров Громовержца.
Но вид уходящего Рамы смертелен для сердца!
Так царствуй, змея вредоносная, с Бхаратой вместе,
Стране в поруганье и нашему роду в бесчестье!
Когда государство Кошалы повергнешь в упадок,
Врагам поклонись, чтоб они навели в ней порядок!
Зачем, раскрошившись, из этого скверны сосуда
Не выпали зубы, когда изрыгалась оттуда
Хула на того, от кого не видала ты худа?
С рожденья мой сын благородства печатью отмечен.
Мой Рама с людьми благодушен, приветлив, сердечен,
Почтителен, ласков, безгневен, душою не злобен.
Мой Рама обидного слова изречь не способен!
Исчадье бесстыжее царского дома Кекайя,
Не думай, чудовищной речью меня подстрекая,
Что я для тебя, скудоумной, пущусь на злодейство!
Державу замыслила ты погубить и семейство.
Постылая лгунья, претит мне твое лицедейство!»
Врагов сокрушитель, под стать одинокой вдовице,
Рыдая, ударился в ноги жестокой царице.
Как в муке предсмертной, супругу молил он усердно:
«Ко мне, госпожа дивнобедрая, будь милосердна!»
И снова просил у Кайкейи пощады властитель, —
Проживший свой век добродетельно, долга блюститель:
«Не прихоти ради, — о пользе державы радея,
Преемника раджа себе избирает, Кайкейи!
Царица с округлыми бедрами, с ликом прекрасным,
Дай Раме Айодхьи правителем стать полновластным!
И Раму и Бхарату — любящих братьев обрадуй!
Тебе почитанье народное будет наградой».
Стремясь победить нечестивицы злость и предвзятость,
Молил он: «Уважь мою старость, наставников святость!»
Глаза повелителя были от слез медно-красны,
Но были его увещанья и просьбы напрасны.
На землю свалился в беспамятстве раджа несчастный.
Весьма оскорбленный супругой своей непреклонной,
Он горько вздыхал и ворочался ночью бессонной.
Когда на заре пробудили царя славословья,
Велел он певцу отойти от его изголовья.
Помазанья Рамы ждала с нетерпеньем столица.
По городу лихо Суман́тры неслась колесница.
Дворец белоснежный узрел, торжествуя возница.
Красой отличались ворота его и террасы.
Он высился вроде горы осиянной, Кайласы.
Казалось, блистает не Рамы, но Индры обитель,
Что в райском селенье воздвигнул богов повелитель.
Обилью камней драгоценных, златым изваяньям
Громады порталов обязаны были сияньем.
Огромный дворец походил на пещеру златую,
Что Меру собою украсила, гору святую.
В покоях сверкали гирлянды жемчужин отменных,
Искрились тяжелые гроздья камней драгоценных.
И, белым сандалом изысканно благоухая,
Подобно туманом повитой вершине Малайя,
Был полон дворец журавлей трубногласных, павлинов,
Что дивно плясали, хвосты опахалом раскинув.
А стены — приятное зрелище стад беззаботных
Являли — резцом иссечённых прекрасных животных.
Как месяц, как солнце, блистающий, стройный сверх меры,
Дворец богоравного Рамы, — жилище Куберы,
Небесную Индры обитель узрел колесничий,
С пернатыми пестрыми, с разноголосицей птичьей,
Горбатых прислужников, замерших в низком поклоне,
И граждан Айодхьи, что, Раму увидеть на троне
Желая, стеклись ко двору и сложили ладони.
В дворцовом саду обретались олени и птицы.
Сумантра, коней осадив, соскочил с колесницы,
И, дрогнув, забилось от радости сердце возницы.
Он трепет внезапный восторга почувствовал кожей:
На ней волоски поднимались от сладостной дрожи.
У царской обители, схожей с горою Кайласа,
Толпился народ в ожиданье счастливого часа.
Увидел Сумантра и Рамы друзей закадычных,
Мужей — обладателей многих достоинств отличных.
Олени, павлины гуляли у царского дома,
Что блеском сравнялся с жилищем властителя грома.
Внимая веселым речам, просветленные лица
Встречая, направился в опочивальню возница.
Сумантра не мог пренебречь соблюденьем приличий.
И в спальном покое почтил песнопеньем возничий
Того, кто, блистая, простерся на царственном ложе.
Был солнцу в зените подобен царевич пригожий.
Промолвил Сумантра: «О сын Каушальи прекрасный,
Не медли! Тебя призывает родитель всевластный.
О Рама, коль скоро взойдешь на мою колесницу,
Мы ждать не заставим его и Кайкейи-царицу!»
Торжественно двинулся Рама по улице главной,
И сладостный дым фимиама вдыхал Богоравный.
Украшенный стягами пестрыми град многолюдный
Увидел Айодхьи предбудущий царь правосудный.
Его окружало цветистых знамен колыханье,
Он чувствовал запах сандала, алоэ дыханье.
Дома белоснежные в городе этом чудесном,
Блистая, вздымались под стать облакам поднебесным.
Дорогою царской везли Многосильного кони.
В курильницах жгли драгоценную смесь благовоний.
Навалены были сандала душистого груды,
И дивно сверкали кругом жемчуга, изумруды.
Льняные одежды и шелковые одеянья,
Венки и охапки цветов добавляли сиянья.
Блестела везде по обочинам утварь из меди
С великим обильем припасов и жертвенной снеди.
Подобен пути, что избрал в небесах Жизнедавец,
Был радостный путь, оглашаемый тысячью здравиц.
Он кадями рисовых клёцок, поджаренных зерен
Был щедро уставлен, окурен сандалом, просторен.
Стояли чаны простокваши; цветов плетеницы
На всем протяженье украсили ход колесницы.
В покоях Кайкейи Рама видит царя. Дашаратха бледен и плачет. Он в силах выговорить только имя сына. Вместо него царское решение объявляет Кайкейи. Рама не произносит ни слова осуждения или несогласья. Он уверяет Кайкейи, что воля Дашаратхи будет исполнена. Он утешает рыдающего отца, ласково прощается с ним и Кайкейи и удаляется.
Царица Каушалья, мать Рамы, — в отчаянье. Лакшмана уговаривает брата захватить престол силой. Он грозится убить Кайкейи, а если надобно — и самого царя. Но Рама утишает его гнев.
Возвратясь к себе во дворец, Рама рассказывает Сите о случившемся и говорит, что решение отца для него непреложно. Он просит жену не покидать Айодхьи и дождаться его возвращения. «Я не должна и не могу разлучаться с тобой!» — говорит Сита. Рама тщетно убеждает ее. «Я умру в разлуке с тобой!» — повторяет Сита. Наконец Рама обещает взять Ситу с собой. После долгих уговоров он соглашается взять с собой и Лакшману.
Они молча идут ко дворцу Дашаратхи. При виде Рамы царь вновь лишается чувств. Очнувшись, он просит заключить его, Дашаратху, в тюрьму, и самому воссесть на престол. Рама отказывается. По слову Кайкейи приносят одежды из бересты. Рама и Лакшмана облекаются в них. Сита трепещет — как лань при виде аркана. Она плачет. Она пытается надеть грубую одежду отшельницы. Рама ей помогает. Горестный Дашаратха не выдерживает, он клянет жестокосердую Кайкейи и повелевает принести для Ситы лучшие наряды, драгоценные украшения, и — оружье для Рамы с Лакшманой…
Сума́нтра, как Ма́тали — Раджи Богов колесничий, —
До тонкостей ведал придворный обряд и обычай.
Ладони сложив, пожелал он царевичу блага
И молвил: «О Рама, твоя беспредельна отвага.
Взойди на мою колесницу! Домчу тебя разом.
Поверь, доброславный, моргнуть не успеешь ты глазом.
Четырнадцать лет обретаться вдали от столицы
Ты должен теперь, изволеньем Кайкейи-царицы!»
На солнцеобразную эту повозку, без гнева,
С улыбкой взошла дивнобедрая Джанаки дева.
Сверкали немыслимым блеском ее украшенья —
Невестке от свекра властительного подношенья.
Оружье для Рамы и Лакшманы Великодарный
Велел поместить в колеснице своей златозарной.
Бесценные луки, мечи, и щиты, и кольчуги
На дно колесницы сложили заботливо слуги.
Обоих царевичей, Ситу прекрасную — третью,
Помчала коней четверня, понуждаемых плетью.
На долгие годы великого Раму, как птица,
Как яростный вихрь, уносила в леса колесница.
Отчаявшись, люди кричали: «Помедли, возница!»
Шумели, вопили, как будто не в здравом рассудке,
Как будто умом оскудели, бедняги, за сутки.
И рев разъяренных слонов, лошадиное ржанье
Внимали вконец обессиленные горожане.
За Рамой бежали они, как, от зноя спасаясь,
Бегут без оглядки, в теченье речное бросаясь, —
Бежали, как будто влекло их в жару полноводье, —
Бежали, крича: «Придержи, колесничий, поводья!»
«Помедли! — взывали столичные жители слезно, —
На Раму позволь наглядеться, покамест не поздно!
О, если прощанье могло не убить Каушалью,
Ее материнское сердце оковано сталью!
Как солнце блистает над Меру-горой каждодневно,
Так, следуя солнца примеру, Видехи царевна,
Навечно душой со своим повелителем слита.
Послушная дхарме, супругу сопутствует Сита.
О Лакшмана, благо пребудет с тобой, доброславным,
Идущим в изгнанье за братом своим богоравным!»
Бегущие вслед колеснице Икшва́ку потомка,
Сдержаться не в силах, кричали и плакали громко.
И выбежал царь из дворца: «Погляжу я на сына!»
А царские жены рыдали вокруг властелина, —
Слонихи, что с ревом стекаются к яме ужасной,
Где бьется, плененный ловцами, вожак трубногласный.
И царь побледнел, словно месяца лик светозарный
В ту пору, когда его демон глотает коварный.[198]
Увидя, что раджа становится скорби добычей,
Вскричал опечаленный Рама: «Гони, колесничий!»
Как только быстрей завертелись резные ободья,
Взмолился народ: «Придержи, колесничий, поводья!»
И слезы лились из очей унывающих граждан:
Предбудущий раджа был ими возлюблен, возжаждан!
И эти потоки текли, как вода дождевая,
Взметенную скачкой дорожную пыль прибивая.
И слезы, — как влага из чашечки лотоса зыбкой,
Чей стебель внезапно задет проплывающей рыбкой, —
У женщин из глаз проливались, и сердце на части
Рвалось у царя Дашаратхи от горькой напасти.
За сыном возлюбленным двинулся город столичный,
И выглядел древом подрубленным царь горемычный.
И Раме вдогон зазвучали сильнее рыданья
Мужей, что увидели старого раджи страданья.
«О Рама!» — одни восклицали, объяты печалью,
Другие жалели царевича мать, Каушалью.
И горем убитых, бегущих по Царской Дороге,
Родителей Рама узрел, обернувшись в тревоге.
Не скачущих он увидал в колесницах блестящих,
Но плачущих он увидал и безмерно скорбящих.
И, связанный дхармой, открыто в любимые лица
Не смея взглянуть, закричал он: «Быстрее, возница!»
Толкая вперед, как слона ездового — стрекало,
Ужасное зрелище в душу ему проникало.
Подобно тому как стремится корова к теленку,
Рыдая, царица бежала за Рамой вдогонку.
«О Рама! О Сита!» Но жалобный стон Каушальи
Копыта коней, по земле колотя, заглушали.
Царевич Кошалы с братом Лакшманой и прелестной Ситой покидают городские пределы. Жители Айодхьи неотступно следуют за ними. Рама останавливает колесницу и уговаривает их вернуться. Он восхваляет достоинства Бхараты, нового царя. Горожане говорят, что им не нужно другого правителя, кроме Рамы.
Путники достигают реки Тамаса. Спускается ночь. Они располагаются на ночлег. Рама и Сита засыпают. Лакшмана и Сумантра до рассвета беседуют о несравненных доблестях старшего сына Дашаратхи. Едва озаряется небо, изгнанники вновь пускаются в путь. Пробудившиеся жители Айодхьи уже не находят любимого царевича.
Меж тем колесница, ведомая Сумантрой, уносится все дальше на юг. Изгнанники достигают вод Ганга. Здесь они ласково прощаются с возничим, затем, переправившись через священную реку, углубляются в чащу леса.
Вернувшись в Айодхью, поведал царю колесничий,
Что стала держава обширная горя добычей.
«Поникли деревья прекрасные, полные неги, —
Сказал он, — увяла листва, и цветы, и побеги,
О раджа, везде пересохли пруды и озера,
И в дебрях не видно животных, приятных для взора.
Не бродят стадами слоны трубногласные в чаще,
Немой и пустынной, как будто о Раме скорбящей.
Сомкнулись душистые лотосы, грязным налетом
Подернута влага речная и пахнет болотом.
Не видно ни рыбок, ни птиц, умиляющих душу,
Весельем своим оживляющих воды и сушу.
Густые деревья, что были цветеньем богаты,
Теперь оскудели, утратив свои ароматы.
Где ветви клонились, плодами душистыми славясь,
Там вянущий цвет не сменяет упругая завязь!
О бык среди Ману потомков[199], при въезде в столицу,
Встречая пустую, без Рамы, твою колесницу,
Никто не приветствовал нынче Сумантру-возницу!
На Царском Пути я услышал толпы многолюдной
Рыданья о Раме, свершающем путь многотрудный.
И жены у башенных окон, сдержаться не в силе,
Стонали и слезы из глаз неподкрашенных лили.
И, Рамы не видя, прекрасные эти, в печали,
Сквозь горькие слезы, друг дружку едва различали.
В стеченье народа, где плакали все без изъятья,
Друзей от врагов распознать не хватало понятья.
Почуя людскую разладицу и неустройство,
Слоны ездовые и кони пришли в беспокойство.
О раджа великоблестящий, подобна отныне
Столица твоя Каушалье, скорбящей о сыне».
И слово супруге сказал наделенный всевластьем,
Правитель Айодхьи, своим сокрушенный злосчастьем:
«Без Рамы — тонуть в океане кручины остался!
С невесткой — что с берегом бурной пучины расстался!
Мои воздыханья, — сказал он, — как волн колыханье.
Воздетые руки, — сказал он, — как рыб трепыханье.
Горючие слезы, — сказал он, — морские теченья.
И пряди седые, — сказал, — водяные растенья.
Горбуньи коварная речь — крокодилов обилье.
Кайкейи — врата в преисподнюю, морда кобылья!»[200]
Изнывающий от горя и тоски отчаявшийся Дашаратха вспоминает проступок своей юности.
Как-то однажды он отправился на охоту. Ночью он притаился в лесных зарослях на прибрежье Сарайю, куда приходили на водопой буйволы, тигры и слоны. Дашаратха был отменным лучником, он умел подстрелить зверя по одному только звуку, не видя цели. И вот ему послышалось, что булькает вода в хоботе слона, утоляющего жажду. Он выстрелил. Раздался жалобный крик. Оказалось, что попал он в юношу отшельника, что спустился к реке наполнить кувшин водою. Меткая стрела пробила ему грудь. Он умер на руках Дашаратхи. Перед смертью он попросил царевича, чтобы тот поведал обо всем его родителям: ведь слепые, дряхлые старики ждут сына, который пошел за водой, и ни о чем не подозревают. Дашаратха пришел в пустынную хижину и рассказал осиротевшим отшельникам о гибели сына. Отец юноши проклял Дашаратху: «Как мы умираем от горя по сыну, до времени от нас ушедшему, — сказал он, — так ты изойдешь тоскою по сыну, с тобой разлученному!»
Отец и мать юноши совершили поминальные обряды и взошли на погребальный костер.
Дашаратха рассказывает об этом Каушалье. «Ныне сбывается провещание пустынника: я умираю в тоске по милому сыну», — говорит царь. При этих словах жизнь оставляет его.
Айодхья, великий город, охвачен скорбью. Рама и Лакшмана — в изгнанье, Бхарата с Шатругхной гостят у царя кекайев Ашвапати, родного дяди Бхараты. Некому предать тело царя сожжению! Придворные помещают его тело в чан с маслом и посылают гонцов за Бхаратой, новым царем Кошалы.
Ночною порой, с появленьем посланников знатных,
Привиделось Бхарате много вещей неприятных.
С трудом на заре пробудился царевич достойный,
Тоску и тревогу вселил в него сон беспокойный.
Тут сверстники Бхараты, видя царевича в горе,
Ему рассказали немало забавных историй.
Умели они толковать о смешных небылицах,
Плясать, побасёнки и притчи разыгрывать в лицах.
Но Бхарата, горестно глядя на эти потуги,
Промолвил: «Недоброе знаменье было мне, други!
Нечесаный, бледный, мне снился отец ненаглядный.
Свалился он в пруд, от навоза коровьего смрадный.
Он плавал со смехом и, каши отведав кунжутной, —
Я видел, — из пригоршней масло он пил поминутно.
Все тело царя Дашаратхи лоснилось от масла.
Упала на землю луна и мгновенно погасла.
Иссякшие воды морские и землю во мраке
Узрел я, и сразу объял меня ужас двоякий.
Еще мне привиделись нынче другие напасти:
Что бивень слона ездового распался на части,
Что жарко блиставшее пламя внезапно потухло,
Что разом листва на деревьях свернулась, пожухла.
Мне снилось, — окутаны дымом, обрушились горы,
А твердь под ногами разверзлась, и нет им опоры!
И в черном убранстве — отца на железном сиденье,
Влекомого женщиной черной, мне было виденье.
Царя украшали багряных цветов плетеницы.
Ослов увидал я в оглоблях его колесницы,
Что к югу стремилась[201], а мерзкая ракшаси[202] в красном
Глумилась над ним, сотрясаема смехом ужасным.
Чью гибель, друзья, знаменует виденье ночное?
В нем было для нашего рода предвестье дурное!
Кто едет во сне в колеснице, влекомой ослами,
Тому угрожает костра погребального пламя!
И горло мое пересохло, и дружеской шутке
Внимать я не в силах, как будто не в здравом рассудке.
Дрожу от боязни, хоть страх недостоин мужчины.
Слабеет мой голос, поблекла краса от кручины.
Я словно в разладе с собою самим без причины».
Послы ничего не отвечают на расспросы Бхараты. Царевич немедля едет в Айодхью. Прибыв во дворец, он спешит к матери. Он расспрашивает ее об отце, он хочет видеть его. Кайкейи сообщает ему о кончине родителя. Бхарата с горьким плачем падает наземь. Криводушная царица рассказывает сыну о свершении своего умысла. Бхарата осыпает мать упреками. Он не может занять престол, по праву принадлежащий Раме! Он не желает жить в разлуке с любимыми братьями и царевной Видехи! Он молит Каушалью простить зло, причиненное ей и Раме царицей Кайкейи. Обещает сей же час выступить на поиски возлюбленного сына Дашаратхи и привезти его в столицу Кошалы.
Бхарата предает сожжению тело отца и совершает поминальные обряды.
Затем Бхарата созывает огромное войско и собирает множество мастеров, которым приказывает проложить новую дорогу к святой Ганге.
Почтительный Бхарата, еле дождавшись денницы,
Чтоб свидеться с братом, велел заложить колесницы.
Передние шли со жрецами, с мужами совета
И были под стать колеснице Дарителя Света[203].
За доблестным Бхаратой десятитысячной ратью
Шагали слоны боевые с отменною статью.
Там было сто раз по шестьсот колесниц, нагруженных
Отрядами ратников, луками вооруженных, —
Сто раз по шестьсот колесниц, оснащенных для боя,
В которых отважные лучники ехали стоя.
Сто тысяч наездников храбрых по данному знаку
Погнали сто тысяч коней за потомком Икшваку.
Царицы взошли на блистающую колесницу,
Утешены мыслью, что Рама вернется в столицу.
За Бхаратой следуя, слушая грохот и ржанье,
О Раме беседуя, радовались горожане.
Они восклицали, бросаясь друг другу в объятья:
«Вы Раму и Лакшману скоро увидите, братья! —
Добро, воплощенное в Рагху великом потомке,
Рассеет печали земные, как солнце — потемки!»
В стремленье найти благородного Раму — едины,
На поиски вышли достойные простолюдины,
Что дивно алмазы гранят, обжигают кувшины.
Явились прядильщики шелка и шерсти отменных,
Сверлильщики узких отверстий в камнях драгоценных,
Искусники те, что куют золотые изделья,
Павлинов ловцы, продавцы благовонного зелья.
Там первой руки мастера-оружейники были,
Ткачи, повара, лицедеи-затейники были.
Там лекари, виноторговцы, закройщики были,
Чеканщики, резчики, банщики, мойщики были.
И пильщики, и рыбаки, бороздившие воды,
И лучшие из пастухов — главари, верховоды.
Стекло выдувая, кормились умельцы иные,
Другие — одежды выделывали шерстяные.
В телегах, влекомых быками, за Бхаратой следом
Отправились брахманы, жизнь посвятившие ведам.
Сандалом тела умастили, сменили одежду
И Раму увидеть лелеяли в сердце надежду.
Торжественно двигались кони, слоны, колесницы
За отпрыском братолюбивым Кайкейи-царицы.
На праздничный лад горожане настроены были,
Весельем охвачены Бхараты воины были.
И долго царевич терпел путевые мытарства,
Но Гангу увидел, вступая в нишадское царство.
К столице нишадской он конскую рать и слоновью
Привел осмотрительно, движимый братской любовью.
Там царствовал Гуха. Он Рамой не мог надышаться,
И Рама любил за величие духа нишадца.
К стенам Шрингаве́ра и Ганги божественным водам
Приблизилось Бхараты войско торжественным ходом
И замерло… Резвые стаи гусей златопёрых
Играли, красуясь, на этих прибрежных просторах.
Теченье священной реки оглядел повелитель,
Недвижно застывшее войско и Гухи обитель.
Не чужд красноречья, он молвил сановникам знатным:
«Я нашему войску, готовому к подвигам ратным,
У Ганги великой, что слиться спешит с океаном,
Велю на приволье немедля раскинуться станом!
Как только забрезжит над Гангой денницы сиянье,
Мы все переправимся и совершим возлиянье
Водой, чтобы радже земному, почившему в благе,
В селеньях небесных не знать недостатка во влаге».[204]
Усталое воинство спало, но, братниной доле
Сочувствуя, Бхарата глаз не смыкал поневоле:
«О Рама, ты должен сидеть на отцовском престоле!»
Переправившись через великую реку, сын Кайкейи вместе с Шатругхной входит в лесные чащи.
То замечая дорогу по следам, оставленным изгнанниками, то сердцем угадывая путь, Бхарата приходит наконец к хижине Рамы. Он видит братьев и прекрасную Ситу исхудалых, в грубых одеждах. Он падает к ногам Рамы, молит о прощении, заклинает быстрее воротиться в Айодхью. Рама узнает о смерти отца, он лишается чувств, Лакшмана и Сита плачут.
Рама, однако же, отказывается стать царем. «Ведь, умирая, отец не отменил, да и не в силах был отменить свою волю. Он связан был обещаньем, данным Кайкейи. И ныне я повинен исполнить приказ родителя. Я пребуду в лесной пустыни, а ты возвращайся в Кошалу, в славную Айодхью, и ведай страну в покое и мире!»
Бхарата просит брата согласиться, но Рама тверд. Тогда Бхарата берет его сандалии, изукрашенные золотом, и говорит: «Пусть так! Я вернусь в Кошалу, но править я буду твоим именем. Сандальи же с твоих ног будут знаком твоей власти, я возложу их на трон. Сам я надену берестяные одежды отшельника и буду жить невдалеке от Айодхьи, дожидаясь твоего возвращения. А если ты, и Сита, и Лакшмана не вернетесь, я умру!»
Горестный Бхарата и его скорбящее войско пускаются в обратный путь.
Рама, желая ободрить опечаленную Ситу, ведет ее к отрогам пестроцветной горы Читракуты. Они поднимаются на вершину…
Возлюбленный сын Дашаратхи царевне Видехи
Горы пестроцветной открыл красоту и утехи;
Желая развеять печаль и душевную смуту,
Как Индра — супруге своей, показал Читракуту:
«При виде такой благодати забудешь мытарства,
Разлуку с друзьями, утрату отцовского царства.
Дивись, луноликая, стаям бесчисленным птичьим
И пиков, пронзающих небо, любуйся величьем.
Окраской волшебной утесы обязаны рудам.
Серебряный пик и пунцовый соседствуют чудом.
Вон желтый, как будто от едкого сока марены,
И синий, как будто нашел ты сапфир драгоценный.
Искри́тся хрустальный, поблизости рдеет кровавый,
А этот синеет вдали, как сапфир без оправы!
Иные мерцают, подобно звезде или ртути,
И царственный облик они придают Читракуте.
Оленей, медведей не счесть, леопардов пятнистых
И ярких пернатых, ютящихся в дебрях тенистых.
Богата гора Читракута анко́лой[205] пахучей,
Кунжутом, бамбуком, жасмином и тыквой ползучей,
Ююбой и манго, эбеновым деревом, хлебным,
Ашокой, цитронами, ва́раной[206] — древом целебным,
И яблоней «бильвой», и а́саны[207] цветом лиловым,
И яблоней розовоцветной, и болиголовом,
Медовою ма́дхукой, вечнозеленою бхавьей,[208] —
Ее упоительный сок — человеку во здравье.
Блаженством и негой любовной объяты кимнары,
На взгорьях тенистых играют влюбленные пары.
На сучьях развесив убранство, мечи и доспехи,
Резвятся четы видья-дхаров, царевна Видехи!
Размытые ложа и русла речные похожи
На складки слоновьей, покрытой испариной, кожи.
Цветочным дыханьем насыщенный ветер ущелья
Приносит прохладу и в сердце вселяет веселье.
С тобою и Лакшманой здесь, луноликая дева,
Мне осень встречать не однажды — без грусти и гнева.
Деревьям густым, пестрокрылых пернатых приюту,
Я радуюсь вместе с тобой, возлюбив Читракуту.
Я взыскан двоякой наградой: и Бха́рату-брата
Никто не обидел, и слово отцовское свято!
Охотно ли здесь разделяешь со мною, царевна,
Все то, что приятно — словесно, телесно, душевно?
От царственных предков мы знаем: в леса уходящий
Питается амритой, смертным бессмертье дарящей.
Утесы тебя обступают кольцом прихотливым,
Сверкая серебряным, желтым, пунцовым отливом.
Ночами владычицу гор озаряет волшебно
Огнистое зелье[209], богатое силой целебной.
Иные утесы подобны дворцу или саду.
Другой обособленно к небу вздымает громаду.
Мне кажется, будто земля раскололась, и круто
Из лона ее, возблистав, поднялась Читракута.
Из листьев пунна́ги[210], бетеля, из лотосов тоже
Любовникам пылким везде уготовано ложе,
Находишь цветов плетеницы, плоды под кустами.
Их сок освежающий выпит влюбленных устами.
Водой и плодами полна Читракута сверх меры,
А лотосам — равных не сыщешь в столице Куберы[211]!
Свой долг выполняя, с тобою и Ла́кшманой вместе,
Я счастлив, что роду Икшваку прибавится чести».
Но у самого Рамы тяжело на сердце. Весть о кончине Дашаратхи, прощание с братьями, следы, оставленные ушедшим войском — все напоминает об Айодхье, о родных…
Рама решается идти дальше на юг, через густые леса…
Весть об отказе Рамы от царства достигает Айодхьи еще прежде возвращения Бхараты. Жители столицы уходят в лесные пустыни, чтобы предаться подвижничеству и молитвам о Раме и его спутниках.
С неистовым грохотом Бхарата гнал колесницу
И въехал на ней в Дашаратхи пустую столицу.
Был совам да кошкам приют — ненавистницам света —
В Айодхье, покинутой ныне мужами совета.
Так Ро́хини, мир озаряя сияньем багровым,
При лунном затменье окутана мрака покровом.
Столица была, как поток, обмелевший от зноя:
И рыба, и птица покинули русло речное!
Как пламя, что, жертвенной данью обрызгано, крепло —
И сникло, подернувшись мертвенной серостью пепла.
Как воинство, чьи колесницы рассеяны в схватке,
Достоинство попрано, стяги лежат в беспорядке.
Как ширь океана, где ветер валы, бедокуря,
Вздымал и крутил, но затишьем закончилась буря.
Как жертвенник после свершения требы, что в храме,
Безлюдном, немом, торопливо покинут жрецами.
Как в стойле корова с очами печальными, силой
С быком разлученная… Пастбище бедной немило!
Как без драгоценных камней — ювелира изделье, —
Свой блеск переливный утратившее ожерелье.
Как с неба на землю низвергнутая в наказанье
Звезда[212], потерявшая вдруг чистоту и сиянье.
Как в роще лиана, что пчел опьяняла нектаром,
Но цвет благовонный лесным опалило пожаром.
Казалось, Айодхья без празднеств, без торжищ базарных
Под стать небесам без луны и планет лучезарных.
Точь-в-точь как пустой погребок: расплескали повсюду
Опивки вина, перебив дорогую посуду.
Как пруд, от безводья давно превратившийся в сушу
И зрелищем ржавых ковшей надрывающий душу.
Как лука пружинистая тетива, что ослабла,
Стрелой перерезана вражьей, и свесилась дрябло.
Как воином храбрым оседланная кобылица,
Что в битве свалилась, — была Дашаратхи столица.
…Почтительный Бхарата в царскую входит обитель.
Как лев из пещеры, оттуда ушел повелитель!
Лишенный солнца день!
— так выглядел дворец.
И Бхарата слезам
дал волю наконец.
Под стать святожителю, в хижине, листьями крытой,
Безгрешный царевич беседовал с братом и Ситой.
Он притчу рассказывал Сите и сыну Сумитры,
Блистая, как месяц, в соседстве сияющей Читры.
Одна безобразная ракшаси в поисках дичи
Туда забрела — и прервалось течение притчи.
С рожденья звалась Шурпанакхой она за уродство, —
За когти, ногам придававшие с веялкой сходство.
И взору ее луноликий представился Рама,
Прекрасный, как тридцать богов, как пленительный Кама.
И мягкие кудри, и мощь благородной десницы,
И блеск удлиненных очей сквозь густые ресницы,
И смуглое, схожее с лотосом синим, обличье,
И царские знаки, и поступи юной величье,
Что плавностью напоминала походку слоновью,
Увидела ракшаси — и воспылала любовью,
Уродина эта — к прекрасному, как полнолунье,
К нему, сладкогласному, — скверная эта хрипунья!
Противноволосая с дивноволосым равнялась,
Противноголосая с дивноголосым равнялась.
Сама медно-рыжая — с ним, темнокудрым, равнялась
И, дура бесстыжая, с великомудрым равнялась.
С красавцем равнялась она, при своем безобразье,
И с лотосоглазым таким, при своем косоглазье.
С таким тонкостанным и царские знаки носящим
Равнялась она, страхолюдная, с брюхом висящим.
Приблизившись к Раме, палима любовною жаждой,
Сказала ему Шурпанакха: «Решится не каждый
Избрать этот лес для жилья, если ракшасов племя
Сюда без помех прилетает во всякое время.
Эй, кто вы, с собой прихватившие луки и копья,
Да деву-отшельницу, — шкура на ней антилопья?»
Рама спокойно и правдиво поведал о своем изгнанье из Айодхьи, которую покинул вместе с супругой Ситой и братом Лакшманой. В свой черед царевич спросил Шурпанакху, к какому роду она принадлежит и для чего явилась в их убежище.
Охваченная похотью, ракшаси отвечала Раме:
«…А я Шурпанакхой зовусь и уменьем владею
Свой облик менять произвольно, под стать чародею.
Брожу я и страх навожу на окрестные чащи.
Ты Равану знаешь? Он брат мой великоблестящий!
Другой — Кумбхака́рна, что в сон погружен беспробудный,
А третий — Вибхи́шана, праведный, благорассудный.
Четвертый и пятый — отважные Ду́шана с Кха́рой,
Считаются в битвах свирепой воинственной парой.
Я доблестью их превзошла. Разве есть мне преграда?
Своим изволеньем по воздуху мчусь, если надо.
А Сита? Что толку в уродце таком неуклюжем!
О Рама прекрасный, ты должен мне сделаться мужем.
Царевич, мы — ровня. К тебе воспылавшую страстью,
Бери меня в жены, не вздумай противиться счастью!»
И той, что в супруги ему набивалась бесстыдно,
Учтивый царевич ответил, смеясь безобидно:
«Женою мне стала царевна Видехи, но, кроме
Себя, госпожа, не потерпишь ты женщины в доме!
Тебе, дивнобедрая, надобен муж превосходный.
Утешься! В лесу обитает мой брат благородный.
Живи с ним, блистая, как солнце над Меру-горою,
При этом себя не считая супругой второю».
Тогда похотливая ракшаси младшего брата
Вовсю принялась улещать, вожделеньем объята:
«Взгляни на мою красоту! Мы достойны друг друга.
Я в этих дремучих лесах осчастливлю супруга».
Но был в разговоре находчив рожденный Сумитрой
И молвил, смеясь над уловками ракшаси хитрой:
«Разумное слово, тобой изреченное, слышу,
Да сам я от старшего брата всецело завишу!
А ты, госпожа, что прекрасна лицом и осанкой, —
Неужто согласна слуге быть женою-служанкой?
Расстанется Рама, поверь, со своей вислобрюхой,
Нескладной, уродливой, злобной, сварливой старухой.
В сравненье с тобой, дивнобедрой, прекрасной, румяной,
Не будет мужчине земная супруга желанной».
Сама Шурпанакха, поскольку была без понятья,
Смекнуть не могла, что над ней потешаются братья.
Свирепая ракшаси в хижине, листьями крытой,
Увидела Раму вдвоем с обольстительной Ситой.
«Ты мной пренебрег, чтоб остаться с твоей вислобрюхой,
Нескладной, уродливой, злобной, сварливой старухой?
Но я, Шурпанакха, соперницу съем, и утехи
Любовные станешь со мною делить без помехи!» —
Вскричала она и на Ситу набросилась яро.
Глаза пламенели у ней, как светильников пара.
Очами испуганной лани глядела царевна
В ужасные очи ее, полыхавшие гневно.
Казалось, прекрасную смертными узами Яма
Опутал[213], но быстро схватил ненавистницу Рама.
Он брату сказал: «Ни жива ни мертва от испуга
Царевна Митхи́лы, моя дорогая супруга.
Чем шутки шутить с кровожадным страшилищем, надо
Его покарать, о Сумитры достойное чадо!»
Тут Лакшмана меч из ножон извлекает и в гневе
Он уши и нос отсекает чудовищной деве.
И, кровью своей захлебнувшись, в далекие чащи
Пустилась бежать Шурпанакха тигрицей рычащей.
С руками воздетыми, хищную пасть разевая,
Она громыхала, как туча гремит грозовая.
Найдя в лесу Дандака своего брата Кхару, сопровождаемого дружиной свирепых ракшасов, разъяренная, обливающаяся кровью Шурпанакха бросается ему в ноги с мольбой о мести.
«Кто причинил тебе такую обиду?» — преисполнившись гнева, спрашивает сестру Кхара.
«Двое прекрасных собою, могучих, юных, лотосоглазых, царские знаки носящих, одетых в бересту и шкуры черных антилоп, — отвечает ему Шурпанакха. — Братья эти зовутся Рамой и Лакшманой, а родитель их — царь Дашаратха».
Кхара, возглавив несметную рать, подступает к хижине Рамы. Но отважный царевич Кошалы, оставив Ситу в потаенной пещере на попечении брата Лакшманы, облачается в огнезарные доспехи. Как под лучами солнца редеет завеса туч, так редеют ряды ракшасов, непрерывно осыпаемых блистающими стрелами Рамы. Четырнадцать тысяч воинов Кхары полегли на поле битвы. Не остался в живых и его сподвижник, трехголовый Тришира. Вслед за Триширой рухнул на землю Кхара, сраженный смертоносными стрелами Рамы. Уцелел лишь бесстрашный дотоле Акампана, да и тот обратился в бегство.
Узнав от Акампаны о гибели своего брата Кхары, разгневанный владыка ракшасов замышляет похитить царевну Митхилы и унести ее на Ланку: ведь разлучив Раму с возлюбленной Ситой, Равана обрекает его на верную смерть, да при этом коварно уклоняется от превратностей поединка с непоборным противником.
Между тем Шурпанакха, описывая небывалую красоту Ситы, разжигала пыл Раваны и подстрекала своего великовластного брата к похищению чужой супруги.
Равана повелел ракшасу Мариче отправиться с ним вместе к хижине Рамы и принять облик золотого оленя. Без сомненья, Сита попросит Раму и Лакшману поймать его. Тогда, в отсутствие обоих царевичей, можно будет похитить прекрасную и унести на Ланку.
Свирепый и могучий Марича, наводивший в лесу Дандака ужас на святых отшельников, пожиравший их самих и жертвы, приносимые богам, однажды едва не погиб от руки великого Рамы. Он чудом уцелел и с той поры несказанно страшился сына Дашаратхи.
«Я предчувствую, — сказал Марича десятиглавому владыке, — что живым от Рамы не уйду! Но и твои дни, государь, будут сочтены, если похитишь Ситу».
Равана, однако, пренебрег этими предостережениями и, взойдя вместе с Маричей на воздушную колесницу, вскоре достиг берегов реки Годавари.
Под сенью смоковницы ракшасов буйных властитель
Увидел смиренную хижину, Рамы обитель.
И Десятиглавый, с небес опустившись отвесно,
Сошел с колесницы, украшенной златом чудесно.
Он Маричу обнял и молвил, на хижину глядя:
«Не мешкай, должны мы исполнить свой замысел, дядя!»
И ракшас не мог пренебречь властелина веленьем.
Он, облик сменив, обернулся волшебным оленем,
Красивым животным, что взад и вперед у порога
Носилось, хоть Маричи сердце снедала тревога.
Олень пробегал по траве меж деревьев тенистых.
Сверкали алмазы на кончиках рожек ветвистых,
А шкура его серебрилась от крапин искристых.
И губы оленя, как лотос, на мордочке рдея,
Блестели, слегка изгибалась высокая шея.
В отличье от многих собратьев, покрытый не бурой,
А золотом и серебром отливающей шкурой,
Два лотосовых лепестка — два лазоревых уха
Имел он, и цвета сапфира — поджарое брюхо,
Бока розоватые, схожие с ма́дхукой дивной,
Как лук семицветный Громовника[214] — хвост переливный.
На быстрых ногах изумрудные были копыта,
И чудное тело его было накрепко сбито.
При помощи сил колдовских, недоступных понятью,
Стал Марича гордым оленем с пленительной статью.
Его превращенье продлилось не дольше мгновенья.
Каменья сверкали на шкуре златого оленя.
Резвился у хижины, облик приняв светозарный,
Чтоб Ситу в силки заманить, этот ракшас коварный.
И Рамы приют освещал, и поляны, и чащи
Сей блеск несказанный, от оборотня исходящий.
Спиною серебряно-пестрой, исполненный неги,
Олень красовался, жуя молодые побеги,
Покамест у хижины, сенью смоковниц повитой,
Нечаянно не был замечен гуляющей Ситой.
Срывала цветы дивнобедрая, и в отдаленье
Пред ней заблистали бока золотые оленьи.
«О Рама, взгляни!» — закричала она в умиленье.
Жена тонкостанная, чья красота безупречна,
За этим диковинным зверем следила беспечно.
Она призывала великого Рагху потомка
И Лакшману, храброго деверя, кликала громко.
Но тот, на оленью серебряно-пеструю спину
Взглянув, обращается к старшему царскому сыну:
«Мне чудится Марича в этом волшебном животном.
Ловушки в лесах расставлял он царям беззаботным,
Что, лук напрягая, летели, влекомы соблазном,
В погоню за тенью, за призраком дивнообразным.
Легко ли! В камнях драгоценных серебряно-пегий
Олень по поляне гуляет и щиплет побеги!»
Но Сита с улыбкой чарующей, Лакшманы слово
Спокойно прервав, обратилась к царевичу снова,
Не в силах стряхнуть наважденье кудесника злого.
«Похитил мой разум, — сказала царевна Видехи, —
Олень златозарный. Не мыслю я лучшей утехи!
О Рама, какое блажество, не ведая скуки,
Играть с ним! Диковину эту поймай, Сильнорукий!»
И Раму олень златошерстый поверг в изумленье,
Пестря серебром, словно звезд полуночных скопленье.
Венчанный рогами сапфирными с верхом алмазным,
Он блеск излучал несказанный, дышал он соблазном!
Но Рама жену не хотел опечалить отказом
И Лакшмане молвил: «Олень, поразивший мой разум,
Будь зверь он лесной или Марича, ракшас коварный,
Расстанется нынче со шкурой своей златозарной!
Царевне защитой будь Лакшмана, отпрыск Сумитры!
За Ситой смотри, чтоб ее не обидел злохитрый.
Оленя стрелой смертоносной, отточенной остро,
Убью и вернусь я со шкурой серебряно-пестрой».
Воитель Великоблестящий с могучею статью
Себя опоясал мечом со златой рукоятью.
Взял трижды изогнутый лук он да стрелы в колчане
И вслед за диковинным зверем пустился в молчанье.
Подобного Индре царевича раджа олений
Увидел и сделал прыжок, подгибая колени.
Сперва он пропал из очей, устрашен Богоравным,
Затем показался охотнику в облике явном,
Сияньем своим пробуждая восторг в Сильноруком,
Что по лесу мчался с мечом обнаженным и луком.
То медлил прекрасный олень, то, как призрак манящий,
Мелькал — и стремглав уносился в далекие чащи,
Как будто по воздуху плыл и в простор поднебесный
Прыжком уносился, то видимый, то бестелесный.
Как месяц, повитый сквозных облаков пеленою,
Блеснув, исчезал он, укрытый древесной стеною.
Все дальше от хижины, в гущу зеленых потемок,
Стремился невольно за Маричей Рагху потомок.
Разгневался Рама, устав от усилий надсадных.
Олень обольстительный прятался в травах прохладных.
Приблизившись к царскому сыну, Летающий Ночью[215]
Скрывался, как будто бы смерть он увидел воочью.
К оленьему стаду, желая продлить наважденье,
Примкнул этот ракшас, но Раму не ввел в заблужденье,
С оленями бегая, в купах деревьев мелькая,
Серебряно-пегою дивной спиною сверкая.
Отчаявшись оборотня изловить и гоньбою
Измучась, решил поразить его Рама стрелою.
Смельчак золотую, блистающую несказанно,
Стрелу, сотворенную Брахмой, достал из колчана.
Ее, смертоносную, на тетиву он поставил
И, схожую с огненным змеем, в оленя направил.
И Мариче в сердце ударила молнией жгучей
Стрела златопёрая, пущена дланью могучей.
И раненый ракшас подпрыгнул от муки жестокой
Превыше растущей поблизости пальмы высокой.
Ужасно взревел этот Марича, дух испуская.
Рассыпались чары, и рухнула стать колдовская.
«О Сита, о Лакшмана!» — голосом Рагху потомка,[216]
Послушен велению Раваны, крикнул он громко.
Немало встревожило Раму такое коварство.
«Ни Сита, ни Лакшмана не распознают штукарства, —
Помыслил царевич, — они поддадутся обману!»
И в сильной тревоге назад поспешил в Джанастха́ну.
Тем временем кинулась к деверю в страхе великом
Безгрешная Сита, расстроена ракшаса криком.
«Ты Раме беги на подмогу, покамест не поздно! —
Молила жена дивнобедрая Лакшману слезно, —
Нечистые духи его раздирают на части,
Точь-в-точь как быка благородного — львиные пасти!»
Но с места не тронулся Лакшмана: старшего брата
Запрет покидать луноликую помнил он свято.
Разгневалась Джа́наки дева: «Рожденный Сумитрой,
Ты Раме не брат, — супостат криводушный и хитрый!
Как видно, ты гибели Рагху потомка желаешь,
Затем что бесстыдно ко мне вожделеньем пылаешь!
Лишенная милого мужа, не мыслю я жизни!»
И горечь звучала в неправой ее укоризне.
Но Лакшмана верный, свою обуздавший гордыню,
Ладони сложил: «Почитаю тебя, как богиню!
Хоть женщины несправедливы и судят предвзято,
По-прежнему имя твое для меня будет свято.
Услышит ли Рама, вернувшись, твой голос напевный?
Увидит ли очи своей ненаглядной царевны?»
«О Лакшмана! — нежные щеки рыдающей Ситы
Слезами горючими были обильно политы. —
Без милого Рамы напьюсь ядовитого зелья,
Петлей удавлюсь, разобьюсь я о камни ущелья!
Взойду на костер или брошусь в речную пучину,
Но — Рамой клянусь! — не взгляну на другого мужчину».
Бия себя в грудь, предавалась печали царевна,
И сын Дашаратхи ее утешал задушевно.
Ладони сложив, он склонился почтительно снова,
Но бедная Сита в ответ не сказала ни слова.
На выручку старшему брату пустился он вскоре,
И деву Митхи́лы покинуть пришлось ему в горе.
Явился в обитель, что выстроил сын Каушальи,
Владыка Летающих Ночью, обутый в сандальи,
С пучком, одеянье шафранного цвета носящий,
И с чашей — как брахман святой[217], подаянья просящий.
И зонт его круглый увидела Джанаки дева,
И посох тройчатый висел на плече его слева.
Под видом святого к царевне, оставленной в чаще,
Направился ракшасов раджа великоблестящий.
Без солнца и месяца в сумерки мрак надвигался —
Без Рамы и Лакшманы — Равана так приближался!
На Ситу он хищно взирал, как на Рохини — Раху.
Листвой шелестеть перестали деревья со страху.
Как прежде, не дул освежающий ветер в испуге,
Когда он украдкой к чужой подбирался супруге.
Года́вари быстрые волны замедлили разом
Теченье свое, за злодеем следя красноглазым,
Что, Рамы используя слабость, походкой неспешной,
Монахом одет, подступал, многогрешный, к безгрешной.
Царевна блистала звездой обольстительной, Читрой,
Вблизи пламенел грозновещей планетой[218] Злохитрый.
Надев благочестья личину, был Десятиглавый
Похож на трясину, где выросли пышные травы.[219]
Он молча взирал на прекрасную Рамы подругу,
Что ликом своим, как луна, освещала округу.
Пунцовые губы и щек бархатистых румянец
Узрел он и белых зубов ослепительный глянец.
Рыданья и вопли красавицы, горем убитой,
К нему долетали из хижины, листьями крытой.
И слушал неправедный Равана, стоя снаружи,
Как в хижине плачет Митхилы царевна о муже.
К прекрасной, из желтого шелка носящей одежду,
Приблизился он, понапрасну питая надежду.
И, нищим прикинувшись, демонов грозный властитель,
В обличье смиренном, супруги чужой обольститель,
Не ракшас, но брахман достойный, читающий веду,
С Видехи царевной завел осторожно беседу.
Ее красоте несказанной дивился Злонравный:
«О дева! Тебе в трех мирах я не видывал равной!
Трепещет, как пруд соблазнительный, полный сиянья,
Твой стан упоительный в желтом шелку одеянья.
В гирлянде из лотосов нежных, ты блещешь похожей
На золото и серебро ослепительной кожей.
Открой, кто ты есть, луноликая, царственной стати?
Признайся, ты — страсти богиня, прекрасная Рати?
Ты — Лакшми иль Кирти? Иль, может, небесная дева?
Одно достоверно — что ты рождена не из чрева!
Прекрасные острые ровные зубы невинно
Сверкают своей белизной, словно почки жасмина.
От слез покраснели глазные белки, но зеницы
Огромных очей, пламенея, глядят сквозь ресницы.
О дева с округлыми бедрами, сладостным станом,
С обличьем, как плод наливной, бархатистым, румяным,
С чарующим смехом, с грудями, прижатыми тесно
Друг к дружке, что жемчуг отборный украсил чудесно!
Похитили сердце мое миловидность и нега.
Так волны уносят обломки размытого брега.
Доселе супруги богов и людей не имели
Столь дивных кудрей, столь упругих грудей не имели.
Не знали жилицы небес и Куберы служанки[220]
Столь гибкого стана и гордой сверх меры осанки.
Три мира — небесный, земной и подземный — доныне
Не видели равной тебе красотою богини!
Но если такая, как ты, в трех мирах не блистала,
Тебе обретаться в дремучих лесах не пристало.
Охотятся ракшасы в чаще, не зная пощады,
А ты рождена для дворцов, для садовой прохлады,
Роскошных одежд, благовоний, алмазов, жемчужин,
И муж наилучший тебе, по достоинству, нужен.
Ответь, большеглазая, кто же с тобой, темнокудрой,
В родстве: богоравные ма́руты, ва́су иль рудры?
Но здешняя чаща — Летающих Ночью обитель.
Откуда возьмется в окрестных лесах небожитель?
Не встретятся тут ни гандхарвы, ни слуги Куберы.
Лишь бродят свирепые тигры, гиены, пантеры.
Богиня, ужель не боишься опасных соседей —
Ни цапель зловеших, ни львов, ни волков, ни медведей.
Откуда ты? Чья ты? Не страшны ль тебе, луноликой,
Слоновьи самцы, что охвачены яростью дикой
И, жаждой любовной томимы, вступать в поединки
Готовы на каждой поляне лесной и тропинке?
Красавица, кто ты? Зачем пребывать ненаглядной
В лесу, где охотится ракшасов род плотоядный!»
С речами лукавыми демонов раджа злотворный
В обличье святого явился к жене безукорной.
Царевной Митхилы почтен был Великоблестящий,
Как дваждырожденный мудрец, подаянья просящий.
Речь Раваны не приличествовала святому подвижнику. Удивленная Сита, не подавая, однако, виду, приняла его учтиво и ласково. «Ведь он гость мой и брахман!» — подумала дочь Джанаки.
Поведав пришельцу, кто она и почему обретается в чаще, Сита, в свой черед, осведомилась, как имя брахмана и к какому роду он принадлежит.
Владыка Летающих Ночью, исполненный блеска,
Супруге великого Рамы ответствовал резко:
«Я тот, кто мирам и насельникам их угрожает, —
Богам их, царям их, отшельникам их угрожает.
О Сита, я — Равана, демонов раджа всевластный!
Увидя шелками окутанный стан сладострастный
И негу твоей отливающей золотом кожи,
Делить перестал я с несчетными женами ложе.
О робкая, зваться ты будешь царицею главной,
Как Ланка зовется столицею великославной.
Твердыня ее на вершине горы осиянной
Стоит посредине бушующего океана.
По рощам ты станешь гулять, благоизбранна мною,
Расставшись охотно с обителью этой лесною.
Толпой пятитысячной будут всечасно служанки
Творить угожденье супруге властителя Ланки».
Тогда безупречно сложенная Джанаки дева
Ответила Раване словом презренья и гнева:
«Как Индра всесильный, питающий землю дарами,
Один у меня повелитель: я предана Раме!
Как ширь океана, глубок и спокоен, с горами
Сравнится бестрепетный воин. Я предана Раме!
Он — древо баньяна, что сенью ветвей, как шатрами,
С готовностью всех укрывает. Я предана Раме!
Он ликом прекрасней луны, что блестит над мирами,
Он мощью безмерной прославлен. Я предана Раме!
С повадкой шакальей — гоняться за львицей, что в жены
Избрал этот лев, Каушальей-царицей рожденный?
Зачем злодеянье творишь ты, себе в посмеянье?
Ведь я для тебя недоступна, как солнца сиянье!
Преследуя Рамы жену — вместо райского сада
Любуешься ты золотыми деревьями ада!
Зубов у змеи ядовитой с разинутым зевом,
Клыков у голодного тигра, объятого гневом,
Перстами не вырвешь ты, Равана Десятиглавый,
В живых не останешься, выпив смертельной отравы.
Ты Ма́ндару-гору скорей унесешь за плечами,
Чем Рамы жену обольстишь колдовскими речами.
Ты, с камнем на шее плывя, одолеешь пучину,
Но Рамы жену не заставишь взглянуть на мужчину.
Ты солнце и месяц в горсти или пламя в подоле
Задумал теперь унести? Не в твоей это воле!
Натешиться всласть пожелал ты женой добронравной
И мыслишь супругу украсть, что избрал Богоравный?
Не жди воздаянья потугам своим бесполезным.
Стопами босыми по копьям пройдешь ты железным!
Меж царственным львом и шакалом различья не знаешь,
Меж грязной водой и сандалом различья не знаешь.
Ты низости полон и Рамы величья не знаешь!
Мой Рама в сравненье с тобой, похититель презренный,
Как а́мриты чаша — с посудиной каши ячменной!
Запомни, что ты против Рамы, великого мужа,
Как против зыбей океанских — нечистая лужа.
Под стать Шатакра́ту, он славится твердостью духа.
Не радуйся, ракшас, как в масло упавшая муха!»
Так праведная — нечестивому, вспыхнув от гнева,
Ответила — и задрожала, как райское древо.
Рассерженный гневной отповедью Ситы, желая устрашить ее, Равана похваляется своим могуществом.
«Я с братом Куберой затеял умышленно ссору.
В неистовой схватке его победил я в ту пору.
Он в страхе ушел на Кайласу, священную гору.
Я, на́зло Кубере, его колесницей чудесной
Доныне владею и плаваю в сфере небесной.
О дева Митхилы! Бегут врассыпную, в тревоге,
Мой лик устрашительный видя, бессмертные боги.
И шума зеленой листвы, распустившейся пышно,
О царская дочь, при моем появленье не слышно.
И ветер не дует, недвижно речное теченье,
А солнца лучи — как луны голубое свеченье.
Среди океана мой град, именуемый Ланкой,
Для взора, под стать Амара́вати, блещет приманкой.
Стеной крепостной обнесен этот град многолюдный.
Она золотая, в ней каждый портал — изумрудный.
Свирепые ракшасы, жители дивной столицы,
Дворцами владеют, имеют слонов, колесницы.
Густые деревья прохладных садов и беспыльных
Красуются многообразьем плодов изобильных.
Божественные наслажденья со мной повседневно
Вкушая, ты жребий земной позабудешь, царевна!
О Раме напрасно печалишься, век его прожит!
Ведь он — человек, и никто его дней не умножит.
Отправил в леса Дашара́тха трусливого сына,
Любимцу меж тем предоставил престол властелина.
На что тебе Рама, лишенный отцовского царства,
От мира сего отрешенный, терпящий мытарства?
Не вздумай отвергнуть меня! Повелитель всевластный,
Явился я, Камы стрелой уязвлен любострастной.
Раскаешься, словно Урва́ши — небесная дева,
Ногой оттолкнувшая милого в приступе гнева.
Перста моего испугается Рама твой хилый!
Зачем ты противишься счастью, царевна Митхилы?»
Но пылкую отповедь этой красавицы дивной
Услышал немедленно Равана богопротивный:
«Похитив жену Громовержца, прекрасную Шачи,
Ты можешь остаться в живых, — ведь бывают удачи!
Но если ты Ситу похитил — спастись не надейся:
Умрешь неизбежно, хоть а́мриты вдоволь напейся!»
Тут повелитель ракшасов принял свой подлинный устрашающий облик. Левой рукой притянул он Ситу за волосы, а правой охватил бедра девы Видехи. Взойдя на свою воздушную колесницу, Равана усадил Ситу к себе на ляжку. Влекомая зелеными небесными конями, колесница взмыла ввысь и понеслась над лесом Давдака.
«О Рама!» — взывала, рыдая, царевна Видехи,
Но Равана в небо ее уносил без помехи.
И нежные члены, сквозь желтого шелка убранство,
Мерцали расплавом златым, озаряя пространство.
И Равану пламенем желтым ее одеянье
Объяло, как темную гору — пожара сиянье.[221]
Царевна сверкала, как молния; черною тучей
Казался, добычу к бедру прижимая, Могучий.
Был Десятиглавый осыпан цветов лепестками:
Красавица шею и стан обвивала венками.
Гирлянды, из благоухающих лотосов свиты,
Дождем лепестков осыпали мучителя Ситы.
И облаком красным клубился в закатном сиянье
Блистающий царственным золотом шелк одеянья.
Владыка летел, на бедре необъятном колебля
Головку ее, как цветок, отделенный от стебля.
И лик обольстительный, ракшасом к боку прижатый,
Без Рамы поблек, словно лотос, от стебля отъятый.
Губами пунцовыми, дивным челом и глазами,
И девственной свежестью щек, увлажненных слезами,
Пленяла она, и зубов белизной небывалой,
И сходством с луной, разрывающей туч покрывало.
Без милого Рамы красавица с ликом плачевным,
Глядела светилом ночным в небосводе полдневном.
На Раваны лядвее темной, дрожа от испуга,
Блистала она, златокожая Рамы подруга,
Точь-в-точь как на темном слоне — золотая подпруга.
Подобная желтому лотосу, эта царевна,
Сверкая, как молния, тучу пронзавшая гневно,
Под звон золотых украшений, казалась влекома
По воздуху облаком, полным сиянья и грома.
И сыпался ливень цветочный на брата Куберы
С гирлянд благовонных царевны, прекрасной сверх меры.
Казался, в цветах утопающий, Равана грозный
Священной горой, что гирляндой увенчана звездной.
И без передышки летел похититель коварный.
У Ситы свалился с лодыжки браслет огнезарный.
Был Равана древу подобен, а Джанаки дева —
Налившейся розовой почке иль отпрыску древа.
На Раваны ляжке блистала чужая супруга,
Точь-в-точь как на темном слоне — золотая подпруга.
По небу влекомая братом Куберы бездушным,
Она излучала сиянье в просторе воздушном.
Звеня, раскололись, как звезды, в немыслимом блеске
О камни земные запястья ее и подвески.
Небесною Гангой низверглось ее ожерелье.[222]
Как месяц, блистало жемчужное это изделье!
«Не бойся!» — похищенной деве шептали в печали
Деревья, что птичьи пристанища тихо качали.
Во влаге дремотной, скорбя по ушедшей подруге,
Меж вянущих лотосов рыбки сновали в испуге.
Охвачены яростью, звери покинули чащи
И долго бежали за тенью царевны летящей.
В слезах-водопадах — вершин каменистые лики,
Утесы — как руки, воздетые в горестном крике,
И солнце без блеска, подобное тусклому кругу, —
Оплакивали благородного Рамы супругу.
«Ни чести, ни совести в мире: мы видим воочью,
Как Ситу уносит владыка Летающих Ночью!»
И дети зверей, запрокинув мохнатые лица,
Глядели, как в небо уходит его колесница.
И все разноокие духи, живущие в чаще,
О деве скорбели, глаза боязливо тараща.
«О Рама! О Лакшмана!» — Сита взывала в печали.
Ее, сладкогласную, кони зеленые мчали.
Все дальше на юг уносилась волшебная колесница. Рыдания Ситы пробудили престарелого царя ястребов, Джатайю, некогда водившего дружбу с Дашаратхой. Доблестный Джатайю вступился за супругу Рамы, грозными ударами клюва сразил коней и возницу Раваны, изломал когтями его лук и щит, разбил небесную колесницу. Ракшас, однако, пронзил Джатайю бесчисленными стрелами, так что он стал похож на дикобраза, мечом отрубил царю ястребов ноги и крылья.
Оставив умирать Джатайю, истекающего кровью, Равана подхватил Ситу и полетел с ней на Ланку. Обломки златокованой небесной колесницы были разбросаны по земле.
Увлекаемая Раваной в поднебесье беззащитная царевна Митхилы приметила пять могучих обезьян, стоящих на вершине горы. «Быть может, передадут они весть Раме», — подумала Сита и, оторвав от своего платья желтый шелковый лоскут, бросила его обезьянам.
Примчав Ситу на Ланку, Равана поместил ее в ашоковой роще[223] под неусыпным надзором отвратительных с виду, злобных ракшаси.
Не найдя в лесной хижине царевны Видехи, Рама предается глубокому отчаянью. Он горько упрекает брата Лакшману, оставившего несчастную Ситу в одиночестве. Рыдая, сетуя, мечется он вокруг хижины, подобно человеку, утратившему рассудок.
«О дерево кадамба[224], не видало ли ты моей любимой? О розовая бильва, не знаешь ли, где прекрасная Сита?» — горестно восклицает царевич Кошалы. Тщетно обращается он ко всем обитателям леса. Молчит и река Годавари, страшась грозного Раваны. Только олени, пришедшие к ней на водопой, зачем-то побежали к югу и возвратились назад. Это повторялось трижды, покуда Лакшмана не догадался, что олени указывают путь ему и Раме. Вняв безмолвному совету лесных оленей, сыновья Дашаратхи направились к югу. Вскоре увидали они обломки золотой колесницы, расколотый надвое лук, обильно украшенный жемчугами, и разбитые золотые доспехи, щедро усыпанные изумрудами.
«О Лакшмана, — вскричал Рама, — чье это снаряженье, блистающее, как солнце в зените? Кому принадлежат зеленые кони, лежащие на земле? Чей возничий, лишенный признаков жизни, покоится среди обломков золотой колесницы?»
Об этом узнали сыновья Дашаратхи, когда набрели на умирающего царя ястребов, Джатайю. Он поведал Раме и Лакшмане о похищении царевны Видехи. «Властитель ракшасов унес ее на юг… Не отчаивайся, ты найдешь Ситу и соединишься с ней, убив Равану на поединке», — успел сказать Раме престарелый царь ястребов. Это были его последние слова. Тело Джатайю братья-царевичи предали огню со всеми почестями, подобающими доблестному воителю и верному другу.
Пробираясь далее на юг, Рама и Лакшмана совершили подвиг, освободив от заклятья безголовое чудовище, ракшаса Кабандху, который в прежнем своем рождении был полубогом. По просьбе Кабандхи, царевичи сожгли его на костре. Из пламени костра поднялся юный и прекрасный полубог. Прежде чем вознестись на небо в колеснице, запряженной белыми лебедями, он посоветовал сыновьям Дашаратхи отправиться на западный берег озера Пампа: там, в пещере горы Ришьяму́кха, скрывается повелитель обезьян Сугрива, утративший свое царство. Он призван, по словам Кабандхи, помочь Раме и Лакшмане отыскать Ситу.
Братья пустились в путь и по прошествии нескольких дней достигли дивного озера Пампа. Ранняя весна придавала ему невыразимое очарование.
Лазурных и розовых лотосов бездну в зеркальной
Воде созерцая, заплакал царевич печальный.
Но зрелище это наполнило душу сияньем,
И был он охвачен лукавого Камы влияньем.
И слово такое Сумитры достойному сыну
Сказал он: «Взгляни на отрадную эту долину,
На озеро Пампа, что лотосы влагою чистой
Поит, омывая безмолвно свой берег лесистый!
Походят, окраской затейливой радуя взоры,
Верхушки цветущих деревьев на пестрые горы.
Хоть сердце терзает возлюбленной Ситы утрата
И грусть моя слита с печалями Бхараты брата,
Деревьев лесных пестротой над кристальною синью,
Заросшей цветами, любуюсь, предавшись унынью.
Гнездится на озере Пампа плавучая птица,
Олень прибегает, змея приползает напиться.
Там диким животным раздолье, и стелется чудно
Цветистый ковер лепестков по траве изумрудной.
Деревья, в тенетах цветущих лиан по макушки,
Навьючены грузом цветочным, стоят на опушке.
Пленителен благоухающий месяц влюбленных
С обильем душистых цветов и плодов благовонных!
Как сонм облаков, разразившихся ливнем цветочным,
Деревья долину осыпали цветом непрочным.
Бог ветра колышет ветвями, играя цветками,
Соцветьями и облетающими лепестками.
Как сонм облаков, изливающих дождь благодатный,
Деревья даруют нам дождь лепестков ароматный.
И ветру, цветистым покровом устлавшему долы,
В лесах отзываясь, жужжат медоносные пчелы.
И ко́киля[225] пенью внимая (он — Камы посланец!),
Деревья от ветра ущелий пускаются в танец.
Их ветер качает и цепко перстами хватает,
Верхушки, цветами венчанные, крепко сплетает.
Но, став легковейней, насыщенней свежим сандалом,
Он сладкое отдохновенье приносит усталым.
Колеблемы ветром, в цвету от корней до вершины,
Деревья гудят, словно рой опьяненный пчелиный.
Высоко вздымая цветущих деревьев макушки,
Красуются скалы, верхами касаясь друг дружки.
Гирляндами пчел-медоносиц, жужжащих и пьющих,
Увенчаны ветви деревьев, от ветра поющих.
Как люди, одетые в царственно-желтые платья,
Деревья бобовые — в золоте сплошь, без изъятья.
Названье дождя золотого дано карникарам,
Чьи ветви обильно усыпаны золотом ярым.
О Лакшмана, птиц голоса в несмолкающем хоре
На душу мою навевают не радость, а горе.
И, слушая кокиля пенье, не только злосчастьем
Я мучим, по также и бога любви самовластьем.
Влюбленный датью́ха[226], что свищет вблизи водопада —
Услада для слуха, царевич, а сердце не радо!
Из чащи цветущей доносится щебет и шорох.
Как сладостна разноголосица птиц разнопёрых!
Порхают они по деревьям, кустам и лианам.
Самцы сладкогласные жмутся к подружкам желанным.
Не молкнет ликующий сорокопут, и датьюха,
И кокиль, своим кукованьем чарующий ухо.
В оранжево-рдяных соцветьях, пылает ашока
И пламень любовный во мне разжигает жестоко.
Царевич, я гибну, весенним огнем опаленный.
Его языки — темно-красные эти бутоны.
О Лакшмана! Жить я не мыслю без той чаровницы,
Чья речь сладкозвучна, овеяны негой ресницы.
Без той дивногласной, с кудрей шелковистой завесой,
Без той, сопричастной весеннему празднику леса.
Я в месяце ма́дху[227] любуюсь на пляски павлиньи,
От ветра лесного невольно впадая в унынье.
Хвосты на ветру опахалами чудно трепещут.
Глазки́ оперенья сквозными кристаллами блещут.
Взгляни, в отдаленье танцует павлин величаво.
В любовном томленье за пляшущим следует пава.
Ликуя, раскинули крылья павлины-танцоры.
Им служат приютом лесные долины и горы.
О Лакшмана, участь моя им сдается забавой.
Ведь Ланки владыка в леса прилетал не за павой!
И трепетно ждут приближения самок павлиньих
Красавцы с хвостами в глазка́х золотистых и синих.
О Лакшмана, сладостный месяц любви и цветенья
На душу мою навевает печаль и смятенье.
Как пава — в павлине, во мне бы искала утехи,
Любовью пылая, прекрасная дева Видехи.
Усыпаны ветви горящими, как самоцветы,
Соцветьями, но не сулят мне плодов пустоцветы!
Без пользы они опадут, и осыплются пчелы
С деревьев, что будут зимою бесплодны и голы.
Мой Лакшмана, в благоухающих кущах блаженно
Пернатых певцов переливы звучат и колена.
Пчела шестиногая, как бы пронзенная страстью,
Прильнула к цветку и, дрожа, упивается сластью.
Цветет беспечально ашока, но дивное свойство
Священного древа меня повергает в расстройство.
Цветущие манго подобны мужам, поглощенным
Любовной игрой, благовонной смолой умащенным.
Стекаются слуги Куберы в лесные долины, —
Кимнары с людским естеством, с головой лошадиной.
И лилии «на́лина»[228] благоуханные блещут
На озере Пампа, где волны прозрачные плещут.
Везде в изобилии гуси и утки рябые,
И влагу кристальную лилии пьют голубые.
Над светлыми водами лотосы дышат покоем.
На глади озерной, как солнце, блистающим слоем
Тычинки слежались, пчелиным стрясенные роем.
К волшебному озеру Пампа слоновьи, оленьи
Стада устремляются, жажде ища утоленья.
Приют чакрава́к[229] златопёрых, оно, посредине
Лесами поросшего края, блестит в котловине.
Подернута рябью от ветра внезапных усилий,
Колышет вода белоснежные чашечки лилий.
Но тягостна жизнь без моей дивноокой царевны!
Глаза у нее словно лотосы, голос напевный.
И горе тому, кто терзается думой всечасной
Об этой безмерно прекрасной и столь сладкогласной!
О Лакшмана, свыкнуться с мукой любовной нетрудно,
Когда б не весна, не деревья, расцветшие чудно.
Теперь досаждает мне блеском своим неуместным
Все то, что от близости Ситы казалось прелестным.
Сомкнувшийся лотос на яблоко Ситы глазное
Походит округлостью нежной и голубизною.
Порывистым ветром тычинки душистые сбиты.
Я запахом их опьянен, как дыханием Ситы!
Взгляни, порожденный Сумитрой, царицею нашей,
Какие деревья стоят над озерною чашей!
Вокруг — обвиваются полные неги лианы,
Как девы прекрасные, жаждой любви обуянны.
Мой Лакшмана, что за веселье, какая услада,
Какое блаженство для сердца, приманка для взгляда!
Роскошные эти цветы, уступая желанью
Вползающих пчел, награждают их сладостной данью.
Застелены горные склоны цветочным покровом,
Где царственно-желтый узор переплелся с пунцовым.
Красуясь, как ложе, укрытое радужной тканью,
Обязана этим земля лепестков опаданью.
Поскольку зима на исходе, цветут, соревнуясь,
Деревья лесные, природе своей повинуясь.
В цветущих вершинах гуденье пчелиного роя
Звучит, словно вызов соперников, жаждущих боя.
Не надобны мне ни Айодхья, ни Индры столица!
С моей дивноглазой желал бы я здесь поселиться.
Часы проводя без помехи в любовных забавах,
Царевну Видехи ласкать в усладительных травах.
Лесные, обильно цветущие ветви нависли,
Мой ум помрачая, в разброд приводя мои мысли.
На озере Пампа гнездятся казарки и цапли.
На лотосах свежих искрятся прозрачные капли.
О чадо Сумитры! Огромное стадо оленье
Пасется у озера Пампа, где слышится пенье
Ликующих птиц. Полюбуйся на их оперенье!
Но, Лакшмана, я с луноликой подругой в разлуке!
Лишь масла в огонь подливают волшебные звуки.
Мне смуглую деву с глазами испуганной лани
Напомнили самки оленьи на светлой поляне.
Царицу премудрую смею ли ввергнуть в печаль я?
Ведь спросит меня о невестке своей Каушалья!
Не в силах я, Лакшмана, вынести Ситы утрату.
Один возвращайся к достойному Бхарате, брату».
Расплакался горько царевич, исполненный блеска,
Но Лакшмана Раме промолвил разумно и веско:
«Опомнись, прекрасный! Блажен, кто собою владеет.
У сильного духом рассудок вовек не скудеет.
О Рама! Не знают ни в чем храбрецы преткновенья.
Мы Джанаки дочь обретем, — лишь достало бы рвенья!
Прославленный духа величьем и твердостью воли,
Не бейся в тенетах любви, отрешись и от боли!»
Одумался Рама, и Лакшмана вскоре заметил,
Что полон отваги царевич и разумом светел.
С вершины горы, своего прибежища, царь обезьян Сугрива замечает Раму и Лакшману. Он думает, что это воины его коварного брата Ва́лина, который послал их препроводить Сугриву в царство смерти. Он призывает друга и советника своего Ханумана и просит разведать, кто эти люди.
Сын обезьяны и бога ветра Вайю, Хануман унаследовал от отца способность принимать любое обличье и летать по воздуху.
Хануман оборачивается подвижником и плавно слетает с горы в долину. Братьям нравится приветливый и учтивый Хануман. Они рассказывают ему о себе.
Мудрый советник Сугривы приглашает братьев взойти на вершину горы. Именно Сугрива, по его словам, в союзе с доблестным Рамой отыщет прелестную Ситу и поможет одолеть свирепого Равану.
Сугрива с почестями встречает братьев. Выслушав их печальную повесть, он рассказывает, как Валин лишил его царства, а потом захотел отнять и жизнь, так что он вместе с четырьмя своими верными товарищами принужден был бежать из Кишкиндхи и укрыться на пустынной горе. Он умоляет Раму и Лакшману помочь ему избавиться от угрозы смерти, помочь убить Валина и вернуть утраченное царство. Рама, в свой черед, просит Сугриву оказать ему помощь в поисках Ситы и в войне с предводителем ракшасов. Так возникает великий союз между лучшим из людей и царем обезьян.
Друзья идут к столице обезьяньего царства Кишкидхе. Рама и Лакшмана прячутся в лесу, Сугрива вызывает Валина. Начинается жестокая битва. Рама, не замечаемый Валином, кружит среди лесных зарослей вблизи сражения. Но братья очень похожи друг на друга, а пыль от битвы так густа, что Рама опасается выстрелить, чтобы не попасть в Сугриву. Валин побеждает брата и возвращается во дворец…
Рама и Лакшмана находят Сугриву, омывают его раны, утешают его.
Сугрива по просьбе Рамы надевает цветочную плетеницу — ради отличия от брата — и вызывает Валина на новый бой. Валин вновь одолевает Сугриву, но Рама выбирает мгновенье: его стрела поражает Валина в самое сердце. Умирающий царь говорит: «Я многажды бился с тобой, Сугрива, но ни разу не отнимал жизни. Ты же поступил вдвойне дурно: поспешил отправить меня в царство Ямы, да при этом призвал на помощь Раму. Прежде я был наслышан о благородстве и доброте сыновей Дашаратхи. Теперь я знаю, что это ложь! Царевич Кошалы убил меня из засады, когда я честно сражался с братом».
Рама говорит, что Валин первым преступил закон, ибо, не спросив разрешения Бхараты, который владеет всеми здешними землями, изгнал Сугриву из Кишкиндхи и отнял у него дом и жену. «Ты первый поступил дурно и тем навлек на себя гибель! Кроме того: ты — всего-навсего обезьяна, а я человек, и я вправе сколько угодно охотиться на обезьян, стреляя в них из засады!»
Кишкиндха охвачена скорбью. Плачет жена Валина, луноликая Тара, плачет его сын Ангада… Сугрива печален, его мучают угрызения совести. «Я избавлюсь от них, — говорит он Раме, — лишь взойдя вместе с братом на погребальный костер». — «Никто не властен, — отвечает ему Рама, — над великим Временем-Судьбой, и оно само не ведает своего течения. Валин обрел заслуженное им в этой жизни, а быть может, — и в предыдущих рождениях; он пал на поле битвы, как доблестный муж и, несомненно, достигнет неба…»
Хануман просит Раму и Лакшману войти в город и возвести Сугриву на царский престол. Они отказываются: они дали обет Дашаратхе не переступать городских пределов, пока не минует четырнадцать лет изгнания.
Божественный царевич Кошалы и мужественный, верный Лакшмана удаляются в горную пещеру, ибо наступает пора дождей.
«На горы походят, клубясь, облака в это время,
Живительной влаги несущие дивное бремя.
В себя океаны устами дневного светила
Всосало брюхатое небо и ливни родило.
По облачной лестнице можно к Дарителю Света
Подняться с венком из кута́джи и а́рджуны[230] цвета.
Мы в сумерки зрим облаков розоватых окраску,
Как будто на рану небес наложили повязку.
Почти бездыханное небо, истомой объято,
Желтеет шафраном, алеет сандалом заката.
Небесными водами, точно слезами, омыта,
Измучена зноем земля, как невзгодами — Сита!
Но каждого благоуханного облака чрево
Богато прохладой, как листья камфарного древа.
Ты ветра душистого можешь напиться горстями.
Он а́рджуной пахнет и ке́таки[231] желтой кистями.
Чредою летучей окутали черные тучи
Грядою могучей стоящие горные кручи:
Читающих веды, отшельников мудрых фигуры
Застыли, надев антилоп черношёрстые шкуры.[232]
А небо, исхлестано молний златыми бичами,
Раскатами грома на боль отвечает ночами.
В объятиях тучи зарница дрожащая блещет:
В объятиях Раваны наша царица трепещет.
Все стороны неба сплошной пеленою одеты.
Исчезла отрада влюбленных — луна и планеты.
Тоской переполнено сердце! Любовных услад же,
О младший мой брат и потомок великого раджи,
Я жажду, как ливня — цветущие ветви кутаджи…
Воды небесной вдоволь есть в запасе.
Кто странствовал — стремится восвояси.
Прибило пыль, и, с ливнями в согласье,
Для воинов настало междучасье.
На Ма́нас-озеро в лучах денницы
Казарок улетают вереницы.
Не скачут по дорогам колесницы:
Того и жди — увязнешь по ступицы!
Небесный свод, повитый облаками, —
Седой поток, струящийся веками!
И преграждают путь ему боками
Громады гор, венчанных ледниками.
Павлин кричит в лесу от страсти пьяный.
Окрашены рудой темно-багряной,
Уносят молодые воды рьяно
Цветы кадамбы желтой, сарджи[233] пряной.
Тебе дано вкусить устам желанный,
Как пчелы — золотой, благоуханный,
Розовоцветных яблонь плод медвяный
И, ветром сбитый, манго плод румяный.
Воинственные тучи грозовые
Блистают, словно кручи снеговые.
Как стяги — их зарницы огневые,
Как рев слонов — раскаты громовые.
Обильны травы там, где ливень, хлынув
На лес, из туч, небесных исполинов,
Заворожил затейливых павлинов,[234]
Что пляшут, опахалом хвост раскинув.
На пики, на кремнистые откосы
Присядут с грузом тучи-водоносы —
И побредут, цепляясь за утесы,
Вступая в разговор громкоголосый.
Небесный свод окрасила денница.
Там облаков блистает вереница.
По ветру журавлей летит станица,
Как лотосов атласных плетеница.
Листву червец обрызгал кошенильный[236].
Как дева — стан, красотами обильный, —
Одела покрывалом, в чан красильный
Оку́нутым, земля свой блеск всесильный.
На миродержца Вишну, по причине
Поры дождей, глубокий сон отныне
Нисходит[235] медленно; к морской пучине
Спешит река, и женщина — к мужчине.
Земля гордится буйволов четами,
Кадамбы золотистыми цветами,
Павлинов шелковистыми хвостами,
Их пляской меж душистыми кустами.
Слоны-самцы трубят на горных склонах.
Густые кисти ке́так благовонных
Свисают с веток, влагой напоенных,
Громами водопада оглушенных.
Сверкают мириады капель, бьющих
По чашечкам цветов, нектар дающих,
По сотням пчел, роящихся и пьющих
Медовый сок в кадамбы мокрых кущах.
Дивлюсь розовоцветных яблонь чуду!
К ним пчелы льнут, слетаясь отовсюду.
Их плод — нектара дивному сосуду
Под стать, а цвет похож на жара груду.
Клубясь потоками вспененной влаги,
Неистовые, как слоны в отваге,
Несутся в небе грозных туч ватаги.
Их осеняют молнии, как стяги.
Приняв за вызов — гром, вожак слоновий
Вполоборота замер наготове.
Соперничества голос в этом реве
Почуяв, он свирепо жаждет крови.
Меняется, красуясь, облик чащи,
С павлинами танцующей, кричащей,
С пчелиным роем сладостно жужжащей,
Неистовой, как слон, в лесу кружащий.
Леса, сплетая корни в красноземе,
Хмельную влагу тянут в полудреме.
Павлины ошалелые, в истоме,
Кричат и пляшут, как в питейном доме.
Пернатым ярким Индра благородный
Подарок приготовил превосходный:
Он в чашечки цветов налил холодной
Кристальной влаги, с жемчугами сходной.
Мриданги туч гремят в небесном стане.
С жужжаньем ищут пчелы сладкой дани,
И кваканье лягушечьих гортаней
Напоминает звук рукоплесканий.
Свисает пышный хвост, лоснится шея
Павлина, записного лицедея.
Плясать — его любимая затея
Иль припадать к верхушке древа, млея.
Мридангом грома и дождем жемчужин
От спячки род лягушечий разбужен.
Весь водоем лягушками запружен.
Все квакают блаженно: мир остужен!
И, наглотавшись ливней, как дурмана,
Обломки берегов качая рьяно,
Бросается в объятья океана
Река, супругу своему желанна.
А цепи туч, водою нагруженных —
Как цепи круч, пожаром обожженных,
Гряды холмов безлесных, обнаженных,
Подножьем каменистым сопряженных.
Где тик в соседстве с а́рджуной прекрасной
Растет, мы слышим крик павлинов страстный,
И по траве, от кошенили красной,
Ступает слон могучий, трубногласный.
Када́мбы хлещет ливень и толчками
Колеблет стебли с желтыми цветками,
Чей сок медвяный тянут хоботками
Рои шмелей с мохнатыми брюшками.
Утешены лесных зверей владыки,
Цари царей — земель, морей владыки:
Сам Индра, царь богов прекрасноликий,
Играя, льет с небес поток великий.
Из туч гряды, гонимой ураганом,
Грохочет гром над вздутым океаном,
И нет преград гордыней обуянным
Стремнинам, с дождевой водой слиянным.
Наполнил Индра облаков кувшины
И царственные окатил вершины,
Чтоб красовались горы-исполины,
Как после бани — смертных властелины.
Из облаков лиясь неугомонно,
Поток дождей поит земное лоно,
И заслонила мгла неблагосклонно
От глаз людских светила небосклона.
Свой гром даря природным подземельям,
Громада вод, искрящихся весельем,
С громады скал жемчужным ожерельем
Свисает, разливаясь по ущельям.
Рождают водопады гор вершины,
Но побеждают их напор теснины,
Жемчужный блеск несущие в долины,
Что оглашают криками павлины.
Небесные девы[237] любви предавались и, в тесных
Объятьях, рассыпали нити жемчужин чудесных.
Божественные ожерелья гремучим потоком
На землю низверглись, рассыпанные ненароком.
Сомкнувшийся лотос, и царство уснувшее птичье,
И запах ночного жасмина — заката отличье.
Цари-полководцы забыли вражду[238], и в чертоги
Спешат по размытой земле, повернув с полдороги.
Пора благодатных дождей — для Сугривы раздолье!
Вторично супругу обрел и сидит на престоле!
Не царь, а изгнанник, в разлуке с возлюбленной Ситой,
О Лакшмана, я оседаю, как берег размытый!»
Сугрива словно бы не помнит про обещание, данное горестному сыну Дашаратхи. Он соединился наконец с любимой женою Румой и, следуя древнему обычаю, взял в жены и прекрасную Тару. Он пренебрег делами царства и предается любовным утехам.
Кончается пора дождей, светлеет небо, высыхают дороги. Множатся приметы осени.
«Сам Индра теперь отдыхает, поля наши влагой
Вспоив и зерно прорастив, человеку на благо.
Царевич! Покой обрели громоносные тучи,
Излившись дождем на деревья, долины и кручи.
Как лотосов листья, они были темного цвета
И грозно неслись, омрачая все стороны света.
Над а́рджуной благоуханной, кута́джей пахучей
Дождем разрешились и сразу истаяли тучи.
Мой Лакшмана, ливни утихли, и шум водопада,
И клики павлиньи, и топот слоновьего стада.
При лунном сиянье лоснятся умытые кряжи,
Как будто от масла душистого сделавшись глаже.
Люблю красы осенней созерцанье,
Зеркальный блеск луны и звезд мерцанье,
И семилистника благоуханье,
И поступи слоновьей колыханье.
Осенней обернулась благодатью
Сама богиня Лакшми, с дивной статью,
Чьи лотосы готовы к восприятью
Лучей зари и лепестков разжатью.
И осень — воплощение богини —
Красуется, лишенная гордыни,
Под музыку жужжащих пчел в долине,
Под клики журавлей в небесной сини.
Стада гусей, угодных богу Каме,
С красивыми и крепкими крылами,
С налипшею пыльцой и лепестками,
Резвятся с чакрава́ками, нырками.
В слоновьих поединках, в том величье,
С которым стадо выступает бычье,
В прозрачных реках — осени обличье
Являет нам свое многоразличье.
Ни облака, ни тучки в ясной сини.
Волшебный хвост линяет на павлине,
И паву не пленяет он отныне:
Окончен праздник, нет его в помине!
Сиянье при́яки[239] златоцветущей
Сильнее и благоуханье гуще.
И пламенеет, озаряя кущи,
Роскошный цвет, концы ветвей гнетущий.
Охваченная страстью неуемной,
Чета слонов бредет походкой томной
Туда, где дремлет в чаще полутемной
Заросший лотосами пруд укромный.
Как сабля, свод небесный блещет яро.
Движенье вод замедлилось от жара,
Но дует ветер сладостней нектара,
Прохладней белой лилии «кахла́ра»[240].
Где высушил болото воздух знойный,
Там пыль взметает ветер беспокойный.
В такую пору затевают войны
Цари, увлекшись распрей недостойной.
Быки ревут, красуясь гордой статью,
Среди коров, стремящихся к зачатью
Себе подобных с этой буйной ратью,
Что взыскана осенней благодатью.
Где переливный хвост из перьев длинных?
Как жар, они горели на павлинах,
Что бродят, куцые, в речных долинах,
Как бы стыдясь насмешек журавлиных.
Гусей и чакравак спугнув с гнездовий,
Ревет и воду пьет вожак слоновий.
Между ушей и выпуклых надбровий
Струится мускус[241] — признак буйства крови.
Десятки змей, что спали, в кольца свиты,
Порой дождей, в подземных норах скрыты,
Теперь наружу выползли, несыты,
Цветисты и смертельно ядовиты.
Как смуглая дева, что светлою тканью одета,
Окуталась ночь покрывалом из лунного света.
Насытясь отборным зерном, журавлей вереница
Летит, словно сдутая ветром, цветов плетеница.
Блистают лилии на глади водной.
Блистает пруд, со звездным небом сходный.
Один, как месяц, льющий свет холодный,
Уснул меж лилий лебедь благородный.
Из лотосов гирлянды — на озерах;
Стада гусей, казарок златоперых
Блестят, как пояса, на их просторах.
Они как девы в праздничных уборах!
И ветер, заглушая вод журчанье,
Прервет к закату тростников молчанье.
В них, под густое буйволов мычанье,
Рогов и флейт пробудит он звучанье.
Душистый цвет лугов, с рекою смежных,
Еще свежей от ветерков мятежных,
Отмыта полоса песков прибрежных,
Как полотно, — созданье рук прилежных.
Не счесть лесных шмелей, жужжащих яро,
Как бы хмельных от солнечного жара,
От цветня желтых, липких от нектара,
Огрузнувших от сладостного дара.
Всё праздничней с уходом дней дождливых:
Луна, цветы оттенков прихотливых,
Прозрачность вод и спелый рис на нивах,
И вопли караваек суетливых.
Надев из рыб златочешуйных пояс,
Бредет река, на женский лад настроясь,
Как бы в объятьях мысленно покоясь,
От ласк устав, с рассветом не освоясь.
В кристально-зыбкой влаге царство птичье
Отражено во всем своеобычье.
Сквозь водорослей ткань — реки обличье
Глядит, как сквозь фату — лицо девичье.
Колеблют пчелы воздух сладострастный.
К ветвям цветущим липнет рой согласный.
Утех любовных бог великовластный[242]
Напряг нетерпеливо лук опасный.
Дарующие влагу всей природе,
Дарующие нивам плодородье,
Дарующие рекам полноводье,
Исчезли тучи, нет их в небосводе.
Осенней реки обнажились песчаные мели,
Как бедра стыдливой невесты на брачной постели.
Царевич! Слетаются птицы к озерам спокойным.
Черед между тем наступает раздорам и войнам.
Для битвы просохла земля, затвердели дороги,
А я от Сугривы доселе не вижу подмоги».
Лакшмана берет свой лук и стрелы и направляется к Сугриве. Глаза его красны от гнева и ярости.
Хитрый Сугрива посылает навстречу грозному сыну Сумитры луноликую Тару, которая умеряет его гнев.
Сугрива отправляет гонцов во все пределы царства обезьян и к медведям. К утру следующего дня они сходятся под стены Кишкиндхи. Сугрива рассказывает, что созвал он их для помощи великому Раме: они должны отправиться в поход на поиски возлюбленной жены его Ситы и ради возмездия Раване. Благородные обезьяны и медведи готовы помочь могучему витязю.
Наполняя все стороны света громогласным ревом и вздымая пыль до небес, огромное войско устремляется вслед за колесницей Сугривы и Лакшманы к пещере Рамы.
Обезьянье и медвежье войско разделяется на четыре части. Одни пойдут на север, другие — на запад, третьи — на восток, а четвертые — на юг. Войском, идущим на юг, водительствует Ангада, наследник Сугривы, и с ним мудрый Хануман, сын Ветра.
Рама вручает Хануману свой именной перстень с такими словами: «Где бы ни встретил ты Ситу, покажи ей кольцо, и она доверится тебе».
Спустя месяц с севера, востока и запада стали возвращаться войска. Ситы нигде не было.
Войско Ангады и Ханумана продолжает пробираться на юг…
Обезьяны выходят к берегу Океана. Ситы нет и здесь. Страшась гнева Сугривы, они боятся возвращаться в Кишкиндху и решают умереть. Их замечает мучимый голодом стервятник Сампа́ти, родной брат коршуна Джатайю, погибшего в битве с Раваной. Он уже хочет напасть на обессиленных воинов Ангады, но внезапно слышит имя Джатайю…
Обезьяны поведали Сампати о гибели старого коршуна.
Сампати рассказывает о себе.
Когда-то он и Джатайю были молоды и сильнокрылы, все живое трепетало перед ними и смирялось с их могуществом. Они возомнили себя тогда равными Солнцу. Они решили взлететь в небо, чтобы утвердиться рядом с великим светилом. Солнце начало сжигать их оперение. Тогда Сампати прикрыл собою Джатайю, крылья его обгорели, и он рухнул на берег Океана. Сампати более не мог летать высоко. Убедившись, что пищи и на земле вдоволь и брат не погибнет от голода, Джатайю улетел. Сампати же остался жить в горах. Некий подвижник сказал ему однажды: «Когда ты встретишься с посланцами Рамы, отыскивающими дивную царевну Митхилы, и поможешь им в чем-нибудь, крылья твои отрастут вновь!»
Сампати говорит им, что столица Раваны стоит на острове Ланка, посреди великого Океана; туда-то и унес Равана прелестную Ситу. В этот миг крылья у Сампати отрастают, становятся длинными и сильными. Он прощается с обезьянами и взмывает в небо.
Обезьяны сокрушены печалью. Никому из них не доплыть до Ланки, далекого острова, не допрыгнуть до него. Но тут они вспоминают о чудесном умении мудрого Ханумана.
Советник обезьяньего царя Сугривы, могучий Хануман, наделенный даром произвольно изменять свой облик, мгновенно увеличился в росте. Став исполином, он с такой силой уперся ногами в гору Махендра, что она покачнулась, осыпая цветочный ливень с верхушек деревьев. Хануман набрал воздуху в грудь, крепко оттолкнулся и, вытянув руки, прыгнул в поднебесье. Из потрясенной горы хлынули потоки золота, серебра, сурьмы. Рушились вековые деревья, каменные громады утесов срывались с мест, ревели дикие звери в пещерах, хищные птицы в тревоге покидали гнезда.
Хануман летел над океаном, и его огромная тень скользила по волнам. Океан, ведущий свой род от царя Сагары, был всегда благосклонен к дому Икшваку. Он повелел златоверхой горе́ Майнаке подняться из пучины, чтобы утомленный полетом Хануман мог слегка передохнуть. Но Хануман, торопясь на Ланку, лишь коснулся рукой вершины горы, ласково поблагодарил ее и полетел дальше.
Многие опасности подстерегали его на пути. Сперва поднялось из водных глубин морское чудище — прародительница змей Сураса. Но хитроумной обезьяне удалось ускользнуть из ее разинутой пасти, искусно меняя размеры своего тела. Затем появилась из морской пучины хищная ракшаси по имени Симхика, умевшая хватать живые существа за отбрасываемую тень. Хануман, однако, уменьшился в размерах и нырнул в темную, словно пещера, пасть Симхики. Острыми когтями разодрал он сердце хищной демоницы и, вспоров брюхо, выскользнул наружу. Когда бездна морская поглотила Симхику, бесстрашный Хануман продолжил свой полет.
Впереди показался остров, поросший цветущими деревьями. На нем высились белоснежные дворцы, и весь он был обнесен крепостной стеной. Хануман понял, что перед ним дивная Ланка. Он опустился на одну из трех вершин горы Трикуты и стал дожидаться ночи, чтобы, сократившись в размерах, незаметно проникнуть в обитель Раваны.
Чуть солнце исчезло за Асты священною кручей,
Сравнялся с пятнистою кошкой сын ветра могучий.
Во мраке ночном в этот город, блиставший чудесно,
Единым прыжком он проник, изменившись телесно.
Там были дворцы златостолпные. В улиц просторы
Их свет изливался сквозь окон златые узоры.
Дворцов семиярусных[243] кладки хрустальной громады
Вздымались до неба, светясь изнутри, как лампады,
И входами в них золотые служили аркады.
Жилища титанов — алмазами дивной огранки
Сияли и блеск придавали немыслимый Ланке.
С восторгом и скорбью вокруг обезьяна глядела:
Душой Ханумана царевна Видехи владела!
И белизной дворцов с узором золотым,
В несокрушимости своей, столица-крепость
Блистала перед ним. Оградой были ей
Десница Раваны и ракшасов свирепость.
Среди созвездий месяц в час урочный
Скользил, как лебедь, по воде проточной,
И раковине белизны молочной
Он был подобен, свет лия полночный.
Храбрец Хануман! Перепрыгнул он стену твердыни,
Что ракшасов грозный владыка воздвигнул в гордыне,
И город увидел, исполненный царственной мощи,
Прохладные воды, сады, густолистые рощи.
Как в небе осеннем густых облаков очертанья,
Белеют в сиянье луны исполинские зданья,
Достойное место нашли бы в столице Куберы
Их башни и своды порталов, прекрасных сверх меры.
Как в царстве змеином подземная блещет столица,
Так сонмом светил озаренная Ланка искрится.
Под стать Амара́вати — Индры столице небесной,
Стеной золотой обнесен этот остров чудесный,
От ветра гудит, в Океан обрываясь отвесно.
Колышутся стяги, и кажется музыкой дивной
Висящих сетей с колокольцами звон переливный.
На Ланку, ее золотые ворота и храмы
Глядел в изумленье сподвижник великого Рамы.
В ее мостовых дорогие сверкали каменья,
Хрусталь, жемчуга, лазурит и другие вкрапленья.
Был каждый проём восхитительных сводчатых башен
Литьем золотым и серебряной ковкой украшен.
Смарагдами проступни лестниц усыпаны были,
И чудом площадки в светящемся воздухе плыли.
То слышался флейты и ви́ны напев музыкальный,
То — клик лебединый, то ибиса голос печальный.
Казалась волшебная Ланка небесным селеньем,
Парящим в ночных облаках бестелесным виденьем.
Являя души обезьяньей красу и величье,
Сын Ветра отважный сменил произвольно обличье,
И стену твердыни шутя перепрыгнул он вскоре,
Хоть Ланки властитель ворота держал на затворе.
В столицу вступил Хануман, о Сугриве радея,
Своим появленьем приблизил он гибель злодея.
И Царским Путем, пролегавшим по улице главной,
Где пахло цветами, прошел Хануман достославный.
Со смехом из окон и музыкой — запах цветочный
На острове дивном сливался порой полуночной.
На храмах алмазные чудно блистали стрекала.
Как твердь с облаками, прекрасная Ланка сверкала.
Гирляндами каменных лотосов зданья столицы
Украшены были, но пышных цветов плетеницы
Пестрели на белых дворцах, по соседству с резьбою,
И каменный этот узор оживляли собою.
В ушах обезьяны звучали сладчайшие трели,
Как будто в три голоса девы небесные пели.
Певиц голоса́ источали волну сладострастья.
Звенели бубенчиками пояса и запястья.
Из окон распахнутых плыл аромат благовоний.
На лестницах слышался гул и плесканье ладоней.
И веды читали в домах, и твердили заклятья
Хранители Чар, плотоядного Раваны братья.
На Царском Пути обезьяна узрела ораву,
Ревущую десятиглавому Раване славу.
У царских палат притаилась в кустах обезьяна,
И новое диво явилось очам Ханумана:
Чудовища в шкурах звериных, иные — нагие,
С обритой макушкой, с косой на затылке — другие,
С пучками священной травы[244], с булавами, жезлами,
С жаровнями, где возжигается таинства пламя,
С дрекольем, с оружьем теснились нечистые духи.
Там были один — одноглазый, другой — одноухий…
Бродили в отрепьях страшилища разной породы:
Среди великанов толклись коротышки-уроды.
Там лучники и копьеносные ратники были,
С мечами, в доспехах узорчатых латники были.
Ни карликов — ни долговязых, ни слишком чернявых —
Ни белых чрезмерно, ни тучных — ни слишком костлявых,
Красивых — и вовсе безликих, с причудливой статью,
Сын ветра увидел, любуясь диковинной ратью.
Узрел Хануман грозноликих, исполненных силы,
Несущих арканы, пращи и трезубые вилы.
Тела умастив, украшенья надев дорогие,
Венками увешаны, праздно слонялись другие.
Мудрец обезьяний, душистыми кущами скрытый,
Узрел исполинский дворец, облаками повитый,
И лотосы рвов, и порталов златых украшенья,
И ракшасов-львов с булавами — врагам в устрашенье.
С жилищем властителя Ланки, ее градодержца,
Сравнился бы разве что Индры дворец, Громовержца!
С приятностью ржали вблизи жеребцы, кобылицы,
Которых впрягали в летающие колесницы.
Белей облаков, что беременны ливнями были,
Слоны с четырьмя бесподобными бивнями были.
Юркнул Хануман хитроумный в чеканные двери,
Где выбиты были мудреные птицы и звери.
Так полчища духов ночных, стерегущие входы,
Сумел обойти удалец обезьяньей породы.
Проник во дворец Хануман, посмеявшись над стражей —
Над множеством духов, хранителей храмины вражьей.
Очам великосильной обезьяны
Чертог открылся, блеском осиянный,
Где превращались в дым курильниц пряный
Алоэ черное, сандал багряный.
В коровьем стаде — бык, олень средь ланей,
Зажегся месяц ясный в звездном стане.
Его шатер из лучезарной ткани
Над Ма́ндарой мерцал и в Океане.
Его лучей холодное сиянье
Оказывало на волну влиянье,
На нет сводило черноты зиянье, —
С мирскою скверной — тьмы ночной слиянье.
На лотосы голубизны атласной
Безмолвно изливая свет прекрасный,
Он плыл, как лебедь царственно-бесстрастный,
Как на слоне седок великовластный.
Венец горы с отвесными боками,
Слон Вишну с позлащенными клыками,
Горбатый зебу с острыми рогами, —
По небу месяц плыл меж облаками.
Отмечен знаком зайца благородным,
Он мир дарил сияньем превосходным,
Берущим верх над Раху злоприродным,
Как жаркий солнца луч над льдом холодным.
Как слон-вожак, вступивший в лес дремучий,
Как царь зверей на каменистой круче,
Как на престоле царь царей могучий,
Блистает месяц, раздвигая тучи.
Блаженный свет, рожденный в райских кущах,
Он озаряет всех живых и сущих,
Любовников, друг к другу нежно льнущих,
И ракшасов, сырое мясо жрущих,
И мужних жен, красивых, сладкогласных,
Что спят, обняв мужей своих прекрасных,
И демонов, свирепостью опасных,
Летящих на свершенье дел ужасных.
Тайком взирало око обезьянье
На тонкостанных, снявших одеянья,
С мужьями спящих в голубом сиянье,
На демонов, творящих злодеянья.
Достойный Хануман увидел праздных,
Погрязших в пьянстве и других соблазнах,
Владельцев колесниц златообразных,
Услышал брань и гул речей бессвязных.
Одни махали, в помощь сквернословью,
Руками с шею добрую воловью,
Другие липли к женскому сословью,
Бия себя при этом в грудь слоновью.
Но в Ланке не одни пьянчуги были:
Мужи, носящие кольчуги, были,
И луноликие подруги были,
Чьи стройные тела упруги были.
Сын ветра, обегая подоконья,
Увидел, как прелестницы ладонью
Себе втирают в кожу благовонья,
С улыбкой или хмурые спросонья.
Был слышен зов оружие носящих,
И трубный рев слонов звучал, как в чащах.
Не город, а пучина вод кипящих,
Обитель змей блистающих, шипящих!
Сын ветра здешних жителей увидел.
Он мудрых Чар Хранителей увидел,
И разума ревнителей увидел,
И красоты ценителей увидел,
И жен, собой прекрасных, благородных,
За чашей собеседниц превосходных,
Возлюбленным желанных и угодных,
С планетами сверкающими сходных.
Иная робко ласки принимала,
В других стыдливость женская дремала,
И наслаждались, не стыдясь нимало,
Как будто птица птицу обнимала.
Он увидал на плоских кровлях ложа,
Где женщины, с возлюбленными лежа,
Блистали дивной сребролунной кожей
Иль превосходной, с чистым златом схожей.
По внутренним покоям, лунолицы
И миловидны, двигались жилицы.
Их взоры пламенели сквозь ресницы.
Сверкали их уборы, как зарницы.
Но где же Сита, Джанаки отрада,
За добродетель дивная награда,
Цветущий отпрыск царственного сада,
Из борозды родившееся чадо?
Где Раму возлюбившая душевно
Митхилы ненаглядная царевна,
Чей голос благозвучен, речь напевна,
Лицо прекрасно, а судьба плачевна?
Теперь ее краса мерцает вроде
Златой стрелы высоко в небосводе,
Златой прожилки в каменной породе,
Полоски златолунной на исходе.
Охваченное ожерельем дивным,
Стеснилось горло стоном безотзывным.
Так пава с опереньем переливным
Лес оглашает криком заунывным…
И, не найдя следов прекрасной Ситы,
Лишенной попеченья и защиты,
Затосковал сподвижник знаменитый
Потомка Рагху, с ним душою слитый.
Владея искусством обличье менять и осанку,
Храбрец быстроногий пустился осматривать Ланку.
Как солнце, в очах заблистала стена крепостная,
И чудный дворец обезьяна узрела лесная.
Наполненный стражей свирепой, окопанный рвами
Был Раваны двор, словно лес, охраняемый львами.
Там золотом своды порталов окованы были,
А входы литым серебром облицованы были.
Красивые двери с резьбой и окраскою пестрой
Ложились на белый дворец опояскою пестрой.
Там были неистовые жеребцы, кобылицы,
Слоны и погонщики, всадники и колесницы.
Повозки, покрытые шкурами, — львиной, тигровой, —
Обитые кованым золотом, костью слоновой.
Как жар, самоцветные камни блистали в палате,
Что местом совета избрали начальники ратей.
Вблизи водоемов дремотных и струй водометных
Немало встречалось диковинных птиц и животных.
Не счесть было грозной военщины, стражи придверной,
А женщины там отличались красой беспримерной.
В покоях дворцовых звенели красавиц подвески
И слышались волн океанских гремучие всплески.
И пахло сандалом в жилище владыки чудовищ,
Владетеля женщин прекрасных, несметных сокровищ,
Чью крепость украсили символы царственной власти,
Чьи воины — скопище львов, разевающих пасти.
Здесь камни красивой огранки свой блеск излучали,
Литавры, и раковины, и мриданги звучали.
Курился алтарь во дворце в честь луны превращений.[245]
Для подданных Раваны не было места священней.
С пучиной звучащею сходный, дворец многошумный, —
Дворец-океан увидал Хануман хитроумный!
Покои сквозные, чья роспись — для взора услада,
Затейливые паланкины — для тела отрада,
Палаты для игр и забав, деревянные горки
И домик любви, где дверные распахнуты створки,
С бассейном, с павлиньими гнездами… Кама всеславный
Едва ли под звездами создал когда-нибудь равный!
В палатах блистали златые сиденья, сосуды
И были камней драгоценных насыпаны груды:
Сапфиры с алмазами, яхонты да изумруды.
Как солнечный лик, лучезарным повит ореолом,
Дом Раваны мог бы сравниться с Куберы престолом.
Вверху на шестах позолоченных реяли флаги.
Бесценные кубки, полны опьяняющей влаги,
Сверкали в покоях, когда обезьян предводитель
Незримо проник в златозарную эту обитель,
Где чудно звенели в ночи пояса и браслеты
На женах и девах, сияющих, как самоцветы.
Сын ветра залюбовался летающей колесницей, отнятой повелителем ракшасов у своего брата Куберы.
У Пу́шпаки[246], волшебной колесницы,
Переливали жарким блеском спицы.
Великолепные дворцы столицы
Не доставали до ее ступицы!
А кузов был в узорах шишковатых —
Коралловых, смарагдовых пернатых,
Конях ретивых, на дыбы подъятых,
И пестрых кольцах змей замысловатых.
Сверкая опереньем, дивнолицы,
Игриво крылья распускали птицы
И снова собирали. Так искрится
Стрела, что Камы пущена десницей!
Слоны шагали к Лакшми по стремнине,
И, с лотосами «падма»[247], посредине
Сидела дивнорукая богиня.
Такой красы не видели доныне!
И обошла с восторгом обезьяна,
Как дивный холм с пещерою пространной,
Как дерево с листвой благоуханной,
Громаду колесницы осиянной.
Дивился Хануман летучей колеснице
И Вишвака́рмана божественной деснице.
Он сотворил ее, летающую плавно,
Украсил жемчугом и сам промолвил: «Славно!»
Свидетельством его старанья и успеха
На солнечном пути блистала эта веха.
И не было во всей громаде колесницы
Ни пяди, сделанной с прохладцей, ни частицы,
Куда не вложено усердья, разуменья,
Где драгоценные не светятся каменья.
Подобной красоты ни в царственном чертоге
Не видели, ни там, где обитают боги!
Полйо́джаны вширь, а в длину равен йоджане целой,
Предстал Хануману дворец ослепительно белый.
Сверкали ступени златые у каждой террасы,
Оконницы из хрусталя и другие украсы.
Площадки висячие золотом были одеты,
И в нем переливно отсвечивали самоцветы.
Блестели в дворцовом полу жемчуга и кораллы,
Сверкали смарагды зеленые, алые лалы.
И красный сандал, золотым отливающий глянцем,
Дворец наполнял восходящего солнца багрянцем.
На Пу́шпаку влез Хануман и, повиснув на лапах,
Услышал еды и питья соблазнительный запах.
Манящее благоуханье сгустилось чудесно,
Как будто бы в нем божество воплотилось телесно.
И не было для Ханумана родней аромата,
Чей зов уподобился голосу кровного брата:
«Пойдем, я тебе помогу разыскать супостата!»
Советник Сугривы последовал этим призывам
И вдруг очутился в покое, на редкость красивом.
С прекрасной наложницей Раваны мог бы, пожалуй,
Мудрец обезьяний сравнить златостолпную залу.
Сверкали в хрустальных полах дорогие вкраплепья,
Резная слоновая кость, жемчуга и каменья.
С оглавьями крылообразными были колонны.
Казалось, парил в поднебесье дворец окрыленный.
Четвероугольный, подобно земному пространству,
Ковер драгоценный величья прибавил убранству.
Пернатыми певчими, благоуханьем сандала
Был полон дворец и его златостолпная зала.
Какой белизной лебединой сияла обитель,
Где жил пожирателей мяса единый властитель!
Дымились курильницы, пахли гирлянды, враждебный
Чертог был под стать Камадхе́ну — корове волшебной,
Способной сердца веселить, разрумянивать лица,
Как будто она исполненьем желаний доится!
И чувствам пяти был отрадой дворец исполинский.
Он их услаждал, убаюкивал их матерински!
«У Индры я, что ли, в обители златосиянной,
Иль в райском селенье? — подумала вслух обезьяна. —
Открылась ли мне запредельного мира нирвана?»
Златые светильники на драгоценном помосте
Склонились в раздумье, под стать проигравшимся в кости.
«Соблещет величие Раваны этим горящим
Светильникам и украшеньям обильно блестящим!» —
Сказал Хануман и приблизился к женщинам спящим.
Их множество было, с небесными девами схожих.
В роскошных одеждах они возлежали на ложах.
Полночи для них протекло в неуемном веселье,
Покуда красавиц врасплох не застигло похмелье.
Запястья, браслеты ножные на сборище сонном
Затихли и слух не тревожили сладостным звоном.
Так озеро, полное лотосов, дремлет в молчанье,
Пчела не жужжит, лебединое смолкло ячанье.
На лица, как лотосы, благоуханные, некий
Покой опустился, смежая прекрасные веки.
Раскрыть лепестки и светило встречать в небосводе,
А ночью сомкнуться — у лотосов нежных в природе!
Сын ветра воскликнул: «О дивные лотосы-лица!
К вам пчелы стремятся прильнуть и нектаром упиться.
Как осенью — небо, где светятся звезд мириады,
Престольная зала сверкает и радует взгляды.
Вы — сонмы светил перед ликом властителя грозным.
Он — месяц-владыка в своем окружении звездном».
И впрямь ослепительны эти избранницы были.
Как с неба упавшие звезды-изгнанницы были!
Уснувшие девы, прекрасные ликом и станом,
Раскинулись, будто опоены сонным дурманом.
Разбросаны были венки, дорогое убранство,
И кудри свалялись, и ти́лаки[248] стерлись от пьянства.
Одни растеряли ножные браслеты с похмелья,
С других соскользнули жемчужные их ожерелья.
Поводья отпущенные кобылиц распряженных, —
Висят поясные завязки у дев обнаженных.
Они — как лианы, измятые стадом слоновьим.
Венки и подвески разбросаны по изголовьям.
Округлы и схожи своей белизной с лебедями,
У многих красавиц жемчужины спят меж грудями.
Как селезни, блещут смарагдовые ожерелья —
Из темно-зеленых заморских каменьев изделья.
На девах нагрудные цепи красивым узором
Сверкают под стать чакравакам — гусям златоперым.
Красавицы напоминают речное теченье,
Где радужных птиц переливно блестит оперенье.
А тьмы колокольчиков на поясном их уборе —
Как золото лотосов мелких на водном просторе.
И легче в реке избежать крокодиловой пасти,
Чем власти прельстительниц этих и женственной страсти.
Цветистых шелков переливчатое колыханье
И трепет серег вызывало уснувших дыханье.
Раскинув прекрасные руки в браслетах, иные
С себя дорогую одежду срывали, хмельные.
Одна у другой возлежали на бедрах, на лонах,
На ягодицах, на руках и грудях обнаженных.
Руками сплетаясь, к вину одержимы пристрастьем,
Во сне тонкостанные льнули друг к дружке с участьем.
И, собранные воедино своим властелином,
Казались гирляндой, облепленной роем пчелиным, —
Душистою ветвью, лиан ароматных сплетеньем,
Что в месяце «ма́дхава»[249] пчел охмелили цветеньем.
И Раваны жены, объятые сонным покоем,
Казались таким опьяненным, склубившимся роем.
Тела молодые, уборы, цветы, украшенья —
Где — чье? — различить невозможно в подобном смешенье!
Небесное чудо увидела вдруг обезьяна:
В кристаллах и перлах помост красоты несказанной.
На ножках литых золотых и точеных из кости
Роскошные ложа стояли на этом помосте.
Меж ними, с владыкою звезд огнеблещущим схоже,
Под пологом белым — одно златостланное ложе,
В гирляндах ашоки цветущей оранжево-рдяных,
Овеяно дымом курений душистых и пряных.
Незримая челядь над ложем златым колыхала
Из яковых белых пушистых хвостов опахала.
Как туч грозовых воплощенье, прекрасен и страшен,
На ложе, одет в серебро и серьгами украшен,
Как облако в блеске зарниц, на коврах распростертый,
Лежал Красноглазый[250], душистым сандалом натертый.
На Ма́ндару-гору, где высятся чудные рощи,
Во сне походил Сильнорукий, исполненный мощи,
Для ракшасов мужеобразных — радетель всевластный,
Для демониц мужелюбивых — кумир сладострастный.
Весьма оробел Хануман перед Раваной спящим,
Что, грозно дыша, уподобился змеям шипящим.
Взобрался на лестницу вмиг, несмотря на геройство,
Советник Сугривы-царя, ощутив беспокойство.
Оттуда следил за властителем взор обезьяны,
И тигром свирепым казался ей Равана пьяный,
Слоном-яруном, что, устав от неистовства течки,
Пахучей громадиной спать завалился у речки.
Не руки узрел Хануман — Громовержца приметы!
На толстых руках золотые блистали браслеты.[251]
От острых клыков Айраваты виднелись увечья,
Стрелой громовою разодраны были предплечья,
И диском Хранителя Мира[252] изранены тоже,
Но выпуклость мышц проступала красиво под кожей.
Разодраны были предплечья стрелой громовою.
Огромный кулак был округлостью схож с булавою,
Округлостью схож с головою слоновьей кулак был.
На ногте большого перста — благоденствия знак был.
На царственном ложе, примяв златоткань, величаво
Лежала тяжелая длань, словно змей пятиглавый.
Сандалом ее умастили и, брызжа огнями,
Искрились на пальцах несчетные перстни с камнями.
Прекрасные женщины холили Раваны руки,
Гандхарвам, титанам, богам причинявшие муки.
Кровавым сандалом натертых, атласных от неги,
Две грозных руки, две опасных змеи на ночлеге,
Узрел Хануман. Исполинский владетель чертога
Без с Ма́ндару-гору, а руки — два горных отрога.
Дыханье правителя ракшасов пахло панна́гой,
Душистою ма́дхавой[253], сладкими яствами, брагой,
Но взор устрашало разверстого зева зиянье.
С макушки свалился венец, изливая сиянье, —
Венец огнезарный с каменьями и жемчугами.
Алмазные серьги сверкали, свисая кругами.
На грудь мускулистую Раваны, цвета сандала,
Блистая, тяжелого жемчуга нить упадала.
Сорочка сползла и рубцы оголила на теле.
И, царственно-желтым покровом повит, на постели,
Со свистом змеиным дыша, обнаженный по пояс,
Лежал повелитель, во сне беспробудном покоясь.
И слон, омываемый водами Ганги великой,
На отмели спящий, сравнился бы с Ланки владыкой.
Его озаряли златые светильни четыре,
Как молнии — грозную тучу в темнеющей шири.
В ногах у владыки, усталого от возлияний,
Пленительных женщин увидел вожак обезьяний.
И демонов женолюбивый единодержавец,
Веселье прервав, почивал в окруженье красавиц.
В объятьях властителя ракшасов спали плясуньи,
Певицы, прекрасные, словно луна в полнолунье.
В серьгах изумрудных, в душистых венках, плетеницах,
В подвесках алмазных узрел Хануман лунолицых.
И царский дворец показался ему небосводом,
Что в ясную полночь блистает светил хороводом.
Плясунья уснувшая, полное неги движенье
Во сне сохраняя, раскинулась в изнеможенье.
Древесная ви́на лежала бок о бок с красоткой,
Похожей на солнечный лотос, плывущий за лодкой.
Уснула с манку́кой[254] одна дивнорукая, словно
Ребенка баюкая или лаская любовно.
Свой бубен другая к прекрасным грудям прижимала,
Как будто любовника в сладостном сне обнимала.
Казалось танцовщица с блещущей золотом кожей
Не с флейтой, а с милым своим возлежала на ложе.
С похмелья уснувшая дева движеньем усталым
Прильнула своим обольстительным станом к цимбалам.
Другая спала, освеженная чашей хмельною,
Красуясь, подобно цветущей гирлянде весною.
Прикрывшую грудь, словно два златокованых кубка,
Красавицу сон одолел — опьяненью уступка!
Иной луноликой — прекрасные бедра подруги
Во сне изголовьем служили, округлы, упруги.
Уснув, музыкантши, — как будто пред ними любимый, —
Сжимали в объятьях ада́мбары, флейты, динди́мы[255].
И, на удивленье пришельцу, глядящему в оба,
Одно бесподобное ложе стояло особо.
Красы небывалой и нежного телосложенья
Царица на нем возлежала среди окруженья,
Бесценным убором своим из камней самоцветных,
Сверканьем огнистых алмазов и перлов несметных
И собственным блеском сиянье чертога удвоив.
Мандо́дари — звали владычицу здешних покоев.
Была золотисто-смугла и притом белолица,
И маленький круглый живот открывала царица.
Сверх меры желанна была эта Ланки жилица!
«Я Ситу нашел!» — про себя Хануман сильнорукий
Помыслил — и ну обезьяньи выкидывать штуки.
На столп влезал, с вершины к основанью
Съезжал, визжал, несообразно званью,
Свой хвост ловил, предавшись ликованью,
Выказывал природу обезьянью.
Хануман, поначалу приняв за Ситу главную супругу Раваны Мандо́дари, поразмыслил и убедился в своей ошибке: верная, любящая Сита не могла находиться в опочивальне Раваны. Она, скорее, лишила бы себя жизни.
Продолжая поиски, сын Ветра забрел в трапезную повелителя ракшасов.
Еды изобильем и пышным убранством довольный,
Мудрец Хануман восхищался палатой застольной.
Вкушай буйволятину, мясо кабанье, оленье!
Любое желанье здесь может найти утоленье.
Павлины и куры нетронуты были покуда,
Под ними блистала, как жар, золотая посуда.
С кабаниной сложены были в огромные чаши
Куски носорожины, выдержанной в простокваше.
Там были олени, козлы, дикобраз иглокожий
И солью сохальской приправленный бок носорожий.
Была куропаток и зайцев початая груда,
И рыба морская, и сласти, и острые блюда.
Для пиршества — снедь, для попойки — напитки стояли.
На снадобьях пряных настойки в избытке стояли.
Повсюду валялась браслетов блистающих бездна!
Пируя, красавицы их растеряли в трапезной.
В цветах и плодах утопая, исполнен сиянья,
Застольный покой походил на венец мирозданья.
Роскошные ложа расставлены были в трапезной.
Она без лампад пламенела, как свод многозвездный.
И эта застольная зала еще светозарней
Сдавалась от яств и приправ из дворцовой поварни,
От вин драгоценных, от ма́дхвики[256] светлой, медовой,
От сладких настоек, от браги цветочной, плодовой.
Ее порошком насыщали душистым и пряным.
Чтоб вышел напиток пахучим, игристым и пьяным.
Цветами увенчанные золотые сосуды,
Кристальные кубки узрел Хануман крепкогрудый
И чаши, где в золоте чудно блестят изумруды.
Початы, вина дорогого кувшины стояли,
Другие — осушены до половины стояли;
Иные сосуды и чаши совсем опустели.
Неслышно скользил Хануман, озирая постели.
Он видел обнявшихся дев, соразмерно сложенных,
Вином опьяненных и в сладостный сон погруженных.
Касаясь венков и одежд, ветерка дуновенье
В разлад не вступало со зрелищем отдохновенья.
Дыханье цветочное веяло в воздухе сонном.
Сандалом, куреньями пахло, вином благовонным.
И ветер, насыщенный благоухающей смесью,
Носился над Пу́шпакой дивной, стремясь к поднебесью.
Блистали красавицы светлой и черною кожей,
И смуглою кожей, с расплавленным золотом схожей.
В обители ракшасов, грозной стеной окруженной,
Уснули, пресытясь утехами, Раваны жены.
Тела их расслаблены были питьями хмельными.
Их лица, как лотосы ночи, в сравненье с дневными
Поблекли… И не было Ситы прекрасной меж ними!
…Неожиданно внимание Ханумана привлекла цветущая ашоковая роща, охраняемая грозными ракшасами. Обманув их бдительность, он прокрался к высокой стене, окружавшей это священное место.
Всем телом своим ощущая восторг и отраду,
Вожак обезьяний проворно вскочил на ограду.
Он видел тенистые купы ашоки и шала,
Чампа́ка[257], обильно цветущая, пряно дышала.
Слегка обдуваемое ветерком тиховейным,
Змеиное древо цвело по соседству с кофейным,
Которому имя дано «обезьяньего зева».
Удда́лака[258] благоухала и справа и слева,
И амры[259] стояли, опутаны сетью чудесной
Цветущих лиан, в глубине этой чащи древесной.
Туда Хануман устремился с ограды отвесной.
Над золотом и серебром отливавшей листвою
Пронесся стрелой, разлученной с тугой тетивою!
Блистая, как солнца восход, красотой и величьем,
Была эта роща наполнена щебетом птичьим.
Пернатые пели, носились олени стадами,
Зеленые ветви пестрели цветами, плодами.
Прекрасна была эта роща, где сердце ликует,
Где ко́киль, объятый любовным томленьем, кукует,
Деревья цветущие рой облепляет пчелиный,
И резко кричат опьяненные страстью павлины.
Храбрец Хануман, по деревьям снуя без помехи,
Искал дивнобедрую царскую дочь из Видехи.
Но птиц мириады, блаженно дремавшие в гнездах,
Внезапно разбужены, прянули стаями в воздух.
И вихрь обезьяну осыпал дождем разноцветным, —
Душистых цветов и соцветий богатством несметным.
И Ма́руты отпрыск[260] отважный, исполненный мощи,
Цветочным холмом красовался в ашоковой роще!
Живые созданья, безмолвно дивясь Хануману,
Считали проворным весны божеством обезьяну.
Металась она, сотрясая зеленые кущи,
Срывая покров обольстительный с рощи цветущей.
Деревья стояли, под стать проигравшим одежду
Нагим игрокам, заодно потерявшим надежду.
Как ветер стремглав облаков разгонял вереницы —
Вожак обезьяний лиан разрывал плетеницы.
Руками, ногами, хвостом он завесу густую
Шутя разрубил и дорожку узрел золотую.
За этой дорожкой тянулись другие, одеты
В кристаллы, блистающее серебро, самоцветы.
Глядел Хануман изумленно и благоговейно
На чистую, светло-прозрачную влагу бассейна.
Его берега златолиственной сенью блистали.
Игрой самоцветов ступень за ступенью блистали.
На дне — жемчуга и кораллы затейно блистали.
Украсив песчаное ложе бассейна, блистали.
Цвели голубые и белые лотосы пышно,
И лебеди по водоему скользили неслышно,
Кричали казарки, и щебет камышниц датьюха
Звучал над озерною гладью приятно для слуха.
Журчали ключи и поили деревья мимозы
Водой животворной, как а́мрита, чистой, как слезы.
Ряды олеандров предстали очам Ханумана,
И купы цветущие райского древа — сантана[261].
Поросшая зеленью, схожая с каменной тучей,
Открылась громада горы обезьяне могучей.
Блистающий пик обступали утесы и кручи.
В утробе горы обнаружились ходы и своды.
Прохладные гроты ее были чудом природы.
Река с крутизны, уподобясь рассерженной деве,
Летела, как будто покинув любовника в гневе.
Толпою деревья вершины к теченью склоняли,
Как будто красотку друзья к примиренью склоняли.
Река повернула, движенье замедлила кротко,
Как будто сдалась на друзей уговоры красотка.
С жемчужным узорчатым дном и водою холодной
Затейливый пруд увидал Хануман благородный.
Ступени спускались туда самоцветные, с блеском,
Прохладною влагой пруда омываемы с плеском.
И росписью был водоем изукрашен чудесный:
Дворцами, как будто их выстроил зодчий небесный,
Стадами красивых животных, резвящихся в пущах,
Садами, где высились купы деревьев цветущих.
Вокруг водоема скамейки златые попарно
Стояли в тени, под густыми деревьями «парна»[262].
Широким зонтом златолистые ветви ашоки,
Роскошно блистая, раскинулись на солнцепеке.
Вокруг зеленели поляны, потоки плескали.
Цветущие заросли взор обезьяны ласкали.
Деревья одни — пестротой изумляли павлиньей:
Окраской своей золотой, и зеленой, и синей.
Дивился пришелец деревьям другим, златолистым,
Чей ствол горделивый отсвечивал золотом чистым.
Как тьмы колокольчиков нежных деревья звучали,
Когда ветерки золотыми ветвями качали.
Вожак обезьяний, скрываясь в листве глянцевитой,
Священную рощу оглядывал в поисках Ситы.
Любуясь обширным пространством с высокого древа,
Он думал — не здесь ли находится пленная дева?
А роща, подобная Индры небесному саду,
Божественно благоухая, дарила прохладу.
Свисали с деревьев, красуясь, лиан плетеницы.
Животные в чаще резвились и певчие птицы.
Чертоги и храмы ласкали и тешили зренье,
А слух услаждало приятное кокиля пенье.
На водных просторах цветы в изобилии были,
Там золото лотосов, белые лилии были.
Соседством своим водоемов красоты умножа,
Таились поблизости гроты и дивные ложа.
Как солнца восход, полыхали багряные кущи,
Но не было древа прекрасней ашоки цветущей.
Горящая роща и жаркие рдяные кисти
От птиц огнекрылых казались еще пламенистей.
И ветви ашок, утоляющих мира печали,
Обильно цветами усеяны, блеск излучали.
Оранжевое попугаево дерево яро
Пылало, бок о бок роскошно цвела карникара.
Советник Сугривы-царя, наделенный отвагой,
Увидел сиянье над желтой цветущей пунна́гой.
Деревья ашоки, раскидисты, крепки корнями,
Стояли, блистая, как золото, брызжа огнями.
И сотни деревьев увенчаны были цветами,
Чей пурпур впадал в темно-синий оттенок местами.
Священная роща казалась вторым небосводом,
А дивных цветов изобилье — светил хороводом.
И, рощей любуясь, воскликнул храбрец: «Не четыре,
Но пять океанов безбрежных имеется в мире!
Зеленая ширь — океан, а цветов мириады —
Его жемчугов и кораллов бесценные клады!»
Сродни Гималаям — своей красотой и величьем,
Полна голосами животных и щебетом птичьим,
Затмив Гандха-Ма́дану, благоуханную гору,
Обильем деревьев, цветущих во всякую пору,
Священная роща сулила восторг и отраду.
Там белого храма увидел храбрец колоннаду.
И тысячестолпный, незримый до этого часа,
В очах заблистал белоснежной горою Кайласа.
Пресветлый алтарь изливал золотое сиянье,
И храм пребывал с высотою небесной в слиянье.
Но горестный вид красоты, облаченной в отрепья,
Открылся среди несказанного великолепья.
Краса луноликая, в платье изорванном, грязном,
Владыкою вверена стражницам зверообразным,
Обличьем печальным светила едва различимо,
Как пламя, повитое плотной завесою дыма.
Румянец поблек на щеках от невзгод и лишений,
А желтое платье, лишенное всех украшений,
Лоснилось, как пруд одичалый, без лотосов дивных,
И царственный стан исхудал от рыданий надрывных.
Сиянье, подобное Ро́хини слабому свету,
Когда золотую преследует злобная Кету,
Красавицы взор излучал сквозь бежавшие слезы,
И демониц мерзких ее устрашали угрозы.
Она трепетала в предвиденье гибели скорой,
Как лань молодая, собачьей гонимая сворой.
Начало берущие у обольстительной шеи,
На бедрах покоились косы, как черные змеи.
Была эта дева подобна земному простору,
Что синью лесов опоясан в дождливую пору.
Узрел Хануман большеглазую, схожую с ланью,
Прекрасное тело увидел, прикрытое рванью.
Сподвижник великого Рамы судил не по платью:
Он Ситу узнал в луноликой с божественной статью,
В красавице, счастья достойной, но горем убитой.
И вслух размышлял Хануман, очарованный Ситой:
«Осанки такой не знавали ни боги, ни люди.
Лицо, как луна в полнолунье, округлые груди!
Она, как богиня, что блеск излучает всевластный,
Чьи губы, как дерева бимба[263] плоды, ярко-красны.
Черты и приметы ее сопоставил мой разум:
Я с обликом женщины этой знаком по рассказам!»
А Сита меж тем — тонкостанная Рамы супруга,
Желанная всем, как прекрасного Камы подруга,[264] —
Усевшись на землю, казалась отшельницей юной,
Ей скорби завеса туманила лик златолунный.
И образ ее, омраченный безмерным страданьем,
С апокрифом сходствовал,[265] с недостоверным преданьем.
Была эта дева, как мысль об ушедшем богатстве,
Как путь к совершенству сквозь тысячи бед и препятствий,
Как дымное пламя и в прах превращенное злато,
Как робкой надежды крушенье и веры утрата,
Как смутная тень клеветой опороченной славы.
И царская дочь опасалась чудовищ оравы.
Как лань, боязливые взоры она в беспокойстве
Кидала, опоры ища, и вздыхала в расстройстве.
Не вдруг рассудил Хануман, что любуется Ситой,
Похожей на месяц печальный, за тучами скрытый.
Но, без драгоценностей, в платье, забрызганном грязью,
Ее распознал, как реченье с утраченной связью:
«Два-три из описанных Рамой искусных изделий —
И только! — остались блистать у царевны на теле.
Усыпанные жемчугами я вижу браслеты,
Швада́мштру[266] и серьги, что в уши по-прежнему вдеты.
Они потемнели, испорчены долгим ношеньем,
Но я их узрел, не в пример остальным украшеньям:
Со звоном и блеском с небес ожерелья, запястья
Посыпались в пору постигшего Ситу злосчастья.
С отливом златым покрывало, что было на деве,
Нашли обезьяны лесные висящим на древе,
А платье, хоть великолепьем и славилось прежде,
Но стало отрепьем, подобно обычной одежде.
Премудрого Рамы жену узнаю в златокожей,
Отменной красой со своим повелителем схожей.
Четыре мученья[267] он терпит — на то есть причина.
Ведь к женщине должен питать состраданье мужчина,
К беспомощной — жалость, а если утратил супругу,
Тобою печаль овладеет, подобно недугу.
Коль скоро с желанной расстался — любовью ты мучим.
Вот муки четыре, что Рамой владеют могучим!»
Луна в небесах воссияла, как лотос «куму́да»[268],
Как лебедь, скользящий по синему зеркалу пруда.
Взошла светозарная и, Хануману в услугу,
Блистаньем холодных лучей озарила округу.
Царевна под бременем горя казалась несомой
Волнами ладьей, оседавшей под кладью весомой.
Сын Ма́рута стражниц, уродливых телом и рожей,
При лунном сиянье увидел вблизи златокожей.
С ушами отвислыми были свирепые хари,
И вовсе безухими были нелепые твари.
С единственным оком и с носом на темени были.
Чудовищны женщины этого племени были!
А шеи — как змеи, хоть сами громадины были.
У многих, однако, не шеи, а впадины были,
И головы вдавлены в плечи. Природы причуды, —
Страшилища были брыласты и сплошь вислогруды.
Иные плешивыми были, на прочих стояла
Косматая шерсть, хоть валяй из нее одеяла!
Царевну Видехи, с лицом, как луна в полнолунье,
Кольцом окружали ублюдки, уроды, горбуньи,
Тьма-тьмущая ракшаси рыжих, чернявых, сварливых,
Отвратных, запальчивых, злобных, бранчливых, драчливых.
Им копья, бодцы, колотушки служили оружьем.
Сын ветра дивился ногам буйволиным, верблюжьим,
Ушам обезьяньим, коровьим, слоновьим, ослиным
И мордам кабаньим, оленьим, шакальим, тигриным,
Ноздрям необъятных размеров, кривым, несуразным,
Носам, точно хобот, мясистым и трубообразным,
И вовсе безносым уродам, еще головастей,
Губастей казавшимся из-за разинутых пастей.
Сподвижник царевича Рамы, великого духом,
Дивился грудям исполинским, свисающим брюхам.
Ругательниц глотки воловьи, верблюжьи, кобыльи
На всех срамословье обрушивали в изобилье.
Сжимали свирепые ракшаси молоты, копья.
Их космы свалялись, как дымчатой пакли охлопья.
По самые уши забрызганы мясом и кровью,
И чревоугодью привержены и сквернословью,
Терзали они плотоядно звериные туши
И жадно хмельным заливали звериные души.
И дыбом поставило все волоски обезьяньи
Ужасное пиршество это при лунном сиянье!
Страшилища расположились в окрестностях древа,
Под сенью которого плакала Джанаки дева.
Палимая горем, страдая телесно, душевно,
Красой несравненной своей не блистала царевна.
В тоске по супругу, подобна звезде, исчерпавшей
Святую заслугу и с неба на землю упавшей,
Бледна, драгоценных своих лишена украшений,
Лишь верностью мужу украшена в пору лишений,
С кудрями густыми, покрытыми пылью обильной,
От близких отторгнута Раваны властью всесильной, —
Слониха, от стада отбитая львом; в небосводе
Осеннем — луна, когда время дождей на исходе.
Волшебная лютня, таящая дивные звуки,
Чьей страстной струны не касаются трепетно руки, —
Царевны краса оскудела с любимым в разлуке.
Прекрасная Сита, — без вешнего цвета лиана, —
В отрепья одета, явилась очам Ханумана.
Сложенная царственно, с телом, забрызганным грязью,
С возлюбленным Рамой не связана сладостной связью.
Глаза ее были тревоги полны и томленья.
Она озиралась, как стельная самка оленья.
И Па́вана сын любовался красою невинной,
Как лилией белой, что грязной забрызгана тиной.
Хануман провел ночь, укрывшись в древесных ветвях. На рассвете он услышал голоса брахманов, читающих Веды, и придворных певцов, славословящих десятиглавого повелителя ракшасов. Пробужденный сладкогласным пением, Равана вспомнил царевну Видехи. Не в силах обуздать своих желаний, он тут же отправился в ашоковую рощу, где пребывала Сита.
С медовою речью к отшельнице этой злосчастной
Приблизился вкрадчиво Равана великовластный.
«Зачем, круглобедрая, ты прикрываешь пугливо
Упругие груди, живот, миловидный на диво?
Люблю тебя, робкая, чье безупречно сложенье
И неги полны горделивые телодвиженья.
Не бойся меня, дорогая! Таков наш обычай,
Что жены людские становятся нашей добычей!
О дева Митхи́лы! Тебя не коснусь я, доколе,
Желанная, мне не предашься по собственной воле!
Любимая, полно! Богиня, чего тут страшиться?
Гляди веселей! От унынья сумей отрешиться!
Ты ходишь в отрепьях, отшельница, землю нагую
Избрала ты ложем, прическою — косу тугую.
Алоэ, сандал и камней драгоценных мерцанье
Нужней тебе, Сита, чем эти посты, созерцанье…
Тебя ожидает обилие разнообразных
Венков, ароматов, одежд и уборов алмазных.
Напитки, роскошные ложа, златые сиденья
Получишь заслуженно для своего услажденья.
Отдайся мне, дева-жемчужина, без принужденья!
Укрась, безупречно сложенная, нежные члены!
Со мной сочетайся! К чему этот облик смиренный?
Твоя обольстительна юность, но быстрые годы
Умчатся и вспять не вернутся, как быстрые воды.
Твоей красоты бесподобной творец, Вишвакри́та,
Должно быть, забросил резец, изваяв тебя, Сита!
Богиня, при виде твоей соблазнительной стати
Хранить равнодушье не смог бы и сам Праджапа́ти.
Так сладостно тело твое, что любая частица
Нечаянный взор привлекает всецело, царица!
Округлыми бедрами, дивного лика свеченьем
Меня восхищая, расстанься с ума помраченьем.
Над множеством женщин прекрасных — лишь дай мне
согласье! —
Я главной супругой поставлю тебя в одночасье.
О дева, сокровища мира, добытые силой,
И целое царство в придачу отдам тебе, милой!
Чужие края покорить я замыслил и, с честью,
Митхилы царю подарить, как желанному тестю.
И боги и демоны мне уступают в отваге.
В боях разрывал я не раз их надменные стяги.
Коль скоро желанье ты встретишь ответным желаньем,
Твой стан я украшу камней многоцветным блистаньем,
Любуясь, как светится твой золотой драгоценный
Убор в сочетанье с твоей наготой несравненной.
Воспользуйся, дева, моей добротой неизменной.
О робкая, не отвергай наслаждений, веселья…
Для родичей дам тебе уйму богатых земель я.
Красавица, что́, если в чаще царевич Кошалы
Бесславно погиб и его растерзали шакалы?
Богиня, ты видишь на деле могущество Рамы:
Наряд из берёсты на теле — имущество Рамы!
Отшельник, на голой земле, под смоковницей спящий, —
Твой Рама, а я градодержец великоблестящий!
О Сита, останешься ты светозарной луною,
Что скрыта от Рамы ночных облаков пеленою.
Летят они, словно косяк журавлей быстрокрылых,
И больше никто, госпожа, обогнать их не в силах.
У Индры Хира́нья-Каши́пу не отнял супруги
Назад[269], несмотря на старанья его и потуги.
О Рама, явись хоть с оружьем, одетый в доспехи,
Вовеки не будешь ты мужем царевны Видехи.
Игривая дева, улыбка твоя светозарна.
Уносишь ты сердце мое, словно зме́я — Супа́рна.
На хрупкое тело взгляну, что блестит сквозь прорехи,
Уборов златых лишено, уроженка Видехи, —
И в женах прекрасных найти не дано мне утехи!
Так будь же царицей, властительницей образцовых
Красавиц, что здесь обитают в покоях дворцовых.
И станут, как девы небесные, Лакшми служанки,
Тебе угождать превосходные женщины Ланки.
Камней драгоценных и злата получишь сверх меры:
Богата казна у меня, как у брата Куберы!
Айодхьи царевич со мной не сравнится, богиня!
Свой блеск он утратил, повержена Рамы гордыня.
Отправимся, робкая, в пышно цветущие рощи,
Где слышится гул океана, исполненный мощи,
Где пчелы жужжат, опьяняясь густым ароматом,
И тело укрась для меня жемчугами и златом!»
Убитая горем, Сита отвечала слабым голосом: «Обрати сердце свое к собственный женам! Не соблазняй меня сокровищами. Я принадлежу Раме! Ты можешь избежать громовой стрелы Индры, но гнев потомка Рагху настигнет тебя неотвратимо. Разве устоишь ты, низкий пес, перед Рамой и Лакшманой, двумя тиграми из рода Икшваку?»
Разъяренный упорством Ситы и ее смелыми речами, Равана угрожает царевне Митхилы смертью и удаляется в сопровождении своих жен.
Злобные ракшаси, осыпая Ситу бранью, стараются заставить ее уступить Раване.
Отчаявшаяся, измученная Сита приближается к дереву ашоки, чтобы расстаться с жизнью, повесившись на своих волосах. Но скрывавшийся дотоле среди ветвей Хануман приветливо окликает дочь Джанаки.
Сита, испуганная грозным обликом посланца Рамы, едва не лишилась чувств. Только увидя предъявленный ей Хануманом именной перстень Рамы, дева Видехи овладела собой и доверилась ему.
Хануман поведал ей о несметной рати обезьян и медведей, готовой по знаку Рамы двинуться в поход против Раваны.
«Садись ко мне на спину, — предложил сын Ветра. — Я перелечу океан и доставлю тебя к Раме и Лакшмане!» Но царевна Митхилы отказалась, боясь потерять сознание и упасть с высоты в бушующие волны.
Она вынула из складок одежды драгоценный камень, который прежде украшал ее чело, и попросила передать его Раме. «Пусть сыновья Дашаратхи поскорее прибудут ко мне на помощь со своим обезьяньим войском!» — сказала она Хануману.
Сын Ветра ласково простился с Ситой. Но прежде чем покинуть Ланку, могучий предводитель обезьян пожелал покарать злобных ракшасов и ослабить мощь десятиголового Раваны.
В мгновение ока Хануман разрушил священную рощу. Казалось, над ней пронесся опустошительный смерч. Очутившись на улицах Ланки, сын Ветра отважно бился с ее свирепыми обитателями. Многие дворцы превратил он в груды развалин. Ракшасы тщетно пытались расправиться со стремительным сильноруким противником. Им удалось лишь поджечь кончик обезьяньего хвоста.
Как быть? Упоенный удачей вожак обезьяний
Обдумывал суть и порядок дальнейших деяний:
«Я ракшасов тьму истребил, я оставил корчевья
От рощи священной, где храм окружали деревья.
Злодеи своих удальцов убирают останки.
Отныне займусь неприступной твердынею Ланки!
Мне демоны хвост подожгли! Я теперь сопричастен
Огню, что богам доставлять приношения властен.
Я дам ему пищи!» По крышам запрыгал Могучий
С хвостом пламеносным, как облако с молнией жгучей.
На кровлю дворца, что построил Прахаста — Рукастый,
Вскочил, и огнем охватило палаты Прахасты.
Дворец Махапаршвы — Бокастого вспыхнул чуть позже,
Дворец Ваджрадамштры — Алмазноклыкастого — тоже.
Жилище Увитого-Дивной-Гирляндой, Сумали
И Яблони-Цветом-Увенчанного, Джамбумали
Горящим хвостом запалил Хануман и владельцев
Роскошных палат без труда превратил в погорельцев.
У Са́раны — Водной-Струи, у Блестящего — Шуки
Хвостом огненосным хоромы зажег Сильнорукий.
В роскошном дворце благоденствовал Индры-Боритель.
Вожак обезьяний спалил Индраджита обитель.
Пожару обрек Светозарного дом, Рашмике́ту,
И Сурьяшатру́ не забыл он, Враждебного-Свету.
Вовсю полыхали хоромы, где жил Светозарный,
Когда Корноухого вспыхнул дворец, Храсвака́рны.
С палатами, где Ромаши́ обретался, Косматый,
Сгорел Опьяненного-Битвой дворец, Йудхонма́тты,
И дом Видьюджи́хвы, как молния, быстрого в слове,
И дом Хастиму́кхи, имевшего облик слоновий.
Нара́нтаки дом занялся, Душегуба, злодея.
Горело жилье Дхваджагри́вы — Предолгая Шея.
Жилища Каралы, Вишалы, дворец Кумбхака́рны,
Чьи Уши-с-Кувшин, охватил этот пламень коварный.
Огонь сокрушил Красноглазого дом, Шонита́кши,
Как чудо глубин, Пучеглазого дом, Макара́кши,
Вибхи́шаны — Грозного кров обратил в пепелище
И Бра́хмашатру́, ненавистника Брахмы, жилище.
Дома и дворцы, где хранились бесценные клады,
Великоблестящий огню предавал без пощады.
Удачлив и грозен, как тигр, обезьян предводитель
Туда устремился, где ракшасов жил повелитель.
И вспыхнул чертог властелина сокровищ несметных,
Прекрасный, как Меру, в сиянье камней самоцветных.
Как в день преставления света, зловещею тучей
Глядел Хануман и разбрызгивал пламень летучий.
Росла исполинского пламени скорость и сила.
Порывистым ветром свирепый огонь разносило.
Дома, осиянные блеском златым и кристальным,
Пожар охватил, полыхая костром погребальным.
Сверкали обильем камней драгоценных чертоги,
Подобно небесным дворцам, где живут полубоги,
И рушились наземь, как падает с неба обитель,
Коль скоро заслугу свою исчерпал небожитель.
С неистовым топотом демоны все, без различья,
Метались, утратив богатство и духа величье,
Крича: «Это А́гни пришел в обезьяньем обличье!»
И женщин бездетных и грудью младенцев кормящих
Ужасная сила гнала из покоев горящих.
И простоволосые девы, сверкая телами,
Бросались в проемы, как молний мгновенное пламя.
Расплавленное серебро и другие металлы
Текли, унося жемчуга, изумруды, кораллы.
Соломой и деревом разве насытится пламя?
Несыт был храбрец Хануман боевыми делами,
И землю насытить не мог он убитых телами.
Был Раваны город сожжен обезьяной премудрой,
Как демон Трипу́ра сожжен был карающим Рудрой.
И достигал небес огонь пожарный.
И демонов телами, светозарный,
Питался этот пламень безугарный,
Как маслом жертвенным — огонь алтарный.
Как сотни солнц, пылавший град столичный
Услышал гром и грохот необычный,
Как будто Брахма создал мир двоичный
Из скорлупы расколотой яичной.[270]
Багряными вихра́ми пламень властный
Напоминал цветы киншу́ки красной.
Как лотосы голубизны атласной
Клубами плавал в небе дым ужасный.
— «Под видом обезьяны злоприродной,
Кто к нам сошел — Анила благородный,
Варуна — божество стихии водной,
Бог смерти — Яма, Арка светородный?
Великий Индра, грома повелитель,
Четвероликий Брахма, прародитель,
Иль Агни — наш свирепый погубитель,
Семиязыкий пламени властитель?»
— «То — Вишну, с беспредельностью слиянный,
Немыслимым величьем осиянный,
Прикрывшийся обличьем обезьяны,
Чтоб уничтожить род наш окаянный!»
На гребне кровли, меж горящих башен,
Уселся Хануман, как лев, бесстрашен.
Его пылавший хвост был не погашен —
И словно огненным венком украшен.
Столица сгорела дотла, и вожак обезьяний
Охваченный пламенем хвост погасил в океане.
Упершись ногами в исполинскую гору Аришта, Хануман издал ужасающий рев, потрясший Ланку, и, оттолкнувшись, взлетел в небо. Не выдержав силы толчка, гора со своими утесами, лесами, водопадами погрузилась в земные недра.
Проделав обратный путь над океаном, Хануман опускается на вершину Махендры, где обезьяны и медведи ждут его возвращения.
Не мешкая, отправляется сподвижник Рамы в Кишкиндху. Он подробно рассказывает Раме о поисках Ситы и встрече с ней в ашоковой роще. Хануман вручает царевичу драгоценный камень, переданный ему дочерью Джанаки, нетерпеливо ожидающей своего освободителя.
Рама, Лакшмана и Сугрива решают выступить походом на Ланку. Сын Дашаратхи расспрашивает Ханумана о крепости Ланки. Хануман повествует о великолепии столицы ракшасов.
Утром следующего дня великие рати трогаются в путь. Дрожит земля. Облака клубящейся пыли вздымаются к небу и скрывают солнечный свет, мешая следить за походом обширного воинства. От мощных голосов обезьян и медведей срываются камни с гор, неслыханный рев пугает зверей, птиц, жителей леса… Наконец перед божественным Рамой и его друзьями открывается блистающий простор Океана. Тьмы обезьян и медведей заполняют лесистое прибрежье и скалы у самой воды, подобно саранче.
На Ланке узнают о прибытии войска Рамы.
Добродетельный Вибхишана, младший брат Раваны, остерегает предводителя ракшасов: «Еще не поздно, брат мой. Верни жену царевичу Кошалы, вымоли у него прощение. Иначе гибель грозит и тебе, и всему нашему роду. Сила Рамы необорна, а месть — ужасна!»
Равана не внемлет разумным речам брата. Он решает начать войну с доблестным Рамой и созывает во дворец всех ракшасов. Он говорит им, что страсть к царевне Видехи опалила его сердце, что он бессилен перед своей любовью. Сита непокорна, она попросила год сроку, ибо ждет мужа. Но он никогда не возвратит Раме дивнобедрую супругу, и ныне он спрашивает у всех совета, как защитить Ланку и повергнуть в прах сына Каушальи и сына Сумитры и их войско.
Состязаясь в безумии с Раваной, полководцы десятиглавого царя клянутся расправиться с божественным витязем.
Лишь Кумбхакарна, другой младший брат грозного Раваны, владетель великой силы (сами боги пребывают в страхе перед этой силой и наслали на него глубокий сон, от которого пробуждается он только на один день каждые шесть лет, чтобы утолить голод), лишь Кумбхакарна сетует на неразумие, несправедливость деяния брата, но все же он обещает ему поддержку и клянется убить Раму и истребить его войско.
Ракшас Махапаршва спрашивает яростного царя, отчего тот не возьмет прелестную дочь Джанаки силой. Равана отвечает, что не может этого сделать.
(Некогда он взял силой небесную красавицу Панджикастхалу. Пылая обидой, она удалилась в чертоги Прародителя. Разгневанный Владыка проклял его, сказав: «Отныне, если ты возьмешь женщину силой, голова твоя разорвется на тысячу частей!»)
Вибхишана вновь остерегает совет ракшасов и самого царя от войны с сыновьями Дашаратхи. Его не слушают. Тогда, не в силах одолеть безумия Раваны, оскорбленный Вибхишана с четырьмя верными спутниками в единый миг перелетает Океан и является под покровительство Рамы. Обезьяны сомневаются в намерениях Вибхишаны, но мудрый Хануман советует Раме не пренебрегать таким союзником. Рама нарекает брата Раваны будущим правителем Ланки.
Предводители воинства Рамы в недоумении: как переправиться через Океан и достичь Ланки. Сугрива и Хануман обращаются за советом к Вибхишане. «Ведь Сагара, Океан, — дальний свойственник божественного мужа. Да обратится Рама к нему за помощью!» — отвечает Вибхишана.
Три дня и три ночи Рама воздает почести Сагаре, на четвертое утро великий Владыка вод, окруженный своими женами-реками, является сыну Дашаратхи. Он говорит: «Среди твоего войска есть искусная обезьяна по имени Нала, это сын божественного зодчего Вишвакармана. Пусть Нала построит мост, а воды мои его поддержат». К исходу пятого дня мост в сто йоджан длиною построен. Воинство Рамы переправляется через Океан и располагается в лесах Ланки.
Равана посылает советников Шуку и Сарану в стан Рамы. Возвратившись, они рассказывают царю о силе воинства обезьян. Равана и советники поднимаются на кровлю дворца.
Разгневанный Равана видел полки и дружины.
Несметная рать облепила холмы и долины.
И Сарану он вопросил, возмущеньем пылая,
Узнать имена вожаков обезьяньих желая:
«Каких полководцев поставил Сугрива над войском,
Что с нами сразиться спешит в нетерпенье геройском?
Кто больше других на Сугриву имеет влиянья,
И сколь многочисленна грозная рать обезьянья?»
И Сарана молвил: «Среди обитателей пущи
Нет воина, равного той обезьяне ревущей,
Что Ланку с лесами, горами неистовым рыком
Теперь сотрясает в своем исступленье великом.
Вокруг обезьяны невиданной мощи и стати
Стеснились кольцом предводители вражеской рати.
Ты зришь, государь, полководца отважного Нилу,
Которому вверил Сугрива несметную силу.
А этот храбрец обезьяний, что смотрит на крепость
И, грозно зевая, свою изъявляет свирепость?
То — А́нгада, с шерстью желтее цветочных тычинок,
Тебя, государь, выкликающий на поединок.
Он, тяжко ступая, несет исполинское тело
И в ярости хлещет хвостом по земле то и дело.
Как лотоса нити, смельчак этот желтого цвета
И стуком хвоста сотрясает все стороны света.
Сугривы племянник, он будет на царство помазан;
Он с праведным Рамой, как Индра с Варуною, связан.
Сын Ветра нашел благославного Рамы супругу,
И в этом разумного Ангады видят заслугу.
За ними стоит исполинского роста воитель
С дружиной своей, небывалого моста строитель
По имени Нала, что дар унаследовал отчий:
Родитель его — Вишвака́рман, божественный зодчий.
Серебряношерстый, со скалящей зубы, рычащей
Дружиной бойцов, уроженцев сандаловой чащи,
Как тигры, свирепых, в одеждах шафранного цвета, —
Храбрец обезьяний, всемирно прославленный, Швета,
Что Ланку твою сокрушить похваляется громко,
Спасая супругу великого Рагху потомка.
Лесистой горою Самро́чаной храбрый Кумуда
Владеет, и войско с собою привел он оттуда.
О Равана, тот, за которым твои супостаты
Престрашные с виду шагают, косматы, хвостаты,
Воитель по имени Чанда, свирепый, всевластный,
Смельчак, предводитель дружины своей разномастной.
Он двинуть надеется тьмы обезьян красно-медных,
И черных, и желтых — на Ланку, при кликах победных,
И в бездну морскую обрушить останки твердыни.
Так Ланке твоей удалец угрожает в гордыне.
Другой, желто-бурый, гривастый, как лев, не мигая,
Взирает на город, очами его обжигая.
И кажется, будто не выстоит, испепелится
Внезапно объятая пламенем наша столица.
Живет этот Ра́мбха в лесах, расцветающих пышно,
В том крае, где горы вздымаются — Сахья и Кришна.
Сто раз по́ сто тысяч быков обезьяньего рода
Собрал он и уйму полков сколотил для похода!
Ужасные ратники Рамбхи свирепой осанкой
Свою изъявляют готовность разделаться с Ланкой.
А этот, ушами прядущий, зевающий гневно
Храбрец обезьяний, встречающий смерть повседневно,
Бестрепетный воин, исполненный бранного пыла,
Что рать приучил не показывать недругам тыла,
Что скалится, великосильный, не ведая страха,
Как палицей, крепким хвостом ударяя с размаха, —
Достойный Шарабха. От века владеет он чудной
Горой под названьем Салвейа, как царь правосудный.
Несметную силу привел он, поставив под стяги
Четыреста раз по́ сто тысяч ревущих в отваге
Своих обезьян, что зовутся «лесные бродяги».
О раджа! Кто блещет в кругу предводителей рати,
Как Индра могучий в кругу небожителей братьи,
И, словно литаврами, ревом своим непрестанным
Скликает ветвей обитателей к подвигам бранным?
Вожак обезьян громогласный, рыкающий дико
Пана́са, прекрасной горы Пария́тра владыка.
Одних воевод пятьдесят сотен тысяч привел он,
Да каждый — с полком и безмерной решимости полон!
Чье войско — второй океан, сотрясаемый бурей?
Как звать полководца, что ростом подобен Дардуре
И рать озаряет, блистая, как солнце в лазури?
О царь, пред тобою воитель, чье имя Вината:
Из Вены, реки благодатной, испил он когда-то.
При нем шестьдесят сотен тысяч бегущих вприскочку,
Ужасных в строю и подобных быкам — в одиночку.
Помериться силой тебя вызывает Кратхана,
Ведущая уйму полков и дружин обезьяна.
Не ставя своих ни во что, гордосильный Гавайя
К тебе приближается, ярости волю давая.
Могучее тело его поросло красномо́хрой
Косматою шерстью, как будто окрашено охрой.
И семьдесят раз по сто тысяч скликает он к бою,
И Ланке грозит, упоенный своей похвальбою».
Прежде чем начать сражение с Раваной, великий Рама посылает к нему послом Ангаду. Отважный сын Валина взвивается в воздух и переносится через крепостные стены. Став перед Раваной, он передает ему мудрое предостережение добродетельного царевича Кошалы. Если Равана покорно вернет прекрасную царевну Митхилы, будет пощажен и Равана и город. Если нет — предводитель ракшасов падет в бою, Ланка будет разорена.
Равана охвачен неистовым гневом. Он приказывает схватить Ангаду. Отважный воитель стряхивает с себя приспешников Раваны и, сорвав золотую кровлю с его дворца, возвращается невредимый назад.
Мудрейшие из советников царя Ланки уговаривают Равану не упорствовать… Равана повелевает идти войной на сыновей Дашаратхи…
Но еще раньше, чем Равана отдал этот приказ, он решает сломить волю благородной жены Рамы. Он приказывает некоему ракшасу, сведущему в колдовстве, сотворить отрубленную голову Рамы, его лук и стрелы и показать Сите. Горестная царевна Видехи лишилась чувств. Затем она стала плакать и причитать над головою любимого мужа. В это время Равану позвали на совет полководцев, ушел и ракшас-колдун. И тут же голова Рамы и оружие исчезли. Достойная Са́рама, жена Вибхишаны, сказала Сите: «Не плачь! Это был не Рама, а только лишь сотворенный его призрак. Вот видишь: едва ушел обладатель волшебной силы, и призрак растаял. Рама жив, вскоре войско его вступит в город. Не падай духом, много времени не пройдет, и мы увидим милых своих мужей!»
По велению Рамы войско разделяется на четыре части: отряд славного Ни́лы идет на приступ Восточных ворот, воины храброго Ангады — на осаду Южных ворот, Хануман и его могучее воинство должны войти в город с запада, Рама и Лакшмана — с севера. Остальное войско, с Сугривой во главе должно идти прямо на стены Ланки.
Гремят барабаны, трубят трубы, ревут раковины. Начался приступ. Воины пронзают противника стрелами, прокалывают пиками, рубят дротиками, крушат топорами и палицами… Обезьяны душат, царапают, кусают ракшасов… Туча пыли повисает над битвой, но вскоре сходит, ибо земля пропитывается кровью, покрывается телами раненых и убитых. Наступает ночь, но битва не затихает…
Внезапная мгла опустилась мертвящим покровом
На поле, что было повито закатом багровым.
Но в сумраке ночи, гасящей дыханье живое,
Вражда и победы желанье усилились вдвое.
Свирепые ратники в битве ночной, беспощадной
Сшибались, рубились, окутаны тьмой непроглядной.
«Ты — ракшас?» — «Ты — кто, обезьяна?» — во мраке друг с другом
Они окликались, мечами гремя по кольчугам.
В бронях златокованых демоны с темною кожей
На горы огромные в сумраке были похожи, —
Лесистые горы с обильем целебного зелья,
Где блеска волшебного склоны полны и ущелья.
На рать обезьянью, вконец ослепленные гневом,
Ужасные ракшасы лезли с разинутым зевом.
На ракшасах темных брони златокованы были,
Но войском Сугривы они атакованы были.
На древки златые знамен обезьяны кидались,
В коней, колыхавших густые султаны, вцеплялись.
В клочки разрывали они супротивные стяги,
Слонов и погонщиков грызли в свирепой отваге.
И стрелы, что были, как змеи, напитаны ядом,
Метали два царственных брата, сражавшихся рядом.
И ракшасов тьму сокрушили, незримых и зримых,
Опасные стрелы царевичей необоримых.
В ноздрях и в ушах застревая, взвилась крутовертью
Колючая пыль меж земной и небесною твердью.
Мешая сражаться, она забивалась под веки.
По ратному полю бежали кровавые реки.
Гремели во мраке мриданги, литавры, пана́вы[271].
Воинственных раковин слышался гул величавый.
Им вторили вопли пронзительные обезьяньи,
Колес тарахтенье, коней исступленное ржанье.
Тела вожаков обезьяньего племени были
Навалены там среди темени, крови и пыли.
Там ракшасов гороподобные трупы лежали,
И дротиков груды, и молотов купы лежали.
Земли этой, взрытой и кровью политой, дарами
Казалось оружье, что грозно вздымалось буграми.
Как будто земля, где цветов изобилье всходило,
Мечи и железные копья теперь уродила.
И тьмой грозновещей, как в день преставления света,
Кровавое поле сражения было одето.
И демоны Раму обстали во мраке кромешном
И тучами стрелы метали, смеясь над безгрешным.
Ужасные эти созданья ревели бурлящим
В ночи океаном, конец мирозданья сулящим.
Но выстрелил Рама из лука по их средоточью
Шесть раз — и пронзил он шестерку Летающих Ночью:
Свирепого Яджнашатру́, брюхача Махода́ру,
И Шу́ку, и Ша́рану — смелых лазутчиков пару.
Весьма пострадал Ваджрада́мштра, Алмазноклыкастый.
Почти без дыханья уполз Махапа́ршва, Бокастый.
Слал Рама в места уязвимые, без передышки,
Свои златоперые стрелы, как пламени вспышки.
Все стороны света, при помощи меткой десницы,
Мгновенно расчистил Владетель большой колесницы[272].
Лишь стрелы во мраке сверкали огня языками
Да грозные ракшасы гибли в огне мотыльками.
Сражения ночь озарялась обильным свеченьем,
Точь-в-точь как осенняя ночь — светляков излученьем:
Там стрел мириады блистали златым опереньем!
И сделался грохот литавр оглушительней вдвое,
И ракшасов яростный вой устрашительней вдвое,
И бой в непроглядной ночи сокрушительней вдвое.
Громам, пробудившим Трехрогой горы подземелья,
В ответ загудели пещеры, овраги, ущелья.
С хвостами коровьими и обезьяньим обличьем,
Бросались гола́нгулы[273] в битву с воинственным кличем.
Бойцы черношерстые, пользуясь мрака укрытьем,
Весьма огорошили ракшасов кровопролитьем.
Тут Ангада в битву ввязался, воитель достойный.
Его благородный родитель был Валин покойный.
А Раваны сын, Индраджит, соскочил с колесницы,
Поскольку в сраженье лишился коней и возницы,
Призвал колдовство на подмогу, окутался дымкой,
И, загнанный доблестным Ангадой, стал невидимкой.
Одобрили боги великого мужа деянья.
«Отменно! Отменно!» — воскликнула рать обезьянья.
Тогда Индраджит побежденный почувствовал злобу.
Воистину ярость ему распирала утробу.
Владея от Брахмы полученным даром чудесным,
Пропал из очей Индраджит, словно став бестелесным.
Потомок властителя Ланки, вконец озверелый,
Он мечет в царевичей Раму и Лакшману стрелы.
Он мечет в них стрелы, незримый, усталый от битвы.
Блестящи они, точно молнии, остры, как бритвы.
В обоих царевичей, посланы этим злодеем,
Впились ядовитые стрелы, подобные змеям.
Они, с тетивы напряженной слетая без счета,
Опутали воинов храбрых тела, как тенета.
Коварный Индраджит в обличье явном
Не взял бы верх над Рамой богоравным.
Он, отведя глаза двум братьям славным,
Царевичей сразил в бою неравном.
Блестящие стрелы «нара́ча» и «полунара́ча»[274]
Метал Индраджит, от царевичей облик свой пряча.
И, места живого на них не оставив хоть с палец,
В тела их впились мириады губительных жалец.
Обточены гладко, различного вида и ковки,
Сновали небесным путем золотые головки,
Подобны луны половине в ночном небосклоне,
Телячьему зубу иль сложенной паре ладоней,
С тигровым клыком или с бритвой сравниться способны, —
Ужасные стрелы, что в мир отправляют загробный.
Их слал без числа этот Индры боритель всезлобный.
Царя Дашаратхи и Лакшманы брата надёжа,
Сраженный, покоился Рама на доблести ложе.
Изогнутый трижды, с разбитой златой рукоятью
Свой лук он сложил, окруженный рыдающей ратью.
С глазами, как лотосы, в битве — опора, защита, —
Исполненный мужества пал от руки Индраджита!
Прекрасного Раму лежащим на доблести ложе
Увидя, свалился израненный Лакшмана тоже.
Индраджит, охваченный радостью, устремляется в Ланку рассказать о своей победе над великими воинами. Опечаленные обезьяны собираются возле бездыханных сыновей Дашаратхи.
От вихря пошла водоверть в океане, и тучи
Нагнал на небесную твердь этот ветер могучий.
Он вырвал деревья, обрушил зеленые своды
И с острова сбросил крылами в соленые воды.
И трепет объял обитателей суши и влаги.
Поспешно укрылись огромные змеи-панна́ги.
И чуда морские в пучину соленую с плеском
Попрятались, яростных молний напуганы блеском.
Волшебным огнем воссиял из потемок пернатый
Божественный Гаруда, этот потомок Винаты.
И змеи, что стрелами были в руках чародея,
Змеиной природе противиться дольше не смея,
Проворно из ран ускользнули при виде Супарны.
Ведь змей пожирателем издавна слыл Огнезарный!
Царь птиц, наклонясь над мужами в зияющих ранах,
Безмолвно коснулся перстами их лиц осиянных.
И зажили раны лежащих на доблести ложе,
Оделись тела золотистой атласистой кожей,
Отваги и силы обоим прибавилось тоже.
У Рагху потомков могущество их родовое,
Решимость, выносливость, ум увеличились вдвое.
Их память окрепла, умножилась их прозорливость.
Рассудок, проснувшись, обрел дальновидность и живость.
Отважны, как царь небожителей великодарный,
Обласканы двое воителей были Супарной.
Сказал богоравный царевич: «Твое появленье
Разрушило чары и нам принесло исцеленье.
Подобно тебе, только дед мой, божественный А́джа,
Да славный отец мой, Кошалы властительный раджа,
Своим приближеньем внушают мне трепет сердечный.
Скажи, кто ты есть, обладатель красы безупречной,
Душистым сандалом натертый, невиданный прежде,
В венце златозарном и белой беспыльной одежде?»
Исполнен божественной силы и обликом светел,
Ему дивнокрылый потомок Винаты ответил:
«О Рама! я — Гаруда. Помни, царевич бесценный,
Родной, как дыханье, что я тебе друг неизменный!
Спасти от змеиных сетей — громоносному богу
И то не под силу! Но прибыл я к вам на подмогу.
Бесчестный в бою, Индраджит применил чародейство,
И стрелами сделал он змей острозубых семейство.
Ты будь начеку, опасайся, мой друг, вероломства.
Сразило тебя ядовитое Кадру потомство,
Исчадье змеиной праматери, лютой врагини
Прекрасной Винаты — меня породившей богини.
О Рама и Лакшмана! К вам, незнакомым с боязнью,
На выручку я поспешил, побуждаем приязнью.
Теперь вы свободны! Попомните слово Супарны:
Сколь вы благородны, столь ракшасы в битве коварны!»
И ласково обнял царевичей двух Светозарный.
Увидя, что Рагху потомки здоровы и целы,
Что, в змей превратясь, уползли Индраджитовы стрелы,
Восторгом охвачена, вся обезьянья дружина
Взревела во славу спасенного царского сына.
Деревья комлястые вырвали для рукопашной
Лесов обитатели, дух выявляя бесстрашный
Хвостов раздуваньем, прыжками и львиным рычаньем,
Литавр, и мридангов, и раковин грозным звучаньем.
Под крепость они подступили бесчисленной ратью,
Врагов ужасая воинственным ревом и статью.
Равана узнает о том, что сыновья Дашаратхи вновь явились на поле. Он посылает в бой лучших своих военачальников. Рама расспрашивает о них Вибхишану.
Вибхи́шана мудрый не медлил со словом ответным:
«Возвышенный доблестью воин с лицом медноцветным,
Чей слон под своим седоком головою качает,
А сам он, как солнце взошедшее, блеск излучает,
Зовется Ака́мпаной. Следом несется, в отваге,
Угрюмый воитель со львом благородным на стяге.
И лук у того храбреца, что летит в колеснице,
Блистает, как радуга — у Громовержца в деснице.
Слоновьих изогнутых бивней ощеривший пару,
Главенством своим он обязан незримости дару.
Он — Раваны сын, Индраджит, этот ракшас клыкастый!
А лучник неистовый, схожий с Махендрой иль Астой,
Что встал в колеснице, огромное выказав тело,
И лук исполинских размеров напряг до предела —
Смельчак и силач. Называется он Атикайя,
А тот медноглазый, сидящий, очами сверкая,
На буйном слоне, что гремит колокольцами яро, —
Воитель отважный, бестрепетный муж, Махода́ра.
Свирепо ревущий, прославленный твердостью духа,
Он имя свое получил за великое брюхо.
Блистающий всадник, что высится снежной горою,
В броне облаков, озаренных заката игрою,
Как молния, быстрый, в бою неразлучный с удачей,
Бесстрашный седок, под которым трепещет горячий
Скакун в раззолоченной сбруе, — зовется Пишачей.
А этот, разубранный весь, в одеянье богатом,
Что держит зазубренный дротик, отделанный златом,
И едет верхом на быке, словно месяц, рогатом?
Оружьем своим досаждает он целому миру,
И знают повсюду его, государь, как Триширу.
Взгляни на того, темнокожего, с грудью могучей,
На Ку́мбху — воителя, обликом схожего с тучей.
Не знающий промаха лучник, эмблемой для стягов
Избрал он змеиного раджу, владыку панна́гов.
Махая тяжелой, гвоздями утыканной часто,
Покрытой узором алмазным дубиной комлястой,
На битву Нику́мбха, овеянный славой, стремится,
А дивная палица пышет огнем и дымится!
Врагов сокрушитель, Нара́нтака, с видом надменным
Летит в колеснице, снабженной оружьем отменным,
Украшенной пестрыми флагами, блещущей яро.
Скалу многоглыбную выломал он для удара.
А десятиглавый, очами сверкающий дико —
Богов устрашитель и ракшасов буйных владыка,
Чей лик, окруженный звериными лицами, блещет, —
Под белым зонтом с драгоценными спицами блещет!
Огромный, как Ви́ндхья, властительный, великомудрый,
Он схож с окруженным зловещими духами Рудрой.
Как солнце, в алмазном венце и подвесках алмазных,
Является он среди ракшасов зверообразных.
Ты видишь владетеля Ланки, ее градодержца,
Что Ямы унизил гордыню и спесь Громовержца!»
И, глядя на Равану, во всеуслышанье, веско,
Вибхи́шане Рама ответил: «Безмерного блеска
Исполнен Владыка Летающих Ночью, и трудно
Его созерцать, как светило, горящее чудно.
Нам кажется облик его, расплываясь в сиянье,
Полуденным солнцем в своем наивысшем стоянье.
Поверь, обладать не дано этим блеском ужасным
Ни демонам, ни божествам, ни царям грозновластным.
Свирепые духи дружиной своей разноликой
Несутся с оружьем за двадцатируким владыкой.
Несметная силища! Горы подняв над собою,
Стремятся страшилища гороподобные к бою.
Их раджа, как Яма всевластный, с петлей наготове[275],
Грозит уничтожить созданья из плоти и крови».
Сказал Добромыслящий: «Мне предначертано роком
Узреть злоприродного Равану собственным оком.
Вибхишана, мощь моего справедливого гнева
Падет на того, кем похищена Джа́наки дева!»
Видя, что лучшие из воителей его сражены в этой невиданной доселе битве, Равана в сверкающей, как солнце, колеснице выехал из ворот Ланки.
Начинается новая страшная битва. Вот уже и Хануман распростерся на земле, поверженный грозной дланью Раваны; гигантское копье повелителя ракшасов поражает отважного Сугриву, царя обезьян; дивный зодчий Нила ранен стрелой повелителя Ланки, он шатается и отступает. Лакшмана осыпает могучего врага тучей стрел, но тот улучает мгновенье и посылает в голову сына Сумитры стрелу, дарованную ему некогда самим Брахмой. Лакшмана падает в потоках собственной крови. Но перед этим успевает пронзить грудь Раваны тремя стрелами. Царь ракшасов взревев от боли, пронзает Лакшману чудовищной величины копьем. Но в этот миг Хануман, оправившийся от удара, встает и страшным ударом кулака сбивает с ног похитителя Ситы. Затем он выносит Лакшману из битвы.
В бой вступает сам божественный Рама.
Чередою метких стрел он убивает колесничего Раваны и лошадей, раскалывает вдребезги колесницу, а затем щит, и лук, и стрелы грозного царя, затем сбивает с древка его стяг и, наконец, поражает в грудь Равану и сносит с его головы драгоценный венец. Равана стоит перед Рамой в ожиданье смертельного удара, но великодушный воитель щадит его и отпускает обратно в Ланку.
Равана посылает ракшасов за Кумбхакарной — последней своей надеждой в битве с божественным сыном Каушальи.
Услышали ракшасы, что им сказал повелитель,
И сборищем буйным бегут в Кумбхакарны обитель.
Душистых цветов плетеницы несут, благовонья
И прорву еды, чтоб ему подкрепиться спросонья.
Пещера, окружностью с йоджану, вход необъятный
Имела и запах цветов источала приятный.
Но вдохов и выдохов спящего грозная сила —
Вошедших бросала вперед и назад относила.
Был вымощен пол дорогими каменьями, златом.
На нем Кумбхакарна, внушающий страх супостатам,
Раскинулся рухнувшим кряжем и спал беспробудно
В своей исполинской пещере, украшенной чудно.
Курчавился волос на теле, что силой дыханья
Коробилось, изображая змеи колыханье.
Найри́ты дивились ноздрей устрашающим дырам
И пасти разинутой, пахнущей кровью и жиром.
Блистали запястья златые, венец лучезарный.
Раскинув могучие члены, храпел Кумбхакарна.
Втащили несчетных убитых животных в пещеру.
Их туши свалили горой, наподобие Меру.
Из многих зверей, населяющих дебри лесные,
Там буйволы были, олени и вепри лесные.
Вот риса насыпали груду, — не видно вершины!
Мясные поставили блюда и крови кувшины.
Стеклись йатудханы, как тучи, несущие воду.
Куреньями стали дымить Кумбхакарне в угоду.
Сандалом его умастили богов супостаты.
Он спал и гирлянд благовонных впивал ароматы.
Летающие по Ночам затрещали в трещотки,
В ладони плескать принялись и надсаживать глотки.
И в раковины, что с луной соревнуются в блеске,
Немолчно трубили, но звук не будил его резкий.
От грома литавр, барабанов и раковин гула
Творенья пернатые с третьего неба стряхнуло.[276]
Но спал Кумбхакарна, — лишь птицы попадали с тверди.
Тогда принесли булавы и комлястые жерди,
И ну молотить по груди его каменной скопом:
Кто — палицей, кто — булавой, кто — дубьем, кто — ослопом.
Одни Кумбхакарну утесом расколотым били,
Другие тяжелой кувалдой иль молотом били.
Хоть было их тысяч с десяток в упряжке единой,
Далеко отбрасывал ракшасов храп исполина.
Мриданги, литавры гремели вовсю, но покуда
Лежал Кумбхакарна недвижной синеющей грудой.
Коль скоро его пробудить не смогли громозвучьем,
Прибегли к дубинам, и прутьям железным, и крючьям.
Плетями хлеща по коням, по верблюдам и мулам,
Топтать Кумбхакарну их всех понуждали огулом.
И демоны спящего молотами колотили,
Колодами плоть Кумбхакарны они молотили.
И раковин свист раздавался в лесах густолистых,
И гром барабанный в горах отзывался скалистых.
Дрожала прекрасная Ланка от свиста и гула,
Но чудище спало, и глазом оно не сморгнуло.
И в тысячу звонких литавр ударяли попарно,
Схватив колотушки златые, но спал Кумбхакарна.
Не мог светозарный проснуться, послушен заклятью,
Хоть в ярость привел он свирепую ракшасов братью.
Хоть за уши стали кусать и кувшинами в уши
Лить воду ему — не смогли пробудить этой туши!
Хоть молотом по́ лбу его колотили до боли
И пряди волос выдирали, кинжалом кололи,
«Шата́гхни»[277] скрепили канатом и двинули разом,
Но не шевельнулся гигант, не сморгнул он и глазом.
Слонов у него пробежало по брюху до тыщи,
Но был пробужден Кумбхакарна потребностью в пище.
Не стадо слоновье, не глыба, не древо, не молот
Его разбудили, а чрево пронзающий голод.
И твердые, словно алмаз иль стрела громовая,
Он выпростал руки свои, многократно зевая.
Был рот Кумбхакарны подобен зияющей пасти,
И вход в преисподнюю[278] напоминал он отчасти.
Был этот багровый зевающий рот по размеру
Взошедшему солнцу под стать над вершиною Меру.
Был каждый зевок, раздирающий пасть исполину,
Как ветер высот, налетающий с гор на долину.
Обличьем был грозен пещеры проснувшийся житель,
И гневно блистал он очами, как бог-разрушитель[279].
Глазищами с голову демона Раху, коварно
Луну проглотившего, дико сверкал Кумбхакарна.
И сразу неистовый голод с великим стараньем
Он стал утолять буйволятиной, мясом кабаньим.
И, снедь запивая кувшинами крови и жира,
Хмельное вкушал этот недруг Властителя мира.
Когда наконец от еды отвалился он, сытый,
Летающего по Ночам обступили найриты.
Он встал перед ними, могучий, как бык перед стадом.
Собратьев обвел осовелым и заспанным взглядом.
Весьма огорошенный тем, что внезапно разбужен,
«Скажите, — спросил дружелюбно, — зачем я вам нужен?»
Посланцы повелителя Ланки рассказывают Кумбхакарне о сраженье. Кумбхакарна по-прежнему упрекает брата в безрассудстве, однако обещает ему помочь.
Владыка Летающих Ночью надел огнезарный,
В камнях драгоценных, венец на чело Кумбхакарны.
Затем Кумбхакарне на шею надел ожерелье.
Как месяц, блистало жемчужное это изделье.
В кувшинообразные уши продел он для блеска
Алмазные серьги, — у каждой сверкала подвеска.
Цветов плетеницы, что были полны аромата,
Запястья, и перстни, и нишку из чистого злата
Великоблестяший надел перед битвой на брата.
Сиял Кумбхакарна, в убор облачен златозарный,
Как жертвенным маслом питаемый пламень алтарный,
И смахивал, с поясом дивным на чреслах, в ту пору
На царственным Шешей обвитую Мандару-гору,
Когда небожителям эта вершина мутовкой
Служила, обвязана змеем, как толстой веревкой.
Кольчугу такую, что сетки ее тяжкозлатной
Стрела не пробьет и клинок не разрубит булатный,
Надев, он сиял, как владыка снегов, Химапа́ти,
Закован в златую броню облаков на закате.
Был ракшас, украсивший тело и дротик несущий,
Отважен, как перед победой тройной — Самосущий[280].
И слева направо престол обошел Кумбхакарна,
И брата напутствие выслушал он благодарно.
С властителем Ланки простясь, выезжал Сильнорукий
Под гром барабанов и раковин трубные звуки.
С конями, слонами, оружьем несметная сила
За этим свирепым, воинственным мужем валила!
Как будто бы туч грохотали гряды громоносных —
Катили ряды колесниц боевых двухколесных.
И всадники ехали на леопардах могучих,
На львах, антилопах, на птицах, на змеях ползучих.
Прислужники зонт над летателем этим полночным
Держали, когда, осыпаемый ливнем цветочным,
Противник богов, охмелевший от запаха крови,
Он шествовал с дротиком острым своим наготове.
За ним пехотинцы, ужасные ликом и статью,
С очами кровавыми, шли нескончаемой ратью.
С неистовой силищей, кто — булавой, кто — ослопом,
Махали страшилища, так и ломившие скопом!
Кто палицу нес или связку тяжелого тала[281],
Кто с молотом шел иль с трубою, что стрелы метала.
Своим супостатам они угрожали мечами,
Секирами, копьями, дротиками и пращами.
Желая врагов запугать и повергнуть в смущенье,
Тем временем сам исполин претерпел превращенье.
Еще устрашительней стал Кумбхакарна обличьем,
И мощью своей небывалой, и грозным величьем.
Сто луков имел он в плечах[282], да шестьсот было росту:
Шесть раз, — если счесть от макушки до пят, — было по́ сту!
Свирепые очи подобно тележным колесам
Вращались, и было в нем сходство с горящим утесом.
«Сожгу вожаков обезьяньих, — вскричал Кумбхакарна, —
Как пламя — ночных мотыльков! — И добавил коварно: —
Ведь к нам обезьяны простые вражды не питают.
Пускай украшают сады и в лесах обитают!
Царевич Айодхьи — причина беды и разлада.
Я Раму убью, и закончится Ланки осада!»
Как бездна морская, откликнулись яростным ревом
Свирепые ракшасы, этим утешены словом.
На битву спешил Кумбхакарна, хоть с первого шага
Приметы вещали воителю зло, а не благо.
Темнели над ним облака, неподвижны и хмуры,
Как будто вверху распластали ослиные шкуры.
Небесные сыпались камни, сверкали зарницы,
И слева направо кружили зловещие птицы.
С раскрытыми пастями, пыхая пламенем, выли
Шакалы: они устрашающим знаменьем были!
Стремглав с грозновещих небес опустился стервятник
На дротик, что поднял бестрепетный Раваны ратник.
На левом глазу Кумбхакарны задергалось веко,
И левая длань задрожала, впервые от века.[283]
Над ним, пламенея средь белого дня, пролетело
И рухнуло с громом ужасным небесное тело.
От этих примет волоски поднимало на коже,
Но шел Кумбхакарна, раздумьем себя не тревожа.
Критантой гонимый, являясь игралищем рока,
Стопу над стеной крепостною занес он высоко.
Полки обезьян обложили столицу, как тучи,
Но ринулся в стан осаждающих ракшас могучий.
Как тучи от ветра, пустились они врассыпную,
Когда супостат через стену шагнул крепостную.
Увидя враждебное войско в смятенье великом,
На радостях он разразился неистовым рыком.
На землю валил обезьян этот рев Кумбхакарны,
Как валит секира, под корень рубя, ашвакарны[284].
И рати, бегущей со всей быстротой обезьяньей,
Казалось — грядет Всемогущий с жезлом воздаянья.[285]
Страшась Кумбхакарны, пустились бегом обезьяны,
Но храброго А́нгады оклик услышали рьяный:
«Вы что — ошалели? Спасенья не только в округе —
На целой земле не найдется бежавшим в испуге!
Оружье бросая, показывать недругу спины,
Чтоб жены смеялись над вами? Стыдитесь, мужчины!
И много ли толку, скажите, в супружестве вашем,
Когда сомневаются женщины в мужестве вашем?
Зазорно, почтенного мужа забыв благородство,
Бежать, обнаружа с простой обезьяною сходство!
Скажите, куда подевались хвастливые речи?
Где вражьи воители, вами убитые в сече?
Бахвалы такие, сробев перед бранным искусом,
Спасаются бегством, подобно отъявленным трусам.
Назад, обезьяны! Должны пересилить свой страх мы!
Блаженство посмертное ждет нас в обители Брахмы[286].
А если врагов уничтожите в битве кровавой
И целы останетесь — быть вам с пожизненной славой.
Расправится Рама один на один с Кумбхакарной.
Глупец, — он летит мотыльком на огонь светозарный!
Но если один одолеет он множество наше,
То выявит миру тем самым ничтожество наше!
Мы шкуру спасем, но утратим достоинство наше.
Бесчестье падет на несметное воинство наше».
Кричали в ответ обезьяны: «Внимать укоризне
Не время, не место, иначе лишимся мы жизни!»
В немыслимом блеске, притом в исступленье великом,
Узрев Кумбхакарну с его ужасающим ликом,
Они врассыпную летели с отчаянным криком.
Хоть Ангады речь беглецам показалась некстати,
Бесстрашный сумел устыдить предводителей рати!
И все вожаки обезьяньи по собственной воле,
Презрев малодушье, вернулись на ратное поле.
Погибнуть готовы, отвагой воинственной пьяны,
Отчаянный бой учинили тогда обезьяны.
Утесы ломали они, вырывали деревья.
Где высились рощи, они оставляли корчевья,
И, бросившись на Кумбхакарну, свирепы и яры,
Скалой или древом ему наносили удары.
Он палицей бил обезьян — удальцов крепкотелых,
В охапку сгребал он по тридцать воителей смелых,
В ладонях размалывал и пожирал помертвелых.
Отважных таких восемь тысяч семьсот пали наземь,
Убиты в сраженье разгневанным ракшасов князем!
Как некогда змей истреблял златоперый Супа́рна,
В неравном бою обезьян пожирал Кумбхакарна.
Но, вырвав из почвы деревья с листвой и корнями,
Опять запаслась обезьянья дружина камнями.
И, гору подняв над собою, Двиви́да могучий
На Гороподобного двинулся грозною тучей
И — бык обезьяньей дружины, воитель отборный —
Швырнул в Кумбхакарну стремительно пик этот горный.
На войско упала кремнистая эта вершина,
Убила коней и слонов, миновав исполина.
Другая громада в щепу разнесла колесницы,
И воины-ракшасы там полегли, и возницы.
Обрушились глыбы на конскую рать и слоновью.
В бою захлебнулись отменные лучники кровью,
Но жгли главарей, что дружину вели обезьянью,
Их стрелы, как пламень, сулящий конец мирозданью.
А те ударяли в отместку по ракшасам дюжим,
По их колесницам, но конским хребтам и верблюжьим,
Деревья с корнями себе избирая оружьем.
И, в воздухе чудом держась, Хануман в это время
Валил исполину деревья и скалы на темя.
Но был нипочем Кумбхакарне обвал изобильный:
Деревья и скалы копьем разбивал Многосильный.
Копье с наконечником острым бестрепетной дланью
Сжимая, он бросился в гневе на рать обезьянью.
Тогда Хануман благородный, не ведая страха,
Ударил его каменистой вершиной с размаха.
Упитано жиром и кровью обрызгано, тело
Страшилища, твердой скале уподобясь, блестело.
От боли такой содрогнувшись, хоть был он двужильный,
Копье в Ханумана метнул исполин многосильный.
С горой огнедышащей схожий, Кувшинное Ухо
Метнул в Ханумана, взревевшего страшно для слуха,
Копье, точно Кра́унча-гору пронзающий Гуха[287].
И рев, словно гром, возвещавший конец мирозданья,[288]
И кровь извергала пробитая грудь обезьянья.
Изда́ли свирепые ракшасы клич благодарный,
И вспять понеслись обезьяны, страшась Кумбхакарны.
Тогда в Кумбхакарну скалы многоглыбной обломок,
Опомнившись, Нила швырнул, но Пуластьи потомок[289]
Занес, не робея, кулак необъятный, как молот,
И рухнул утес, пламенея, ударом расколот.
Как тигры среди обезьян, Гандхама́дана, Ни́ла,
Шара́бха, Риша́бха, Гава́кша, — их пятеро было, —
Вступили в борьбу с Кумбхакарной, исполнены пыла.
Дрались кулаком и ладонью, скалою и древом,
Ногами пинали врага, одержимые гневом.
Но боли не чуял совсем исполин крепкотелый.
Риша́бху сдавил Кумбхакарна, в боях наторелый.
И, хлынувшей кровью облившись, ужасен для взгляда,
На землю упал этот бык обезьяньего стада.
Враг Индры ударом колена расправился с Нилой,
Хватил он Гава́кшу ладонью с великою силой,
Шара́бху сразил кулаком, и, ослабнув от муки,
Свалились они, как деревья багряной киншуки,
Что острой секирой под корень срубил Сильнорукий.
Своих вожаков обезьяны узрели в несчастье
И тысячами напустились на сына Пуластьи.
Как тысячи скал, что вступили с горой в ратоборство,
Быки обезьяньих полков проявили упорство.
На Гороподобного ратью бесстрашною лезли,
Кусались, когтили его, в рукопашную лезли.
И ракшас, облепленный сплошь обезьяньей дружиной,
Казался поросшей деревьями горной вершиной.
И с Гарудой царственным, змей истреблявшим нещадно,
Был схож исполин, обезьян пожирающий жадно.
Как вход в преисподнюю, всем храбрецам обезьяньим
Разверстая пасть Кумбхакарны грозила зияньем.
Но, в глотку попав к ослепленному яростью мужу,
Они из ушей и ноздрей выбирались наружу.
Он, тигру под стать, провозвестником смертного часа
Ступал по земле, отсыревшей от крови и мяса.
Как всепожирающий пламень конца мирозданья,
Он шел, и редела несметная рать обезьянья.
Бог Яма с арканом иль Индра, громами грозящий, —
Таков был с копьем Кумбхакарна великоблестящий!
Как в зной сухолесье огонь истребляет пожарный,
Полки обезьян выжигались дотла Кумбхакарной.
Лишась вожаков и не чая опоры друг в друге,
Бежали они и вопили истошно в испуге.
Но тьмы обезьян, о спасенье взывавшие громко,
Растрогали храброго Ангаду, Индры потомка.
Он поднял скалу наравне с Кумбхакарны главою
И крепко ударил, как Индра — стрелой громовою.
Взревел Кумбхакарна, и с этим пугающим звуком
Метнул он копье, но не сладил с Громо́вника внуком[290].
Увертливый Ангада, ратным искусством владея,
Копья избежал и ладонью ударил злодея.
От ярости света невзвидел тогда Кумбхакарна,
Но вскоре опомнился, и, усмехнувшись коварно,
Он в грудь кулаком благородного Ангаду бухнул,
И бык обезьяньей дружины в беспамятстве рухнул.
Воитель, копьем потрясая, помчался ретиво
Туда, где стоял обезьян повелитель Сугрива.
Но царь обезьяний кремнистую выломал гору
И с ней устремился вперед, приготовясь к отпору.
На месте застыл Кумбхакарна, и дался он диву,
Увидя бегущего с каменной глыбой Сугриву.
На теле страшилища кровь запеклась обезьянья.
И крикнул Сугрива: «Ужасны твои злодеянья!
Ты целое войско пожрал, храбрецов уничтожил
И низостью этой величье свое приумножил!
Что сделал тебе, при твоей устрашающей мощи,
Простой обезьяний народ, украшающий рощи?
Коль скоро я сам на тебя замахнулся горою,
Со мной переведайся, как подобает герою!»
«Ты — внук Праджапа́ти, — таков был ответ Кумбхакарны, —
И Сурья тебя породил — твой отец лучезарный!
Не диво, что ты громыхаешь своим красноречьем!
Воистину мужеством ты наделен человечьим.
Отвагой людской наградил тебя Златосиянный,
Поэтому ты хорохоришься так, обезьяна!»
Швырнул Сугрива горную вершину
И угодил бы в сердце исполину,
Но раскололась об его грудину
Гора, утешив ракшасов дружину.
Тут ярость обуяла их собрата,
Казалось, неминуема расплата,
И, раскрутив, метнул он в супостата
Свое копье, оправленное в злато.
Сын Ветра — не быть бы царю обезьяньему живу! —
Копье ухватил на лету, защищая Сугриву.
Не менее тысячи бха́ров[291] железа в нем было,
Но силу великую дал Хануману Анила.
И все обезьяны в округе пришли в изумленье,
Когда он копье без натуги сломал на колене.
Утратив оружье, что весило тысячу бхаров,
Другое искал Кумбхакарна для смертных ударов.
Огромный молот хвать за рукоять он!
Но лютый голод ощутил опять он.
Свирепо налетел на вражью рать он,
Стал обезьянье войско пожирать он.
Царевич Айодхьи из дивного лука Вайа́вья[292]
Пускает стрелу — покарать Кумбхакарны злонравье!
Так метко стрелу золотую из лука пускает,
Что с молотом правую руку она отсекает.
И, с молотом вместе, огромная — с гору — десница
Туда упадает, где рать обезьянья теснится.
От молота тяжкого разом с рукой и предплечьем
Погибли иные, остались другие с увечьем.
Айодхьи царевича с князем Летающих Ночью
Жестокую схватку они увидали воочью.
Как царственный пик, исполинской обрубленный саблей,
Был грозный воитель, но мышцы его не ослабли.
Рукой уцелевшей он выдернул дерево тала,
И снова оружье у Рамы в руках заблистало.
Он Индры оружьем, что стрелы златые метало,
Отсек эту руку, сжимавшую дерево тала.
Деревья и скалы ударило мертвою дланью,
И ракшасов тьму сокрушило, и рать обезьянью.
Взревел и на Раму набросился вновь Злоприродный,
Но стрелы в запасе боритель держал благородный.
Под стать полумесяцу их наконечники были.
Отточены и широки в поперечнике были.
Царевич достал две огромных стрелы из колчана
И ноги страшилища напрочь отрезал от стана.
И недра земли содрогнулись, и глубь океана,
Все стороны света, и Ланка, и ратное поле,
Когда заревел Кумбхакарна от гнева и боли.
Как Раху — луны светозарной глотатель коварный —
Раскрыл, словно вход в преисподнюю, пасть Кумбхакарна.
Когда на царевича ринулся ракшас упрямо,
Заткнул ему пасть златоперыми стрелами Рама.
Стрелу, словно жезл Самосущего[293] в день разрушенья,
Избрал он! Алмазные были на ней украшенья.
Избрал он такую, что, солнечный блеск изливая,
Врага поражала, как Индры стрела громовая.
В себе отражая дневного светила горенье,
Сияло отточенной этой стрелы оперенье.
И было одно у нее, быстролетной, морило —
Что мог состязаться с ней только бог ветра, Анила.
Все стороны света, летящая неотвратимо,
Наполнила блеском стрела, пламенея без дыма.
И, видом своим устрашая, как Агни ужасный,
Настигла она Кумбхакарну, как бог огневластный.
И с парой ушей Кумбхакарны кувшинообразных,
И с парой красиво звенящих подвесок алмазных,
С резцами, с клыками, торчащими дико из пасти,
Мгновенно снесла она голову сыну Пуластьи.
Так царь небожителей с демоном Вритрой однажды
Расправился, племя людское спасая от жажды.
Сверкнула в серьгах голова исполинская вроде
Луны, что замешкалась в небе при солнца восходе.
Упала она, сокрушила жилища и крепость,
Как будто хранила в себе Кумбхакарны свирепость.
И с грохотом рухнуло туловище исполина.
Могилою стала ему океана пучина.
Он змей и затейливых рыб уничтожил огулом,
Внезапную гибель принес он зубастым акулам
И врезался в дно с оглушительным плеском и гулом.
Обезьяны исполняются еще большей отвагой и решают ночью захватить город.
Дневное светило обильно лучи расточало,
Но к вечеру скрыло свой лик за горой Астачала.
Во тьму непроглядную мир погрузился сначала.
Зажгли просмоленную паклю бойцы обезьяньи
И в город пустились бегом в грозновещем сиянье.
Тогда сторожившие Ланки врата исполины
Покинули входы, страшась огненосной дружины.
Пришельцы с горящими факелами, с головнями
По кровлям дворцовым запрыгали, тыча огнями.
Они поджигали огулом, еще бесшабашней,
Оставленные караулом ворота и башни.
Пожарное пламя неслось от жилища к жилищу
И всюду себе находило желанную пищу.
Вздымались дворцы, словно гор вековые громады.
Огонь сокрушал и обрушивал их без пощады.
Алмазы, кораллы и яхонты, жемчуг отборный,
Алоэ, сандал пожирал этот пламень упорный.
Пылали дома и дворцы обитателей Ланки,
С обильем камней драгоценных искусной огранки,
С оружьем златым и сосудами дивной чеканки.
Добычей огня оказались шелка и полотна,
Ковры дорогие, одежды из шерсти добротной,
Златая посуда, что ставят в трапезной, пируя,
И множество разных диковин, и конская сбруя,
Тигровые шкуры, что выделаны для ношенья,
Попоны и яков хвосты, колесниц украшенья,
Слонов ездовых ожерелья, стрекала, подпруги,
Мечи закаленные, луки и стрелы, кольчуги.
Горели украсы златые — изделья умельцев,
Жилища одетых в кирасы златые владельцев,
Что Ланки внезапный пожар обратил в погорельцев,
Обители ракшасов буйных, погрязнувших в пьянстве
С наложницами в облегающем тело убранстве.
Оружьем бряцали иные, охвачены гневом,
Другие уснули, прильнув к обольстительным девам,
А третьи младенцев своих, пробудившихся с криком,
Несли из покоев горящих в смятенье великом.
Дворцы с тайниками чудесными были доныне
Дружны с облаками небесными, в грозной гордыне,
Округлые окна — подобье коровьего ока —
В оправе камней драгоценных светились высоко.
С покоями верхними, где, в ослепительном блеске,
Павлины кричали, звенели запястья, подвески,
С террасами дивными в виде луны златозарной
Сто тысяч домов истребил этот пламень пожарный.
Горящий портал и ворота столичные — тучей
Казались теперь в опояске из молнии жгучей.
И слышались в каждом дворце многоярусном стоны,
Когда просыпались в огне многояростном жены,
Срывая с себя украшенья, что руки и ноги
Стесняли и нежным телам причиняли ожоги.
И в пламени дом упадал, как скала вековая,
Что срезала грозного Индры стрела громовая.
Пылали дворцы наподобье вершин Химава́ты,
Чьи склоны лесистые пламенем буйным объяты.
Столица, где жадный огонь разгорался все пуще,
Блистала, как древо киншуки, обильно цветущей.
Казалась пучиной, кишащей акулами, Ланка.
То слон одичалый метался, то лошадь-беглянка.
Пугая друг друга, слоны, жеребцы, кобылицы
В смятенье носились по улицам этой столицы.
Во мраке валы океанские бурными были,
И, Ланки пожар отражая, пурпурными были.
Он выжег твердыню, как пламень конца мирозданья.
Не город, — пустыню оставила рать обезьянья!
Индраджит вновь становится невидимым. Он осыпает обезьян тучами стрел и спасает ракшасов от грозящей гибели.
Затем коварный сын Раваны сотворяет призрачный облик Ситы и утром на виду у войска обезьян и медведей отрубает голову Лже-Сите, плачущей, молящей о пощаде. Нет пределов горю прекрасного Рамы. Он без чувств падает наземь. Придя в себя, он плачет. Но мудрый Вибхишана молвит ему: «Вставай, о сын Дашаратхи! Равана никогда не решится убить царевну Митхилы, — ведь именно ради нее он начал великую битву! Индраджит убил не Ситу, но волшебное виденье! А ныне в священной роще он приносит жертву богу огня, чтобы твое оружие не смогло сразить его. Надо скорее убить Индраджита, иначе не миновать беды!»
Рама посылает Лакшману и Вибхишану расправиться с Индраджитом…
Сражаясь не на жизнь, а на смерть с могучим хитрым сыном Раваны, Лакшмана сносит ему голову стрелою — страшным оружием повелителя богов Индры.
Гибель сына повергает Равану в скорбь и рождает в нем ужас. Затем неистовый гнев охватывает царя. Он жаждет убить Ситу и отправляется совершить злодеянье, но прямой сердцем добрый советник Супаршва смело предостерегает царя от безумного поступка. «Не лучше ли, — убеждает он десятиглавого владыку, — убить Раму и завладеть прекрасною дочерью Джанаки?!»
Равана, сопутствуемый преданнейшими ракшасами, выезжает на поле битвы. Один за другим гибнут его лучшие воины. Но сам Равана непобедим. Царь Ланки и Рама с Лакшманой выпускают тысячи стрел. От копья Раваны падает наземь сын Сумитры. Джа́мбаван, предводитель медведей, советует Хануману полететь в Гималаи: там на горе Махо́дая растут чудесные травы, возвращающие дыхание жизни. Хануман мгновенно переносится в Гималаи и находит гору, но травы прячутся при его появленье.
Тогда он вырывает всю гору, приносит ее на Ланку, а Джамбаван отыскивает волшебные травы и подносит их к лицу бездыханного Лакшманы. Запах трав возрождает Лакшману к жизни.
Рама, а с ним все войско, вновь начинает битву с похитителем Ситы.
И демонов раджа стремглав колесницу направил
На храброго царского сына, что войско возглавил.
Как будто зловещий Сварбха́ну небесной лазурью
Помчался, спеша проглотить светозарного Су́рью!
И, ливнями стрел смертоносных врага поливая,
На Раму летел он, как туча летит грозовая.
Сверкали они, словно Индры стрела громовая.
Но Рама свои, с остриями из чистого злата,
Подобные пламени, стрелы метал в супостата.
Воскликнули боги: «Кати́т в колеснице Злонравный,
А Рама стоит на земле! Поединок неравный!»
«Мой Ма́тали! — Индра тогда призывает возницу. —
Ты Рагху потомку мою отвези колесницу!»
И Матали вывел небесную, с кузовом чудным,
Коней огнезарных он к дышлам припряг изумрудным.
Сверкала на кузове жарко резьба золотая,
И тьмы колокольчиков мелких звенели, блистая.
А кони сияли, как солнце, и, взоры чаруя,
Искрились на них драгоценные сетки и сбруя.
И стяг на шесте золотом осенял колесницу.
Взял Матали бич, и покинул он Индры столицу.
На ратное поле примчали возничего кони,
Увидя прекрасного Раму, сложил он ладони:
«Боритель врагов! Я расстался с небесным селеньем
И прибыл сюда, побуждаемый Индры веленьем.
Свою колесницу прислал он тебе на подмогу.
Взойди — и сражайся, под стать громоносному богу!
Вот лук исполинский, — златая на нем рукоятка! —
И дротик Владыки бессмертных, отточенный гладко,
И златосиянные стрелы, что Великодарный
Тебе посылает, и панцирь его светозарный.
О Рагху потомок! Твоим колесничим я стану.
С нечистым расправься, как Индра — с отродьями Дану[294]!»
Тогда колесницу Громовника слева направо
Храбрец обошел, как миры обошла его слава.
Царевич и Ма́тали, крепко сжимающий вожжи,
Неслись в колеснице. К ним Равана ринулся тоже,
И бой закипел, волоски поднимая на коже.
Но Рама, отменно оружьем небесным владея,
Справлялся мгновенно с оружьем чудесным злодея.
Оружье богов сокрушал, разбивая на части,
Царевич посредством божественной воинской снасти.
И ракшас прибегнул к своей сверхъестественной власти!
Пускает он стрелы златые, приятные глазу,
Но в змей ядовитых они превращаются сразу.
Их жала сверкают. Из пастей разинутых пламя
Они извергают, когда устремляются к Раме.
Все стороны света огнем наполняя и чадом,
Сочатся, как Ва́суки, змеи губительным ядом!
И против оружья, что Равана выбрал коварный,
Припас благославный царевич оружье Супарны.
Блистали его златоперые стрелы, как пламя,
И враз обернулись они золотыми орлами,
На змей налетели, взмахнув золотыми крылами.
Одну за другой истребляли орлы Вайнатеи,
И гибли в несметном количестве Раваны змеи.
Оружья такого лишили его змеееды,
Что ракшас пришел в исступленье от вражьей победы.
На Раму огромные стрелы посыпались градом
И ранили Индры возницу, стоящего рядом.
Единой стрелою, назло своему супостату,
Сбил Равана древко златое и стяг Шатакра́ту.
Оружье владетеля Ланки, ее градодержца,
Богам досаждая, пронзило коней Громовержца.
Великого Раму постигла в бою неудача,
Богов, и гандхарвов, и праведников озадача.
Святые, что жизнью достойной возвышены были, —
В тревоге, точь-в-точь как Сугрива с Вибхи́шаной, были!
Под сенью Анга́раки в небе, — зловещего знака, —
Встал Равана, словно гора золотая, Майна́ка.
И Раме стрелы не давая приладить на луке,
Теснил его десятиглавый и двадцатирукий[295].
Придя в исступленье, нахмурился воин великий,
На Равану пламенный взор устремил Грозноликий.
Так страшен был Рама в неистовом гневе, что дрожи
Деревья сдержать не смогли от вершин до подножий.
Бесчисленных рек повелитель, — кипучие воды
До неба вздымал океан, как в часы непогоды.
И кряжи седые с пещерами львиными тоже
В движенье пришли, с океанскими волнами схожи.
Кружилась, урон предвещая и каркая дико,
Ворон оголтелая стая. И гневного лика,
На Раму взглянув, устрашился враждебный владыка.
А боги бессмертные, к Раме полны состраданья,
Следили за битвой, подобной концу мирозданья,
В летучих своих колесницах, теснясь полукружьем
Над полем, где двое сражались ужасным оружьем.
В тревоге великой взирая с небесного свода,
И боги и демоны чаяли битвы исхода.
Но жаждали боги победы для Рагху потомка,
А демоны — злобного Равану славили громко.
Как твердый алмаз или Индры стрела громовая,
Оружье взял Равана, Раму убить уповая.
Он выбрал такое, что мощью своей беспредельной
Пугало врага и удар наносило смертельный.
Огонь извергало, и взор устрашало, и разум
Оружье, что блеском и твердостью схоже с алмазом.
Любую преграду зубцами тремя сокрушало
И слух потрясенный, свирепо гремя, оглушало.
Копье роковое, что смерти самой неподвластно,
Врагов истребитель схватил, заревев громогласно.
Он, клич испуская победный, готовился к бою
И ракшасов тешил, зловредный, своей похвальбою.
Он грубо воскликнул: «Моргнуть не успеешь ты глазом —
И этим оружьем, что прочностью схоже с алмазом,
О Рама, тебя уничтожу я с Лакшманой разом!
В копье моем скрыта стрелы громовой неминучесть.
Воителей-ракшасов мертвых разделишь ты участь!»
Метнул Красноглазый копье колдовское в отваге,
И трепетных молний на нем заблистали зигзаги.
Ударили колоколов меднозвончатых била.
Их восемь, певучих, на древке подвешено было.
Летело копье в поднебесье, огнем полыхая,
Гремящие колокола над землей колыхая.
Но это оружье, воитель, в боях наторелый,
Сумел отвратить, посылая несчетные стрелы.
Так пламень конца мирозданья гасили потоки,
Что Ва́сава с неба обрушивал тысячеокий.
Но стрелы, стремясь мотыльками к лучистой приманке,
Сгорали, коснувшись копья повелителя Ланки.
Разгневался пуще, при виде обильного пепла,
Царевич Айодхьи, решимость воителя крепла.
Швырнул, осердясь, Богоравный могучей десницей
Копье Громовержца, врученное Индры возницей.
Летящее в пламени яром, со звоном чудесным,
Оно раскололо ударом своим полновесным
Оружье властителя Ланки в пространстве небесном.
Увидел он быстрыми стрелами Рамы сраженных
Коней легконогих своих, в колесницу впряженных.
И Рама пробил ему дротиком грудь и над бровью
Всадил три стрелы златоперых… Облившийся кровью,
Был ракшас подобен ашоки цветущему древу.
Дал Равана волю его обуявшему гневу!
Равану спасает от гибели его возничий. Он поворачивает коней и увозит колесницу прочь от битвы.
Очнувшись, Равана возгорается гневом: возничий не смел увозить его! Враги могут обвинить теперь Равану в трусости. Возничий говорит, что сделал это лишь для пользы царя: великий воин передохнул и теперь вновь способен сражаться. Поединок между Рамой и Раваной возобновляется.
На ракшаса и человека в немом изумленье
Два войска глядели, внезапно прервав наступленье.
Сердца у бойцов колотились, но замерли руки,
Сжимавшие копья, дубины, секиры и луки.
И зрелищем странным казались огромные рати,
Что, двух вожаков созерцая, застыли некстати.
И Раме и Раване разные были предвестья.
Не смерти, в сраженье страшились они, но бесчестья.
Два недруга истолковали приметы и знаки.
Их мысли и чаянья ход получили двоякий.
«Победу предвижу!» — сказал себе Рама всеправый.
«Погибель предвижу!» — сказал себе Десятиглавый.
В неистовстве Равана сбить вознамерился знамя,
Что реяло над колесницей, ниспосланной Раме.
Хоть Равана стрелы пустил, разъярившись премного,
Но стяга не сбил с колесницы громовного бога.
И стрелы посыпались наземь, скользнув мимо цели.
Лишь знамени древко они золотое задели.
Но Рама свой лук натянул, и — врагу воздаянье! —
Стрела с тетивы понеслась в нестерпимом сиянье.
Змее исполинской под стать, с устрашительным блеском,
Стяг Раваны срезав, под землю ушла она с треском.
Увидя, что знамя повержено воином дивным,
Он стрелы обрушил на Раму дождем непрерывным.
В коней Шатакра́ту вонзались несчетные стрелы.
Назло супостату, остались животные целы,
Как будто легонько хлестнули их стеблями лилий!
И Раме служить продолжали они без усилий.
Палим нетерпения пламенем, Боговраждебный
С поверженным знаменем ливень оружья волшебный
На Раму тогда устремил: булавы и дубины,
Секиры и молоты, гор остроглавых вершины,
Утесы, деревья с корнями, железные жерди —
Все падало, грохот и гул исторгая из тверди.
Злонравного стрелы затмили простор окоема,
Но он упустил колесницу властителя грома.
На той колеснице, дарованной Рагху потомку,
Из множества стрел ни одна не задела постромку!
Тем временем, лук напрягая бестрепетной дланью,
Обрушивал Равана стрелы на рать обезьянью.
У них острия золотые отточены были,
И помыслы Раваны сосредоточены были.
А Рама? Старанья властителя Ланки узрел он,
Слегка усмехнулся и выпустил тысячи стрел он!
И ракшасов грозный владыка ответил на это,
Несчетными стрелами небо застлав без просвета.
Подобье второго блистающего небосвода
Он создал совместно с потомком великого рода!
Их стрелы, друг-дружкой расколоты, сыпались наземь.
Так Рама сражался с неистовым ракшасов князем.
Тут Индры возница изрек: «О военной науке
Забыв, поступаешь ты с этим врагом, Сильнорукий!
Сразить его можно оружьем великого Брахмы.
О Рама, подобной стрелы не найдем в трех мирах мы!
Предсказана Раваны гибель, — сказал колесничий, —
Богами — и станет сегодня он смерти добычей!»
И, вроде змеи ослепительной, грозно шипящей,
Достал из колчана боритель великоблестящий
Стрелу, сотворенную Брахмой, чтоб Индра мирами
Тремя завладел, — и Ага́стьей врученную Раме.
В ее острие было пламя и солнца горенье,
И ветром наполнил создатель ее оперенье,
А тело стрелы сотворил из пространства. Ни Меру,
Ни Мандаре не уступала она по размеру.
Стрела златоперая все вещества и начала
Впитала в себя и немыслимый блеск излучала.
Окутана дымом, как пламень конца мирозданья,
Сверкала и трепет вселяла в живые созданья.
И пешим войскам, и слонам, и коней поголовью
Грозила, пропитана жертвенным жиром и кровью.
Как твердый алмаз или Индры стрела громовая,
Была сотворенная Брахмой стрела роковая,
Чей путь преградить не смогла бы скала вековая!
Железные копья она рассекала с разлета
И с громом обрушивала крепостные ворота.
Стрела, о которой небесный напомнил возница,
Блистала роскошным своим опереньем, как птица.
И — смерти приспешница — ратников мертвых телами
Кормила стервятников эта несущая пламя.
Для вражеской рати была равносильна проклятью
Стрела Праджапа́ти, что Раме была благодатью!
Он вслух сотворил заклинанье, затем, для победы,
Поставил ее, как велят многосильному веды.
Живых в содроганье повергло стрелы наложенье.
Недвижную твердь сотрясло тетивы напряженье.
Стрелу, угрожавшую жизненных сил средоточью,
Царевич пустил во Владыку Летающих Ночью.
И, неотвратимая, Раваны грудь пробивая,
Вошла ему в сердце, как Индры стрела громовая,
И в землю воткнулась, от крови убитого рдея,
И тихо вернулась в колчан, уничтожив злодея.
А Равана? Дух испуская, и лук он и стрелы
Из рук уронил, затуманился взор помертвелый,
И ракшас на землю упал с колесницы двухосной,
Как Вритра, поверженный Индры стрелой громоносной.
Звучал барабанов божественных рокот приятный,
Из райских селений подул ветерок благодатный.
На Раму обрушился ливень цветов ароматный.
Вверху величали гандхарвы его сладкогласно,
А тридцать бессмертных кричали: «Прекрасно! Прекрасно!»
Сугрива, Вибхишана, Ангада с Лакшманой вместе
Бежали к нему для воздания воинской чести.
В кругу небожителей — Индра, миров покоритель, —
В кругу полководцев стоял богоравный боритель!
Быка среди ракшасов, подвиг свершив многотрудный,
Сразил этот Рагху потомок и царь правосудный.
Равана погибает, зло рассеивается, мир и спокойствие воцаряются во вселенной. Обезьяны входят в Ланку. Рама возводит Вибхишану на престол.
Победитель Раваны просит Ханумана отыскать прекрасную Ситу. Хануман является в сад и видит печальную царевну Митхилы в окружении ракшаси. Он рассказывает ей о гибели могучего ее похитителя. Радость лишает царевну дара речи. Затем она благодарит мудрого Ханумана за великую весть. Сын Ветра хочет убить ракшаси. «Они ведь подневольны! — говорит Сита. — И не их вина в моем злосчастии!» Сита прощает ракшаси муки, ими причиненные, и хочет лишь увидеть любимого супруга… Хануман возвращается в стан Рамы и передает ему слова Ситы.
Наконец великий сын Дашаратхи встречается с любимой Ситой. Она подходит к нему, взор ее источает любовь. Рама говорит, что отомстил за оскорбление, убил Равану и освободил дивную царевну Видехи. Но та, кто столь долго пребывала в доме другого, не может, по словам Рамы, быть вновь принята мужем высокого рода: ведь Равана касался ее, осквернял ее взглядом, полным желанья. И могучий Рама отказывается от жены.
На самом деле Рама ни на миг не сомневается в верности и любви прелестной царевны Митхилы, но он не желает кривотолков. Он приводит Ситу к испытанию, чтобы все узнали, что она невинна.
Сита меж тем поражена стыдом и скорбью. Ответное слово ее проникнуто обидой. Она просит сложить погребальный костер.
Сита исчезает в пламени. И в сей же миг из костра восстает громадный чернокудрый человек в багряных одеждах, изукрашенных золотом. Это сам Агни — бог огня. На руках у него Сита. Пламя не коснулось ее. Она безгрешна перед Рамой!..
Рама обнимает преданную супругу и поднимается с нею, Лакшманой и друзьями на летающую колесницу Пушпаку, некогда принадлежавшую Раване; все отправляются в родную Айодхью.
Спустя четырнадцать лет Рама вновь входит в стены Кошалы. Узнав об этом, жители Айодхьи возвращаются в свои дома. Бхарата передает брату правление. Божественный сын Дашаратхи венчается на царство.
Проходит время, разъезжаются из Кошалы родичи и друзья царя Айодхьи, уходят доблестные обезьяны и медведи, наделенные богатыми дарами, гордые признательным словом божественного мужа, уходят с его добрым напутствием.
Дивный царь мудро правит Айодхьей. Его подданные счастливы и довольны. Сын Дашаратхи нежно любит прекрасную дочь Джанаки. Их нежность неутолима, а любовь — бесконечна. Минует десять тысяч беспечальных лет.
Но вот слух и мысли Рамы вновь отравляют худые толки о Сите, о мнимой ее неверности в плену у Раваны. Подданные ропщут: «Государь не должен был привозить Ситу в столицу, потому что к ней прикасался царь ракшасов, и она нечиста! А он по-прежнему любит ее! Рама подаст нам дурной пример!» Не зная, как избыть эти позорные слухи, Рама решается отправить Ситу в вечное и тайное изгнание в лесную пустынь.
Сита и прежде собиралась посетить святых отшельников, ибо носила дитя под сердцем и готовилась подарить Раму долгожданным сыном. Когда сжигаемый великой печалью Лакшмана везет ее в тихую обитель святого Вальмики, она ни о чем не подозревает.
Могучий воин открывает ей истину, и Сита продолжает жить лишь потому, что не хочет прекращения рода Рамы…
С тех пор еще много лет царствовал Рама в Айодхье, счастливым было его государство, но были в разладе чувства владетеля Кошалы: память о Сите мучила его сердце, любовь к ней не проходила…
Меж тем Сита живет в обители всемудрого Вальмики, который твердо знает, что она невинна. Сита разрешается от бремени близнецами — Кушой и Лавой… Она ведет благочестивую жизнь… Сыновья подрастают. Вальмики, сложивший «Рамаяну», обучает их этой великой песни и ждет лишь случая, чтобы предстать вместе с Кушей и Лавой перед государем Айодхьи.
Наступил желанный день. Великий сын Дашаратхи устраивает жертвоприношение коня в знак того, что достиг вершины могущества. На праздник в честь жертвоприношения являются Вальмики, красноречивейший из людей, и Куша, и Лава. «Мы пришли сюда с нашим учителем поклониться божественному сыну Дашаратхи и пропеть песнь о достославных его деяньях!» — так закончили Куша и Лава сказанье о подвигах Рамы.
Со слезами радости великий витязь обнимает сыновей и тотчас приказывает послать за прекрасной Ситой.
Верная жена Рамы является во дворце, все исполняются благоговейным восторгом при виде ее красоты и совершенства.
«Клянусь своим подвижничеством: Сита чиста, она всегда была невинна пред тобою!» — говорит Вальмики.
Рама отвечает на это: «Я никогда не сомневался в ее чистоте. Лишь следуя мненью народа, я отверг Ситу. Так пусть народу и докажет она свою невинность!»
Прекрасная царевна Митхилы восклицает: «Клянусь, что всегда хранила я верность любимому мужу. Пусть в подтвержденье этой клятвы Мать Земля раскроет объятья и примет дочь свою в свое лоно!»
Совершается чудо: Земля раскрывается. Прекрасная Сита уходит в ее недра и соединяется со своей Матерью для вечной жизни.
Народ ликует, все прославляют Раму и Ситу.
Но Рама печален, он вновь лишается милой сердцу Ситы. Искусный ваятель по его слову отливает ее золотое изображение.
Со временем он передает царство сыновьям и становится подвижником. Так он живет, пока смерть не избавляет его от телесного облика. Он возносится на небо. Там он встречается с божественной Ситой и более уж не разлучается с нею никогда.
Традиция русских переводов санскритского эпоса имеет уже почти двухсотлетнюю историю. Первый перевод из «Махабхараты» — «Багуат-Гета, или Беседы Кришны с Аржуном» появился в 1788 году. Он был сделан А. А. Петровым с английского издания «Бхагавадгиты» и напечатан в Москве, в университетской типографии Н. И. Новикова. Первый перевод из «Рамаяны» — «Плач родителей над прахом сына» (из второй книги поэмы), подписанный псевдонимом «Папк…», был опубликован в петербургском журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» за 1819 год.
С тех пор в различных русских журналах и отдельными изданиями периодически печатаются пересказы содержания обоих эпосов и переводы отрывков из них. Среди последних выделяются переводы с санскрита, принадлежащие видным русским индологам П. Я. Петрову («Сказание о рыбе», «Похищение Драупади», «Сказание о Савитри»), К. А. Коссовичу («Сунда и Упасунда», «Легенда об охотнике и паре голубей») и И. П. Минаеву («Как Драупади была проиграна», «Сватовство Рамы»). Но наибольшей известностью пользовался стихотворный перевод (в гекзаметрах) с немецкого языка «Наля и Дамаянти» В. А. Жуковского, впервые изданный в 1844 году и затем многократно переиздававшийся. Об этом переводе В. Г. Белинский писал, что «русская литература сделала в нем важное для себя приобретение».
Число переводов древнеиндийского эпоса значительно возросло в советское время, причем особого размаха и систематичности переводческая деятельность достигла в недавние годы. В 1939 году советскими учеными, по инициативе академика А. П. Баранникова, был начат полный академический перевод «Махабхараты» с новейшего индийского критического издания эпоса. Уже появились первая (1950), вторая (1962) и четвертая (1907) книги этого перевода, выполненные ленинградским санскритологом В. И. Кальяновым, а третья и пятая книги готовятся к печати. Параллельно в Ашхабаде в 1955–1971 годах вышло восемь выпусков переводов из «Махабхараты» академика АН Туркменской ССР Б. Л. Смирнова, которые охватывают более 20000 двустиший (шлок) поэмы. Массовому читателю были адресованы подробные литературные переложения «Махабхараты» (1963) и «Рамаяны» (1965) литературоведов-индологов Э. Н. Темкина и В. Г. Эрмана.
Ввиду грандиозного объема санскритских эпопей (соответственно около 100000 и 24000 двустиший) в книге удалось представить сравнительно небольшую часть их текста, и перед переводчиками стояла трудная задача: познакомить читателя с основным содержанием «Махабхараты» и «Рамаяны», осложненным многочисленными ретардациями и отступлениями, и в то же время сохранить по возможности их художественную специфику. Поэтому перевод «Рамаяны» включает в себя, с одной стороны, ряд ключевых эпизодов повествования (женитьба Рамы на Сите, изгнание Рамы из Айодхьи, похищение Ситы, поединок Рамы и Раваны и т. д.), а с другой — характерные для «Рамаяны» лирические отступления-описания (городов Айодхьи и Ланки, горы Читракуты, озера Пампы, дождливого времени года и др.).
Среди переведенных отрывков из «Махабхараты» часть непосредственно связана с движением эпического сюжета (сказания о Сатьявати и Шантану, о чудесных серьгах и панцире Карны, о пандавах при дворе царя Вираты, сцены битвы), а другая часть представляет собою вводные истории дидактического или мифологического содержания («Сказание о Савитри», «Бхагавадгита», легенды цикла «Сожжение змей»). В ряде случаев (прежде всего в батальных эпизодах и в легендах цикла «Сожжение змей») переводчик «Махабхараты» ради композиционной стройности и ясности русского перевода прибегал к отдельным перестановкам и сокращениям текста подлинника.
Еще одна трудность, стоящая перед переводчиками, заключалась в передаче санскритской метрики средствами русского стихосложения. Санскритский стих — метрико-силлабический, основанный на чередовании кратких и долгих слогов, и потому сколько-нибудь адекватно воспроизвести его по-русски едва ли возможно. Основной эпический размер «шлоку» (два нерифмованных полустишия по 16 слогов в каждом) переводчики, как правило, передавали рифмованными двустишиями, а более редкому размеру «триштубху» (из четырех одиннадцатисложных строк) в переводе «Рамаяны» соответствуют четверостишия-моноримы.
«Сказание о сражении на поле кауравов» переведено С. Липкиным впервые, специально для настоящего тома. Перевод «Сожжения змей», выполненный С. Липкиным на основании академического перевода В. Кальянова, печатается по книге: «Сожжение змей. Сказание из индийского эпоса «Махабхарата», М., Гослитиздат, 1958. Остальные Сказания печатаются по книге: «Махабхарата. Четыре сказания». М., «Художественная литература», 1969.
Переводы из «Рамаяны» выполнены В. Потаповой впервые, специально для настоящего тома.