Геродиан
История императорской власти после Марка
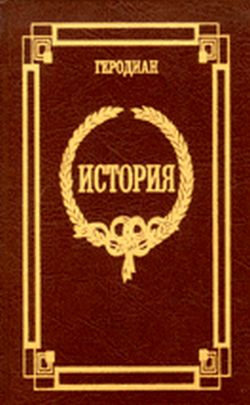
1. (1) Большинство занимавшихся составлением истории и стремившихся оживить память о давно прошедших делах, стараясь навеки прославить свою образованность, чтобы после безмолвной жизни не оказаться причисленными к многолюдной толпе, пренебрегали в своем повествовании истиной и в немалой степени позаботились о стиле и благозвучии, полагаясь на то, что, если им и случится рассказать что-либо баснословное, то все же приятность для слуха будет поставлена им в заслугу[1], а точность изложения проверяться не будет. (2) Некоторые, вследствие вражды или ненависти к тиранам, из лести и ради возвеличения императоров, государств и частных лиц, придали благодаря достоинствам своей речи обыкновенным и незначительным деяниям преувеличенную сравнительно с истиной славу.
(3) Я же не от других получил неизвестный и незасвидетельствованный исторический материал, а со всей тщательностью собрал для своего сочинения то, что еще свежо в памяти будущих читателей, предполагая, что познание многочисленных великих событий, произошедших в короткое время, не будет лишено приятности и для последующих поколений. (4) Коли сравнить с этим все время начиная с Августа, с тех пор как римская власть перешла в монархию[2], то невозможно найти в течение почти двухсот лет до времен Марка[3] ни такой смены одного царствования другим, ни превратностей гражданских и внешних войн, движений племен, завоеваний городов, как в нашей стране, так и у многих варваров, землетрясений и заражений воздуха, вызывающих изумление жизней тиранов и государей[4], о каких ранее упоминали редко или вовсе не упоминали; (5) из них одни держали в своих руках власть более продолжительное время, у других владычество было кратковременным, а были и такие, которые, достигнув лишь звания и почета на один день, сразу же были убиты[5]. Ведь власть над римлянами, разделенная в течение шестидесяти лет между большим числом властителей, чем того требовал такой период времени[6], принесла много разнообразного и достойного удивления. (6) Из государей люди старшего возраста вследствие опытности в делах владели собой и управляли {5}[*] подданными более заботливо, а совсем молодые, проведя жизнь более беспечно, натворили много неслыханного; как это и естественно при различии возрастов и неодинаковой склонности к произволу, образ действий был неодинаковым. Как все это произошло, я расскажу в хронологическом порядке и по царствованиям.
2. (1) У императора Марка родилось несколько дочерей, а детей мужского пола двое[7]. Из этих последних один ушел из жизни совсем молодым (имя ему было Вериссим), оставшегося же в живых, называвшегося Коммодом, отец вырастил с большой заботливостью, вызывая отовсюду людей, наиболее известных своей ученостью в провинциях[8], за весьма солидное вознаграждение, чтобы они воспитывали ему сына, постоянно с ним общаясь. (2) Дочерей, достигших зрелого возраста, он выдал замуж за лучших мужей сената, желая иметь зятьями не благородных по происхождению, с длинными родословными, и не блиставших огромными богатствами, а отличавшихся благопристойными нравами и воздержанным образом жизни[9]; только это он считал подлинным и неотъемлемым достоянием души. (3). Все виды добродетели были предметом его заботы; он любил старинную литературу, так что в этом не уступал никому из римлян, никому из эллинов; это видно из всех дошедших до нас его высказываний и писаний [10]. (4) И по отношению к подвластным он выказывал себя благожелательным и мягким государем, приветствуя подходивших к нему и запрещая окружавшим его телохранителям отстранять встречных. Единственный из государей, он укрепил философию не словами и не познанием учения, а серьезным нравом и воздержанным образом жизни. Его время принесло большой урожай мудрых мужей: ведь подчиненные всегда любят жить, подражая образу жизни правящего. (5) Все его мужественные и разумные деяния, заключавшие в себе полководческую или государственную доблесть, совершенные как у варварских племен, населяющих северные части земли, так и у живущих на Востоке, — описаны многими мудрыми мужами[11]; а все то, что я после кончины Марка в течение всей своей жизни увидел и о чем услышал, а кое в чем и сам принимал участие, находясь на императорской или общественной службе, — это я описал.
3. (1) Марка, достигшего старости, изнуренного не только возрастом, но и трудами и заботами, в то время как он находился в области паннонцев[12], постигает тяжелая болезнь. Подозревая, что надежды на спасение у него слабые, и видя, что сын начинает вступать в юношеский возраст, он испытывал {6} опасения, как бы цветущая юность, получив в сиротстве неограниченные и беспрепятственные возможности, не воспротивилась прекрасным наукам и занятиям и не предалась попойкам и кутежам (ведь души молодых людей очень легко скатываются к наслаждениям и отходят от всего прекрасного, прививаемого воспитанием). (2) Его, человека очень сведущего, тревожила память о тех, кто в молодости унаследовал царскую власть, — с одной стороны, о Дионисии, тиране сицилийском [13], который вследствие чрезмерной невоздержанности гонялся за неслыханными наслаждениями ценой огромных трат, с другой стороны — о бесчинствах и насилиях по отношению к подданным преемников Александра[14], которыми они позорили его власть. (3) Птолемей, дошедший до того, что в нарушение македонских и эллинских законов был в любовной связи с собственной сестрой[15], Антигон[16], во всем подражавший Дионису[17], покрывавший свою голову плющом вместо македонской войлочной шляпы[18] и повязки, носивший тирс[19] вместо скипетра. (4) Еще больше огорчали его события недавнего прошлого, свежие в памяти, — дела Нерона, который дошел до матереубийства[20] и сделал себя посмешищем для народов, также — наглые поступки Домициана[21], ничем не уступавшие проявлениям крайней свирепости. (5) Рисуя себе такие картины тирании, он был во власти страха и надежды. Немало тревожили его и соседи-германцы, не все еще им покоренные — одних он путем уговоров привлек в союз, других одолел оружием; были и такие, которые, обратившись в бегство, на время удалились, боясь присутствия столь великого государя. У него было подозрение, как бы они, презрев возраст юноши, не напали на него; ведь варвары обычно очень легко приходят в движение даже по случайным причинам.
4. (1) Тревожимый в душе столькими заботами, он, призвав друзей и всех находившихся при нем родственников[22], поставив, когда все сошлись, перед ними сына, слегка приподнялся на ложе и начал такую речь: (2) «В том, что вы огорчаетесь, видя меня в таком положении, нет ничего удивительного: ведь люди в силу своей природы испытывают жалость при несчастиях себе подобных, а ужасное, когда оно перед глазами, вызывает еще большее сочувствие. Что же касается меня, то у вас, я думаю, по отношению ко мне имеется и нечто большее: на основании своего расположения к вам я, естественно, надеюсь на ответное расположение. (3). Теперь подходящее время мне — почувствовать, что я не напрасно в течение столь продолжительного времени почитал вас и старался ради вас, а вам — воздать мне благодарность, показав, что вы {7} не забываете то, что получили. Вы видите моего сына, которого вы сами вскормили[23]; он как раз вступает в юношеский возраст и нуждается — словно в бурю и во время качки — в кормчих, чтобы, носясь по волнам из-за недостаточной опытности в должных делах, не быть брошенным на дурные занятия. (4) Станьте вы ему, вместо одного меня, многими отцами, оберегая его и давая ему наилучшие советы. Ведь ни изобилие денег само по себе не предотвращает тираническую необузданность, ни защита телохранителей недостаточна для охраны правителя, если вдобавок не будет приобретено расположение подданных. (5) Больше всего продлили без опасности свою власть все те, кто вселил в души управляемых не страх перед их жестокостью, а любовь к их порядочности. Ведь не те, кто испытывает рабство по принуждению, а те, кто подчиняется в силу убеждения, постоянно действуют и терпят, не вызывая подозрений; будучи свободными от притворной лести, они никогда не выйдут из повиновения, если только не будут принуждены к этому насилием или наглостью. (6) Трудно соблюсти умеренность и положить предел страстям, когда им служат неограниченные возможности. Давая ему такие советы и напоминая ему о том, что он, присутствуя здесь, слышит, вы сделаете из него наилучшего государя для вас и для всех, а также воздадите величайшую дань памяти обо мне и только таким образом сможете сделать ее вечной». (7) После этих слов наступило обморочное состояние, лишившее Марка возможности говорить; от слабости и терзаний духа он опять упал навзничь. Всех присутствовавших охватила жалость, так что некоторые из них не сдержались и испустили громкий вопль. Прожив еще одну ночь и один день, он почил[24], оставив скорбь своим современникам и вечную память о своей добродетели на будущие века. (8) После кончины Марка, когда молва о ней распространилась, все бывшее там войско, а равно и масса простого народа были охвачены скорбью, и не было никого из подвластных Риму людей, кто бы без слез услышал такую весть; все как бы в один голос громко называли его: одни — превосходным отцом, другие добрым государем, третьи — замечательным полководцем, иные — воздержанным и скромным властителем, и никто не ошибался.
5. (1) По прошествии немногих дней, в течение которых друзья[25] занимали сына похоронами отца, они решили вывести юношу в лагерь, чтобы он побеседовал с воинами и, одарив их деньгами, как это в обычае у наследующих императорскую власть, щедрой раздачей привлек к себе войско[26]. (2) Всем было объявлено прийти на равнину, обычно их вмещавшую[27]. {8}
Коммод, выступив, совершал полагающиеся государю жертвоприношения, и так как для него было сооружено посреди лагеря высокое возвышение, он, войдя на него и поставив вокруг себя друзей отца (при нем было много образованных людей), сказал следующее: (3) «Что у меня с вами общая скорбь из-за постигшего нас горя и вы не меньше меня страдаете — в этом я вполне уверен. Ведь при жизни моего отца я не требовал никакого преимущества перед вами. Он любил вас всех как одного. С большей радостью он называл меня соратником[28], нежели сыном; второе, по его мнению, обозначало общность природы, первое — общность доблести. Держа меня на руках, он часто препоручал меня, еще младенца, вашей верности[29]. (4) Поэтому я надеюсь, что буду очень легко пользоваться всяческим вашим расположением, так как со стороны старших это по отношению ко мне долг пестунов, а сверстников я по справедливости назвал бы соучениками в военных делах; ведь отец любил нас всех как одного и воспитывал вас во всяческой доблести. (5) После него судьба дала вам государем меня, не введенного со стороны, подобно тем, что до меня гордился благоприобретенной властью[30], — я единственный у вас был зачат в императорском дворце и императорская порфира[31] приняла меня, не знавшего обыкновенных пеленок, сразу же по выходе из материнского чрева; солнце увидело меня одновременно и человеком, и государем. (6) Принимая все это во внимание, вы, естественно, могли бы полюбить меня, не дарованного вам, а рожденного императора. Ведь отец, вознесшись на небо, является уже спутником богов и участником их советов[32], нам же полагается заботиться о человеческих делах и устраивать то, что на земле. Успешно же завершать и упрочивать их — ваше дело, если вы со всяческим мужеством покончите с остатками войны и продвинете Римскую державу до океана[33]. (7) Ведь вам это принесет славу, и вы таким образом воздадите достойную благодарность памяти общего отца, о котором вы должны думать, что он внемлет тому, что говорится, и взирает на то, что совершается. Мы могли бы преуспевать, поступая должным образом и имея такого свидетеля. Прежние ваши мужественные подвиги приписываются его мудрости и командованию, а за рвение, проявленное вами вместе со мной, молодым государем, славу доброй верности и мужества приобретете вы сами. Нашей молодости вы придадите достоинство благодаря доблести ваших дел. Варвары же, обузданные в самом начале молодого правления, и в настоящее время не дерзнут презирать наш возраст и впредь будут испытывать страх, опасаясь того, что они уже {9} испытали». Сказав так и щедрыми раздачами денег расположив к себе войско, Коммод возвратился в императорский дворец.
6. (1) В течение некоторого недолгого времени все делалось в соответствии с замыслами отцовских друзей, которые весь день были при нем, давая ему наилучшие советы и предоставляя ему столько свободного времени, сколько, по их мнению, было достаточно для разумной заботы о теле. Втершиеся к нему некоторые из придворных служителей пытались испортить молодой нрав государя — все те, кто льстит за столом и измеряет блаженство желудком и постыднейшими делами; они напоминали ему о роскошной жизни в Риме, рассказывая об усладах зрения и слуха, перечисляли изобилие съестного, бранили весь климат на берегах Истра[34], где нет урожая плодов и всегда морозно и хмуро. (2) «Довольно тебе, — говорили они, — владыка, пить мерзлую и выкапываемую из земли воду! Что же, другие будут пользоваться теплыми источниками и прохладными струями, испарениями и воздухом, какие приносит одна только Италия?»[35]. Представляя юноше такие картины, они возбуждали в нем стремление вкушать наслаждения. (3) Неожиданно созвав друзей, он стал говорить, что тоскует по родине[36], однако, стыдясь открыто признать причину внезапного порыва, он притворялся, будто опасается, как бы кто-нибудь из богатых патрициев не завладел в Риме императорским жилищем, а затем, как из неприступной крепости, обеспечив себе силу и сторонников, не попытался захватить власть; ведь народ в состоянии доставить множество отборных юношей[37]. (4) В то время как юноша выставлял такие предлоги, другие, внутренне подавленные, мрачно потупили взор в землю; Помпеян же, который был старше всех и приходился ему свойственником по браку (он был мужем старшей сестры Коммода)[38], сказал: «Естественно, что ты, дитя мое и владыка, тоскуешь по родине; ведь и мы охвачены такой же тоской по тому, что мы оставили дома. (5) Однако здешние дела, более существенные и более настоятельные, сдерживают нашу тоску. Ведь тем, что там, ты будешь наслаждаться и впоследствии в течение долгой жизни — а Рим там, где находится государь. Оставить же войну незаконченной не только постыдно, но и опасно: ведь мы придадим смелость варварам, которые будут осуждать нас не за жажду возвратиться домой, а за бегство и страх. (6) Прекрасно было бы для тебя, взяв их всех под свою руку и сделав границей державы на севере океан, возвратиться домой, справляя триумф[39] и ведя в оковах пленными варварских царей и правителей[40]. {10} Этим ведь жившие до тебя римляне стали великими и славными. Не следует тебе опасаться, как кто-нибудь там не попытался бы захватить государственные дела. Ведь лучшие люди сената здесь с тобой, вся имеющаяся военная сила служит тебе щитом; все казнохранилища императорских денег находятся здесь, а память об отце обеспечила тебе вечную верность и расположение подвластных». (7) Сказав такую речь для ободрения и пробуждения лучших стремлений, Помпеян ненадолго сдержал юношу; пристыженный этими словами, не найдя разумного ответа, Коммод отпустил друзей, заявив, что тщательно обдумает наедине, как следует поступить. (8) Ввиду настояний окружавших его служителей[41], он уже ни о чем более не посоветовался с друзьями, но, разослав письма и распределив попечение о берегах Истра между назначенными им по своему усмотрению лицами, приказав им сдерживать набеги варваров, объявляет об отбытии. Они и стали заниматься тем, что им было поручено; в скором времени они одолели оружием большую часть варваров, а некоторых привлекли к дружбе большими денежными пособиями[42] — убедить их было очень легко. (9) Ведь варвары по природе корыстолюбивы и, презрев опасности, либо набегами и нашествиями добывают себе необходимое для жизни, либо соглашаются на мир в обмен на большую плату. Зная это и покупая себе свободу от забот, Коммод, обладая в изобилии деньгами, давал им все, что они требовали.
7. (1) После объявления об отбытии величайшее волнение охватывает лагерь; все хотели возвратиться вместе с ним, чтобы избавиться от пребывания во вражеской стране и вкусить роскошную жизнь в Риме. Когда же молва распространилась и прибыли вестники, сообщая о предстоящем прибытии государя, римский народ чрезвычайно обрадовался и возлагал добрые надежды на пребывание молодого императора в Риме, полагая, что юноша будет следовать примеру отца. (2) Совершив путь с юношеской поспешностью и быстро пройдя промежуточные города, повсюду встреченный по-царски, и явив себя ликующему населению, Коммод показался всем любезным и желанным. (3) Когда он приблизился к Риму, весь сенат со всем народом и все обитавшие в Риме люди, не сдерживая себя, но всякий желая опередить других, неся лавровые ветви[43] и держа разнообразные расцветшие в ту пору цветы, встречали его, насколько это было для каждого возможно, на далеком расстоянии от города, чтобы увидеть молодого благородного государя. (4) Ведь они тосковали по нему благодаря истинному душевному расположению, так как он родился и {11} был вскормлен у них[44] и был государем в третьем поколении[45]и римским патрицием. Его род по отцу происходил из сенатской знати, мать же Фаустина родилась государыней как дочь Антонина, прозванного Благочестивым, и потомок Адриана по женской линии, а род свой она возводила к прадеду Траяну [46]. (5) Таково было происхождение Коммода. Вдобавок, к цветущему возрасту он имел привлекательную наружность благодаря стройному телосложению и красивому лицу, в соединении с мужественностью. Взор у него был ласковым и огненным, волосы от природы белокурыми и вьющимися, так что, когда он шел, освещенный солнцем, от него исходило нечто столь огнеподобное, что одни думали, будто его перед выходом посыпают золотыми стружками, другие обожествляли его, говоря, что вокруг головы с самого его рождения появилось некое небесное сияние; расцветал и спускавшийся по его щекам первый пушок. Увидя такого государя, римляне принимали его со всевозможным славословием, бросая ему венки и цветы. (6) Въехав в Рим, сразу же посетив святилище Юпитера [47] и другие храмы, выразив сенату[48] и оставленным в Риме воинам благодарность за сохранение верности, он удалился в императорский дворец[49].
8. (1) В течение немногих лет он оказывал всяческий почет отцовским друзьям[50] и во всех делах пользовался их советами; когда же он взял в свои руки попечение о государстве, поставив во главе лагерей Перенниса[51], родом италийца, слывшего дельным воином (главным образом поэтому он и сделал его префектом претория)[52], тот, злоупотребляя возрастом юноши, дозволил ему заниматься удовольствиями и попойками, отвратил его от забот и подобающих государю трудов, (2) а все управление государством взял на себя, руководимый неодолимой жаждой богатства, пренебрежением к тому, чем он в каждый данный момент владел, и ненасытным стремлением к тому, чего у него еще не было. Он первый начал клеветать на отцовских друзей и, возбуждая подозрение против всех, кто был богат и знатен, пугал юношу с той целью, чтобы тот умертвил их и дал ему основание и возможность грабить их достояние. (3) До каких-то пор юношу сдерживали память об отце и уважение к друзьям. Однако, словно некая злая и завистливая судьба стремилась опрокинуть остатки его благоразумия и порядочности, случилось следующее. Луцилла была у Коммода старшей из всех сестер[53]. Она была раньше супругой императора Луция Вера[54], которого Марк сделал своим соправителем и, выдав за него замуж дочь, создал благодаря этому браку надежнейшие узы взаимной привязанно-{12}сти. Когда же случилась смерть Луция, отец, оставив Луцилле знаки императорского достоинства[55], выдал ее замуж за Помпеяна [56]. (4) Тем не менее и Коммод сохранил за сестрой почести: она и в театрах сидела в императорском кресле, и перед ней несли факел. После того как Коммод взял жену по имени Криспина[57] и стало необходимым предоставить первенство жене царствовавшего государя, Луцилла тяжело переживала это и считала почести той поношением себе; зная, что ее муж Помпеян любит Коммода, она не делится с ним мыслями о захвате власти, Кодрату[58] же, знатному и богатому юноше (ее обвиняли в тайной связи с ним), она, испытывая образ его мыслей, беспрерывно жаловалась по поводу первенства и понемногу внушила юноше замысел, гибельный для него и для всего сената. (5) Взяв в соучастники своего заговора[59] некоторых из видных лиц, он уговаривает одного молодого человека, также принадлежавшего к сенату, по имени Квинтиан[60], опрометчивого и дерзкого, спрятать за пазуху кинжал, подстеречь подходящее время и место, напасть на Коммода и убить его; остальное, сказал он, он сам уладит путем раздачи денег[61]. (6) Тот, незаметно став у входа в амфитеатр (а там темно, поэтому он понадеялся остаться незамеченным), обнажив кинжал, внезапно подступил к Коммоду и громким голосом объявил, что это послано ему сенатом; не успев нанести рану, он, теряя время на произнесение слов и показ оружия, был схвачен телохранителями[62] государя и поплатился за свое неразумие, так как, объявив о своем замысле раньше, чем выполнить его, он дал возможность себя, заранее уличенного, задержать, а тому, заранее предупрежденному, — остеречься. (7) Это было первой и главной причиной ненависти юноши к сенату; сказанное ранило его душу, и он стал считать всех сенаторов вместе врагами, постоянно помня о речи напавшего на него. (8) И у Перенниса оказался подходящий предлог и основание: ведь он всегда советовал Коммоду обрывать и обрубать всех, кто выдавался среди других; грабя их имущество, он очень легко стал богатейшим из современных ему людей. Благодаря Переннису расследование было произведено очень тщательно, и Коммод казнил свою сестру[63], а также беспощадно всех, кто состоял в заговоре, и тех, кто подвергся каким бы то ни было подозрениям[64].
9. (1) Устранив всех, кого уважал Коммод и кто выказывал ему отеческое расположение и заботился о его спасении, Переннис, сделавшись всемогущим, начал замышлять захватить власть; он убеждает Коммода вручить командование иллирийскими войсками[65] его сыновьям[66], еще молодым людям, а {13} сам собирает огромные деньги, чтобы великолепными раздачами склонить войско к отпадению. Сыновья же его тайно накапливали силы, чтобы попытаться захватить власть, после того как Переннис умертвит Коммода. (2) Замысел стал известен удивительным образом. Римляне устраивают священные игры в честь Юпитера Капитолийского[67]; при этом соединяются все зрелища, в которых обнаруживается умение и сила, как это и подобает, когда императорский город справляет празднество. Вместе с другими жрецами, которых призывает к этому очередь по прошествии определенного срока, зрителем и судьей бывает государь. (3) Когда Коммод прибыл, чтобы послушать знаменитых участников состязания, и занял императорское кресло, а театр наполнился при соблюдении полного порядка и высокопоставленные лица сели в выделенные для них кресла, как каждому полагалось, прежде чем на сцене что-либо было сказано или сделано, человек, по виду философ (у него в руках был посох, и на нем, полуобнаженном, висела сума)[68], вбежал и, став посреди сцены, заставив движением руки умолкнуть народ, сказал: (4) «Не время тебе, Коммод, теперь справлять празднество и заниматься зрелищами и торжествами; к твоей шее приставлен меч Перенниса, и если ты не убережешься от опасности, которая не нависает, а уже надвинулась, ты сам не заметишь, как погибнешь. Ведь сам он здесь собирает против тебя силу и деньги, а дети его подговаривают иллирийское войско. Если ты не предупредишь их, ты пропал». (5) Когда он это сказал либо под воздействием роковой неизбежности, либо осмелев ради снискания славы, тогда как раньше он был неизвестен и незаметен, либо понадеявшись получить от государя щедрую награду, Коммод впадает в безмолвие. И все начали подозревать то, о чем было сказано, но притворялись, что не верят. Переннис приказывает схватить его и как безумного и говорящего ложь предать сожжению. Такому наказанию тот подвергся за несвоевременную откровенную речь. (6) Те из окружения Коммода, кто притворялся преданным ему, уже давно ненавидя Перенниса (ведь он был неприятен и невыносим из-за своего высокомерия и наглости), получив теперь удобный случай, пытались очернить его[69]. Значит, суждено было Переннису вместе с его сыновьями погибнуть злой смертью. (7) Прибыли немного времени спустя какие-то воины, тайно от сына Перенниса, и привезли монеты с выбитым его изображением; не замеченные Переннисом, хотя он и был начальником, и показав монеты Коммоду и сообщив ему о тайных замыслах, сами они получили большие награды; (8) к Переннису же, не знавшему об {14} этом и ничего подобного не ожидавшему, Коммод ночью подсылает людей и отрубает ему голову; высылает людей, которые мчались бы стремительнее молвы и могли бы предстать перед сыном Перенниса, еще не знавшем о том, что произошло в Риме; написав дружеское письмо и сказав, что зовет его, подавая надежды на более высокое положение, он велит ему прибыть. (9) Тот, ничего не ведая ни о приготовлениях и замыслах, ни о том, что с его отцом, так как вестники сказали, что отец на словах дал такое же приказание, письма же никакого не прислал, считая достаточным императорское послание — поверив этому, молодой человек, хотя и досадуя и негодуя из-за того, что оставляет свои замыслы неосуществленными, все же полагаясь на будто бы еще прочное могущество отца, решается выехать. (10) Когда он был уже в Италии, люди, которым это было приказано, умертвили его[70]. Такой конец постиг их[71]. Коммод же поставил двух префектов[72], полагая, что безопаснее не вверять столь высокую должность одному; он надеялся, что, разделенная, она слабее будет внушать желание захватить императорскую власть.
10. (1) По прошествии недолгого времени возник против него другой злой умысел такого рода. Был некий Матерн, прежде воин, осмелившийся на многие ужасные поступки, покинувший ряды войска и уговоривший других бежать вместе с ним от тех же обязанностей; собрав в короткое время большую шайку злодеев, он сначала разбойничал, делая набеги на деревни и поля, завладев же множеством денег, он с помощью щедрых обещаний даров и участия в дележе добычи собрал большее число злодеев, так что их оценивали уже не как разбойников, а как военных преступников. (2) Они нападали уже на крупнейшие города и, насильно взламывая имевшиеся в них тюрьмы, освобождая от оков и выпуская заключенных по любым обвинениям, обещая им безнаказанность, своими благодеяниями привлекали их к своему союзу. Опустошая всю страну кельтов и иберов [73], вторгаясь в крупнейшие города, частично сжигая их, прочее же подвергая разграблению, они уходили. (3) Когда об этом было сообщено Коммоду, он рассылает наместникам провинций послания, преисполненные гнева и угроз, обвиняя их в беспечности, и приказывает им собрать против тех войско[74]. Те, узнав, что против них стягиваются силы, удалились из тех местностей, которые они опустошали, и тайком самыми скорыми и недоступными путями небольшими группами начали проникать в Италию; Матерн стал уже задумываться об императорской власти и более великих делах. {15}
(4) Вследствие того, что в прежних его начинаниях удача превзошла все ожидания, он счел необходимым, совершив нечто великое, добиться успеха или, раз уже он подвергся опасности, погибнуть не незаметно и не без славы. Полагая, что сила у него не столь большая, чтобы в столкновении при равных условиях и при открытом нападении устоять против Коммода (он принимал в расчет, что масса римского народа еще продолжает быть преданной Коммоду, а также преданность окружавших его телохранителей), он надеялся одолеть его с помощью хитрости и ума. И он придумывает следующее. (5) В начале весны каждого года, в определенный день римляне совершают шествие в честь матери богов[75], и все имеющиеся у кого бы то ни было драгоценные вещи и императорские сокровища, все, что замечательно благодаря материалу или искусству, проносится в шествии впереди богини. Всем предоставляется неограниченная возможность всяких шуток, и каждый принимает вид, какой хочет; нет столь большого и высокого звания, облекшись в одежды которого, всякий желающий не мог бы шутить и скрывать истину, так что нелегко различить подлинного и представляемого.
(6) Матерн решил, что это — подходящее время для незаметного осуществления его злого умысла; ведь он надеялся, приняв вид телохранителя и таким же образом вооружив своих людей, смешав их с толпой копейщиков так, чтобы их считали участниками шествия, внезапно напасть на никем не охраняемого Коммода и убить его. (7) Однако вследствие того, что произошло предательство и некоторые из его людей раньше проникли в город и выдали его замысел (их к тому побудила зависть, так как им предстояло иметь его уже не главарем разбойников, а господином и государем), Матерн до наступления праздника был схвачен и обезглавлен, а его сообщники подверглись заслуженному наказанию. Коммод же, совершив жертвоприношение богине и пообещав благодарственные дары, с ликованием справлял торжество и сопровождал богиню. Народ одновременно с торжеством праздновал спасение государя.
11. (1) Римляне особенно почитают эту богиню по следующей причине, как мы узнали из исторического предания; упомянуть о ней мы решили вследствие незнакомства с ней некоторых эллинов. Сама статуя, как говорят, является ниспосланной от Зевса — неизвестны ни материал ее, ни мастер, который ее сделал, и к ней не прикасалась рука человеческая. Есть молва, что она была спущена с неба в одну местность во {16} Фригии[76] (имя ей Пессинунт, а это название место получило от упавшей с неба статуи) [77] и впервые была там увидена.
(2) У других же мы находим, что там, как говорят, произошла война между фригийцем Илом и лидийцем Танталом — согласно одним, из-за границ, согласно другим — в связи с похищением Ганимеда; вследствие того, что битва длилась долго без чьего-либо перевеса, с обеих сторон пало порядочно людей; и это несчастье дало название месту. Там, говорят, исчез и похищенный Ганимед, когда брат и любовник тащили его в разные стороны; так как тело его исчезло, то происшествие с юношей стало предметом мифа о божественном вмешательстве и о похищении Зевсом[78]. В названном выше Пессинунте в древности фригийцы справляли оргии у протекающей там реки Галла, от которой носят название кастрированные жрецы богини[79]; (3) когда же стало возвышаться государство римлян, им, говорят, было дано предсказание, что их держава пребудет прочной и очень возвеличится, если они привезут к себе пессинунтскую богиню. Отправив послов к фригийцам, они потребовали статую; согласия они добились легко, ссылаясь на родство и перечисляя преемственность поколений от фригийца Энея[80] до них самих. Доставленная на корабле и находившаяся в устье Тибра (римляне пользовались им вместо гавани)[81], статуя остановила божественной силой судно. (4) Хотя римляне всем народом долго тянули корабль, последний из-за сопротивления ила поплыл вверх не раньше, чем была приведена жрица Весты[82]. Ей полагалось сохранять девственность, но ее обвиняли в нарушении чистоты. Вследствие того, что ей предстоял суд, она умоляет народ передать решение пессинунтской богине; сняв с себя пояс, она привязала его к носу корабля, произнеся молитву, чтобы, если она девственна и чиста, судно поддалось ей. (5) Привязанный к поясу корабль легко поддался, и римляне удивлялись одновременно и обнаружению воли богини и непорочности девушки[83]. Пусть это будет с благоговением рассказано о пессинунтской богине; в этом будет не лишенное приятности познание для тех, кто недостаточно осведомлен в римских делах. Коммод же, избежав злого умысла Матерна, усилил свою охрану и стал редко показываться народу, проводя большую часть времени в предместьях и императорских имениях вдали от города и отстраняясь от участия в судах и в государственных делах.
12. (1) Случилось так, что в это время чумная болезнь охватила Италию; наибольшей силы болезнь достигла в городе Риме, который сам по себе многолюден и принимает приезжих отовсюду; погибало множество и вьючного скота и людей. {17} (2) Тогда Коммод по совету некоторых врачей удалился в Лаврент: ведь это место, отличающееся благодатной прохладой и осененное лавровыми рощами (откуда происходит и название места)[84], оказалось спасительным и, как говорили, сопротивлялось заражению воздуха благодаря благовонию лавровых испарений и приятной тени деревьев. Но и жители Рима по предписанию врачей наполняли ноздри и уши самым благовонным миром и постоянно употребляли курения и пахучие вещества, так как некоторые говорили, что благовоние, опередив, наполняет проходы чувствительных органов и препятствует восприятию вредоносного воздуха, а то, что раньше попадает туда, подавляется более мощной силой благовония. Болезнь тем не менее сильно свирепствовала, и погибло множество людей и живущих с людьми животных.
(3) В это самое время на город надвинулся и голод по следующей причине. Был некий Клеандр, родом фригиец, из тех, кто обычно продается публично по объявлению глашатая[85]; став домашним рабом государя, он вырос вместе с Коммодом и был им удостоен такой чести и могущества, что ему были доверены личная охрана, заведывание опочивальней государя и командование войсками[86]; богатство и роскошь внушили ему страстное желание захватить императорскую власть. (4) Накапливая деньги и скупая в огромном количестве хлеб и держа его под замком, он надеялся привлечь к себе народ и лагерь[87], сначала вызвав недостаток провианта, затем, когда они благодаря щедрым раздачам попадут ему в руки, привлечь их к себе ввиду нужды в самом необходимом. Построив огромный гимнасий[88], он передал им его в качестве общественной бани[89]. Так он пытался приманить народ.
(5) Римляне же, враждебно относившиеся к нему и приписывавшие ему причину страшных бед, ненавидевшие его ненасытную жажду богатства, сначала дурно говорили о нем, сходясь в театрах толпами и, наконец, во время пребывания Коммода в предместье[90], двинувшись всем народом, стали кричать и требовать смерти Клеандра. (6) В предместье происходило смятение, а Коммод предавался удовольствиям в уединенных местах и не знал общих толков, так как Клеандр запрещал сообщать ему что-либо о происходившем. Внезапно, неожиданно для народа появляются, по приказанию Клеандра, все императорские всадники[91] во всеоружии. Они начали поражать встречных и наносить им раны. (7) Народ не был даже в состоянии противостоять им, невооруженные — вооруженным и пешие — всадникам. Обратившись в бегство, они устремились в город. Народ подвергался истреблению не толь-{18}ко от того, что его поражали воины и растаптывали кони; многие погибали в давке среди толпы и падая друг на друга, теснимые всадниками. (8) До ворот Рима всадники, не встречая препятствий, беспощадно убивали попадавшихся им под руку; когда же оставшиеся в городе, узнав о случившейся беде, заперев входы в дома, поднявшись на крыши, начали бросать во всадников камнями и черепицами, тем пришлось терпеть то, что они сами совершали, так как никто не сражался с ними грудь с грудью, а народная масса поражала их, сама находясь уже в безопасности; получая раны и не в состоянии держаться, они обратились в бегство, и многие из них погибали. (9) Из-за непрерывного швыряния камней кони, ступая по катившимся камням, поскальзывались и сбрасывали всадников. С обеих сторон многие падали, а к народу из-за ненависти к конным приходили на помощь и находившиеся в городе пешие воины[92].
13. (1) В то время как происходила междоусобная война, никто другой не хотел сообщить о ней Коммоду из страха перед могуществом Клеандра; старшая же из сестер Коммода (имя ей было Фадилла)[93], вбежав к государю (доступ для нее, сестры, был легким и беспрепятственным) с распущенными волосами и бросившись на землю, (2) всем своим видом изобразив горе, сказала: «Ты, о государь, пребывая в спокойствии вследствие неведения того, что творится, подвергаешься величайшей опасности; мы же, твои родственники, вот-вот погибнем! Нет у тебя римского народа и большей части воинов. То, что мы не ожидали претерпеть ни от кого из варваров, это проделывают с нами наши домашние и кого ты больше всего облагодетельствовал — эти и оказываются твоими врагами; (3) Клеандр вооружил против тебя народ и воинов; настроенные по-разному и под влиянием неодинакового образа мыслей, одни — ненавидя его (это народ), другие — любя (вся конница), они находятся под оружием и, губя друг друга, наполнили Рим родственной кровью. Беды обеих толп захватят и нас, если ты не выдашь как можно скорее на смерть дурного слугу, который для одних уже стал виновником столь великого истребления, а для нас совсем скоро будет». (4) Сказав такое и разорвав на себе одежду, она, как и некоторые из присутствовавших, осмелевшие после слов сестры государя, напугали Коммода. Последний, потрясенный и страшась нависающей опасности, не предстоящей, а уже надвинувшейся, посылает за Клеандром, ничего не знавшим о том, что было доложено, но кое-что подозревавшим. Когда он пришел, Коммод приказывает схватить его и, отрубив ему голову и насадив {19} ее на длинное копье, посылает народу как приятное и желанное зрелище. (5) Так прекратился ужас и обе стороны перестали воевать, воины — увидя убитым того, ради кого они сражались, и из страха перед гневом государя (они понимали, что были обмануты и их дерзкие поступки были совершены вопреки его воле); народ же был удовлетворен, отомстив тому, кто совершил ужасные дела. (6) Сверх того, они убили и детей Клеандра (у него их было двое мужского пола)[94] и умертвили всех, кто, как они знали, был его другом[95]; влача их тела и подвергая их всяческому поруганию, они, наконец, принесли их обезображенными к водосточным каналам и бросили туда [96]. Таков был конец Клеандра и его близких[97]; можно было бы сказать, что природа постаралась на одном примере показать, что незначительный и неожиданный поворот судьбы может поднять из крайнего ничтожества до величайшей высоты и опять бросить вниз возвеличенного.
(7) Коммод, опасаясь волнения народа — как бы последний чего-либо над ним не учинил, все же по настоянию близких возвратившись в город, принятый со всяческим славословием сопровождавшего его народа, вернулся в императорский дворец. Испытав столь великие опасности, он стал относиться с недоверием ко всем, беспощадно убивая и легко веря всем наветам[98]; он не допускал к себе никого из достойных уважения, отстранился от благородных занятий, и всю его душу поработили чередовавшиеся ночью и днем необузданные чувственные наслаждения. (8) И всякий разумный и хотя бы умеренно причастный к образованности человек изгонялся из дворца как злоумышленник, а балагуры и исполнители самых постыдных ролей держали его под своей властью. Он учился быть возницей на колесницах и сражаться лицом к лицу со зверями[99], причем льстецы воспевали это, прославляя как проявление мужества, а он предавался таким занятиям более непристойным образом, чем это подобало разумному государю.
14. (1) Появились в это время и некоторые божественные знамения. Непрерывно были видимы днем звезды, другие растягивались в длину, так что, казалось, повисали посреди воздуха[100]. Часто рождались отклонявшиеся от своей природы животные, имевшие чуждый вид и несуразные части тела. (2) Самое же грозное, что огорчило и на данное время и встревожило на будущее всех, видевших в этом знамение и дурные примеры, то, что хотя перед тем не выпадал дождь и не собирались тучи, а лишь было небольшое землетрясение — потому ли, что ночью упала молния или откуда-то вследствие земле-{20}трясения распространился огонь, — сгорело все святилище Мира[101], бывшее самым большим и самым прекрасным из сооружений в городе. (3) Это был богатейший из всех храмов, ввиду своей безопасности украшенный посвящениями из золота и серебра; всякий хранил там то, что имел[102]. Но огонь в ту ночь многих превратил из богачей в бедняков. Поэтому все сообща скорбели об общем достоянии, а каждый — о своем собственном. (4) После того, как огонь уничтожил храм и всю ограду, он распространился на большую часть прекраснейших сооружений города; в то время был уничтожен огнем храм Весты, и увидели появившееся на свет изваяние Паллады, привезенное из Трои[103], почитаемое и скрываемое римлянами; тогда-то впервые после его прибытия из Илиона в Италию его увидели люди нашего времени[104]. (5) Ведь девы, жрицы Весты, схватив изваяние, перенесли его по Священной улице[105] в императорский дворец. Сгорело и очень много других частей города, и притом прекраснейших; в течение немалого числа дней, наступая, огонь пожирал все и перестал не раньше, чем обрушившиеся дожди сдержали его порыв[106]. (6) Поэтому во всем этом происшествии увидели нечто божественное, так как в то время тогдашние люди верили, что возникновение и прекращение огня было проявлением воли и всемогущества богов. Некоторые предполагали на основании этого происшествия, что гибель храма Мира было предзнаменованием войны; последовавшие события, как мы расскажем в дальнейшем, подтвердили своим исходом существовавшую ранее молву. (7) Ввиду того, что много ужасных бедствий непрерывно постигало город, римский народ перестал благосклонно смотреть на Коммода и начал объяснять причины следовавших одно за другим несчастий его казнями без суда и прочими злодеяниями в его жизни. Ведь то, что делалось, не было скрыто от всех, да и сам он не хотел скрывать: то, что он делал дома и о чем злословили, это он осмеливался открыто выставлять напоказ. (8) Он дошел до такого безумия и пьяного бесчинства, что прежде всего отверг свое прозвание по отцу и вместо Коммода, сына Марка, приказал именовать себя Гераклом, сыном Зевса[107]; сняв с себя римское и императорское облачение, он натягивал на себя львиную шкуру и носил в руках дубину[108]; носил он и пурпурные и златотканные одежды, так что стал смешным, подражая своим внешним видом одновременно и расточительству женщин и силе героев[109]. (9) Таким он появлялся во время своих выходов. Изменил он и названия месяцев года, отменив древние и назвав все месяцы своими собственными прозваниями, большая часть которых {21} относилась к Гераклу как наиболее мужественному[110]. Он поставил и свои статуи по всему городу и даже против здания сената — статую с натянутым луком — он хотел, чтоб и его изображения грозили ужасом[111]. Эту статую сенат после его смерти убрал и воздвиг изображение свободы.
15. (1) Коммод, уже не сдерживая себя, принял участие в публичных зрелищах, дав обещание собственной рукой убить всех зверей и сразиться в единоборстве с мужественнейшими из юношей. Молва об этом распространилась, и со всей Италии и соседних провинций сбегались люди, чтобы посмотреть на то, чего они раньше не видали и о чем не слыхали. Ведь толковали о меткости его руки и о том, что он, бросая копье и пуская стрелу, тщательно избегал промахов. (2) При нем были обучавшие его чрезвычайно опытные в стрельбе из лука парфяне и лучшие метатели копья мавританцы[112] — их всех он превосходил ловкостью. Когда же наступили дни зрелищ[113], амфитеатр наполнился; для Коммода была устроена ограда в виде кольца, чтобы он не подвергался опасности, сражаясь со зверями лицом к лицу, но бросая копье сверху, из безопасного места[114], выказывал больше меткость, нежели мужество. (3) Он поражал оленей и газелей и других рогатых животных, какие еще есть, кроме быков, бегая вместе с ними и преследуя их, опережая их бег и убивая их ловкими ударами; львов же и леопардов и других благородных зверей, какие есть еще, он, обегая вокруг, убивал копьем сверху. И никто не увидел ни второго дротика, ни другой раны, кроме смертоносной; (4) как только животное выскакивало, он наносил удар в лоб или в сердце и никогда не метил в другую цель, и дротик его не попадал в другую часть тела так, чтобы одновременно с ранением не причинять и смерть. Отовсюду для него привозились животные. (5) Тогда мы увидели то, чему мы удивлялись на картинах: он, убивая, показал римлянам всех животных, дотоле неизвестных, из Индии и Эфиопии, из южных и северных земель. Все поражались меткости его руки. Как-то, взяв стрелы, наконечники которых имели вид полумесяца, он, выпуская их в мавританских страусов, мчавшихся благодаря быстроте ног и изгибу крыльев с необыкновенной скоростью, обезглавливал их, перерезая верхнюю часть шеи; даже лишенные голов из-за стремительности стрел, они продолжали бежать вокруг, будто с ними ничего не случилось. (6) Когда однажды леопард в своем чрезвычайно быстром беге настиг выпускавшего его человека и готовился укусить его, Коммод, опередив своим дротиком, зверя убил, а человека спас, опередив наконечником копья острие зубов. Однажды, когда из {22} подземелий была одновременно выпущена сотня львов, он убил их всех таким же количеством дротиков — трупы их лежали долго, так что все спокойно пересчитали их и не увидели лишнего дротика. (7) До этих пор, хотя его поступки и не соответствовали императорскому положению, однако в них было благодаря мужеству и меткости нечто приятное для простого народа; когда же он вышел обнаженный в амфитеатр и, взяв оружие, начал вступать в единоборство, тогда уже народ с неодобрением посмотрел на зрелище — благородный римский император, после стольких трофеев отца и предков, берет не против варваров воинское или подобающее римской власти оружие, но глумится над своим достоинством, принимая позорнейший и постыдный вид. (8) Вступая в единоборство, он легко одолевал противников, и дело доходило до ранений, так как все поддавались ему, думая о нем как о государе, а не как о гладиаторе[115]. Дошел он до такого безумия, что не хотел больше жить в императорском жилище[116], но пожелал переселиться в казарму гладиаторов. Себя он повелел называть уже не Гераклом, но именем одного знаменитого незадолго до того скончавшегося гладиатора. Отрубив голову величайшей колоссальной статуи, почитаемой римлянами, представляющей собой изображение Солнца [117], он поместил там свою голову, подписав на основании обычные императорские и отцовские прозвания, но вместо «Германский» — «победивший тысячу гладиаторов».
16. (1) Нужно же было когда-нибудь и ему перестать безумствовать, и Римской державе перестать быть под властью тирана. С наступлением дня нового года он намеревался… В этот день римляне справляют праздник, связывая его с древнейшим местным богом Италии; говорят, что Кронос[118], лишенный власти Зевсом, стал, спустившись на землю, гостем этого бога; боясь могущества сына, он скрылся, прячась у него. Отсюда и было дано названии этой местности Италии — и она стала называться Лацием — слово было перенесено из греческого языка в местный[119]. (2) Поэтому и до сих пор италийцы справляют предварительно кронии в честь скрывавшегося бога[120], а начало года празднуют в честь италийского бога. Поставлено его двуликое изображение, так как год начинается и кончается им. С наступлением этого торжества римляне особенно поздравляют и приветствуют друг друга и доставляют друг другу удовольствие, взаимно даря деньги и наделяя всеми благами, приносимыми землей и морем[121]; (3) эпонимные должностные лица тогда в первый раз надевают на себя, на год, знаменитую пурпурную одежду[122]. В то время как все {23} занимались празднованием, Коммод пожелал выйти не из императорского дома, как это принято, а из казармы гладиаторов и предстать перед римлянами не в красиво окаймленной императорской порфире, а неся сам оружие в сопровождении остальных гладиаторов. (4) Когда он сообщил об этом своем намерении Марции[123], которой он больше всего дорожил из своих наложниц (ее положение ничем не уступало положению законной жены, у нее было все, что и у Августы, за исключением преднесения факела), — она, узнав о столь неразумном и непристойном его желании, сначала упрашивала и, припав к его ногам, умоляла со слезами не оскорблять Римскую державу и не подвергать себя опасности, отдавшись гладиаторам и пропащим людям. (5) Ничего не добившись от него своими продолжительными мольбами, она ушла, проливая слезы; Коммод же, послав за Летом, префектом претория [124], и Эклектом, своим главным спальником[125], приказал сделать все приготовления, так как он намерен переночевать в казарме гладиаторов и оттуда выступить для совершения торжественных жертвоприношений, чтобы римляне увидели его в оружии. Они начали умолять его и пытались уговорить не делать ничего, недостойного императорской власти.
17. (1) Коммод, раздосадованный, прогнал их, а сам вошел в спальню, чтобы поспать (он обыкновенно делал это в полдень); взяв материал для письма — такой, что изготовляется из липовой коры в самом тонком виде и складывается путем сгибания с обеих сторон, он записывает тех, кого следует этой ночью казнить. (2) Из них первой была Марция, за ней следовали Лет и Эклект, а за ними большое количество первых людей в сенате. Старших и еще оставшихся отцовских друзей он хотел всех устранить, стыдясь иметь почтенных свидетелей своих безобразных дел, а имуществом богатых он желал облагодетельствовать воинов и гладиаторов и разделить его между ними, чтобы одни охраняли его, а другие развлекали. (3) Сделав запись, он кладет эту записку на кровать, решив, что никто туда не войдет. Был ребеночек, совсем маленький, — из тех, какие ходят без одежды, украшенные золотом и драгоценными камнями (ими забавляются живущие в роскоши римляне). Коммод чрезвычайно любил его, так что даже часто спал с ним; назывался он Филокоммодом — и это прозвание указывало на любовь к нему государя[126]. (4) Когда Коммод ушел, чтобы по обыкновению купаться и пить, этот ребеночек, попросту резвясь, вбежал по обыкновению в спальню и, взяв лежавшую на кровати записку, чтобы поиграть ею, выходит из покоя. По воле какого-то божества он встретился с {24} Марцией. Она (также любившая ребеночка), обняв и целуя его, отнимает записку, боясь, как бы он, неразумный, по неведению не уничтожил, играя, что-нибудь нужное. Узнав руку Коммода, она была охвачена любопытством прочитать написанное. (5) Обнаружив, что оно несет смерть и что ей предстоит умереть прежде всех, Лет и, Эклект последуют за ней, а затем будет столько казней других, она, испустив стон и сказав про себя, — «прекрасно, Коммод, — это благодарность за мою преданность и любовь, и за твою наглость и пьянство, которое я терпела столько лет; но ты, пьяный, не совершишь это безнаказанно над трезвой женщиной», — (6) сказав это, она посылает за Эклектом — он обыкновенно приходил к ней, как хранитель спальни; злословили даже, что она сожительствует с ним. Дав ему записку, она сказала: «посмотри, какое нам предстоит всенощное празднество». Прочтя и ужаснувшись, Эклект (он был родом египтянин, склонный от природы дерзать и действовать, и вместе с тем поддаваться гневу), запечатав записку, посылает ее через какого-то своего верного человека для прочтения Лету. (7) Тот, также встревоженный, приходит к Марции, будто для того, чтобы обдумать вместе с ними приказания государя и то, что относилось к казарме гладиаторов; притворившись, будто обдумывают важные для него дела, они условливаются лучше опередить его каким-нибудь действием, нежели потерпеть от него: нет времени для промедления или отсрочек. (8) Принимается решение: дать Коммоду яд; Марция обещала очень легко дать его — ведь она обыкновенно замешивала и подавала первое[*] питье, чтобы ему приятнее было пить от любимой. Когда он пришел после купания, она, налив в чашу яду, замешав благовонным вином, дает ему пить. Испытывая жажду после долгого купания и упражнений со зверями, он и выпил как обычную заздравную чашу, ничего не замечая. (9) Немедленно же он впал в оцепенение и, чувствуя позыв ко сну, подумав, что это происходит с ним от утомления, лег отдохнуть. Эклект же и Марция приказали всем удалиться и разойтись по домам, — они будто бы подготовляли для него тишину. Так обыкновенно случалось с Коммодом и в другое время из-за опьянения: часто моясь и часто принимая пищу[127], он не имел определенного времени для отдыха, предаваясь чередовавшимся разнообразным наслаждениям, которым он даже против своей воли рабски служил в любой час. (10) Недолго он оставался спокойным, а когда яд дошел до желудка и брюшной полости, наступило головокружение и затем появилась обильная рвота — потому ли, что имевшаяся ранее пища вместе с большим количеством {25} напитков вытесняла яд, или из-за предварительно принятого противоядия, которое обычно всякий раз принимают государи перед пищей.
(11) Из-за обильной рвоты они испугались, как бы Коммод, извергнув весь яд, не протрезвился и им всем не пришлось погибнуть, и убеждают некоего юношу по имени Нарцисс[128], крепкого и цветущего, войти к Коммоду и задушить его, пообещав дать великие награды. Ворвавшись, он, схватив за горло ослабевшего от яда и опьянения Коммода, убивает его[129]. (12) Таков был конец жизни Коммода, который процарствовал тринадцать лет после смерти отца[130], превосходил благородством происхождения государей, своих предшественников, красотой и стройностью тела больше всех выделялся среди людей своего времени; если же следует сказать и о мужестве, он никому не уступал в меткости и ловкости рук. Если бы только он не запятнал этих прекрасных качеств позорными занятиями, как рассказано выше. {26}
1. (1) Умертвив Коммода, как это показано в первой книге Истории, и желая скрыть происшедшее, заговорщики, чтобы обмануть охранявших императорский дворец[1] телохранителей, завернули труп в дешевое покрывало и, связав его, положили на плечи двум слугам из числа верных им и отправляют будто какой-то лишний предмет из спальни. (2) Носильщики проносят его мимо стражей, из которых одни после пьянства находились в состоянии похмелья, другие, бодрствовавшие, также склонялись ко сну и отдыхали, обнимая руками копья, третьи не очень интересовались тем, что выносилось из спальни, так как и для них не было важно знать это. Итак, тело государя, таким образом похищенное и вынесенное за ворота дворца, они ночью положили на повозку и отослали в предместье. (3) Лет и Эклект вместе с Марцией советовались о том, что следует делать. Они решили распространить слух о смерти Коммода, будто он внезапно скончался от случившейся с ним апоплексии; они полагали, что слух вызовет к себе доверие, так как уже и до того предметом злословия было его ненасытное и чрезмерное обжорство. Прежде всего, они решили выбрать какого-нибудь мужа, воздержанного старца, который принял бы на себя власть, чтобы и им самим спастись и всем отдохнуть от необузданной тирании. Рассуждая между собой, они нашли, что нет никого более подходящего, нежели Пертинакс[2]. (4) Пертинакс был родом италиец, прославившийся во многих воинских и гражданских делах, воздвигнувший много трофеев против германцев и восточных варваров[3], единственный оставшийся в живых у Коммода из почтенных друзей отца[4]. Тот не убил его, наиболее заслуженного из товарищей и полководцев Марка, либо из уважения к его почтенности, либо пощадив его как человека бедного. Ведь среди его заслуживших похвалы качеств было и то, что, получив в свое ведение больше, чем все другие, он владел меньшим, чем все другие, имуществом[5]. (5) К этому Пертинаксу глубокой ночью, когда все были погружены в сон, приходят Лет и Эклект, ведя за собой немногих из заговорщиков. Явившись к дверям его запертого дома, они будят привратника. Тот, открыв и увидя представших воинов и Лета, бывшего, как он знал, префектом, в страхе и смятении докладывает о них. (6) Пертинакс {27} предлагает им войти, говоря, что ему не страшно то, что он всегда ожидает. Говорят, что он сохранил такое душевное спокойствие, что даже не вскочил с кровати, но остался в прежнем положении и со спокойным лицом, не побледнев, обратился к Лету, вошедшему вместе с Эклектом, хотя и казалось, что тот пришел убить его. (7) «Давно уже, — сказал он, — и каждую ночь я ждал такого конца и, оставшись в живых единственный из друзей отца, удивлялся, что Коммод медлит со мной. Что вас задерживает? Ведь вы исполните приказание, а я освобожусь от дурного ожидания и непрерывного страха». (8) На это Лет сказал: «Перестань говорить то, что недостойно тебя и твоей прошлой жизни! Этот наш приход — не на твою погибель, но на спасение и нас самих и Римской державы. Повергнут тиран, получивший должное возмездие, и то, что он хотел сделать с нами, он претерпел от нас. (9) Мы приходим, чтобы вручить тебе императорскую власть, зная, что ты в сенате выделяешься воздержанностью жизни, великим достоинством и почтенностью возраста, что народ тоскует по тебе и уважает тебя; поэтому мы и ожидаем, что совершаемое будет и для них желанным и для нас спасительным». (10) На это Пертинакс сказал: «Перестаньте издеваться над стариком и не считайте меня столь малодушным, чтобы сначала желать обмануть меня, а затем и убить!». «Но, — сказал Эклект, — раз ты не веришь нашим словам, возьми эту записку (ведь ты знаешь руку Коммода, так как чтение ее тебе привычно) и прочти; так ты узнаешь, какой опасности мы избежали, и убедишься, что в наших словах нет притворства, а есть истина». Прочитав написанное, Пертинакс, поверив людям, и прежде бывшими его друзьями, и узнав обо всем, что было совершено, сдается[6].
2. (1) И сначала принимается решение пройти к лагерю и испытать настроение воинов; уговорить их обещал Лет, так как они питали к нему, как к префекту, надлежащее уважение. (2) И вот, взяв с собой и других, сколько их оказалось, они поспешили к лагерю. Уже миновала большая часть ночи, и ввиду предстоявшего праздника все это совершилось до наступления дня[7]. Они рассылают некоторых верных людей, чтобы громко объявлять о том, что Коммод умер, а Пертинакс отправляется в лагерь, чтобы принять императорскую власть. (3) Когда этот слух распространился, весь народ, подобно впавшему в неистовство, предался ликованию; каждый с радостью рассказывал новость своим близким и особенно высокопоставленным и богатым; ведь знали, что Коммод больше всего злоумышлял против них. Спешили к храмам и алтарям, {28} воздавая благодарность богам. (4) Выкрикивали разное: одни говорили, что повергнут тиран, другие — гладиатор, иные ругались более непристойно; и те слова, от которых прежде удерживал страх, с наступлением безнаказанности и свободы стали легко произноситься. Большая часть народа направлялась бегом к лагерю. Они торопились, больше всего боясь, что воины не очень охотно подчинятся власти Пертинакса. (5) Они ждали, что эту власть, которая будет благоразумной, воины, привыкшие рабски повиноваться тирании и приученные к грабежам и насилиям, примут без особой готовности. Для того, чтобы заставить их покориться, они и сошлись всем народом. Когда они оказались в лагере[8], Лет и Эклект вошли, ведя с собой Пертинакса. Собрав воинов, Лет сказал следующее: (6) «Император наш Коммод умер от апоплексии, а виноват в такой смерти не кто-нибудь другой, но сам он перед собой; не соглашаясь с нами, дававшими ему всегда наилучшие и спасительные советы, прожив так, как вы хорошо знаете, он погиб, задушенный чрезмерной едой. И вот его постиг предопределенный конец; ведь не одна и не одинаковая у всех людей причина смерти, они различны, но приводят к единому окончанию жизни. (7) Но вместо него мы и римский народ ведем вам мужа возрастом почтенного, по образу жизни воздержанного, человека испытанной в делах доблести; старшие из вас испытали его воинские деяния, а остальные столько лет уважали его и восхищались им как городским префектом[9]. (8) Судьба дает вам не только государя, но и превосходного отца. Его власть будет радовать не только вас, являющихся здесь его телохранителями, но и тех, кто размещен по берегам рек и на границах Римской державы, они хранят в памяти его испытанные деяния. Варваров же мы не будем больше подкупать деньгами; они покорятся из страха, вследствие того, что испытали от него, когда он командовал войском». (9) Во время речи Лета народ, не сдерживая себя, хотя воины еще медлили и колебались, провозглашает Пертинакса Августом, именует его отцом и прославляет всяческими славословиями. Тогда и воины, хотя и не с такой же готовностью, под давлением присутствовавшего множества народа (ведь они были со всех сторон окружены народом, сами притом в небольшом числе и без оружия ввиду праздника) все же присоединились к крику и назвали Пертинакса Августом[10]. (10) Принеся ему обычную присягу и совершив жертвоприношения, весь народ и воинство с лавровыми ветвями проводили на рассвете Пертинакса в императорский дворец[11]. {29}
3. (1) Он же, водворенный в императорском жилище[12], — туда его, как сказано выше, ночью проводили воины и народ — испытывал в мыслях тревогу, обуреваемый величайшими заботами. Пертинакса, хотя он и слыл человеком крепкой души и во всех отношениях мужественным, сильно страшило создавшееся положение, но не в силу соображений о собственном спасении (ведь он часто проявлял презрение к еще большим опасностям); он размышлял о внезапном прекращении тирании и о благородном происхождении некоторых лиц в сенате, которые, как он подозревал, не примирятся с переходом власти от знатнейшего государя к человеку, пробившемуся к ней из простого и незначительного рода[13]. (2) Хотя образ его жизни благодаря воздержанности вызывал похвалы и он был славен своими воинскими деяниями, однако благородством происхождения он сильно уступал патрициям. С наступлением дня он отправился на заседание сената, не позволив ни нести перед собой факел, ни поднять вверх какой-нибудь другой символ, прежде чем не станет известным мнение сената. (3) Когда же при его появлении все единодушно восславили его и назвали Августом и государем[14], он сначала отказывался от власти, способной вызвать зависть, и, ссылаясь на старость, просил о снисхождении, говоря, что есть много патрициев, которым больше подходит императорская власть. Взяв за руку Глабриона[15], он начал тянуть его, предлагая сесть на императорский трон. (4) Тот был знатнейшим из патрициев (свой род он возводил по прямой линии к Энею, сыну Афродиты и Анхиса [16]) и уже два раза был консулом. Он сказал: «Но сам я, которого ты считаешь достойнейшим из всех, уступаю тебе власть и своим голосованием я и все прочие отдаем тебе всю полноту власти». Тогда под давлением и по настоянию всех Пертинакс с колебаниями и неуверенно взошел на императорский трон[17] и сказал следующее: (5) «Ваше очень благоприятное отношение к оказываемой мне чести и исключительное рвение, а также ваш выбор, в котором вы отдаете мне предпочтение перед вашей столь великой знатностью, — все это, не вызывающее подозрения в лести, но доказывающее и удостоверяющее ваше доброе расположение, кому-нибудь другому, возможно, внушило бы смелость и готовность немедленно принять то, что вручено, и подало бы ему надежду на беззаботное правление, так как он будто бы легко справится с властью над столь расположенными подданными; (6) меня же, чувствующего значение оказанной мне чести, величие и исключительность всего этого приводят в смущение и внушают мне немалый страх и беспокойство. Ведь когда прежде оказы-{30}ваются великие благодеяния, равноценное воздаяние в качестве признательности становится трудным; и если получившие малое воздают большим, то это кажется не столько легким, сколько подобающим выражением благодарности; когда же тот, кто первым сделает какое-либо благодеяние, заслужит безмерную благодарность, то несоответствующее воздаяние именуется не столько безвыходностью, сколько бесчувственностью и вместе с тем неблагодарностью. (7) Вижу, что мне навязано необычное соревнование — выказать себя достойным столь великой чести, вами мне оказанной. Ведь председательство заключается не в кресле, но в деяниях, когда человек не позорит это кресло. Насколько настоящее вызывает ненависть как дурное, настолько предстоящее пробуждает великие надежды как благое. И неблаговидные деяния всегда запоминаются (ведь то, что огорчило, смывается с трудом), а память о благотворных деяниях приходит к концу вместе с получаемой от них пользой, (8) так как свобода радует не в той степени, в какой печалит рабство, и всякий, спокойно владея своим достоянием, не испытывает признательности, думая, что он пользуется своей собственностью, а лишенный своего имущества вечно хранит память о том, кто его опечалил. Так же, если происходит какая-нибудь благоприятная перемена в государственных делах, он не думает, что получает от этого какую-нибудь выгоду, потому что у каждого в отдельности мало заботы о том, что полезно народу и имеет общее значение, а если в частных делах нет желанной удачи, каждый думает, что он не извлекает никакой выгоды. (9) Приученные роскошно жить благодаря безрассудным и расточительным щедротам тирании не называют перемену, вызванную благоразумием и расчетливостью из-за недостатка денег, разумной бережливостью и обдуманным и рассудительным правлением, а бранят мелочность и нищенский образ жизни, не зная того, что великие и неразборчивые раздачи не могли бы быть продолжительными без грабежей и насилий, а стремление распределять все разумно и по заслугам каждого, не делая ничего ужасного, не доставляет несправедливого изобилия денег, но приучает к благоразумному и бережному отношению к тому, что добыто честным путем[18]. (10) Уяснив себе это, вы должны содействовать мне и, считая управление державой нашим общим делом, готовясь подчиниться аристократии, а не тирании, сами иметь добрые надежды и всем подданным обещать это». (11) Пертинакс такой речью[19] чрезвычайно обрадовал сенат и вызвал со стороны всех славословия, получив от них всяческий почет и знаки уважения[20]; провожаемый в храм {31} Юпитера[21] и другие святилища и совершив жертвоприношения за императорскую власть, он возвратился в императорский дворец.
4. (1) Когда распространилась молва о том, что было сказано им в сенате, и о его послании народу, все чрезвычайно радовались, надеясь иметь в нем почтенного и ласкового начальника и отца, а не государя. Ведь он приказал воинам прекратить своеволие по отношению к простым людям, не носить в руках дубинок и не бить никого из прохожих[22], он пытался во все внести благоустройство и порядок и во время своих выходов и в судах[23] выказывал мягкий и кроткий нрав. (2) Старших он радовал, напоминая им о правлении Марка, которое он ставил себе в образец и которому подражал, а расположение всех прочих, испытавших переход от жестокой и наглой тирании к разумной и беззаботной жизни, он очень легко привлек к себе. Разнесшаяся молва о кроткой власти побуждала все племена, подвластные и дружественные Риму[24], а также все лагеря считать его власть божественной. (3) Но и те из варваров, которые раньше проявляли непослушание или сопротивлялись, боясь его и помня его доблесть в прежних его походах и глубоко веря, что он, всякому воздавая по заслугам, далекий от неуместной милости и жестокого насилия, никогда никого сознательно не обидит, добровольно подчинялись ему. Со всех сторон прибывали посольства, так как все радовались римской власти под началом Пертинакса. (4) Все другие люди радовались и сообща и каждый в отдельности кроткой и соблюдающей порядок императорской власти. Но то, что восхищало всех, это и огорчало одних только находившихся в Риме воинов, которые обычно были телохранителями государей. Так как им запрещалось грабить и своевольничать и их призывали к порядку и благопристойности, они, считая мягкость и кротость власти глумлением над собой, бесчестием и упразднением ничем не сдерживаемого произвола, не выносили вводимой властью дисциплины[25]. (5) Сначала они стали понемногу проявлять медлительность и неповиновение по отношению к приказам[26], наконец, по прошествии неполных двух месяцев царствования Пертинакса[27], после того, как он за короткое время принял много разумных и благотворных мер и у подвластных стали возникать добрые надежды, злая судьба, позавидовав и опрокинув все, помешала довести до конца достойные удивления и полезные для подданных меры. (6) Прежде всего, он позволил занимать всякому в Италии и прочих странах сколько кто хочет и может невозделанной и вообще совсем не обработанной земли, хотя бы она была собствен-{32}ностью императора, а проявив заботу и возделав ее, — стать ее хозяином; возделывающим землю он даровал освобождение от всех податей на десять лет и навеки беспрепятственное владение[28]. (7) Он запретил обозначать его именем императорские владения, сказав, что они являются не частной собственностью царствующего, а общей и народной собственностью Римской державы[29]. Отменив все пошлины, придуманные раньше при тирании с целью получать обильные средства — на берегах рек, в портах городов и на проездных дорогах, — он установил прежние свободные порядки[30]. (8) Он намеревался еще больше облагодетельствовать подвластных, как это обнаруживали его планы; ведь он подверг гонению доносчиков в Риме и приказал карать тех, кто находился в разных местах, заботясь о том, чтобы никто не терпел от них вреда и не подвергался неосновательным обвинениям[31]. Сенат особенно, но и все остальные ожидали, что будут проводить жизнь в безопасности и счастье[32]. (9) Он был таким скромным и так любил равенство, что даже своего сына, бывшего уже в юношеском возрасте, не ввел в императорский дворец; тот оставался в отеческом доме[33] и посещал обыкновенные школы и гимнасии для частных лиц, воспитывался и делал все наравне с остальными, никогда не выставляя напоказ императорского тщеславия или пышности.
5. (1) В то время как в жизни водворялось такое добронравие и благораспорядок, одни только телохранители, досадуя по поводу настоящего положения, тоскуя по грабежам и насилиям, происходившим при прежней тирании, и по возможности проводить время в распутстве и попойках, замыслили устранить Пертинакса, так как он был для них несносным и ненавистным, и поискать кого-нибудь, кто вернет им прежний неограниченный и разнузданный произвол. (2) И вот внезапно, когда никто этого не ожидал, но все пребывали в спокойствии, они, направляясь бегом из лагеря под влиянием гнева и безрассудного порыва, среди белого дня ворвались во дворец с поднятыми копьями и обнаженными мечами[34]. (3) Перепуганная необычностью и неожиданностью происходившего дворцовая прислуга, находясь в небольшом числе и без оружия против многочисленных вооруженных, не выдержала; все, покинув порученный им пост, бежали или через вход во двор или через другие входы[35]. Немногие из преданных[36], сообщив Пертинаксу о нападении, советовали ему бежать и отдаться под защиту народа. (4) Он же, не послушавшись тех, кто давал ему полезный при данных обстоятельствах совет, считая это недостойным, неблагородным и не соответствую-{33}щим императорской власти и прежней его жизни и деяниям, не пожелал бежать или скрыться и, идя навстречу опасности, выступил, чтобы поговорить с ними, понадеявшись убедить их и на данный момент положить конец неразумному порыву[37]. (5) Выйдя из своего покоя, он, встретившись с ними, пытался расспросить их о причинах их порыва и пробовал убеждать их не поддаваться неистовству, сам при этом сохраняя сдержанный и почтенный вид и соблюдая императорское достоинство и отнюдь не являя собой вид оробевшего, струсившего или умоляющего человека.
(6) «Быть мне убитым вами, — сказал он, — в этом нет ничего значительного или тяжкого для старца, достигшего — со славою — глубокой старости — ведь всякой человеческой жизни неизбежно положен предел; вам же, слывущим стражами и охранителями государя, самим стать убийцами и запятнать свои правые руки кровью не только единоплеменной, но и императорской — смотрите, как бы это не оказалось в данный момент нечестивым, а впоследствии — опасным. Ведь я не сознаю за собой ничего, чем бы я вас огорчил. (7) Если вы испытываете неудовольствие по поводу смерти Коммода, то ведь нет ничего удивительного в том, что его, человека, постигла смерть. Если же вы думаете, что это случилось по злому умыслу, то в этом нет моей вины; вы знаете, что я вне всякого подозрения и в такой же степени, как и вы, не ведаю, что тогда произошло, так что если вы что-то подозреваете, предъявляйте обвинение другим. (8) Но все же, хотя он и скончался, у вас не будет недостатка ни в чем, что может быть дано пристойным образом и по заслугам, без насилия надо мной и без грабежа». Пытаясь говорить им такие речи, он был близок к тому, чтобы убедить некоторых из них, и немалое их число повернулось и начало уходить, испытывая уважение к старости почтенного государя, но более дерзкие[38], бросившись на старца, пока он еще говорил, убивают его[39]. (9) Совершив такое жестокое дело, они, устрашившись своей отваги, желая удалиться до прихода народа и зная, что народная масса будет негодовать по поводу совершившегося, возвратились бегом в лагерь и, заперев все ворота и входы, оставались в стенах, поставив на башнях стражу, чтобы защищаться, если народ атакует стену. Такой конец постиг Пертинакса[40], жизнь и стремления которого изложены выше.
6. (1) Когда в народе распространилась весть об убийстве государя, всех охватило смятение и горе; они бегали как безумные, и несказанное волнение охватило народ — они искали совершивших убийство и не могли ни найти их, ни ото-{34}мстить. (2) Особенно тяжело переживали совершившееся и смотрели на это как на общее несчастье члены сената, потерявшие кроткого отца и превосходного председателя. Снова был страх перед тиранией, так как по их ожиданиям именно этому радовались воины. (3) По прошествии одного или двух дней простолюдины начали расходиться, опасаясь каждый за себя, а высокопоставленные лица стали уезжать в расположенные как можно дальше от города имения, чтобы, находясь в Риме, не потерпеть чего-либо ужасного от власти, которая установится. (4) Воины же, узнав, что народ успокоился и никто не осмеливается мстить за кровь государя, продолжали, запершись, оставаться в стенах, но, выведя самых громкоголосых из своей среды, объявляли о продаже императорской власти, обещая вручить власть тому, кто даст больше денег, и с помощью оружия беспрепятственно привести его в императорский дворец. (5) Когда это объявление стало известным, то более почтенные и рассудительные члены сената, а также сколько было патрициев и богатых людей, в небольшом числе уцелевших от тирании Коммода, не подошли к стене и не пожелали за деньги приобрести непристойную и позорную власть. (6) Некоему же Юлиану[41], уже бывшему консулом, слывшему обладателем огромных денежных средств, было сообщено об объявлении воинов, когда он под вечер пировал, пьянствуя и опохмеляясь, — его невоздержанная жизнь вызывала нарекания.(7) И вот жена, дочь и толпа сотрапезников[42]уговаривают его соскочить с ложа, поспешить к стене и узнать о том, что делается; по дороге они все время советуют ему схватить лежащую под ногами власть и, если бы кто-нибудь оспаривал ее, превзойти всех щедростью, так как он владеет несметными деньгами. (8) Подойдя к стене, он начал кричать, обещая дать все, сколько они желают, и говорил, что у него имеется очень много денег и сокровищницы, наполненные золотом и серебром. В то же самое время и Сульпициан, также из бывших консулов, ставший префектом Рима (он был отцом жены Пертинакса)[43] явился, стремясь купить власть. (9) Его, однако, воины не допустили к себе из страха перед его родственными отношениями с Пертинаксом — как бы не оказалось какого-либо обмана с целью покарать за его убийство. Спустив лестницу, они подняли на стену Юлиана: отворить ворота они не хотели ранее, чем узнают о количестве денег, которое будет им дано. (10) Поднявшись, он пообещал им восстановить память о Коммоде, почести и изображения, которые уничтожил сенат, а также дать им свободу делать все, которую они при нем имели, а каждому воину столько серебра, {35} сколько они не надеялись ни потребовать, ни получить[44], с деньгами не будет задержки — он сейчас же затребует их из дома. (11) Убежденные этим и окрыленные такими надеждами, воины провозглашают Юлиана императором и требуют, чтобы он вдобавок к своему собственному и унаследованному имени стал называться Коммодом [45]. Подняв военные значки и вновь прикрепив на них изображения последнего[46], они стали готовиться сопровождать Юлиана. (12) Юлиан, принеся в лагере установленные императорские жертвы, вышел в сопровождении воинов, охраняемый большим их числом, чем это принято; ведь купив власть путем насилия и вопреки воле народа, с позорной и непристойной дурной славой, он, естественно, боялся, что народ будет ему противиться. (13) Итак, воины во всеоружии и сомкнутым строем в виде фаланги, чтобы в случае надобности сразиться, имея в середине своего государя, потрясая над головой щитами и копьями из опасения, как бы на их шествие не бросали с домов камни, отвели его во дворец[47], причем никто из народа не осмеливался противостать, но и не славословил, как это принято при сопровождении государей; наоборот, стоя вдали, они проклинали его и злословили о нем, потому что он приобрел власть за деньги. (14) Тогда впервые начали портиться нравы воинов[48], и они начали ненасытно и постыдно стремиться к деньгам и пренебрегать подобающим уважением к правителям[49]. То обстоятельство, что никто не выступил против дерзко осуществленного столь жестокого убийства государя и не воспрепятствовал столь непристойному объявлению и продаже власти за деньги, было начальным толчком и причиной их непристойного и непокорного настроения и на будущее время, так как их корыстолюбие и презрение к правителям возросло и привело к пролитию крови.
7. (1) И вот Юлиан, придя к власти, сразу же стал заниматься удовольствиями и попойками, легкомысленно относясь к государственным делам[50] и предавшись наслаждениям и недостойному времяпрепровождению. Как оказалось, он солгал воинам и обманул их, так как не мог выполнить то, что обещал; (2) ведь и собственных денег было у него не так много, как он хвастался, не было их и в государственных сокровищницах[51] — все уже ранее было опустошено из-за разнузданности Коммода и его нерасчетливых и беспорядочных расходов. Вследствие такой его дерзости и по такой причине воины, обманутые в своих надеждах, роптали, а народ, узнав о настроении воинов, стал относиться к нему с презрением, так что при его выходах злословили и насмехались над его постыд-{36}ными и сомнительными развлечениями. (3) На пути в ипподром[52], где народные массы, сходясь вместе, особенно тесно общаются между собой, они проклинали Юлиана и призывали на защиту Римской державы и на охрану императорской власти Нигера и высказывали пожелание, чтобы он как можно скорее пришел на помощь к ним, подвергающимся поруганию. (4) Нигер принадлежал к числу тех, кто давно уже был консулом, а в то время, когда в Риме происходило вышеописанное, он управлял всей Сирией[53]. Это было тогда обширное и очень важное наместничество[54], так как все финикийское племя и земли до Евфрата находились над началом Нигера. (5) Сам он был уже в достаточно пожилом возрасте и успел прославиться во многих значительных делах. Была распространена молва, что он человек порядочный и дельный и подражает образу жизни Пертинакса[55], все это и склонило римлян на его сторону. Они постоянно призывали его там, где собирался народ, и, проклиная присутствовавшего в Риме Юлиана, славословили того, отсутствовавшего, наделяя его императорскими званиями. (6) Когда Нигеру сообщили о настроении римского народа и о непрерывных возгласах в местах собраний, он, естественно, дав себя убедить[56] и ожидая, что обстоятельства легко ему покорятся, особенно благодаря тому, что окружавшие Юлиана воины не дорожили им, так как он не выполнял своих обещаний насчет денег, предается надежде на захват императорской власти. (7) Сначала вызывая к себе на дом в небольшом числе начальников, трибунов[57] и видных воинов, он беседовал с ними и убеждал их[58], открывая то, о чем извещали из Рима, — чтобы благодаря распространившемуся слуху все это стало известным и знакомым как воинам, так и прочим людям на Востоке; (8) он надеялся, что таким образом все очень легко присоединятся к нему, когда узнают, что он не по злому умыслу стремится к власти, но, будучи призван, пойдет, желая помочь просящим его об этом римлянам. Все они воспламенились и без промедления присоединились к нему, настаивая, чтобы он взял в свои руки государственные дела. (9) Сирийское племя по природе легко возбудимо и склонно к изменению существующего положения. Была у них и какая-то приязнь к Нигеру, который мягко правил во всем и большую часть времени проводил в празднествах вместе с ними. Сирийцы по природе — любители празднеств; из них в особенности жители Антиохии, крупного и богатого города, справляют празднества почти круглый год — в самом городе и в предместьях[59]. (10) Итак, Нигер, непрерывно доставлявший им зрелища, к {37} которым они питают особенное пристрастие, и предоставлявший им свободу справлять праздники и предаваться веселью, естественно, почитался ими, так как делал то, что им нравилось.
8. (1) Зная об этом, созвав отовсюду воинов к назначенному дню, он, когда собралась и остальная масса и ему была приготовлена трибуна, поднявшись на нее, сказал так:
(2) «Кротость моего образа мыслей и осторожность перед великими дерзаниями, возможно, давно известны вам. Я и теперь не выступил бы перед вами, чтобы произнести такую речь, если бы меня к тому побуждал только личный замысел и неразумная надежда или стремление к надежде на нечто большее. Но меня зовут римляне и своим непрестанным криком торопят меня протянуть спасительную руку и не смотреть безучастно на позорно повергнутую столь славную и овеянную доблестью со времен предков власть. (3) Подобно тому как дерзание на такие дела при отсутствии разумного повода является опрометчивым и наглым, так медлительность по отношению к зовущим и просящим влечет за собой обвинение в малодушии и вместе с тем в предательстве. Поэтому я выступил, чтобы узнать, каково ваше мнение и что, по-вашему, следует делать, — взяв вас в советники и соучастники в данных обстоятельствах; ведь исход, если он будет удачным, даст мне и вам общую выгоду. (4) Нас зовут не слабые и пустые надежды, а римский народ, которому боги уделили господство над всем и империю, а также неустойчивость власти, ни за кем прочно не утвердившейся. Наше начинание будет безопасным благодаря настроению призывающих и потому, что никто не противостоит и не препятствует нам; (5) ведь и те, кто сообщает о тамошних делах, говорят, что даже воины, которые продали ему власть за деньги, не являются его верными слугами, так как он не выполнил того, что обещал[60]. Итак, дайте знать, каково ваше мнение».
(6) После такой его речи немедленно все войско и собравшаяся толпа провозгласили его императором и назвали Августом; набросив на него императорскую порфиру и наскоро собрав прочие знаки императорского отличия, они ведут Нигера с преднесением факела в храмы Антиохии и доставляют в его жилище, считая последнее уже не частным домом, а императорским дворцом[61] и украсив его извне всеми императорскими символами.
(7) Нигер очень радовался этому в душе, он полагал, что его шансы на получение власти упрочились благодаря настроению римлян и рвению людей вокруг него. Ведь когда разнес-{38}шийся слух дошел до всех народов, населяющих лежащий против Европы материк[62], не оказалось никого, кто бы неохотно стремился подчиниться ему, — от этих народов отправлялись в Антиохию посольства к нему как к признанному всеми государю. (8) Цари и сатрапы стран по ту сторону Тигра и Евфрата[63] слали ему письма с выражением радости и обещали свою помощь, если он в чем-нибудь нуждается. Он в ответ щедро наделял их дарами и, выражая благодарность, говорил, что не нуждается в союзниках, так как его власть твердо упрочена и он будет править без пролития крови. (9) Воодушевленный этими надеждами, он стал менее заботиться о делах и, склонясь к изнеженности, предавался развлечениям вместе с антиохийцами, отдаваясь празднествам и зрелищам. Об отправлении в Рим, с чем следовало бы особенно спешить, он не думал. (10) Хотя необходимо было как можно скорее появиться перед иллирийскими войсками и привлечь их к себе, опередив других, он даже не извещал их ни о чем, что делается, надеясь, что тамошние воины, если они когда-нибудь узнают об этом, согласятся с желанием римлян и мнением лагерей, расположенных на Востоке.
9. (1) В то время как он предавался таким мечтам и убаюкивал себя пустыми и неясными надеждами, о происшедшем начали приходить сообщения[64] к паннонцам и иллирийцам и ко всему тамошнему войску, которое размещено по берегам Истра и Рейна и, удерживая живущих по ту сторону варваров, охраняет Римскую державу. (2) Начальствовал над всеми паннонцами (они находились под единой властью)[65] Север, родом ливиец[66], проявлявший силу и энергию в управлении, привыкший к суровой и грубой жизни, очень легко переносивший труды, быстрый в своих замыслах и скорый в исполнении задуманного. (3) Узнавая от тех, кто приносил сообщения, что висящую в воздухе власть над римлянами похитили Юлиан и Нигер, осудив беспечность одного и малодушие другого… завладеть делами. Его побуждали сновидения, подававшие ему такую надежду, а также предсказания и знамения, предвещавшие будущее; все это признается неложным и истинным тогда, когда исполняется в благоприятном смысле. (4) Большую часть этого он сам рассказал, внеся в свое жизнеописание[67], и сделал посвящения в виде официальных изображений; последнее же и наиболее важное сновидение, осветившее всю его надежду, и нам не следует обойти молчанием. (5) В то время как было объявлено о принятии власти Пертинаксом, Север, возвратившись домой после своего выхода, жертвоприношения и принесения присяги Пертинаксу, с наступлением {39} вечера погрузился в сон; ему привиделся великолепный большой конь, украшенный императорскими бляхами, несущий на себе сидевшего верхом Пертинакса по Священной улице[68]в Риме. (6) Когда он оказался у выхода на площадь, где прежде, при республике, народ сходился на народное собрание[69], конь стряхнул с себя Пертинакса и сбросил его, а перед ним, Севером, стоявшим поблизости, склонился и, подняв его на свою спину, нес в безопасности и остановился на середине площади, высоко подняв Севера, так что все его видели и оказывали ему почет. И до нашего времени сохраняется в том месте огромное изображение этого сновидения, сделанное из бронзы[70]. (7) Так Север, вознесшись в мыслях, надеясь на то, что божественный промысел призывает его к власти, начал испытывать настроение воинов, сначала привлекая к себе небольшими группами начальников, трибунов и видных людей в лагерях, беседуя с ними о Римской державе и говоря, что она совсем повержена и нет никого, кто бы ею управлял благородным образом и по достоинству. (8) Он осуждал находившихся в Риме воинов за их неверность и за то, что они запятнали свою присягу императорской и родственной кровью, говорил о необходимости отомстить и покарать за убийство Пертинакса. Он знал, что все воины в Иллирике помнят о командовании Пертинакса; (9) ведь в царствование Марка Пертинакс, воздвигнув много трофеев против германцев, назначенный военачальником и правителем Иллирика, проявил всяческое мужество в битвах против врагов, а по отношению к подчиненным выказал благожелательность и доброту в соединении с разумной и пристойной нетребовательностью[71], поэтому они, чтя его память, негодовали по поводу столь жестокого и дерзкого поступка с ним. (10) Ухватившись за этот предлог, Север легко вовлек их в то, чего хотел, притворяясь, будто он не так желает захватить власть и приобрести для себя могущество, как отомстить за кровь такого государя. (11) Тамошние люди очень крепки телом, пригодны для битв и очень кровожадны, но в такой же степени тяжкодумны и неспособны легко понять то, что говорится или делается с хитростью или коварством. И вот, поверив Северу, притворявшемуся, будто он огорчен и хочет отомстить за смерть Пертинакса, они предоставили себя в его распоряжение, так что объявили его императором и вручили ему власть[72]. (12) Узнав настроение паннонцев, он начал рассылать своих людей в соседние провинции и ко всем правителям подчиненных римлянам северных племен и, склоняя их всех большими обещаниями и надеждами, легко привлек их к себе[73]. (13) Больше, чем кто-ли-{40}бо другой из людей, он обладал особой способностью притворяться и внушать доверие к своей благожелательности, не скупился на клятвы, чтобы затем, если нужно было, нарушить их, прибегал ко лжи ради выгоды, и с языка его сходило то, чего не было на уме.
10. (1) Удовлетворив своими посланиями всех в Иллирике… и вместе с тем начальников, он привлек их к себе. Собрав отовсюду воинов[74] и назвав себя Севером Пертинаксом[75], что, как он надеялся, было приятно не только иллирийцам, но и римскому народу ради памяти о Пертинаксе, он созвал их на равнину и, когда для него была воздвигнута трибуна, поднявшись на нее, сказал следующее: (2) «Вашу верность и благочестие по отношению к богам, которыми вы клянетесь, ваше уважение к государям, которых вы почитаете, вы обнаружили тем, что негодуете на дерзостный поступок находящихся в Риме воинов, которые служат больше для торжественных шествий, нежели для проявления мужества. И мне, никогда раньше не имевшему в мыслях такой надежды (ведь вам известно мое повиновение по отношению к прежним государям), желательно теперь довести до конца и завершить то, что угодно вам, и не смотреть безучастно на повергнутую Римскую державу, (3) которая прежде, до Марка, управлялась с соблюдением достоинства и казалась священной; когда же она досталась Коммоду, то хотя кое в чем он по молодости допускал оплошности, однако последние прикрывались его благородным происхождением и памятью отца; и его проступки вызывали больше сожаление, чем ненависть, так как большую часть того, что происходило, мы относили не к нему, а к окружавшим его льстецам, одновременно советчикам и слугам неподобающих дел. (4) Когда же власть перешла к почтенному старцу, воспоминание о мужестве и порядочности которого еще прочно в наших душах, они этого не вынесли, но устранили такого мужа путем убийства. Некто, позорным образом купивший столь великую власть над землей и морем, ненавидим, как вы слышите, народом и уже больше не внушает доверия тамошним воинам, которых он обманул. (5) Их, если бы даже они, оставаясь преданными, стали ради него в строй, вы все вместе превосходите числом, а каждый в отдельности — храбростью; вы закалены упражнениями в военных делах и, всегда выстроенные против варваров, привыкли переносить всякие труды, презирать морозы и жару, ступать по замерзшим рекам и пить выкапываемую, а не черпаемую из колодца воду. Вы закалились на охотах, и во всех отношениях у вас имеются благородные данные для проявления мужества, так {41} что если бы даже кто-нибудь захотел противостать вам, он не мог бы сделать это. (6) Проверка воинов — напряжение, а не роскошная жизнь; взращенные в ней и предаваясь попойкам, они не будут в состоянии вынести ваш крик, а не то что битву. Если же кто-нибудь относится с подозрением к тому, что происходит в Сирии, то он мог бы заключить о плохом состоянии и безнадежности тамошних дел из того, что те не осмелились выступить из своей страны и не решились задумать поход на Рим, охотно оставаясь там, и считают достижением для своей еще не прочной власти один день роскошной жизни. (7) Сирийцы обладают способностью остроумно, с шуткой насмехаться и особенно жители Антиохии, которые, как говорят, привержены к Нигеру; остальные же провинции и остальные города за неимением теперь того, кто будет достоин власти, за отсутствием того, кто будет властвовать, управляя мужественно и разумно, явно притворяются, что подчиняются ему. (8) Если же они узнают, что иллирийские силы проголосовали единодушно, и услышат наше имя, которое для них не является безвестным и незначительным со времени нашего управления там в качестве наместника[76], будьте уверены, что они не будут обвинять меня в нерадивости и вялости и, значительно уступая вам в росте, выносливости в трудах и в рукопашном бою, предпочтут не испытать на себе вашу крепость и стойкость в бою. (9) Итак, поспешим раньше занять Рим, где находится императорское жилище; двигаясь оттуда, мы без труда будем управлять остальным, доверяясь божественным прорицаниям и мужеству вашего оружия и ваших тел».
После такой речи воины, славословя Севера и называя его Августом и Пертинаксом, выказывали всяческую готовность и рвение.
11. (1) Север же, не давая времени для промедления, приказал им снарядиться как можно легче и объявил об отправлении к Риму; распределив средства[77] и припасы на дорогу, он двинулся в путь. Поход он совершал быстро, форсированным маршем и с сильным напряжением, нигде не задерживаясь и не давая времени для передышки, разве что настолько, чтобы воины, немного отдохнув, продолжали путь[78]. (2) Он разделял с ними их труды, пользовался простой палаткой, и ему подавали ту же пищу и то же питье, какие, как он знал, были у всех; нигде он не выставлял напоказ императорскую роскошь. Поэтому он обеспечил себе еще большую преданность воинов; уважая его за то, что он не только вместе с ними переносит трудности, но первый берет их на себя, воины ревностно выполняли все. {42}
(3) Быстро пройдя Паннонию, он появился у границ Италии и, опередив молву, предстал перед тамошними жителями как уже прибывший государь раньше, чем они услышали о предстоящем его прибытии. Великий страх охватывал италийские города, когда они узнавали о нашествии такого большого войска. Ведь люди в Италии, давно отвыкнув от оружия и войн, занимались земледелием и жили среди полного мира. (4) Пока Рим управлялся по-республикански и сенат посылал на войну полководцев, все италийцы были под оружием и покорили землю и море, воюя с эллинами и варварами, и не было такой части земли или склона неба, куда бы римляне не распространили свою власть. (5) С тех пор же как единовластие перешло к Августу, последний освободил италийцев от трудов, лишил их оружия и окружил державу укреплениями и лагерями, поставив нанятых за определенное жалование воинов в качестве ограды Римской державы; он обезопасил державу, отгородив ее великими реками, оплотом из рвов или гор, необитаемой и непроходимой землей. (6) Поэтому тогда, узнавая о том, что подходит Север с таким большим войском, они, естественно, приходили в смятение от необычности этого события; противостоять или препятствовать они не осмеливались, но выходили навстречу с лавровыми ветвями и принимали, раскрыв ворота[79]. Он же останавливался настолько, чтобы принести жертвы и обратиться с речью к народу, и спешил в Рим. (7) Когда об этом сообщали Юлиану, он впадал в крайнее отчаяние[80], слыша о мощи и многочисленности иллирийского войска, не доверяя народу, так как последний его ненавидел, не полагаясь на воинов, которых он обманул. Собирая всякие деньги — и свои собственные, и от друзей, и забирая из государственных казнохранилищ и храмов те, какие там находились, он пробовал распределять их между воинами, чтобы приобрести их расположение. (8) Они же, хотя и получали большие деньги, не испытывали благодарности: ведь они считали, что он выплачивает свой долг, а не раздает подарки. Юлиан же, хотя друзья советовали ему вывести войско[81] и заранее занять проходы в Альпах — эти высочайшие горы, каких больше нет на нашей земле, наподобие стены ограждают Италию и выдвинуты вперед — природа вдобавок к прочим благам наделила италийцев и этим: на подступах к ним имеется выдвинутое вперед несокрушимое и… прикрытие, доходящее от северного моря до моря, обращенного к югу[82], (9) однако Юлиан не осмеливался даже выйти из города; он рассылал людей, прося воинов вооружаться, упражняться и рыть окопы перед городом[83]. Его приготовления были таким, словно он {43} намерен был дать битву Северу в городе; всех слонов, которые служат римлянам для торжественных шествий, он приучал носить на спинах башни и людей, думая таким образом поразить иллирийцев и привести в смятение вражескую конницу — видом и величиной животных, ранее ими не виданных[84]. Тогда весь город изготовлял оружие и готовился к военным действиям.
12. (1) В то время как воины Юлиана все еще медлили и подготовляли то, что нужно для войны, приходит сообщение, что Север уже подходит. Последний, разъединив большую часть войска, приказывает прокрадываться в город[85]. Они, разделившись по всем дорогам, в большом числе… ночью тайно проникли в Рим, скрывая оружие в гражданской одежде. (2) И уже враги были внутри, а Юлиан все еще был спокоен и не знал, что творится. Когда это стало известно народу, все были в большом замешательстве и, страшась мощи Севера, притворились его сторонниками, осуждая Юлиана за малодушие, а Нигера за медлительность и беззаботность; Севером же, слыша о том, что он уже пришел, они восхищались. (3) Юлиан в полном недоумении — что говорить и что делать, не зная как поступить при таких обстоятельствах, приказав собраться сенату, посылает письмо, в котором предлагал Северу мир и, объявив его императором, сделал его соучастником власти. Сенат одобрил это [86], но все, видя, что Юлиан робеет и находится в отчаянии, стали уже переходить на сторону Севера[87]. (4) По прошествии двух или трех дней, слыша, что Север уже у самого города, они, презрев Юлиана, сходятся в здание сената по распоряжению консулов[88], которые обычно управляют римскими делами, когда императорская власть теряет устойчивость. (5) Собравшись, они рассуждали о том, что следует предпринять, в то время как Юлиан все еще находился в императорском дворце, жалуясь на постигшую его судьбу, умолял и готов был отречься от власти и уступить всю полноту ее Северу. (6) Узнав, что Юлиан в такой степени пал духом и стража из телохранителей из страха перед Севером покинула его, сенат постановляет — Юлиана убить и провозгласить Севера единственным императором; сенаторы отправляют к последнему посольство из должностных лиц и самых видных сенаторов[89], чтобы поднести ему все знаки достоинства Августов. (7) К Юлиану посылается один из трибунов, чтобы убить малодушного и жалкого старика, за собственные деньги купившего такой плохой конец. Его нашли покинутым и оставленным всеми; постыдно жалуясь, он был умерщвлен[90]. {44}
13. (1) После того как Северу было сообщено о постановлении сената и об убийстве Юлиана, он в своих мыслях поднялся до более крупных деяний и прибегнул к уловке, чтобы заполучить в свои руки и захватить убийц Пертинакса. Он тайно посылает письма лично трибунам и центурионам с большими обещаниями, чтобы они убедили находившихся в Риме воинов беспрекословно повиноваться приказам Севера[91]; (2) отправляет он и общее послание в лагерь с приказом оставить в лагере все оружие, а самим выйти мирным строем, обычным в тех случаях, когда они идут перед императором, совершающим жертвоприношения или справляющим празднество, затем принести присягу Северу, идти же с добрыми надеждами, так как они будут телохранителями Севера. (3) Поверив посланию и склоненные трибунами, воины оставили все оружие, а сами спешили в одних только предназначенных для шествий одеждах[92], неся лавровые ветви. Когда они пришли к лагерю Севера и было объявлено об их прибытии на поле, куда приказывает им сойтись Север… как бы для того, чтобы приветствовать их и обратиться к ним с речью. (4) Как только они подошли, чтобы единодушно славословить взошедшего на трибуну Севера, всех их по единому сигналу схватывают; ведь войску Севера было заранее сказано — когда те будут стоять, глядя на государя, и их внимание будет поглощено этим, окружить их по военным правилам, никого не ранить и не поражать, но удерживать и сторожить, расставив вокруг них оружие, потрясать диболиями[93] и копьями, чтобы они, опасаясь ранений, не пытались сражаться невооруженные против вооруженных и немногочисленные против многочисленных. (5) Когда же он держал их пленниками, окруженными оружием, словно поймав их на облаве, он громким голосом и гневным тоном сказал им следующее: «Что мы превосходим вас и хитростью, и воинской силой, и численностью соратников, — это вы видите на деле: вы легко захвачены и взяты в плен без всякого труда. Я могу сделать с вами то, что мне будет угодно, и вы уже лежите как жертвы нашего могущества. (6) Если бы кто-нибудь поискал наказание за ваши дерзновенные поступки, то не мог бы найти кару, наложение которой было бы подходящим для содеянного. Почтенного старца и превосходного государя, которого следовало бы спасать и охранять, вы убили; всегда славную власть над Римом, которую наши предки приобрели благодаря доблестному мужеству или получили по наследству благодаря благородному происхождению, вы постыдно и бесчестно продали за деньги как какое-то частное имущество. (7) Но и того, кого вы таким образом выбрали в властители, вы {45} оказались не в состоянии оберечь и спасти, но трусливо предали его. За столь великие проступки и дерзновенные дела вы достойны бесчисленного количества смертей, если бы кто-нибудь пожелал определить кару. Вы видите, что вам следует претерпеть; но я пощажу вас и не убью и не буду подражать делам ваших рук; (8) однако так как было бы и нечестиво и несправедливо, чтобы вы оставались телохранителями государя, — вы, кощунственно нарушившие присягу, запятнавшие свои правые руки родственной и императорской кровью, предавшие верность и надежность стражи, — получите как дар моего человеколюбия ваши души и тела, но воинам, оцепившим вас, я велю разжаловать вас и, сняв с вас имеющуюся на вас воинскую одежду[94], отпустить вас обнаженными. (9) Приказываю вам уйти как можно дальше от Рима; угрожаю, клянусь и заявляю, что если кто-нибудь из вас окажется ближе сотого мильного камня от Рима[95], он поплатится головой».
(10) После такого его приказа иллирийские воины, подбежав, отнимают висевшие у них на боку и служившие для шествий короткие мечи, украшенные серебром и золотом, и, сорвав с них пояса, одежды и всякие воинские знаки, выгнали их. (11) Они же, вероломно преданные и захваченные хитростью, подчинялись — что было делать обнаженным против вооруженных и немногочисленным против многочисленных? Они ушли, сокрушаясь, и были рады дарованной им сохранности, но, схваченные позорным и издевательским образом, раскаивались в том, что пришли невооруженными. (12) Север прибегнул и к другой хитрости: опасаясь, как бы они после разжалования в отчаянии не побежали в лагерь и не взялись за оружие, он предварительно послал отборных, известных ему своей силой людей разными дорогами и тропинками, чтобы они незаметно вошли в лагерь[96], где не было ни одного человека, и, завладев оружием, не пускали бы тех, если бы те подступили. Такое наказание получили убийцы Пертинакса.
14. (1) Север же со всем прочим вооруженным войском вступает в Рим; при самом своем появлении он поразил и привел в ужас римлян своими удачными дерзновенными деяниями. Народ и сенат принимал с пальмовыми ветвями первого из людей и государей, бескровно и без труда завершившего столь великие начинания. (2) Все в нем вызывало удивление, больше всего — присутствие ума, стойкость в трудах, соединенная с твердой уверенностью, смелость в дерзновениях. После того как народ принял его со славословием и сенат приветствовал его при вступлении в город, он, поднявшись в храм Юпитера и принеся жертву, совершив, как это полагается го-{46}сударю, при благоприятных знамениях жертвоприношения в прочих храмах, удалился во дворец[97]. (3) На следующий день, явившись в сенат, он обращался ко всем с речами, очень благожелательными и преисполненными добрых надежд, приветствуя всех вместе и в отдельности, говоря, что он приходит как каратель за убийство Пертинакса; власть его послужит основанием для введения аристократии [98], и без суда никто не будет казнен и не лишится имущества[99]; он не потерпит доносчиков[100], но доставит подвластным полнейшее благоденствие и будет во всем поступать, соревнуясь с властью Марка, и будет иметь не только имя Пертинакса, но и его образ мыслей[101]. (4) Говоря так, он внушал большинству расположение и доверие к своим обещаниям [102]. Однако некоторые из старших, знавших его нрав, предсказывали втайне, что он — человек изворотливый и умеющий искусно браться за дела, в высшей степени способный прикинуться и притворно выказать все, что угодно, а также достигнуть того, что ему выгодно и полезно; это впоследствии и обнаружилось на деле.
(5) Проведя недолгое время в Риме и произведя щедрые раздачи народу, устроив зрелища, наделив многими дарами воинов[103], отобрав самых цветущих для службы телохранителями государя вместо разжалованных[104], он стал спешить на Восток[105]; (6) пока Нигер все еще медлил, бездействовал и роскошествовал в Антиохии, Север хотел предстать неожиданно, чтобы застать его неподготовленным. Итак, он приказал воинам готовиться к выступлению и со всех сторон стягивал войско, вызывая юношей из городов Италии, и во время похода отдавал приказания остававшимся еще в Иллирике воинским частям, спустившись во Фракию, соединиться с ним[106]. (7) Он снаряжал и морской флот и выслал имевшиеся в Италии триеры[107], наполнив их тяжеловооруженными. С величайшей быстротой у него собрались большие и разнообразные силы[108]. Он ведь знал, что ему нужны немалые силы для борьбы со всем расположенным против Европы материком, стоявшим на стороне Нигера.
15. (1) Он энергично занимался приготовлением к войне. Как человек предусмотрительный и трезвый, он с подозрением смотрел на находившиеся в Британии очень многочисленные и состоявшие из воинственнейших людей силы. Всей Британией правил Альбин — муж, родом из сенатских патрициев, воспитанный в унаследованном от предков богатстве и роскоши[109]. (2) Его Север пожелал привязать к себе, обойдя его хитростью, чтобы тот, имея такие побудительные причины к стремлению захватить императорскую власть, полагаясь на {47} богатство и знатность, на мощь войска и свою известность у римлян, не попытался завладеть государственными делами и не подчинил себе находящийся на недалеком расстоянии Рим, пока сам Север занят на Востоке. (3) Вот он и приманивает притворным почетом этого человека, который и вообще был некрепок умом и простодушен и тогда поверил Северу, заверявшему его многими клятвами в письмах. Он объявляет его Цезарем, предупредив его надежду и стремление приобщением к власти. (4) Север посылает Альбину дружественнейшие письма[110], умоляя его предаться заботам о державе: нужен будто бы муж благородного происхождения и именно такого цветущего возраста, так как сам он стар и мучается болезнью суставов[111], а дети у него еще очень малы. Поверив этому, Альбин принял почесть с радостью, удовольствовавшись тем, что без битвы и опасности получил то, к чему стремился. (5) Сделав о том же донесение сенату, Север, чтобы внушить большее доверие Альбину, приказал выбить монеты с его изображением и постановкой статуй и прочими почестями подтвердил дарованную милость. Мудро обезопасив себя со стороны Альбина и не испытывая страха перед Британией, он, имея при себе все иллирийское войско, полагая, что все улажено на пользу его власти, поспешил против Нигера [112]. (6) Остановки на пути, произнесенные им в каждом городе речи, знамения, часто появлявшиеся, как казалось, по божественному промыслу, все местности и бои, число павших с обеих сторон в битвах воинов — об этом обстоятельно рассказали многие авторы историй и стихотворным размером поэты, бравшие темой для всего своего произведения жизнь Севера[113]. (7) Моей же целью является описать, соединив их вместе, известные мне деяния многих государей за семьдесят лет[114]. Итак, я в дальнейшем изложу из отдельных действий Севера важнейшие и приводившие к успеху, ничего не превознося из угодливости, как это сделали писавшие в его время, и не пропуская ничего, что достойно рассказа и упоминания. {48}
1. (1) Конец Пертинакса, ниспровержение Юлиана, прибытие Севера в Рим и поход против Нигера описаны в предыдущей книге. Нигер, получив совершенно неожиданное для него известие, что Север захватил Рим, что сенат провозгласил его императором и что Север ведет против него все пешее иллирийское войско и флот, впал в величайшее смятение; он начал рассылать наместникам провинций приказы охранять все подходы к стране и все гавани. (2) К царям парфян, армян и атренов[1] он отправил послов, прося их быть ему союзниками. Армянский царь[2] ответил, что он не будет союзником ни того, ни другого — с него будет довольно охранять свое, так как Север уже приближается. Парфянский[3] обещал приказать своим сатрапам собирать силы: это у них обычный способ собирать войско, когда возникает в нем нужда, так как наемников и постоянной армии у них нет. (3) Атрены же по приказанию тамошнего царя Барсемия вступили в союз и прислали ему лучников. (4) Все остальное войско Нигер собрал из находившихся поблизости военных лагерей[4]. Очень многие граждане Антиохии, особенно юноши, по легкомыслию и из преданности Нигеру вступили в армию, поступая так скорее по неопытности, чем по зрелому размышлению. Нигер приказал укрепить теснины и ущелья горы Тавра мощными стенами и валами, полагая, что эти укрепления сделают проходящие на востоке дороги неприступными. Тавр лежит между Каппадокией и Киликией[5] и разделяет живущие к северу и к востоку народы. (5) Нигер послал вперед войско, чтобы оно овладело Византием, самым крупным и цветущим из городов Фракии[6], богатым людьми и средствами. Расположенный в самом узком месте пролива Пропонтиды, этот город имел большие доходы от морских пошлин и рыбной ловли; владея обширной и богатой территорией, он получал выгоды от обеих стихий. (6) Вот почему Нигер хотел заранее занять могущественный город, надеясь, главным образом, что сможет этим помешать переправе из Европы в Азию через пролив. Город был окружен мощной, очень высокой стеной, сделанной из мельничных четырехгранных камней, так плотно скрепленных и соединенных между собой, что всякий счел бы, что сооружение сделано из единой глыбы, а не составлено из разных частей. (7) Еще и {49} теперь, когда видишь сохранившиеся обломки и остатки этой стены, удивляешься и искусству первоначальных строителей и силе последующих разрушителей. Нигер считал, что он таким образом весьма предусмотрительно обезопасил себя.
2. (1) Север между тем двигался с величайшей поспешностью, не давая своему войску ни отдыха, ни покоя. Получив известие, что Византий занят, и зная, что он очень сильно укреплен, Север приказал войску переправляться к Кизику[7]. (2) Эмилиан, наместник Азии[8], которому Нигер вручил управление страной и власть над войском, узнав, что армия Севера движется к Кизику, и сам направился туда же со всем войском — и тем, которое он набрал сам, и тем, которое ему прислал Нигер. Когда оба войска встретились, то в этих местах разыгрались крупные бои и победила армия Севера[9]; воины Нигера обратились в бегство, и многие были перебиты, так что надежды пришедших с Востока были разбиты, а надежды иллирийцев получили подкрепление.
(3) Некоторые говорят, что дело Нигера погибло с самого начала из-за предательства Эмилиана. Называют две причины этого предательства. Одни говорят, что он злоумышлял против Нигера, завидуя ему и досадуя, что тот, его преемник по наместничеству в Сирии, теперь намеревается стать сильнее его, как государь и владыка. Другие утверждают, что Эмилиана толкнули на это решение его дети, которые прислали ему письмо и молили поступить так для их спасения. Север, найдя их в Риме, схватил и держал под стражей. Он весьма предусмотрительно воспользовался этой хитростью. (4) Так же и у Коммода было обыкновение оставлять у себя детей наместников, посылаемых в провинцию, чтобы иметь залог их преданности и верности. Зная это, Север, как только был провозглашен императором (а Юлиан был еще жив), тайно послав людей, позаботился о том, чтобы его собственные дети были выкрадены из Рима и не оставались во власти другого. (5) Сам же он, как только вступил в Рим, схватил всех детей тех, кто был наместником или занимал какие-нибудь должности на Востоке и по всей Азии[10], и держал их при себе под стражей, чтобы наместники, желая спасти своих детей, покинули Нигера или, если уж они останутся ему верны, то прежде чем успеть причинить зло, пережили бы горе от потери своих детей. (6) После поражения при Кизике сторонники Нигера бежали со всей возможной быстротой, одни в предгорья Армении, а другие в Галатию и Азию[11], стараясь побыстрее перейти Тавр, чтобы оказаться по ту сторону укреплений. Войско {50} же Севера, пройдя область Кизика, поспешно направлялось к соседней Вифинии[12].
(7) Едва распространился слух о победе Севера, тотчас же во всех этих провинциях начались распри и несогласия в городах и это не вследствие какой-либо вражды или, напротив, расположения к воюющим государям, но из ревности, зависти, ненависти друг к другу и желания уничтожить своих же соплеменников. (8) Это — старинная болезнь эллинов, которые, постоянно находясь в раздорах и стремясь истребить тех, кто казался выделяющимся из других, погубили Элладу. Их государства, одряхлев и изнурив друг друга, стали сначала легкой добычей македонцев, а затем рабами римлян[13]. Эта болезнь ревности и зависти перешла и к процветающим в наше время городам. (9) В Вифинии тотчас после битвы при Кизике к Северу присоединились никомедийцы[14], через послов предлагая Северу принять его войско и доставить ему все необходимое. Никейцы[15] же из ненависти к никомедийцам придерживались противоположного образа мыслей: они были готовы принять войско Нигера и тех беглецов, которые добирались до них, а также войска, посланные Нигером для защиты Вифинии. (10) Войска устремились из двух городов, будто из двух лагерей, и сошлись друг с другом. Завязалась ожесточенная битва, и сторонники Севера получили значительный перевес[16]. Оставшиеся в живых воины Нигера бежали и оттуда поспешно пробирались к теснинам Тавра, где, заградив укрепление, охраняли его. Сам Нигер, оставив достаточную, по его мнению, охрану укреплений, устремился в Антиохию, собирая войско и деньги.
3. (1) Войско Севера, пройдя Вифинию и Галатию, вторглось в Каппадокию, где задержалось для осады укреплений. Здесь его ждали немалые трудности, так как дорога была камениста, узка и потому трудно проходима, а осажденные, стоявшие за зубцами стены, бросали на них сверху камни и отважно отбивались. Немногие воины легко удерживали большое войско. (2) Одну сторону узкой тропы защищает очень высокая гора, а с другой стороны — глубокая пропасть, образованная стекающими с гор потоками. Вот это место и было укреплено Нигером со всех сторон, чтобы воспрепятствовать проходу войска. (3) Так обстояли дела в Каппадокии.
Между тем, из-за упомянутой уже зависти и вражды в Сирии между лаодикейцами и антиохийцами[17] вспыхнули раздоры, а в Финикии — между тирийцами и беритийцами[18]. Узнав о бегстве Нигера, они пытались лишить его почестей и стали славословить Севера. (4) Когда Нигер, находясь в Анти-{51}охии, узнал об этом, то, хотя он и отличался раньше добрым нравом, естественно вознегодовал за это предательство и своеволие и послал против обоих городов своих мавританских копейщиков и часть лучников[19], приказав им убивать встречных, грабить имущество в городах, а самые города — поджигать. (5) Мавританцы, весьма кровожадные, отчаянные, легко дерзающие презирать и смерть и опасность, ворвались неожиданно в Лаодикею и подвергли народ и город всяческому поруганию. Оттуда они поспешили к Тиру, где подожгли весь город и учинили великий грабеж и резню.
(6) В то время как происходили все эти события в Сирии и Нигер собирал войско, армия Севера, обложив укрепление, осаждала его. Воины Севера очень пали духом и были в отчаянии вследствие прочности и неодолимости укреплений, защищенных к тому же горой и обрывом[20]. (7) Когда воины изнемогли, а их противники считали, что можно менее заботиться об охране, ночью внезапно хлынул сильнейший ливень с обильным снегом (ведь вся Каппадокия весьма холодная страна, а Тавр особенно). Итак, обрушился огромный, бурный поток, и поскольку на его привычном пути находилось укрепление, задерживавшее воду, то поток стал еще больше и мощнее; и вот тогда природа победила мастерство — стены не смогли устоять против напора, вода понемногу разрушила места скрепления камней и, наконец, фундамент, сделанный поспешно и без тщательности, не выдержал; поток, найдя дорогу, проложил себе путь. (8) Когда стража, поставленная у укрепления, увидела это, то, испугавшись, что враги появятся сзади и окружат их — после того как прорвался поток, ничто уже не препятствовало этому, — убегает, бросив посты. Войско же Севера обрадовалось тому, что произошло, воспрянуло духом, словно направляемое божественным провидением; узнав, что стража бежала, оно легко и беспрепятственно перешло Тавр и вступило в Киликию.
4. (1) Нигер, узнав о случившемся[21] и собрав большое, но непривычное к боям и трудам войско, шел быстрым маршем. Ведь множество людей и почти вся молодежь Антиохии с готовностью совершала поход и подвергалась опасностям ради Нигера. У этого войска не было недостатка в рвении, но оно очень уступало иллирийцам в опыте и силе.
(2) Оба войска сошлись[22] на очень открытой, продолговатой равнине у так называемого Исского залива[23], ее окружает возвышенность наподобие амфитеатра, морской берег тянется очень далеко, словно природа создала это место для битвы. (3) Говорят, что здесь Дарий вступил в последнюю величайшую {52} битву с Александром, был побежден и захвачен в плен, причем и тогда люди из северных областей победили восточных[24]. Еще и теперь остается трофей и знак той победы — город на холме по имени Александрия[25] и медная статуя того, чье имя носит это место.
(4) Случилось так, что не только в том же самом месте произошло столкновение между войсками Севера и Нигера, но и исход битвы был таким же. Вечером оба войска разбили лагеря друг против друга, и всю ночь те и другие бодрствовали в тревогах и страхе; с восходом солнца они двинулись друг на друга, ободряемые своими полководцами. Оба войска бросились в битву со всем пылом, как в решающий последний бой, где судьба должна определить, кому быть государем. (5) Они так долго сражались и столько было убитых, что волны текущих по равнине рек несли в море больше крови, чем воды; наконец, восточные люди бежали; оттеснив их, иллирийцы одних сбрасывали в лежащее рядом море, а других, бежавших за холмы, преследовали и убивали, а вместе с ними и множество других людей, которые собрались из ближних городов и деревень поглядеть на происходящее с безопасного места.
(6) Нигер верхом на своем могучем коне убегает вместе с немногими и прибывает в Антиохию. Здесь он нашел бегущий народ, который как-то уцелел, услышал в городе стоны и плач тех, кто оплакивал детей и братьев; впав в отчаяние, он сам бежал из Антиохии. Скрываясь в каком-то предместье, он был найден преследовавшими его всадниками, схвачен и обезглавлен [26]. (7) Так кончил жизнь Нигер, поплатившись за свою нерешительность и медлительность, человек, как говорят, во всем остальном неплохой и как правитель, и в частной жизни. Север, уничтожив Нигера, беспощадно покарал его друзей, не только тех, кто добровольно служил ему, но и вынужденных к этому[27]. Узнав, что воины, которым удалось бежать, переходят реку Тигр и уходят к варварам из страха перед ним. Север возвратил их, объявив амнистию (впрочем, не всем). (8) Большое число их удалилось в чужие страны. Это и послужило главной причиной того, что варвары этой области впоследствии стали более упорными в рукопашных сражениях с римлянами. Ведь раньше они только стреляли из лука, сидя на конях, но не защищали себя тяжелым вооружением и не осмеливались в битве использовать мечи и копья; имея на себе легкие развевающиеся одежды, они обычно сражались, отступая и пуская назад стрелы. (9) Когда же у варваров появились беглецы-воины, среди которых много было ремесленников, {53} принявших варварский образ жизни, то они научились не только пользоваться оружием, но и изготовлять его.
5. (1) Север, устроив свои дела на Востоке, как ему казалось, наилучшим и выгоднейшим образом [28], пожелал тотчас же двинуться на царя атренов и перейти в землю парфян. И тех и других он обвинял в дружбе с Нигером. Однако все это Север отложил до другого времени[29], так как хотел сначала утвердить и упрочить за собой и за своими детьми власть над всей Римской державой. (2) После гибели Нигера Альбин казался ему лишним и обременительным; к тому же он слышал, что тот слишком по-императорски упивается именем Цезаря, что многие особенно видные сенаторы в своих частных тайных письмах уговаривают его идти на Рим, пока Север занят и отсутствует. Ведь патриции предпочитали иметь его правителем, так как он был из хорошего рода и, кроме того, как говорили, у него был добрый нрав. (3) Узнав об этом, Север все же отказался пойти на открытую вражду и начать войну с человеком, не давшим для этого никакого благовидного предлога[30]. Поэтому он решил сделать попытку устранить Альбина тайно, обманув его. (4) Вызвав самых верных из тех, кто обычно доставлял императорские письма, он дает им указания, представ перед Альбином, при всех вручить ему письма и попросить его отойти в сторону и наедине выслушать секретные указания; когда же он согласится и окажется без телохранителей, неожиданно напасть на него и убить. (5) Север дал им с собой смертельный яд, чтобы они, если смогут, уговорили кого-нибудь из поваров или виночерпиев тайно подать ему… так как друзья Альбина имели подозрения и советовали ему остерегаться человека лживого и способного к козням. (6) Ведь нрав Севера был уже известен по его обращению с полководцами Нигера; как выше было сказано, он с помощью их детей убедил их предать дело Нигера, а потом, воспользовавшись их услугами и добившись всего, чего хотел, убил и их самих, и их детей [31]. Так коварный нрав Севера обнаружился в его действиях. (7) Поэтому Альбин окружил себя более сильной стражей, и никто из прибывавших от Севера не подходил к нему, не сняв с себя меча и не будучи предварительно обыскан, чтобы выяснить, нет ли у него чего-нибудь за пазухой. (8) И вот, когда вестники Севера прибыли и, отдав при всех письма, попросили Альбина отойти и выслушать нечто тайное, он, что-то заподозрив, велит их схватить и, допросив наедине, узнает весь их умысел. Он наказывает их, а сам собирается против Севера, как против явного врага[32]. {54}
6. (1) Узнав это, Север, и вообще-то жестокий и легко поддававшийся гневу, не скрывал более своей вражды, но, созвав все войско, сказал следующее: «Пусть никто не обвинит меня в легкомыслии за мои прежние действия и не сочтет меня неверным и бессовестным по отношению к тому, кто был моим другом. (2) Ведь я все дал ему, разделив с ним могущество императорской власти, то есть то, что с трудом делят даже с родными братьями: то, что вы вручили мне одному, я разделил с ним. Но за все мои великие благодеяния Альбин отплатил мне неблагодарностью. (3) Он собирает против нас оружие и войско, презрев ваше мужество и пренебрегая своим долгом, желая в своей ненасытной жадности, несмотря на опасности, овладеть целиком тем, часть чего он получил от меня без войны и сражений; он не постыдился богов, которыми он часто клялся, не пощадил ваших трудов, которые вы перенесли с такой славой и доблестью. (4) Ведь он извлек выгоду из ваших подвигов, а если бы сохранял верность, то имел бы и больше почестей, полученных нами обоими от вас. Подобно тому, как несправедливо начинать мерзкие дела, так и малодушно не защищаться обиженному. К войне против Нигера нас привел не столько какой-либо благовидный предлог, сколько неизбежность вражды. Он вызвал нашу ненависть не тем, что стремился похитить имевшуюся у нас власть; каждый из нас с одинаковым честолюбием стремился к брошенной и ставшей предметом спора власти. (5) Альбин же, презрев клятвы и договоры, хотя он и получил от меня все, что обычно дают только родному сыну, предпочел стать мне врагом вместо друга, противником вместо близкого человека. Подобно тому как прежде мы, благодетельствуя Альбину, украсили его честью и славой, так теперь мы оружием изобличим его неверность и трусость. (6) Ведь его немногочисленное войско, состоящее из островитян[33], не выдержит вашей мощи. Вы одни только благодаря своему рвению и мужеству победили в стольких битвах и покорили весь Восток; так неужели же ныне, когда у вас появились такие сильные союзники, когда почти все римское войско находится здесь, неужели теперь вы не одолеете с легкостью немногочисленных врагов, находящихся под командой человека и не отважного, и не трезвого? (7) Ибо кто не слыхал о его изнеженности, так что его образ жизни больше подходит для хороводов, чем для военного строя. Итак, смело двинемся с нашим обычным рвением и мужеством, полагаясь на богов, которых он оскорбил ложными клятвами, и помня о трофеях, которых мы воздвигли так много, а он презрел». {55}
(8) После этих слов Севера все войско объявило Альбина врагом; воины прославляли Севера, криком обещая ему всяческую поддержку, и тем воодушевили его еще больше и внушили ему добрые надежды. Раздав им щедрые дары, Север выступил в поход против Альбина. (9) Он отправил также людей для осады Византия, который все еще оставался занятым бежавшими туда полководцами Нигера. Впоследствии он был взят голодом[34], весь город был разрушен, и Византий, лишенный театров, бань, всех украшений и чести, был подобно деревеньке отдан в рабство перинфянам[35], так же как Антиохия — лаодикейцам[36]. Север послал очень много денег для восстановления городов, разрушенных войском Нигера. (10) Сам же он продолжал поход, не задерживаясь ни ради праздников, ни из-за усталости, не обращая внимания ни на холод, ни на жару. Часто шел он через холодные и высокие горы среди бурь и снегов[37] с непокрытой головой, поддерживая своим примером твердость и мужество воинов, так что они терпели усталость не только из страха или чувства долга, но подражая императору и соревнуясь с ним. Север послал также полководца с войском занять узкие проходы в Альпах и охранять входы в Италию[38].
7. (1) Известие о том, что Север не медлит, но вот-вот появится[39], привело беспечного и изнеженного Альбина в замешательство. Переправившись из Британии в лежащую напротив Галлию, он разбил там лагерь и отправил послов во все соседние провинции, требуя от правителей присылки денег и пропитания для войска. Некоторые послушались и выполнили это требование себе на гибель[40]: ведь впоследствии они понесли за это наказание. Те же, кто не послушался, спаслись, приняв свое решение скорее по счастливой случайности, чем обдуманно. Ведь только исход и судьба войны могли показать, какое решение было правильным. (2) Когда войска Севера прибыли в Галлию, начались стычки в разных местах[41], а последнее сражение произошло при Лугдуне[42], большом и богатом городе, в котором заперся Альбин и откуда он, не выходя сам, послал войско в битву. Сражение было очень упорным, и исход его долго оставался неясным. Ведь британцы храбростью и кровожадностью ничуть не уступают иллирийцам; так как оба войска сражались отважно, то одинаково трудно было обратить в бегство одно из них[43]. (3) По сообщениям рассказывавших правдиво и беспристрастно современников, фаланга Альбина, против которой сражался сам Север со своим войском, получила большой перевес, так что Север бежал, упал с лошади, но, сбросив с себя императорский {56} плащ, оставался незамеченным. Британцы преследовали врагов и уже запели победные песни, как если бы они добились окончательного успеха, но внезапно появился полководец Севера Лет[44] со своим свежим, еще не принимавшим участия в битве войском. (4) Его обвиняют в том, что он, ожидая исхода битвы, намеренно медлил, сберегая силы своего войска, так как стремился к власти; поэтому он и появился не раньше, чем узнал о падении Севера. Это обвинение подтверждается последующими событиями: ведь позднее, когда все решилось и Север освободился от забот, он богато наградил всех своих полководцев и только одного Лета, естественно, не забыв зла, убил. (5) Но все это случилось позднее. Тогда же, как было сказано, при появлении Лета с новым войском воины Севера ободрились, посадили его на коня и облекли в плащ. (6) Воины Альбина, считая, что они победили, пребывали в беспорядке, и когда на них обрушилось мощное и еще не участвовавшее в бою войско, они отступили после недолгого сопротивления. Когда же бегство стало всеобщим, воины Севера преследовали и убивали врагов, пока не ворвались в город. О числе убитых и взятых в плен с обеих сторон тогдашние историки писали, кто что хотел. (7) Воины Севера разграбили и сожгли Лугдун, Альбина схватили и обезглавили[45], а голову его принесли Северу[46]. Так они воздвигли два великих трофея — на Востоке и на Севере[47]. Ничто нельзя сравнить с битвами и с победами Севера ни по обилию войск, ни по дальности передвижений, ни по числу сражений, ни по быстроте переходов. (8) Велики битвы Цезаря с Помпеем, где с обеих сторон сражались римские войска [48], битвы Августа с Антонием или с сыновьями Помпея[49], а еще раньше Суллы или Мария в междоусобных римских войнах и в сражениях с прочими противниками[50], да и битвы других полководцев. Но нелегко привести еще пример, чтобы один человек победил трех государей, уже правивших; одного благодаря удаче убил в императорском дворце, хитростью одержав верх над его войском в Риме, второго, давно уже властвовавшего на Востоке и провозглашенного римлянами императором, а третьего, также обладавшего достоинством и властью Цезаря, одолел благодаря своей храбрости. Такой конец принял Альбин, недолго пользовавшийся гибельными почестями Цезаря.
8. (1) Север тотчас направил свою ярость против друзей Альбина в Риме[51]. Послав в Рим голову Альбина, он приказывает посадить ее на кол и выставить всенародно. Объявив в письме к народу о своей победе, он под конец добавил, что голову Альбина он послал для всеобщего обозрения, чтобы… {57} подобно… и… гнев (2) Уладив все дела в Британии и разделив эту провинцию на два наместничества[52], а также устроив все в Галлии, как ему казалось, наилучшим образом, Север убил всех друзей Альбина, независимо от того, добровольно или вынужденно они имели с ним дело, конфисковал их имущество[53], а затем поспешил в Рим, ведя с собой все войско, чтобы показаться более страшным. (3) Проделав этот путь по своему обыкновению очень быстро, он вступил в Рим[54], все еще полный злобы против оставшихся в живых друзей Альбина. Народ встретил его со всякими почестями и славословиями, неся лавровые ветви. Сенат тоже его приветствовал, причем большинство было в великом страхе, ибо они думали, что Север, будучи по природе жестоким к врагам и стремящимся наносить обиды даже по незначительным поводам, не пощадит их теперь, когда он имел для этого достаточные основания. (4) Итак, Север поднялся в храм Юпитера и, совершив положенные жертвоприношения, возвратился во дворец; для народа он устроил в честь своих побед богатые раздачи[55], а воинам подарил большие деньги и разрешил многое из того, что раньше им не было позволено. (5) А именно, он увеличил им содержание [56], позволил носить золотые кольца[57] и брать себе жен[58]. Все это прежде считалось чуждым воинскому воздержанию, так как мешало готовности к войне. Север первый поколебал твердый, суровый образ жизни воинов, их покорность и уважение к начальникам, готовность к трудам, дисциплину и научил их любви к деньгам, жадности, открыв путь к роскоши[59].
(6) Устроив все это, как ему казалось, наилучшим образом, Север пришел в сенат, взошел на императорский трон и горько упрекал друзей Альбина, одним показывая их тайные письма, которые нашел среди его секретных бумаг, другим ставя в вину богатые дары, посланные Альбину. Остальным он указал на другую их вину: людям с Востока — дружбу с Нигером, а тем, кто был из другой части Империи, — знакомство с Альбином. (7) Всех видных сенаторов и людей, выдающихся в провинциях происхождением или богатством, он беспощадно убивал[60], гневаясь, как он притворно утверждал, на врагов, а на самом деле из-за своего ненасытного сребролюбия. Ведь еще ни один государь не позволял деньгам так властвовать над собой. (8) Насколько силой духа, долготерпением в трудах и опытностью в военном деле Север не уступал никому из самых прославленных людей, настолько велико было в нем корыстолюбие, питаемое несправедливыми убийствами под любым предлогом. Властвовал он больше благодаря страху под-{58}данных, чем благодаря их преданности. (9) Впрочем, Север стремился угодить народу, постоянно устраивал богатые зрелища всякого рода[61], часто убивал сотни диких зверей как из всех концов нашей страны, так и из варварских земель, щедро раздавал подарки. Он установил состязания в честь своих побед, отовсюду вызывая драматических актеров и гладиаторов. В его правление мы видели разнообразные зрелища одновременно во всех театрах, священнодействия и ночные празднества, устроенные в подражание мистериям. Эти игры тогда называли вековыми, так как слыхали, что они бывают через три поколения людей[62]. В Риме и по всей Италии глашатаи призывали всех прийти и увидеть то, что они никогда не видели прежде и не увидят впоследствии. Это означало, что промежуток между нынешними и следующими праздниками превосходит самую длинную человеческую жизнь.
9. (1) Прожив достаточно времени в Риме, Север объявил своих сыновей соправителями и императорами[63]. Стремясь снискать славу победителя не только в междоусобной войне против римских войск (в честь этого события он даже боялся праздновать триумф), но воздвигнуть трофеи и в войне с варварами, Север предпринял поход на Восток, выставив предлогом дружбу Барсения, царя атренов, с Нигером. (2) Прибыв на место, он пожелал пройти через Армению, но армянский царь, предупредив его, послал ему деньги, дары и заложников, умоляя о мире и обещая дружеский союз и преданность[64]. Так как в Армении все вышло согласно намерению Севера, он сразу же двинулся против атренов, к нему перебежал осроенский царь Авгар, представив в обеспечение верности заложниками своих детей и дав ему в помощь множество лучников[65].
(3) Пройдя Междуречье[66] и страну адиабенов, Север пересек и Счастливую Аравию[67]; там произрастают благовонные травы, которые у нас употребляются как ароматы и фимиамы. Разорив много деревень и городов и опустошив страну, он пришел в область атренов, расположился лагерем и осадил Атры[68]. (4) Город находился на вершине очень высокой горы, окружен мощной и крепкой стеной и был силен своими многочисленными лучниками[69]. Войско Севера прилагало все усилия, пытаясь взять город; всевозможные машины придвигались к стенам, были использованы все виды осады. (5) Однако атрены храбро защищались и, пуская сверху стрелы и бросая камни, причиняли войску Севера немалый урон. Наполняя глиняные сосуды крылатыми мелкими ядовитыми тварями, они бросали их на осаждающих. Попадая на лицо или на какую-либо другую обнаженную часть тела, эти существа, неза-{59}метно впиваясь, наносили опасные раны. (6) Многие воины были не в состоянии переносить душного воздуха и палящего солнца и умирали от болезней, так что большая часть войска погибла по этой причине, а не от руки врагов. (7) От всего перечисленного войско теряло мужество; осада ничуть не продвигалась вперед, и римляне больше терпели вреда, чем наносили его. Север, чтобы не пропала вся армия, ничего не добившись, отвел назад войско, крайне недовольное тем, что осада не привела к желаемому результату[70]. (8) Привыкнув постоянно побеждать во всех битвах, воины полагали, что, не одержав победу, они тем самым потерпели поражение. Однако судьба, вмешавшись в дела Севера, принесла ему утешение, ибо войско возвратилось в Рим не вовсе без успеха, но совершив даже больше, чем надеялось. (9) Войско Севера, двигаясь на многих кораблях, не пристало, как предполагалось, к римским берегам, но, отнесенное течением реки на большое расстояние, приплыло к парфянскому берегу[71], который находился в нескольких днях пути от дороги на Ктесифонт. Здесь был дворец парфянского царя, в котором он мирно жил, считая, что битвы Севера с атренами его нисколько не касаются; поэтому он сохранял спокойствие и не ожидал ничего ужасного. (10) Между тем войско Севера, которое против воли было прибито течением к этим берегам, высадившись, опустошало страну, угоняя для своего пропитания встречающиеся ему стада и сжигая попадающиеся на пути деревни[72]. Понемногу двигаясь вперед, они оказались у Ктесифонта, где находился великий царь Артабан[73]. (11) Римляне, напав на не ожидавших этого варваров, убивали всех без разбора, город разграбили, а детей и женщин взяли в плен[74]. Так как царь с немногими всадниками бежал, римляне завладевают его казной и, захватив все драгоценности и сокровища, возвращаются.
(12) Так Север, скорее случайно, чем по обдуманному плану, прославил себя победой над парфянами [75]. После того как, вопреки всем ожиданиям, все так удачно закончилось, он написал сенату и народу, превознося свои подвиги и выставил надписи о своих битвах и победах. Сенат определил ему и все другие полагающиеся почести и, кроме того, присвоил ему почетные прозвания, взятые от наименований покоренных народов[76].
10. (1) Уладив дела на Востоке [77], Север поспешил в Рим, взяв с собой своих сыновей, находившихся тогда в юношеском возрасте[78]. Закончив путь, Север привел в порядок дела в провинциях, сделав в каждой то, что там требовалось[79], посетил лагери в Мезии и Паннонии. Римлянами он был принят {60} как победитель с благоговением и с великими славословиями. Он устроил народу жертвоприношения, празднества, зрелища и торжества. (2) Произведя щедрые раздачи и празднования в честь своей победы[80], Север еще немало лет прожил в Риме[81], занимаясь судопроизводством, государственными делами, а также воспитанием и наставлением детей. (3) Они же (будучи уже юношами) были испорчены роскошью и столичным образом жизни, чрезмерной страстью к зрелищам, приверженностью к конным состязаниям и танцам. Братья ссорились между собой сначала из ребяческого самолюбия, из-за перепелиных боев и петушиных сражений или когда происходили драки между другими мальчиками. (4) Их увлечения зрелищами или музыкой[82] всегда приводили к ссорам; им никогда не нравилось что-нибудь одно, но все, приятное одному, другому было ненавистно. С обеих сторон их подзадоривали льстецы и слуги, угождая их детским прихотям и сталкивая братьев между собой. Север, узнав об этом, пытался их сблизить и вразумить.
(5) Старшего сына, настоящее имя которого, до того как он вступил в императорский дворец, было Бассиан, Север, как только ему удалось получить почести верховной власти, назвал Антонином, так как хотел, чтобы он носил имя, которое носил Марк; он женил его, надеясь, что в результате брака он образумится. Его жена была дочерью префекта претория по имени Плавтиан[83]. (6) Про него, человека в ранней молодости незначительного, некоторые говорили, что он подвергся изгнанию, уличенный в заговорах и многих преступлениях. Он был соотечественником Севера (ведь он тоже — ливиец)[84]: одни утверждали, что он — родственник Севера, а другие злословили, утверждая, что он в цветущем возрасте был его любовником. Как бы то ни было, Север, выведя его из низкого и незначительного состояния, обеспечил ему высокое положение, наградил его необыкновенным богатством, даря ему имения казненных[85], и чуть ли не делил с ним власть[86].
(7) Злоупотребляя властью, Плавтиан в своих действиях не останавливался ни перед жестокостью, ни перед насилием и стал, наконец, страшнее всех когда-либо властвовавших. Соединив его дочь со своим сыном, Север соединялся с ним домами.
(8) Не слишком довольный браком и женившись более по принуждению, чем по своей воле, Антонин враждебно относился и к молодой женщине, и к ее отцу: не делил с ней ни ложа, ни трапезы[87], чувствовал к ней отвращение и часто грозил убить и ее, и ее отца, как только станет единственным {61} обладателем власти. Обо всем этом молодая женщина постоянно рассказывала отцу, сообщая ему о ненависти ее мужа к браку и возбуждая гнев отца.
11. (1) Плавтиан, видя, что Север уже стар и непрерывно болеет[88], а Антонин — жестокий и дерзкий юноша, боялся угроз последнего и предпочел опередить его, решившись на что-либо иное, нежели дожидаться несчастья. (2) К тому же многое еще побуждало его домогаться императорской власти: размеры богатства, каким до него не обладал ни один частный человек, угодливость воинов, почести со стороны подчиненных, наконец, одеяние, в котором он выступал. Ведь он носил тогу с широкой полосой и занимал положение, на которое имели право только люди, дважды занимавшие должность консула, сбоку у него висел меч[89], и вообще он один обладал всеми знаками почета. (3) Появляясь, Плавтиан вызывал такой страх, что никто не приближался к нему, а встречные поворачивали назад; шедшие перед ним объявляли, чтобы никто не смел останавливаться и смотреть на него, и приказывали отворачиваться и глядеть вниз.
Север был недоволен, когда ему сообщили обо всем этом, и стал испытывать к Плавтиану неприязнь, так что даже уменьшил его власть и решил поставить предел его чрезмерному тщеславию[90]. (4) Не перенеся этого, Плавтиан осмелился посягнуть на власть и замыслил следующее. Был у него один трибун по имени Сатурнин[91], отличавшийся исключительной услужливостью по отношению к Плавтиану; такими же были и другие, но Сатурнин большей угодливостью добился полного доверия. Считая его самым верным и единственно способным выполнять тайные поручения, не разглашая этого, Плавтиан вечером, когда все разошлись, послал за ним и сказал: (5) «Теперь, наконец, появилась для тебя возможность доказать свое рвение и преданность мне, а для меня — достойно отплатить тебе и отблагодарить тебя по заслугам. Перед тобой выбор — либо стать тем, кем ты сейчас видишь меня, получить эту власть и занять мое нынешнее место, либо тотчас же умереть, поплатившись за непослушание. (6) Пусть тебя не пугает ни величие замысла, ни имена государей. Ведь ты один можешь войти в покой, где они отдыхают, так как тебе доверена смена ночной стражи[92]. То, что тебе предстоит сделать, ты можешь совершить беспрепятственно и тайно, иначе я не приказывал бы тебе этого, а ты бы не повиновался.
(7) Войди в императорский дворец, сделав вид, будто несешь спешные и тайные известия от меня, проникни к императорам и убей их. Ты человек сильный и легко справишься со {62} стариком и мальчиком; разделив со мной опасность, ты в случае успеха разделишь со мной и высшие почести». (8) Выслушав это, трибун в душе ужаснулся, но не потерял разума, ибо был человеком рассудительным (он ведь был родом сириец, а восточные люди хитры на выдумки). Видя, что Плавтиан вне себя, и зная его могущество, Сатурнин не стал противоречить ему, чтобы не понести за это наказания. Он сделал вид, что услышал нечто желанное ему и радостное, и, склонившись перед Плавтианом ниц[93], как императором, попросил письменного приказа об убийстве. (9) У тиранов есть такой обычай, если они посылали кого-нибудь с поручением убить без суда, то давали письменное распоряжение, чтобы деяние было подтверждено приказом[94]. Плавтиан, ослепленный своей страстью, дает ему письменный приказ и посылает на убийство, добавив, что после смерти обоих императоров следует послать за ним, не дожидаясь, пока дело получит огласку, чтобы он появился во дворце раньше, чем узнают о захвате им императорской власти.
12. (1) Выйдя после этого уговора, трибун, как и всегда, беспрепятственно прошел через весь дворец. Понимая, что невозможно было бы убить двух императоров, живущих к тому же в разных зданиях, он остановился перед спальней Севера и позвал охранителей императорского покоя, требуя впустить его к Северу для некоего сообщения, касающегося жизни и безопасности императора. Те доложили Северу и по его повелению ввели к нему трибуна. (2) Войдя, Сатурнин сказал: «Я пришел к тебе, о владыка, не убийцей и палачом, как думает тот, кто послал меня, но, как я сам хочу, — спасителем и другом. Ибо Плавтиан, злоумышляя против власти, поручил мне убить и тебя и твоего сына, причем сделал это не только на словах, но и письменно. Вот его приказ. Я согласился для того, чтобы из-за моего отказа он не поручил бы этого другому; теперь же я пришел открыть тебе все и обнаружить дерзкий замысел». (3) Сатурнин со слезами произнес все это, но Север не сразу поверил ему, так как был сердечно расположен к Плавтиану и заподозрил здесь какой-то умысел и интригу. Он думал, что его собственный сын из вражды к Плавтиану и ненависти к своей жене, его дочери, придумал против него эту хитрость и смертельную клевету[95]. (4) Послав за сыном, Север стал упрекать его в том, что он строит козни против преданного человека и к тому же родственника. Сначала Антонин клятвенно уверял, что не знает, о чем идет речь, но поскольку трибун настаивал и показал письменный приказ, Антонин стал ободрять его и требовать новых улик. {63} Трибун, видя, в какую он попал опасность и боясь расположения Севера к Плавтиану, понял, что если заговор не будет раскрыт и доказан, его ждет страшная смерть, и (5) сказал: «Какое еще требуется большее доказательство, о владыка? Какие более ясные улики? Позвольте мне только, выйдя из дворца, послать кого-нибудь преданного мне с известием, что дело сделано. Плавтиан, поверив, появится в надежде занять пустой дворец. А уж когда он придет, ваше дело обнаружить истину. Только прикажите соблюдать во дворце полную тишину, чтобы все не стало известно слишком скоро и не повернулось бы по-другому».
(6) Сказав это, Сатурнин приказывает одному из самых преданных ему людей позвать Плавтиана как можно скорее так как оба императора повержены и тому необходимо оказаться внутри дворца прежде, чем все станет известно народу. Ведь когда твердыня[96] будет занята, а власть окажется в его руках, то все волей-неволей покорятся тому, кто уже стал государем, а не только собирается еще стать им. (7) Поверив этому и исполнившись надежд, Плавтиан уже поздним вечером, надев ради безопасности на себя панцирь, прикрыл его прочей одеждой и, взойдя на колесницу, поспешно приехал во дворец. Сопровождали его немногие слуги, которые думали, что Плавтиан вызван к императору для каких-то спешных дел. (8) Прибыв во дворец, Плавтиан беспрепятственно прошел внутрь, так как стража ничего не знала о происходившем. Трибун вышел ему навстречу и, заманивая в ловушку, назвал императором, взял по обыкновению за руку и ввел в спальню, где, как он говорил, лежали трупы императоров. (9) Север к тому времени уже приказал своим молодым телохранителям схватить Плавтиана, как только он появится. Тот, ожидая совсем другого, входит и видит перед собой обоих государей; его хватают. Пораженный таким оборотом дела, Плавтиан стал просить и умолять, оправдываясь тем, что все это ложь и клевета и подстроено врагами. (10) Север укорял Плавтиана, перечисляя свои многочисленные благодеяния и дарованные ему почести, тот же напоминал императору о прежней верности и преданности, так что мало-помалу почти убедил Севера своими словами, как вдруг на нем распахнулась одежда и стала видна часть панциря. Заметив это, Антонин, юноша дерзкий, вспыльчивый и к тому же в душе ненавидевший Плавтиана, воскликнул: (11) «Ну, а об этих двух уликах что ты скажешь? Ты приходишь во дворец вечером, незваный. А что значит панцирь на тебе? Кто приходит на обед или на пирушку вооруженный?». И с этими словами Антонин приказывает {64} трибуну и другим присутствовавшим обнажить мечи и убить этого человека, как изобличенного врага. (12) Те немедленно выполняют приказание юного государя, убивают Плавтиана и тело его выбрасывают на людную улицу [97], чтобы все его видели и чтобы враги надругались над ним.
Так умер Плавтиан, потерявший рассудок в ненасытной жажде владеть всем и попытавшийся в конце жизни опереться на неверного подчиненного.
13. (1) На будущее Север назначил двух префектов претория[98], сам же по большей части жил в загородных дворцах и в приморских частях Кампании, творя суд и занимаясь государственными делами[99]. Ведь он хотел отучить сыновей от их образа жизни в Риме и приучить к более дельному, так как видел, что они склонны к непристойным и неподобающим государям зрелищам. (2) Это пристрастие к зрелищам и соперничество, вызывавшее между ними постоянные расхождения и противоположность мнений, возбуждало души братьев и разжигало огонь раздора и вражды. Антонин, устранив Плавтиана, стал особенно невыносим. Он стыдился и боялся… всеми способами он подготовлял смерть его дочери, своей жены. (3) Поэтому Север выслал ее вместе с братом в Сицилию, дав им щедрое, вполне достаточное для жизни содержание[100], по примеру Августа; ведь и последний поступил таким же образом с детьми своего врага Антония[101]. Север постоянно старался помирить сыновей, внушить им единомыслие и согласие, напоминая о старинных сказаниях и трагедиях, рассказывая о несчастьях братьев-царей, всегда бывавших следствием раздоров. (4) Север показывал им сокровища и храмы, полные денег. Указывал, что богатств и денег столько, что не будет нужды добывать их кознями, когда дома все имеется в таком изобилии, что воинов можно свободно и щедро награждать, что в Риме их силы увеличились вчетверо[102], а перед городом размещено столько лагерей[103], что никакие внешние враги не могут равняться или противостоять им ни численностью войска, ни ростом воинов, ни количеством денег. (5) Однако, говорил Север, от всего этого нет никакой пользы, если братья враждуют друг с другом и идет внутренняя война. Часто, настоятельно повторяя что-нибудь в этом роде или упрекая, он старался образумить и примирить их, они же не слушались, делаясь все необузданнее и хуже. (6) Льстецы тянули каждый в свою сторону пылких юношей, которые под сенью императорской власти ненасытно стремились ко всем приманкам наслаждения, и не только угождали их прихотям и самым постыдным желаниям, но и постоянно изыскивали что-нибудь {65} новое, чтобы еще больше ублажить одного и опечалить тем самым другого. Север уже наказал некоторых из них, уличив их в подобном поведении[104].
14. (1) Между тем, пока Север негодовал по поводу такого образа жизни своих детей и их недостойной страсти к зрелищам, наместник Британии[105] присылает известие, что тамошние варвары восстали, разоряют страну набегами, грабят и производят много опустошений; поэтому он нуждается в большом войске для защиты страны или в появлении самого императора. (2) Север с удовольствием выслушал это известие, будучи вообще от природы славолюбивым и стремясь после восточных и северных побед воздвигнуть еще трофеи против британцев[106]. К тому же он хотел удалить из Рима сыновей, чтобы они в строгой военной обстановке отошли от роскошного римского образа жизни. Север объявляет поход в Британию уже глубоким стариком, страдая к тому же еще болезнью суставов; однако духом он был крепче всякого юноши. (3) Большую часть путешествия он совершил в носилках, нигде подолгу не останавливаясь. Он проделал этот путь вместе со своими сыновьями настолько быстро, что опередил и молву, и ожидания. Переправившись через океан, он появился перед британцами; отовсюду собрал воинов, составивших значительную силу, и приготовлялся к войне.
(4) Британцы[107], ошеломленные неожиданным прибытием государя и узнав о мощном собранном против них войске[108], отправили к нему послов для мирных переговоров и думали оправдаться в прежних винах. (5) Север хотел оттянуть время, чтобы не возвращаться назад в Рим, надеясь победить британцев и получить почетное прозвание. Поэтому он отослал послов ни с чем, а сам готовился к битве. Особенно он старался пересечь плотинами болотистые местности, чтобы воины могли легче пройти эту местность и сражались, стоя на крепкой земле. (6) Ведь большая часть британской земли затопляется непрерывными приливами океана и поэтому болотиста; варвары обыкновенно переплывают или переходят болота, погружаясь до пояса. Они ведь почти совсем без одежды, и ил не мешает им. (7) Они не знают платья, пах и шею прикрывают железом, считая его украшением и признаком богатства, как прочие варвары — золото. Тела они татуируют разноцветными рисунками и изображениями разных зверей. Они и не одеваются для того, чтобы не закрывать рисунки на теле. (8) Они весьма воинственны и кровожадны; оружие у них — только узкий щит, копье и меч, который висит на голом теле. Панциря и шлема они не знают и считают помехой при {66} переходах через болота, от которых поднимаются густые испарения и воздух над всей страной постоянно кажется туманным[109]. Приготовления Севера должны были в этих условиях помочь римскому войску, а также сдерживать и сковывать натиск варваров.
(9) Когда он увидел, что все необходимое для войны готово, то младшего своего сына, по имена Гета, он оставил в подчиненной римлянам провинции — творить суд и управлять государственными делами, назначив при нем советниками старейших из своих друзей. Антонина же он взял с собой и устремился против варваров. (10) Когда войско перешло лежащие впереди реки и земляные насыпи, находившиеся еще в пределах римских владений[110], начались частые стычки и перестрелки, в результате которых варвары бежали. Бегство было для них нетрудным делом, потому что, зная свою страну, они прятались в лесах и болотах, а для римлян все это было помехой и только удлиняло войну[111].
15. (1) Между тем престарелого Севера постигает затяжная болезнь, из-за которой он вынужден был оставаться дома, Антонину же он попробовал поручить управление войском. Но Антонин мало думал о войне с варварами; он старался расположить к себе войско, заставить всех смотреть только на него, всячески стремился к единовластию, клевеща на брата. (2) Тяжело больной, медлящий умереть, отец казался ему тягостным и обременительным. Он уговаривал врачей и прислужников как-нибудь повредить старику во время лечения, чтобы скорее от него избавиться[112]. Но Север, снедаемый больше всего печалью, наконец, скончался, прославив свою жизнь военными подвигами более, чем кто-либо из бывших до него государей. (3) Ведь никто прежде не собрал таких трофеев ни в гражданских войнах против своих врагов, ни во внешних — против варваров. Процарствовав восемнадцать лет, он упокоился, оставив наследниками юношей-сыновей [113]; он передал им богатства, каких никто никогда не оставлял своим наследникам, и неодолимую военную силу. (4) Антонин, приняв власть после смерти отца, тотчас же начал убивать всех домочадцев, уничтожил врачей, которые не послушались его приказания ускорить смерть старика недобросовестным лечением, воспитателей, которые обучали его и брата, так как они надоедали ему, настоятельно упрашивая жить в согласии[114]. Словом, не оставил никого, кто был в чести и уважении у старика. (5) Наедине Антонин богатыми дарами и обещаниями угождал военачальникам для того, чтобы они убедили войско провозгласить его одного императором; против брата же {67} он придумал всякие козни. Воинов, однако, он не убедил: помня о Севере и зная, что оба родились от него и одинаково воспитывались ими с детских лет, воины выказывали обоим равное повиновение и преданность[115]. Антонин, после того как у него ничего не вышло с войском, заключил договор с варварами, даровал им мир и взял залоги верности. Затем он удалился из земли варваров и поспешил к брату и матери[116]. Когда все они оказались вместе, то и мать, и высокопоставленные лица, и советники, отцовские друзья[117], пытались примирить братьев. (7) Антонин, поскольку все противодействовали ему в его желаниях, больше по необходимости, чем по доброй воле склонился к дружбе и согласию, скорее показному, нежели истинному. Оба таким образом управляли империей, имея равную власть. Они пожелали уйти из Британии и поспешили в Рим, везя останки отца. Предали его тело огню, а прах, смешав с благовониями и заключив в алебастровую урну, доставили в Рим, чтобы там поставить между священными памятниками государей. (8) Сами же вместе с войском как победители британцев переправились через океан и достигли противолежащей Галлии.
Итак, в этой книге описано, как Север окончил свою жизнь и сыновья унаследовали его власть. {68}
1. (1) О том, что происходило при Севере, правившем в течение восемнадцати лет, рассказано в предыдущей книге. А его сыновья, взрослые молодые люди, вместе с матерью спешили в Рим, ссорясь друг с другом уже в пути. Вместе они не останавливались и за одним столом не ели — слишком сильно было подозрение, что другой первым, сам ли, или подговорив слуг, успеет тайком отравить каким-нибудь губительным ядом еду или питье другого. (2) Тем больше они торопились: каждый думал, что опасность уменьшится, как только они окажутся в Риме и разделят дворец пополам; в этом обширном и многолюдном жилище, которое больше целого города[1], каждый сможет жить сам по себе, как ему вздумается.
(3) Когда они прибыли в Рим[2], народ встретил их, неся лавровые ветви, а сенат приветствовал их. Облаченные в императорскую порфиру, они шли впереди; вслед за ними, неся сосуд с прахом Севера[3], шли те, кто отправлял в этот год должность консулов. Приветствовавшие юных государей, проходя мимо, склонялись и перед сосудом. (4) И вот, проводив его и пройдя впереди торжественного шествия, они поставили его в храме, где и теперь показывают священные усыпальницы Марка и государей, что были до него[4]. Совершив положенные священнодействия, они императорским ходом вошли в императорский дворец. (5) Разделив его, они стали жить там оба, забив наглухо все проходы, которые были не на виду; только дверьми, ведущими на улицу и во двор, они пользовались свободно, причем каждый выставил свою стражу; если они и сходились вместе, то ненадолго и лишь для того, чтобы хоть иногда показаться вместе публично. Прежде всего они оказали почести своему отцу.
2. (1) Есть у римлян обычай: причислять к сонму богов тех императоров, что умерли, оставив после себя детей-преемников; такие почести называются у них апофеозом. Во всем городе наступает тогда торжественный, проникнутый, впрочем, своеобразной печалью праздник. (2) Тело покойного предается земле — с пышностью, но в общем так же, как хоронят всех людей; а потом лепят из воска изображение покойного, совершенно с ним схожее, и выставляют его при входе во дворец на {69} огромном и высоко поднятом ложе из слоновой кости, устланном покрывалами с золотым шитьем. Восковая фигура лежит на виду у всех, бледная, как больной. (3) А по обеим сторонам ложа большую часть дня сидят: слева — весь сенат в черном[5], а справа — все те женщины, которые пользуются особым уважением благодаря заслугам их мужей и отцов. На них нет золотых украшений и ожерелий; одетые в простые белые одежды, они имеют вид скорбящих[6]. (4) Это длится семь дней; приходят врачи, каждый раз приближаются к ложу, будто бы осматривают больного, и каждый раз говорят, что ему все хуже. А когда станет ясно, что он уже умер, благороднейшие из всаднического сословия и лучшие молодые люди из сената поднимают ложе, несут его по Священной дороге и выставляют на старом форуме — там, где обычно слагают с себя полномочия римские должностные лица[7]. (5) По обеим сторонам ложа устроены помосты, располагающиеся уступами, — нечто вроде лестниц. И вот по одну сторону становится хор детей из самых благородных патрицианских семейств, а напротив них — хор из тех женщин, чье достоинство признается всеми; оба хора поют посвященные умершему гимны и пеаны[8], звучание которых скорбно и величаво. (6) Посте этого, взяв ложе на плечи, его несут за пределы города, на поле, называемое Марсовым[9]. Там, в самом широком месте, уже стоит своеобразное строение: четырехугольное, с равными сторонами, состоящее исключительно из скрепленных между собою огромных бревен — что-то вроде дома. (7) Внутри оно все заполнено хворостом, а снаружи украшено расшитыми золотом коврами, статуями из слоновой кости и разнообразными картинами. На первом, нижнем строении стоит второе, такой же формы и с такими же украшениями, только меньше первого; воротца и дверцы, сделанные в нем, распахнуты. Дальше идут третье и четвертое, каждое меньше расположенного под ним, и все это заканчивается последним, которое меньше всех других. (8) Эту постройку, пожалуй, можно сравнить с маяком, который сооружен у гавани, чтобы по ночам своими огнями вести корабли в безопасное для них пристанище; «фаросами» называют в народе такие маяки[10]. Поднеся сюда ложе, его ставят во второе снизу строение; сюда же несут благовония и пахучие растения, какие только рождает земля, будь то плоды, травы или соки, все вместе дающие сильный и прекрасный запах; ссыпают их прямо горой — (9) ведь нет такой провинции и города или высокопоставленного и почетного гражданина, которые не постарались бы прислать такие дары для воздаяния {70} императору последних почестей. Когда вырастет целая гора из благовоний и вся окрестность наполнится ароматом, начинается конный парад перед погребальным строением, причем конница объезжает его на рысях, соблюдая строй и порядок в ритме и стиле пиррихи[11]. (10) Точно так же происходит объезд колесницами, на которых стоят одетые в тоги с пурпурной каймой и в масках, изображающих прославленных римских полководцев и государей[12]. Когда совершено и это, преемник императора, взяв факел, подносит его к зданию[13], и другие тоже со всех сторон подходят с огнем. Все это очень быстро загорается, тем более что нанесено было столько хворосту и благовоний. (11) Из последнего, самого небольшого строеньица, как бы преодолев преграды, вылетает орел, чтобы вместе с огнем унестись в небесный эфир. Римляне веруют, что он уносит на небеса душу императора[14], которого с этих пор они почитают наравне с другими богами.
3. (1) Совершив обожествление отца такими почестями, сыновья вернулись во дворец и с этой поры стали враждовать в открытую и с ненавистью строить друг другу козни; (2) каждый делал все, что мог, лишь бы как-нибудь освободиться от брата и получить в свои руки всю власть. Соответственно с этим разделились мнения всех тех, кто снискал себе какое-нибудь положение и почет в государстве: ведь каждый из них тайно рассылал письма и старался склонить людей на свою сторону, не скупясь на обещания. Большинство склонялось к Гете, потому что он производил впечатление порядочности: проявлял скромность и мягкость по отношению к лицам, к нему обращавшимся, занимался обычно более серьезными делами, (3) приближал к себе тех, кого хвалили за образованность, и охотно упражнялся в палестре и гимнасиях, как это прилично свободному человеку. Относясь к своему окружению добропорядочно и по-человечески, он благодаря своей доброй славе приобрел себе большее число преданных и дружественных людей[15]. (4) Антонин же во всем выказывал жесткость и раздражительность; не обладая свойствами Геты, о которых мы сказали выше, он особенно охотно выставлял себя любителем походной и воинской жизни[16]. А поскольку он во всем проявлял свой буйный нрав и больше угрожал, чем убеждал, то и друзьями его становились скорее из страха, чем от доброго к нему расположения.
Этих-то братьев, враждовавших во всем, вплоть до совершенных мелочей, попыталась было свести их мать. (5) Надумали они как-то поделить между собой державу — именно для {71} того, чтобы не злоумышлять друг против друга, оставаясь в Риме вместе. Собрав друзей отца, в присутствии матери, они решили разделить империю так, что Антонин получал всю европейскую часть, а материк, лежащий напротив и называемый Азией, отходил к Гете; (6) как раз так, говорили они, разделило материки водами Пропонтиды[17] само божественное провидение. Они хотели, чтобы Антонин стал лагерем в Византии [18], а Гета — в Халкедоне Вифинском[19], с тем, чтобы эти друг против друга лежащие лагеря охраняли державу каждого и не давали переходить из одной части в другую. В отношении сената было решено, что все сенаторы-европейцы останутся на месте, а с Гетой пойдут сенаторы родом из тех областей[20]. (7) Гета говорил, что Антиохия или Александрия (по величине, считал он, они мало уступают Риму) достойны того, чтобы стать столицей его империи [21]. Из южных народов мавританцы, нумидийцы и жители соседних с ними областей Ливии должны быть переданы Антонину[22], а все остальное до самого Востока — принадлежать Гете. (8) В то время, как они живописали все это, присутствующие мрачно потупились, а Юлия сказала так: «Дети, вы изобрели способ поделить землю и море; Понтийский проток — говорите вы — разделяет материки; но как вы поделите мать? Тогда уж сначала убейте меня, и пусть каждый возьмет себе свою долю и у себя схоронит ее. Раз вы делите моря и сушу, поделите таким вот образом и меня». (9) Так она сказала, с плачем и стонами, и, обняв их обоих, притянула к себе, пытаясь хоть как-нибудь свести их[23]. Глядя на это, все расчувствовались, собрание разошлось, а соглашение не состоялось. Оба ушли во дворец, каждый на свою половину.
4. (1) А ненависть и соперничество росли. Нужно ли назначать начальников или должностных лиц — каждый хочет поставить своего; творят ли суд — придерживаются противных мнений, иногда на погибель подсудимым: страсть к раздору была в них сильнее стремления к справедливости. На зрелищах они сочувствовали разным сторонам [24]. (2) Они уже перепробовали все виды коварств, пытались договориться с виночерпиями и поварами, чтобы те подбросили другому какой-нибудь отравы. Но ничего у них не выходило, потому что каждый был начеку и очень остерегался. Наконец, Антонин не выдержал: подстрекаемый жаждой единовластия, он решил действовать мечом и убийством — что бы там ни было. (3) Видя, что тайные козни не приводят к успеху, он счел необходимым опасный и отчаянный способ действия… из любви к {72} ней и злобы к нему. Облив кровью грудь матери, раненный смертельно, Гета расстался с жизнью. А Антонин, осуществив убийство[25], выскакивает из спальни и бежит через весь дворец, крича, что он едва спасся, избежав величайшей опасности. (4) Воинам дворцовой стражи он велит, чтобы они без промедления проводили его в лагерь, где под охраной у него будто бы есть надежда спастись; оставаться здесь во дворце — значит идти на верную гибель. Не зная, что произошло там внутри, те поверили и, так как он бежал без оглядки, все выбежали вслед за ним. Пришел в смятение и народ, видя, как император на ночь глядя бегом бежит через весь город. (5) Оказавшись в лагере и в храме, где преклоняются перед войсковыми значками [26] и статуями, он, бросившись на землю, стал давать благодарственные обеты и приносить жертвы за свое спасение. Когда об этом объявили воинам, из которых одни еще мылись, а другие уже отдыхали, все они, пораженные, сбежались к нему. (6) Он, выступив перед ними, не стал прямо рассказывать, что собственно произошло, а кричал только, что избежал опасности и козней заклятого врага, разумея своего брата, что в тяжкой борьбе еле-еле осилил врагов, что под угрозой были они оба, и в его лице милостивая судьба сохранила хотя бы одного государя. Так вот косвенно пояснял он дело, скорее не желая высказать правду, чем желая скрыть ее. (7) Тут же он обещает за свое спасение и единовластие выдать каждому воину по две тысячи пятьсот аттических драхм[27], а также в полтора раза увеличить получаемое ими довольствие. Он велит им, разойдясь отсюда, сразу получить эти деньги из храмов и казнохранилищ, в один день безжалостно расточив все то, что Север восемнадцать лет копил и сохранял, причиняя несчастья другим. (8) Услыхав о таких суммах и сообразив, что произошло (да и бежавшие из самого дворца разгласили убийство), воины объявляют, что он один император, а Гету называют врагом.
5. (1) Проведя эту ночь в лагерном храме, набравшись смелости и приручив армию своими раздачами[28], Антонин отправляется в сенат со всем войском, более вооруженным, чем это в обычае при сопровождении государя[29]. Войдя внутрь и совершив жертвоприношения, он взошел на императорский трон и сказал так: (2) «Я хорошо знаю, что убийство кого-нибудь из родных, стоит лишь услышать о нем, всякий раз вызывает отвращение; само это слово, произнесенное вслух, несет с собой тяжкое обвинение. На долю пострадавших выпадает сочувствие, на долю победителей — зависть; дело представляет-{73}ся так, что будто побежденные пострадали от несправедливости, а победившие — совершили ее. (3) Однако стоит только рассмотреть это дело беспристрастно и не судить о случившемся из предрасположения к убитому, но исследовать причины и характер самого дела, чтобы убедиться в том, как благоразумно и единственно правильно поступает тот, кто, находясь под угрозой беды, предпочитает не ждать, а защищаться; за поражением павшего следует еще и осуждение его в трусости, а победивший, кроме того, что спасся, обретает еще и славу за свое мужество. (4) Прибегнув к расследованию, вы можете точно узнать, сколько раз он покушался на меня, пуская в ход губительные яды и всяческие ухищрения; я распорядился, чтобы здесь присутствовали его слуги, — так что вы можете сами установить истину. Есть среди них и такие, которых уже допросили; вы можете заслушать запись допроса. А под конец, когда я был у матери, он напал на меня, приведя с собой людей, нарочно подготовленных на этот случай. (5) Проницательно и живо сообразив, в чем дело, я стал защищаться от него как от врага — ведь он уже и относился ко мне, и поступал не как брат. А ведь защищаться от нападающих не только справедливо, но и естественно. Сам Ромул, основатель этого города, не стерпел от родного брата насмешки над его делами[30]. (6) Не говорю уже о Германике — брате Тиберия[31], Британике — брате Нерона[32] и о Тите — брате Домициана[33]. Даже Марк, рядившийся в философа и скромника, не снес дерзости своего зятя Люция и с помощью хитрости избавился от него[34]. Так вот, когда против меня готовили всякие зелья, когда надо мной нависал меч, я защитился от врага — именно такое прозвание он заслужил своими делами. (7) Вы же прежде всего должны благодарить богов за то, что они спасли для вас хоть одного из государей; пора прекратить раздор в своих душах и мнениях, глядеть всем на одного и впредь жить без заботы. Зевс и сам один правит богами, одному вручает он и власть над людьми». Он говорил это, срываясь на крик, полный гнева, бросая сумрачные взгляды на друзей брата; оставив почти всех дрожащими и бледными, он поспешил во дворец.
6. (1) В скором времени[35] были убиты все близкие и друзья брата, а также и те, кто жил во дворце на его половине; слуг перебили всех; возраст, хотя бы и младенческий, во внимание не принимался. Откровенно глумясь, трупы убитых сносили вместе, складывали на телеги и вывозили за город, где, сложив их в кучу, сжигали, а то и просто бросали как придется. {74} (2) Вообще погибал всякий, кого Гета хоть немного знал. Уничтожали атлетов, возниц, исполнителей всякого рода музыкальных произведений — словом, всех, кто услаждал его зрение и слух. Сенаторов, кто родовит или побогаче, убивали по малейшему поводу или и вовсе без повода — достаточно было для этого объявить их приверженцами Геты[36]. (3) Сестру Коммода, уже старуху, в которой все императоры чтили дочь Марка, Антонин убил, вменив ей в вину, что она всплакнула вместе с Юлией, когда та потеряла сына[37]. Он убил и ту, что была дочерью Плавтиана, а его женой и находилась в Сицилии[38]; и двоюродного своего брата, носившего имя Севера[39], сына Пертинакса[40]; сына Люциллы, сестры Коммода[41], — вообще всех, кто принадлежал к императорскому роду, а в сенате — происходил из патрициев. Он засылал своих людей и в провинции, чтобы истреблять тамошних правителей и наместников как друзей брата[42]. Каждая ночь несла с собой убийства самых разных людей. Жриц Весты он заживо зарывал в землю за то, что они якобы не соблюдают девственность[43]. Вот, наконец, и еще одно, совершенно неслыханное дело: был он на конных скачках, и случилось так, что народ чуть посмеялся над возницей, к которому он был особенно расположен; приняв это за оскорбление, он велит воинам броситься на народ, вывести и перебить всех, кто дурно говорил о его любимце. Воспользовавшись тем, что представляется случай насильничать и грабить, вовсе не разбирая, кто там зачинщики (да и невозможно было определить это в такой толпе, тем более, что никто не стал признаваться), воины беспощадно отводили и убивали первых попавшихся; а если некоторых щадили, то отобрав в качестве выкупа все, что у них было.
7. (1) Вот что он творил, когда и понимание дел, и неприязнь к городской жизни побудили его выехать из Рима, чтобы заняться лагерями и ознакомиться с провинциями. (2) Отправившись из Италии и остановившись на берегах Истра, он стал управлять северными областями своей державы [44]; чтобы упражнять свое тело, он много занимался ездой на колесницах и избиением разных зверей с близкого расстояния; гораздо меньше внимания уделял он суду, где, впрочем, проявлял способность скоро разбираться в существе дела и метко отвечать на речи других. (3) Всех тамошних германцев он расположил к себе и вступил с ними в дружбу[45]; кое-кого из них брал к себе в отряды и в личную свою охрану, предварительно отобрав самых бравых и цветущих. Часто, сняв с себя римский плащ, он менял его на германскую одежду, и его видели в {75} плаще с серебряным шитьем, какой носят сами германцы[46]. Он накладывал себе светлые волосы и зачесывал их по-германски. (4) Варвары радовались, глядя на все это, и любили его чрезвычайно. Римские воины тоже не могли нарадоваться на него, особенно благодаря тем прибавкам к жалованью, на которые он не скупился, а еще и потому, что он вел себя совсем как воин: первый копал, если нужно было копать рвы, навести мост через реку или насыпать вал, и вообще первым брался за всякое дело, требующее рук и телесного усилия. (5) У него был простой стол; случалось, что для еды и питья он пользовался деревянной посудой. Хлеб ему подавали своего изготовления: он собственноручно молол зерно — ровно столько, сколько нужно было на него одного, замешивал тесто и, испекши на углях, ел. (6) От всего дорогостоящего он воздерживался; пользовался только самым дешевым, тем, что доступно и беднейшему воину. Он старался создать у воинов впечатление, что ему очень приятно, когда его называют не государем, а боевым товарищем. В походах он чаще всего шел пешим, редко садился в повозку или на коня; свое оружие он носил сам. (7) Случалось, он на своих плечах нес значки легиона, огромные, да еще щедро украшенные золотом, так что самые сильные воины едва могли нести их. Благодаря этим и другим такого рода поступкам в нем полюбили воина; его выносливость вызывала восхищение; да и как было не восхищаться, видя, что такое маленькое тело приучено к столь тяжким трудам.
8. (1) Когда он управился с лагерями на Истре и перешел во Фракию[47], что по соседству с Македонией[48], он сразу обернулся Александром[49], всячески освежал память о нем и велел во всех городах поставить его изображения и статуи, а Рим прямо наводнил статуями и изображениями, поставив их в Капитолии и в других храмах, — в знак связи своей с Александром. (2) Нам довелось кое-где видеть и смехотворные изображения: нарисовано одно тело, а в круге, рассчитанном на голову одного человека, по половине лица каждого: одна от Александра, другая — от Антонина. Появлялся он, имея вид македонца, нося на голове белую широкополую шляпу, а ноги обув в сапожки[50]. Отобрав юношей и отправившись с ними в поход, он стал называть их македонской фалангой[51], а их начальникам роздал имена полководцев Александра[52]. (3) Юношей, которых он набрал из Спарты, он называл лаконским и питанатским лохом[53]. {76}
Совершив все это и, насколько это было возможно, приведя в порядок дела в городах[54], он устремился в Пергам Азиатский, потому что ему захотелось воспользоваться целебной силой Асклепия[55]. Прибыв туда и вдоволь насмотревшись снов, Антонин отправился в Илион. (4) Обойдя развалины города, он пришел к могиле Ахилла, роскошно украсил ее венками и цветами и отныне стал подражать Ахиллу. В поисках какого-нибудь Патрокла[56] он затеял вот что. Был у него любимец-вольноотпущенник по имени Фест, состоявший при нем в секретарях. Так вот этот Фест умирает как раз тогда, когда Антонин был в Илионе; поговаривали, что он был отравлен для того, чтобы можно было устроить погребение наподобие Патроклова; другие, правда, говорили, что он умер своей смертью. (5) Антонин велит принести труп и разложить большой костер; затем, положив его посередине и заклав разных животных, он сам зажег костер, взял чашу и, совершая возлияние, обратился с молитвой к ветрам[57]. Волосами он был весьма беден; поэтому когда он хотел бросить в огонь локон, то вызвал общий смех: он отрезал все волосы, какие у него только были. Как полководец он больше всех прочих восхвалял римлянина Суллу[58] и ливийца Ганнибала[59] и поставил их статуи и изображения[60]. (6) Отправившись из Илиона через остальную Азию, Вифинию и прочие области и сделав там, что было нужно, он прибыл в Антиохию[61]. Пышно принятый, он прожил там некоторое время, а затем направился в Александрию под тем предлогом, что он давно тоскует по этому городу, основанному Александром[62], и хочет прийти за помощью к тому богу, которого они столь исключительно почитают[63]: (7) он чрезвычайно старательно выставлял и свое поклонение божеству, и свою память о герое. Он велит готовить гекатомбы[64]и всяческие жертвоприношения. Когда об этом узнали александрийцы, которые от природы очень непостоянны во мнениях и приходят в сильное движение по малейшему поводу, они чрезвычайно были обрадованы рвению и благосклонности к ним императора. (8) Ему была приготовлена такая встреча, какой, как говорят, никогда не видал ни один государь: находившиеся повсюду всевозможные музыкальные инструменты производили красочное звучание; курящийся фимиам и душистые травы распространяли аромат у входа в город; государя почтили факельными шествиями, его забрасывали цветами. (9) Въехав в город в сопровождении всего своего войска[65], он прежде всего, войдя в храм, принес там многие гекатомбы и бросал ладан на алтари[66]; затем посетил гробницу Александра {77} и, сняв с себя пурпурный плащ, перстень с драгоценными камнями, пояса и все, что только на нем было ценного, возложил их на гроб Александра.
9. (1) Видя это, народ очень радовался; праздновали даже и ночью, и никто не знал о тайном умысле императора, который разыгрывал все это, а между тем желал крепко проучить жителей этого города. Причиной тайной его ненависти было вот что: (2) еще в Риме, при жизни брата, и потом, после его убийства, Антонину сообщали, что александрийцы всячески посмеиваются над ним. Они и правда очень насмешливы и умеют вышучивать метко и тонко, причем целят всегда в людей могущественных[67]; насмешникам это кажется забавным, но тем более сильно оскорбляет это тех, кого они высмеивают: ведь в таких вещах более всего задевает как раз то, что обличает действительные пороки. (3) Так они острословили над тем, что он уничтожил брата; Юлию, уже пожилую, называли Иокастой[68]; то, что он очень мал ростом, а подражает Александру и Ахиллу — величайшим, благороднейшим героям, тоже потешало их. (4) Справив вместе с ними это всенародное празднество и видя, что город переполнен народом — здесь были не только горожане, но и люди со всей округи, он дает письменное распоряжение, чтобы вся молодежь вышла в одно поле[69], и поясняет, что кроме имеющихся у него македонской и спартанской он хочет и в честь Александра набрать фалангу, которая носила бы имя героя. (5) Он велит всем юношам стать рядами, так чтобы он мог подойти и осмотреть каждого — каких он лет, роста и каков здоровьем, столь необходимым для несения службы. Поверив его обещаниям — они казались тем более правдоподобными, что перед этим он так почтил их город, — все юноши пришли туда вместе с родителями и братьями, которые тоже с радостью разделяли их надежды. (6) Антонин обходил ряды, притрагивался к каждому и каждого хвалил, всякий раз по-новому, а они по беспечности и не заметили, как целое войско окружило их. Когда он убедился, что они находятся в кольце вооруженных воинов и попались, как рыбы в невод, он, завершив обход, вместе со своей стражей незаметно выбирается из кольца, а солдаты по данному им знаку нападают сразу со всех сторон на эту молодежь и, вооруженные, избивают безоружных, оказавшихся посредине; заодно убивали всякого, кто попадался под руку[70]. (7) Пока одна часть воинов занималась избиением, другие рыли огромные рвы, стаскивали и сбрасывали туда убитых, наполняя рвы телами. Потом их засыпали землей, и очень скоро получилась {78} огромная общая могила. Многих тащили еще полуживыми, закапывали вместе с другими и тех, кто вовсе не получил ранений. (8) Заодно погибло немало воинов, потому что те, кого сбрасывали еще живыми и кто имел хоть сколько-нибудь силы, хватали их и увлекали вслед за собой. Смертоубийство было такое, что кровь потоками текла по этой равнине, а огромное низовье Нила и все побережье близ города были окрашены кровью. Так поступив с городом[71], он оставил его и прибыл в Антиохию.
10. (1) В скором времени[72] он захотел получить прозвание Парфянского и поразить римлян известиями о покорении варваров Востока; а поскольку в это время царил глубокий мир, он придумал вот что[73]. Он пишет парфянскому царю (имя его было Артабан)[74] и шлет к нему послов с разнообразными дарами искусной работы. (2) В письме его говорилось, что он хочет взять в жены дочь царя, потому что неприлично ему, императору и сыну императора, стать зятем какого-нибудь простого и неприметного человека, но подобает взять в жены царевну, дочь великого царя, что две их державы — Римская и Парфянская — величайшие в целом мире, объединенные же благодаря такому браку, уже не разделенные, как прежде, они образуют единую непобедимую державу: (3) ведь те варварские народы, которые еще не подвластны им, могут быть легко покорены, поскольку они образуют отдельные племена и союзы; ведь у римлян непобедимая пехота, особенно сильная в близком бою, когда в дело идут копья, а парфяне славны своей конницей и меткой стрельбой из лука. (4) Стоит им объединиться, как в их руках окажется все, что необходимо для успеха в войнах, и под одной диадемой они без труда станут владыками всего обитаемого мира. Благоуханные травы, растущие у парфян, их знаменитые ткани, с другой же стороны, римские изделия из металла и другие превосходные произведения ремесла — все это купцы не станут, как раньше, ввозить с трудом, в малом количестве и тайно; теперь, когда будет одна земля и одна власть, пользование всем этим станет общим и беспрепятственным для обеих сторон. (5) Получив письмо, парфянский царь сначала возражал, ссылаясь на то, что римлянину не пристало брать в жены дочь варвара. Они говорят на разных языках — легко ли им будет найти общий? И одежда, и образ жизни — все у них разное. А ведь у римлян немало родовитых людей, среди дочерей которых император может выбрать себе супругу; у парфян же на то есть Аршакиды[75]. {79} Стоит ли, чтобы от законного брака произошли незаконные дети?
11. (1) Сначала он отделывался посланиями в таком роде; но поскольку Антонин настаивал и подтверждал свое расположение и стремление к этому браку, не жалея ни подарков, ни клятв, варвар, наконец, уверовал, пообещал выдать за него свою дочь и стал называть своим зятем. Когда молва об этом разошлась, варвары стали готовить все для приема римского государя и радовались в надежде на вечный мир. (2) Беспрепятственно перейдя реки[76], Антонин вступил в парфянскую землю как будто в свою собственную, причем повсюду для него совершали жертвоприношения, украшали венками алтари, подносили благовония и курения, и Антонин делал вид, что варвары этим очень угодили ему. Когда, продвигаясь вперед, он прошел уже большую часть пути и приближался к резиденции Артабана[77], царь, не дожидаясь его, вышел в поле на подступах к городу, чтобы там встретить жениха дочери и своего зятя. (3) Варваров было много, все они были в венках из цветов, растущих в тех землях, и в одежде, расшитой золотом и пестро разукрашенной; они ликовали, в лад подпрыгивая под звуки флейты и сиринги[78], под удары тимпанов[79], — они ведь любят этот своеобразный танец, особенно когда порядочно напьются. (4) Собравшись все вместе и сойдя с коней, они отложили в сторону колчаны и луки и занялись возлияниями и кубками. Так вот, собралось великое множество варваров, и все они стояли в беспорядке, как попало, не ожидая ничего дурного и думая лишь о том, как бы получше разглядеть жениха. (5) Тут Антонин дает своему войску[80] знак напасть на варваров и убивать их. Те, придя в смятение от такого оборота дела, принимая удары и получая раны, обратились в бегство. Сам Артабан, подхваченный окружавшими его телохранителями и посаженный на коня, едва ускользнул с горсткой своих. (6) Всех остальных варваров перебили, потому что с ними не было коней, к которым они очень привыкли (они ведь сошли с коней и пустили их пастись), и бежать они не могли, потому что широкая у ног одежда мешала им. (7) Луков и колчанов при них не было — зачем они им были на свадьбе? Учинив варварам такое побоище и взяв добычу и множество пленников, Антонин беспрепятственно отправился назад, сжигая города и деревни, разрешая воинам грабить все, что только кто сможет, и брать то, что ему хочется иметь. (8) Вот какая беда неожиданно приключилась с варварами[81]. Пройдя большую часть парфянской земли[82], когда уже и сами воины {80} утомились от грабежа и убийства, Антонин отправился в Месопотамию[83]. Прибыв туда, он шлет римскому сенату и народу весть о том, что весь Восток покорен и что все тамошние царства подчинились ему. (9) Сенат, которые был прекрасно осведомлен обо всех этих событиях (ведь не могут деяния государя оставаться неизвестными), из страха и лести выносит решение оказать ему все почести по случаю победы[84]. После этого Антонин жил в Месопотамии, занимаясь ездой на колеснице и охотой на разных зверей.
12. (1) Были у него два префекта претория, один, по имени Адвент[85], совсем уже старик, совершенно чуждый каким-либо государственным делам и несведущий в них, зато имевший славу настоящего воина; а другой, его звали Макрин, чрезвычайно опытный в судебных делах и особенно сведущий в законах[86]. Над ним Антонин то и дело насмехался публично, говоря, что он не воин и ни на что не годен. Дошло до совершенного глумления: (2) прослышав, что Макрин ведет свободный образ жизни, брезгует дурной и негодной пищей и питьем, которыми Антонин как истинный воин, конечно же, наслаждается, видя его одетым в короткий плащ или в другую сколько-нибудь изящную одежду, Антонин стал злословить, что тот не мужествен и страдает женской слабостью; при этом он всегда грозился убить его. Макрин тяжело переносил это и очень негодовал. (3) А тут произошло еще нечто, отчего жизнь Антонина должна была оборваться. Слишком любопытный, Антонин хотел знать не только все то, что касается людей, но и заглянуть также и в область божественного и сверхъестественного. Вечно подозревая во всех заговорщиков, он непрестанно вопрошал оракулы, посылал повсюду за магами, звездочетами, гадателями по внутренностям животных, так что не пропустил ни одного из тех, кто берется за такую ворожбу. (4) Подозревая, однако, что они из угодничества не говорят ему правды, он пишет некоему Матерниану, которому он тогда вверил все дела в Риме[87] и который слыл вернейшим его другом и единственным, кто был посвящен в его тайны. Он велит Матерниану разыскать лучших магов, чтобы вызвать умерших и разузнать о конце его жизни, а также не покушается ли кто на его власть. (5) Матерниан без всяких опасений выполняет повеление государя и сообщает, что на власть покушается Макрин[88] и что необходимо убрать его — неизвестно, действительно ли так вещали духи или он вообще подкапывался под Макрина. (6) Это письмо, запечатав вместе с другими, он, как всегда, вручает для доставки людям, не знающим, какую {81} весть они несут[89]. Те, с обычной скоростью проделав путь, прибывают к Антонину как раз, когда он в снаряжении возницы[90] поднимался на колесницу, и передают ему всю связку, где было и письмо против Макрина. (7) Антонин, сосредоточенный и захваченный предстоящей скачкой, велит Макрину отойти в сторону и, уединившись, просмотреть письма[91], если там есть неотложные дела, доложить ему, если же таких нет, то обычными заняться самому как префекту (Антонин часто обращался к нему с таким поручением). Так распорядившись, он вернулся к своему занятию. (8) Макрин же, оставшись один, вскрывая письмо за письмом, прочитывает и то, смертоносное, и сразу понимает, какая опасность ему грозит. Представляя себе кровожадную ярость Антонина от такого письма, которое станет для него прекрасным предлогом, он уничтожает это письмо, а об остальных сообщает, что они обычные.
13. (1) Боясь, как бы Матерниан не написал того же во второй раз, он предпочел действовать, а не ждать[92]. Так вот, прошло всего несколько дней после того, как Антонин казнил брата этого Марциалия по клеветническому и оставшемуся недоказанным обвинению; и над самим Марциалием Антонин издевался, говоря, что он не мужчина, что он трус и Макринов дружок [95]. (2) Зная, что он скорбит об убитом брате и задет издевками Антонина, Макрин посылает за ним; совершенно в нем уверенный (Марциалий давно уж служил у Макрина и получил от него немало благодеяний), он убеждает его выждать удобный случай и нанести удар Антонину. И Марциалий поддается на уговоры Макрина, а так как он и без того был полон ненависти и стремился отомстить за брата, он с радостью соглашается сделать все, как только случай представится.
(3) После этого сговора вскоре случилось так, что Антонин, живший в то время в Месопотамии, в Каррах, захотел выехать из своего дворца[96] и отправиться в храм Луны, чрезвычайно почитаемый жителями той земли[97]. Храм этот стоит далеко от города, так что это целое путешествие. Не желая утомлять свое войско, он взял с собой небольшой отряд всадников [98], и они тронулись в путь, чтобы, принеся жертвы богине, вернуться обратно. (4) На середине пути у Антонина заболел живот, и он, распорядившись, чтобы все стали подальше, берет одного слугу и отходит в сторону, чтобы освободиться от того, что его беспокоило; так что все повернулись и отошли как можно дальше, проявляя почтительность и стыдливость перед происходящим. (5) Марциалий, выжидавший первого удобного случая, видя, что Антонин остался один, бежит к {82} нему, будто бы по знаку государя, чтобы сказать или выслушать что-то; подойдя к нему сзади как раз в то время, когда тот снимал с бедер одежду, он наносит удар кинжалом, который незаметно держал в руках. Удар под ключицу был верный; так Антонин оказался беззащитным и был неожиданно убит[99]. (6) Когда он упал, Марциалий, прыгнув на коня, бежал. А всадники-германцы, которых Антонин любил и держал в своей личной охране[100], стоя сейчас ближе всех других, первые заметили происшедшее, бросились в погоню за ним и убили его, кидая свои дротики[101]. (7) Когда о случившемся узнало и остальное войско, все сбежались сюда, и первым сам Макрин, стоя над трупом, рыдал, будто пораженный горем. Все войско скорбно и тяжко переносило случившееся: они считали, что потеряли в нем соратника и товарища в трудах, не правителя. Макрина никто и не подозревал в коварстве, все считали, что это Марциалий отомстил за свою обиду. (8) Потом все разошлись по своим палаткам; а Макрин, предав огню останки, заключив прах в сосуд, послал его для погребения матери, жившей в Антиохии [102]. А та, видя схожую судьбу своих сыновей, уморила себя голодом — то ли добровольно, то ли по принуждению[103]. Вот как умерли Антонин и его мать Юлия, а как жили они, мы уже рассказали. Единовластно, без отца и брата, он правил в течение шести лет[104].
14. (1) После смерти Антонина воины оказались в растерянности и недоумении, как им быть дальше. Два дня[105] они оставались без государя и раздумывали, кого выбрать правителем, а уже известно было, что на них идет Артабан с большим и сильным войском, намереваясь покарать их и отомстить за вероломно убитых в мирное время. (2) Сначала они выбирают государем Адвента как настоящего воина и дельного префекта, но он отказался, ссылаясь на старость. Тогда выбор падает на Макрина[106] — а подговаривали воинов трибуны[107], которых и заподозрили в заговоре против Антонина и сообщничестве с Макрином[108], так что впоследствии, после его смерти, они понесли наказание, как мы расскажем об этом ниже[109]. (3) Во всяком случае Макрин стал государем[110] не столько по расположению и доверию к нему войска, сколько под влиянием необходимости и момента[111]. Между тем уже подходил Артабан с очень большим и сильным войском, ведя многочисленную конницу и множество лучников, а также латников на верблюдах… сверху длинными копьями[112]. (4) Когда донесли, что он совсем близко, Макрин созвал воинов и сказал следующее: «Нет ничего удивительного в том, что все вы удручены, утратив такого государя, а вернее сказать, бое-{83}вого товарища; однако люди разумные должны терпеливо переносить несчастья и выпадающие им беды. (5) Память о нем непременно будет жить у вас в груди и перейдет к потомкам, неся с собой вечную славу великих и благородных дел, свершенных им, его любовной заботы о вас, трудов, перенесенных вместе с вами. А сейчас, когда мы уже воздали должное памяти умершего и свершили положенные церемонии [113], самое время обратиться к неотложным делам. (6) Вы видите, что варвар идет на нас, подняв весь Восток, и считает, что у него есть убедительный повод для вражды; ведь мы вызвали его на это, нарушив договор и разбудив войну среди глубокого мира. Теперь от нашего мужества и верности зависит вся Римская держава; ведь не о границах земли, не о течении рек идет теперь спор, но вообще обо всем, и великий царь хочет призвать нас к ответу за детей и родных, которые, как он считает, были нечестиво и вероломно погублены. (7) Так возьмемся за оружие и станем в тот строй, которым славятся римляне. Ведь что касается боевого построения, то беспорядочное и как попало расположенное войско варваров может стать врагом самому себе; а наши стройные ряды, тесно сомкнутые и опытные в боях, станут спасением для нас и гибелью для врагов. Итак, бейтесь в доброй надежде, как это подобает, да и привычно римлянам. (8) Действуя так, вы сможете отразить варваров и, снискав себе великую славу, докажете как римлянам, так и всем другим, что прошлая ваша победа одержана мощью вашего оружия, а не вероломством и хитростью». Такие приблизительно слова он произнес, а воины, видя, чего требуют от них обстоятельства, стали строиться и приготовились к бою.
15. (1) На рассвете показался Артабан с огромным своим войском. Поклонившись солнцу, как это у них принято[114], варвары с необыкновенно зычным криком бросились в атаку на римлян, несясь на конях и стреляя из луков. Римляне встретили варваров, четко и надежно построив фаланги, по обеим сторонам расположив конницу и мавританцев[115] и заполнив промежутки воинами, которые могли легко и свободно выбежать вперед[116]. (2) Благодаря множеству лучников и длинным копьям латников варвары сначала действовали успешно, поражая римлян с коней и верблюдов. Зато римляне легко одолевали в рукопашном бою, а когда кони и верблюды, которые были у варваров в огромном количестве, стали давить их, римляне, сделав вид, что отступают, начали бросать на землю трезубцы и другие железные предметы с острыми концами, которые не видны были в песке. (3) С коней и верблюдов всадники не замечали их, себе на погибель: у коней и особенно {84} верблюдов копыто мягкое: острия, на которые они ступали, ранили их, они начинали хромать и сбрасывали с себя седоков. А тамошние варвары дерутся хорошо, пока они на конях или верблюдах, а как сойдут или окажутся сброшенными с них, легко попадают в плен, не умея вести рукопашного боя. Если же приходится бежать или преследовать, их длинные, путающиеся в ногах одежды препятствуют этому. (4) В первый и второй день сражались с утра и до вечера; пришла ночь и приостановила битву, и те и другие ушли к себе в лагерь, равно уверенные в своей победе. На том же поле они сошлись и на третий день. Имевшие значительное превосходство в числе варвары предприняли попытку окружить римлян и взять их в мешок. Тогда те перестали располагать свои фаланги в глубину, а растягивали их в ширину, тем самым предотвращая окружение. (5) Здесь погибло столько людей и животных, что все поле было покрыто целыми горами трупов, особенно потому, что падали друг на друга верблюды. Это мешало сражающимся свободно передвигаться; невозможно было разглядеть врага, потому что посредине образовалось что-то вроде большого и непроходимого вала из тел; поэтому, не имея возможности идти друг на друга, те и другие вернулись в лагерь[117].
(6) Макрин понял, что Артабан дерется так отчаянно и упорно, не иначе как думая, что его противник — Антонин: ведь обычно варвары, как только дело не удается им с первого раза, легко утомляются и отказываются от своего замысла (7), а тут, не зная, что виновник вражды умер, они собирались возобновить бой, как только уберут и сожгут мертвых. Поэтому Макрин отправляет к парфянину посольство и письменно сообщает, что императора, нарушившего договор и клятвы, уже нет в живых и что за свои деяния он понес заслуженное наказание, что государство вручено имеющими власть римлянами ему (8), а он не одобряет прежнее, готов выдать оставшихся у него в плену, возвратить награбленное, сменить вражду на дружбу и закрепить мир клятвами и договором[118]. Прочтя это и узнав от послов о гибели Антонина, Артабан счел, что такого наказания достаточно тому, кто нарушил договор, а поскольку его войско было потрепано (9) и он был рад без кровопролития вызволить из плена людей и свое добро, он заключил с Макрином мир и возвратился в свою страну[119]. А Макрин вывел войско из Месопотамии и поспешил в Антиохию[120]. {85}
1. (1) О том, как Антонин правил и умер, рассказано в предыдущей книге, а также о заговоре, бывшем перед тем, и о смене власти; оказавшись в Антиохии[1], Макрин посылает письмо римскому народу и сенату, говоря в нем так (2): «Перед вами, знающими с самого начала образ жизни, избранный мною, и направленность моего нрава к порядочности, и кротость, проявленную мною прежде при исполнении должности, которая не намного уступала возможностям и могуществу государя, поскольку и сам государь доверяется префектам претория, я считаю излишним произносить пространные речи. Ибо вы знаете, что я не одобрял то, что он совершал, и что я часто подвергался опасности ради вас в тех случаях, когда он, доверяя любой клевете, беспощадно с вами обходился. (3) И меня он бранил, публично порицая мою умеренность и человечность по отношению к управляемым, издеваясь над беспечным и слабым характером: наслаждаясь лестью, он считал своими преданными и верными друзьями тех, кто подстрекал к жестокости, раздувал его ярость и возбуждал гнев своими наветами[2]. Мне же с самого начала милы кротость и умеренность. (4) Войну против парфян, величайшую, из-за которой сотрясалась вся Римская держава, мы завершили и тем, что мы, мужественно противостоя им, отнюдь не были побеждены, и тем, что, заключив с ними мир, великого царя, пришедшего с многочисленным войском, сделали другом вместо непобедимого врага. В мое правление все будут жить безопасно и без кровопролития, и оно будет скорее считаться аристократией, нежели единовластием. (5) Пусть никто не высказывает пренебрежения и не считает ошибкой судьбы то, что она меня, выходца из всаднического сословия, привела к этому. Ибо какая польза от благородного происхождения, если с ним не соединен порядочный и человеколюбивый нрав? Ведь дары судьбы перепадают и недостойным, доблесть же души каждому придает его собственную славу. Благородное происхождение, богатства и все подобное считается признаком счастья, но не заслуживает похвалы, так как оно передано от другого; (6) благожелательность же и порядочность вместе с восхищением побуждают хвалить того, кто сам достигает успеха. Какую пользу принесло вам благородное происхождение Коммода {86} или наследование отцовской власти Антонином? Ведь получившие наследство как должное злоупотребляют им и по прихоти им распоряжаются как своим давнишним состоянием, а получившие от вас обязаны вечной благодарностью и пытаются воздать за благодеяния тем, кто их опередил в благодеяниях. (7) Благородство высокорожденных государей переходит в высокомерие вследствие презрения к подданным как к людям намного ниже их; а те, кто пришел к этому положению из среднего состояния, ценят его как приобретенное трудом; они воздают привычные уважение и почет тем, кто некогда был выше их. (8) У меня цель — ничего не предпринимать без вашего мнения, иметь вас сообщниками и советниками в делах правления. Вы будете жить безопасно и свободно[3], чего вы были лишены высокорожденными государями и что вам пытались возвратить — сначала Марк, потом Пертинакс, которые достигли высокого положения, а в младенчестве были обыкновенными людьми. Ведь лучше самому положить знаменитое начало рода и для последующих поколений, чем, унаследовав славу от предков, опозорить ее негодностью нрава».
2. (1) Когда это письмо было прочитано[4], сенат славословит Макрина и назначает ему все почести Августов[5]. Не так радовало всех наследование власти Макрином, как все ликовали и всенародно справляли празднество по поводу избавления от Антонина. И каждый думал, особенно из тех, кто занимал какое-нибудь видное положение или ведал каким-нибудь делом, что они сбросили висевший над их шеей меч. (2) Доносчики и рабы, которые предали своих хозяев, были распяты на кресте; и город Рим, и почти вся подчиненная римлянам вселенная, очищенная от дурных людей, так как одни были наказаны, а другие изгнаны (а если какие-нибудь и остались незамеченными, они из осторожности вели себя тихо), жили в большой безопасности и в подобии свободы тот единственный год, в который был государем Макрин. (3) Он совершил ту ошибку, что не сразу распустил лагеря и не отослал всех по их домам, а сам не поспешил в ожидавший его Рим, хотя все время народ и призывал его громкими криками[6]; он проводил время в Антиохии, отращивая бороду, прогуливаясь больше чем следовало бы в одиночестве, очень медленно и с трудом отвечая тем, кто подходил к нему, так что часто его не слышали из-за тихого голоса. (4) Он усердно следовал в этом обыкновению Марка, но не подражал в остальном образу его жизни; он все время предавался усладам, тратя время на зрелища плясунов и исполнителей всяких видов искусства и ритмических движений, и был нерадив к делам правления[7]. Он выхо-{87}дил, украшенный пряжками и поясом, разукрашенный большим количеством золота и драгоценными камнями, хотя подобная роскошь у римских солдат не одобрялась, так как считалась скорее подходящей для варвара и женщин. (5) Видя это, воины не мирились с этим и не одобряли его образа жизни — распущенного и не подобающего военному человеку[8]; сравнивая в воспоминаниях с образом жизни Антонина, который был строгим и солдатским, они осуждали роскошь Макрина. (6) И еще они негодовали из-за того, что, проводя жизнь в палатках на чужой земле, иногда лишенные необходимых припасов, хотя, казалось, был мир[9], они не возвращались по своим домам; видя Макрина, проводящего жизнь в неге и роскоши, они, нарушая дисциплину, между собой бранили его и желали ухватиться за незначительный повод для устранения того, кто их огорчал.
3. (1) Было суждено, чтобы Макрин, прожив в роскоши как император один только год, утратил вместе с жизнью и власть, когда случай предоставил воинам очень маленький и ничтожный повод к исполнению того, что они хотели [10]. (2) Была некая женщина по имени Меса[11], родом финикиянка, из города Финикии, носящего название Эмес[12], она приходилась сестрой Юлии, жене Севера, матери Антонина. В продолжение всей жизни сестры она прожила много лет, пока Север и Антонин царствовали, в императорском дворце. Этой Месе после смерти ее сестры и убийства Антонина Макрин приказал, возвратившись на родину, проживать у себя, владея всем своим имуществом. Она накопила огромное состояние, так как долгое время содержалась в условиях императорского дворца. (3) Возвратившись, старуха жила в своих владениях. Были у нее две дочери: старшая называлась Соэмия[13], вторая — Мамея[14]. Были сыновья: у старшей по имени Бассиан[15], у младшей — Алексиан[16]. Они воспитывались при матерях и при бабушке; Бассиан достиг приблизительно четырнадцати лет, а Алексиану пошел десятый год. (4) Они были посвящены богу Солнца; ведь местные жители поклоняются ему, на финикийском языке называя его Элеагабалом. Воздвигнут ему громадный храм, украшенный большим количеством золота, серебра и роскошными драгоценными камнями. Он почитается не только местными жителями, но и все соседние варварские сатрапы и цари каждый год щедро посылают богу роскошные посвящения[17]. (5) Там нет, как у эллинов или римлян, никакой сделанной руками человека статуи, передающей образ бога; имеется там некий огромный камень, снизу закругленный, кончающийся острием, форма у него конусообразная, цвет же черный. Они {88} торжественно заявляют, что он упал с неба, показывают какие-то незначительные выступы и вмятины от удара; они хотят, чтобы это было нерукотворное изображение солнца — так им хочется видеть. (6) Бассиан, являвшийся жрецом этого бога (ему, как старшему, был вверен культ), выступал, одетый по-варварски, препоясав златотканые хитоны[18], пурпурные, с рукавами и спускавшиеся до пят, покрыв обе ноги от ногтей до бедер одеждами, также разукрашенными золотом и пурпуром; голову украшал венок, расцвеченный блеском роскошных драгоценных камней. (7) Был он в цветущем возрасте и красивейшим из всех юношей своего времени. Вследствие того, что в нем соединялись телесная красота, цветущий возраст, пышные одежды, можно было сравнить юношу с прекрасными изображениями Диониса.
(8) Когда он священнодействовал и плясал у алтарей по обычаю варваров под звуки флейт и свирелей и аккомпанемент разнообразных инструментов, на него более чем с обычным любопытством взирали прочие люди, а более всего воины, знавшие, что он царского рода, да и к тому же привлекательность его притягивала к себе взоры всех. (9) Тогда по соседству с этим городом находился громаднейший лагерь, который ограждал Финикию; впоследствии он был перемещен, как мы скажем дальше[19]. И вот воины, часто бывая в городе, заходили в храм для поклонения и с удовольствием взирали на юношу. Некоторые из них были клиентами Месы и находились под ее покровительством[20]; (10) она им, когда они восхищались мальчиком, сказала, то ли выдумывая, то ли говоря правду, что он в действительности по рождению сын Антонина, хотя, по неосновательному мнению, слывет сыном другого, ибо Антонин часто посещал ее дочерей, которые были юными и прекрасными, в то время, когда она жила с сестрой во дворце. Те, слыша это и постепенно сообщая сотоварищам, распространили этот слух, так что он разошелся по всему войску. (11) Поговаривали, что у Месы груды денег, что она все охотно отдала бы воинам, если бы они помогли вернуть ее семейству императорскую власть. После того, как они согласились ночью, если те тайно придут, открыть ворота и принять в лагерь все семейство и провозгласить Бассиана государем и сыном Антонина, старуха уступила, предпочитая подвергнуть себя всяческой опасности, нежели жить частным человеком и слыть впавшей в ничтожество; ночью она тайком вместе с дочерьми и внуками выбралась из города[21]. (12) Когда воины из клиентов привели их, приведя к стене лагеря, и они без труда были приняты внутрь, тотчас же весь лагерь назвал {89} юношу Антонином [22]; облекши его в пурпурный плащ, они держали его внутри лагеря. Доставив внутрь все необходимое, также детей и женщин и все то, что они имели в соседних деревнях и на полях, и заперев ворота, они приготовились в случае необходимости выдержать осаду.
4. (1) Когда об этом было сообщено Макрину, проводившему время в Антиохии, молва, что сын Антонина нашелся и что сестра Юлии раздает деньги, обошла уже прочие лагеря; веря, что все, о чем говорят, является возможным и истинным, воины были в сильном возбуждении. (2) Их склоняли и подстрекали к государственному перевороту и ненависть к Макрину, и горесть при воспоминании об Антонине, и прежде всего ожидание денег, вследствие чего многие, перебегая, приходили к юному Антонину. Макрин, относясь к этому с пренебрежением, как к чему-то ребяческому, находясь в состоянии привычного легкомыслия[23], сам остается дома и посылает одного из начальников лагеря, дав ему силу достаточную, по его мнению, для того, чтобы очень легко уничтожить восставших. (3) Когда Юлиан (такого было имя начальника) [24] прибыл и атаковал стены, воины изнутри, взойдя на башни и к крепостным зубцам, показали войску, осаждавшему снаружи, мальчика и, славословя сына Антонина, показали им кошельки, полные денег, — приманку для предательства. (4) Поверив, что он дитя Антонина и весьма на него похож (так им хотелось видеть), они отсекают голову Юлиану и посылают ее Макрину[25]; сами же все, когда им открыли ворота, были приняты в лагерь. Возросшая таким образом сила оказалась не только вполне способной обороняться против осады, но и сражаться грудь с грудью в открытом бою; к тому же множество перебежчиков, хотя и приходивших небольшими количествами, непрестанно умножали силу.
(5) Узнав об этом, Макрин, собрав все имевшееся у него войско[26], пошел, чтобы осадить тех, кто присоединился к Антонину. Последний вследствие того, что его воины не хотели подвергнуться осаде, но решились со всей готовностью выступить и, встретившись с Макрином, сразиться в открытом бою, выводит свою силу. (6) Войска встретились друг с другом на границе Финикии и Сирии[27], причем сторонники Антонина сражались с готовностью, боясь в случае поражения подвергнуться мщению за то, что они содеяли; сторонники же Макрина нерадиво принимались за дело, убегая и переходя к Антонину[28]. (7) Видя это и устрашившись, что, совершенно лишенный силы и взятый в плен, он мог бы потерпеть позорнейшее поругание, Макрин во время сражения уже с наступлени-{90}ем вечера, сбросив короткий плащ и всю бывшую на нем императорскую одежду, тайно убегает с немногими центурионами, которых он считал самыми верными; бороду он срезал, чтобы не быть узнанным, одежду взял дорожную[29] и голову все время покрывал. (8) Двигался он и ночью и днем, опережая молву о его несчастье, а центурионы с большой поспешностью гнали повозки, как если бы они были посланы еще царствующим Макрином ради каких-то важных дел.
Итак, он, как было сказано, бежал; войска с обеих сторон сражались, за Макрина — телохранители и копьеносцы, которых называют преторианцами, — они достойно сопротивлялись всему другому войску, так как отличались очень высоким ростом и были отборными воинами; вся остальная масса сражалась за Антонина. (9) Так как сражающиеся за Макрина долго не видели ни его, ни императорских знаков отличия, они начали недоумевать, где бы он мог находиться: среди ли массы лежащих или, убежав, скрылся, и не знали, как им поступить в сложившихся обстоятельствах, ибо не желали сражаться за отсутствующего, а сдаться в качестве военнопленных стыдились. (10) Когда же Антонин узнал от перебежчиков о бегстве Макрина, он, послав глашатаев, объявляет им, что они тщетно сражаются за труса и беглеца, и клятвенно обещает безопасность и прощение и приглашает их быть его телохранителями. Они, послушавшись, присоединились к нему; Антонин же посылает погоню за Макрином, который далеко ушел вперед. (11) Схвачен он был в Халкедоне, в Вифинии, тяжело больной и изнуренный непрерывной ездой. Там, найдя его, скрывавшегося в каком-то предместье, преследующие отрубили ему голову[30]. Говорили, что он спешил в Рим, полагаясь на усердие народа по отношению к нему; переправляясь в Европу через узкий пролив Пропонтиды, уже приближаясь к Византию, он, говорят, был застигнут встречным ветром, и ветер вернул его назад — к наказанию. (12) Макрин чуть было не ускользнул от преследовавших и имел позорный конец, слишком поздно пожелав отправиться в Рим, тогда как это следовало сделать с самого начала[31]. Ему одновременно изменили и рассудок и счастье.
Таков был конец Макрина; вместе с ним был убит и сын, которого он сделал Цезарем, назвав его Диадуменианом[32].
5. (1) Когда все войско, перейдя к Антонину, объявило его государем, он принял на себя власть, причем настоятельные дела на Востоке были приведены в порядок для него бабкой и бывшими с ним друзьями (ибо сам он был юн возрастом, в делах несведущ и необразован); недолго помедлив, он начал {91} подготовлять отъезд[33], так как Меса очень торопилась в привычный для нее дворец в Риме. (2) Когда сенату и римскому народу было сообщено о случившемся[34], все с огорчением выслушали это, но подчинились необходимости, так как войско предпочло этот исход. Макрина обвиняли в беспечности и в изнеженности нравов и говорили, что виновен не кто-нибудь другой, но сам он по отношению к себе.
(3) Антонин, отправившись из Сирии и прибыв в Никомедию, там зимовал — так требовало время года. Сразу же он предался неистовству[35] и, справляя культ местного бога, в котором он был воспитан, с упоением плясал, одеваясь в самые пышные наряды, украшая себя золочеными пурпурными тканями, ожерельями и браслетами, надев венец в виде тиары[36], покрытой золотом и драгоценными камнями. (4) Одежда у него была чем-то средним между финикийским священным одеянием и мидийским пышным нарядом. Ко всякой римской и эллинской одежде он испытывал отвращение, говоря, что она сделана из шерсти, вещи дешевой; его удовлетворяли только ткани серов[37]. Он выступал под звуки флейты и тимпанов, якобы священнодействуя в честь бога.
(5) Меса, видя это, сильно огорчалась; настаивая, она пыталась уговорить его[38], чтобы он переоделся в римское платье, раз он готовится вступить в Рим и войти в сенат, чтобы и иноземная и совершенно варварская одежда, когда ее увидят, сразу же не оскорбила увидевших ее, так как они непривычны к ней и думают, что такого рода утонченность к лицу не мужчинам, а женщинам. (6) Он же, презрев речи старухи, не слушаясь никого другого (он ведь ни с кем не соглашался, если только это не были люди одинаковых с ним нравов и льстиво восхвалявшие его проступки), желая и сенат и римский народ приучить к виду такой одежды и в свое отсутствие испытать, как они переносят вид этой одежды, сделал свой огромный портрет во весь рост, каким он являлся, выступая и совершая священнодействия, поставив на картине изображение местного бога, которому он совершал жертвоприношение; (7) послав изображение в Рим, он приказал выставить его в самой середине помещения сената, на самом высоком месте, над головой статуи Победы [39], которой, сходясь в сенат, каждый сенатор воскуряет ладан и совершает возлияние вином. Он приказал, чтобы все римские должностные лица при совершении каких-либо общественных жертвоприношений прежде других богов, которых они призывают, священнодействуя, называли нового бога Элеагабала. Когда же Антонин прибыл в Рим[40] в описанной выше одежде, приученные картиной, римляне не увидели {92} ничего неожиданного. (8) Произведя обычную раздачу народу по случаю наследования императорской власти, щедро и пышно устроив разнообразные зрелища, построив очень большой и прекраснейший храм богу[41], соорудив вокруг храма большое количество алтарей, он, выходя каждое утро, закалывал и возлагал на алтари гекатомбы быков[42] и огромное число мелкого скота, нагромождая различные благовония и изливая перед алтарями много амфор очень старого превосходного вина, так что неслись потоки вина, смешавшиеся с кровью. (9) Вокруг алтарей он плясал под звуки различных музыкальных инструментов; вместе с ним плясали женщины, его соплеменницы, пробегая вокруг алтарей, неся в руках кимвалы и тимпаны; весь сенат и сословие всадников стояли кругом наподобие театра. Внутренности принесенных в жертву животных и благовония в золотых сосудах несли над головой не слуги или какие-нибудь простые люди, (10) а начальники лагерей и ведавшие важнейшими государственными делами; они были одеты в хитоны с пурпурной полосой посередине, спускавшиеся до пят и имевшие рукава по финикийскому обычаю[43]; на них были сандалии, сделанные из льна, как у пророков в тех местах[44]. Он считал, что оказывает величайшую почесть тем, кому он позволяет принимать участие в священнодействии.
7. (1) Хотя и казалось, что он посвящает все свое время пляскам и священнодействиям, он все же казнил большое число знатных и богатых людей, на которых ему донесли как на неодобряющих и высмеивающих его образ жизни. Он взял себе в жены самую благородную из римлянок, которую провозгласил Августой, а спустя короткое время отослал[45], приказав жить частным человеком и лишив почестей. (2) После нее, притворившись влюбленным, чтобы показать себя мужчиной, он похитил у Гестии из священного обиталища весталок[46] и сделал своей женой девушку[47], несмотря на то, что она была жрицей римской Гестии и что ей было велено согласно священным законам пребывать непорочной и до конца жизни оставаться девственницей[48]; сенату он написал послание и оправдывал нечестивый поступок и столь великое прегрешение, сказав, что испытал человеческую страсть; он будто бы был охвачен любовью к деве, а брак жреца и жрицы является пристойным и благочестивым. Однако и эту он спустя непродолжительное время отослал и взял в жены третью, возводившую свой род к Коммоду[49].
(3) Он забавлялся браками не только человеческими, но и богу, жрецом которого он был, искал жену; почитаемую римлянами скрытую и невидимую статую Паллады он перенес в {93} свою опочивальню; ее, которую не сдвигали с тех пор, как она прибыли из Илиона, исключая тот случай, когда храм был истреблен огнем[50], он сдвинул и принес во дворец для брака с богом. (4) Сказав, что его бог недоволен ею как богиней войны, носящей полное вооружение, он послал за статуей Урании, которую чрезвычайно почитают карфагеняне и обитатели Ливии[51]. Говорят, что ее поставила финикиянка Дидона, когда она, разрезав воловью шкуру, основала древний город Карфаген[52]. Ливийцы называют ее Уранией, финикийцы же именуют Астроархой[53], желая отождествить ее с луной. (5) И вот, утверждая, что брак солнца и луны является вполне подходящим, Антонин послал за статуей и за всем золотом оттуда и приказал, чтобы собрали вдобавок огромную сумму денег на приданное богине. Привезенную статую он выдал замуж за бога, приказав всем людям в Риме и Италии предаться всенародно и частным образом всевозможному веселью и пиршества, так как боги вступали в брак.
(6) В предместье он соорудил очень большой и роскошнейший храм[54], в который ежегодно в разгар лета привозил бога. Он затевал разнообразные пиршества; построив ипподромы и театры, он полагал, что увеселяет угощаемый и предающийся празднествам народ конными состязаниями и всякими усладами зрения и слуха в огромном количестве. Поставив самого бога на колесницу, разукрашенную золотом и драгоценными камнями, он вывозил его из города в предместье. (7) Колесницу везла шестерка белых коней, огромных и без единого пятна, украшенных в изобилии золотом и разноцветными бляхами; вожжи никто не держал, и на колесницу не всходил человек, вожжи были наброшены на бога, как будто возничим был он сам. Антонин бежал перед колесницей, отступая перед ней, глядя на бога и держа узду коней; он совершал весь путь, пятясь назад и глядя вперед на бога. (8) Чтобы он не споткнулся и не поскользнулся, не видя, где он ступает, было насыпано много золотого песка, а телохранители с обеих сторон удерживали коней, заботясь о его безопасности во время такого бега. Народ же бежал с обеих сторон, неся разнообразные факелы, бросая венки и цветы; статуи всех богов и все, какие только были пышные или ценные приношения, все императорские знаки и ценные сокровища, а также всадники и все войско предшествовали богу. (9) Привезя и поставив в храме, Антонин совершал описанные выше жертвоприношения и священнодействия; воздвигнув очень большие и высокие башни и взойдя на них, он бросал толпам, позволяя всем расхватывать, золотые и серебряные кубки, разнообразные одежды, ткани и {94} всяких домашних животных, кроме свиней, — от этих последних он, по обычаю финикийцев, воздерживался. (10) Во время расхватывания многие погибали, растаптываемые другими и натыкаясь на копья воинов, так что его праздник многим принес горе. А его часто видели правящим колесницей или пляшущим — совершая неподобающее, он не желал скрываться. Он выходил, подведя глаза и нарумянив щеки, портя красивое от природы лицо безобразными красками.
7. (1) Видя это и подозревая, что воинам не нравится подобная жизнь государя, и опасаясь, что ей снова придется вернуться к частной жизни, если с ним что-нибудь случится, Меса убеждает его, юношу вообще легкомысленного и неразумного, усыновить и объявить Цезарем своего двоюродного брата, ее внука от второй дочери Мамеи, (2) сказав ему приятное, что ему следует заниматься жречеством и культом, предаваясь религиозным исступлениям, оргиям и божественным делам, но должен быть другой, кто бы ведал человеческими делами и предоставил ему те дела государя, которые не требуют забот и хлопот; не надо искать чужого и постороннего, а лучше вручить это двоюродному брату. (3) Алексиан переименовывается и называется Александром, причем дедовское имя было изменено на имя македонянина[55], очень знаменитое и весьма почитаемое их мнимым отцом; ведь обе дочери Месы и сама старуха отныне гордились прелюбодеянием Антонина, сына Севера, для того, чтобы воины любили детей, считавшихся его сыновьями.
(4) Александр объявляется Цезарем и консулом вместе с самим Антонином[56]. Придя в сенат, Антонин утвердил это, и сенаторы смехотворно постановили то, что было им приказано, считать того, достигшего приблизительно шестнадцати лет, отцом, а Александра, вступившего в двенадцатый год, сыном[57]. Когда Александр был объявлен Цезарем, Антонин пожелал обучать его своим занятиям — плясать, водить хороводы и принимать участие в исполнении жреческих обязанностей в таких же одеяниях и таких же действиях. (5) Но мать Мамея отвращала его от занятий, постыдных и неприличных государям[58], она тайно приглашала учителей всяких наук, занимала его изучением разумных предметов, приучала к палестрам[59] и мужским телесным упражнениям и давала ему эллинское и римское воспитание[60]. Антонин очень сердился на это и раскаивался в том, что сделал его сыном и участником правления. (6) Всех его учителей он прогнал из императорского дворца, а некоторых из них, самых знаменитых, казнил или осудил на изгнание, предъявляя самые смехотворные об-{95}винения, будто они развращают ему его названного сына тем, что не позволяют водить хороводы и принимать участие в религиозных исступлениях, и тем, что вразумляют его и учат тому, что достойно мужчин. Он впал в такое сумасшествие, что всех актеров со сцены и из общественных театров перевел на высшие государственные дела[61]; префектом претория он назначил какого-то человека, бывшего в молодости плясуном и публично плясавшего в римском театре[62]; (7) возвысив таким же образом и другого со сцены, он назначил его руководить воспитанием юношества, следить за благонравием и проверять всех вступающих в сенат или в сословие всадников[63]. Возницам, комическим и мимическим актерам он доверил важнейшие из императорских поручений. Рабам же своим или вольноотпущенникам в меру их известности в постыдных делах он доверил проконсульскую власть над провинциями[64].
8. (1) Вследствие того, что таким образом все, прежде считавшееся почтенным, было нагло и безумно попрано в вакхическом исступлении, все люди и особенно воины испытывали досаду и огорчение; они чувствовали отвращение к нему, видя его с лицом, нарумяненным более тщательно, чем это подобает даже скромной женщине, не по-мужски украшенного золотыми ожерельями и изысканными одеждами; плясавшего так, чтобы все его видели. (2) Поэтому они более благосклонно обращали свои мысли к Александру и возлагали лучшие надежды на мальчика, прекрасно и разумно воспитывавшегося. Они всячески оберегали его, видя, что Антонин злоумышляет против него. Мать Мамея не позволяла мальчику принимать какое-нибудь питье или пищу из того, что посылал Антонин; мальчик пользовался услугами поваров и виночерпиев не императорских и находившихся на общей службе, а выбранных его матерью и считавшихся наиболее надежными. (3) Она незаметно давала деньги для тайной раздачи воинам, чтобы привлечь к Александру расположение и при помощи денег, к которым они более всего привязаны[65].
Узнав об этом, Антонин всяческими способами начал злоумышлять против Александра и его матери[66]; но все козни отвращала и предупреждала их общая бабка Меса, женщина во всех отношениях опытная, многие годы прожившая в императорском дворце как сестра Юлии, жены Севера, и вместе с ней проводившая все время во дворце. (4) Ничто из замыслов Антонина не укрывалось от ее внимания, так как он с рождения был вздорным и без утайки открыто говорил и делал все, что замышлял. Так как злой умысел ему не удался, он пожелал лишить мальчика почестей Цезаря, и Александра уже не {96} видели ни при утренних приветствиях, ни во время выходов[67]. (5) Воины, однако, требовали его и возмущались тем, что он был удален от власти. Антонин распустил слух, будто Александр находится при смерти — он производил опыт, как воины воспримут эту новость [68]. Они же, не видя мальчика и потрясенные слухом, вознегодовав, не послали Антонину обычную стражу и, запершись в лагере, пожелали увидеть Александра в храме[69]. (6) Антонин, охваченный большим страхом, взяв Александра и усевшись вместе с ним в императорские носилки, которые были разукрашены обильным золотом и драгоценными камнями, прибыл вместе с Александром в лагерь[70]. Когда воины, отперев ворота, приняли их и привели в храм лагеря, они с воодушевлением приветствовали и славословили Александра, к Антонину же относились невнимательно. (7) Сердясь на это и переночевав в храме лагеря, он очень негодовал и гневался на воинов; тех, кто очень заметно и с воодушевлением славословил Александра, как виновников мятежа и беспорядка он велел арестовать для наказания. (8) Воины, возмущенные этим и вообще ненавидя Антонина и желая устранить непристойно ведшего себя государя, а теперь еще полагая нужным помочь арестованным, находя случай удобным и предлог справедливым, самого Антонина и его мать Соэмию (она присутствовала как Августа и мать) убивают, а также всех из его окружения, которые были схвачены внутри лагеря и слыли прислужниками и сообщниками его проступков[71]. (9) Тела Антонина и Соэмии они позволили тащить и бесчестить всякому желающему; после того как их долго тащили по всему городу, изуродованные, они были брошены в сточные воды, которые текут в реку Тибр[72].
(10) Антонин на шестом году царствования[73], отличавшийся указанным выше образом жизни, так погиб вместе со своей матерью; воины же, провозгласив Александра императором[74], привели его во дворец, совершенно юного и всецело еще руководимого матерью и бабкой. {97}
1. (1) О том, каков был конец молодого Антонина, сказано в предыдущей книге; став преемником его власти, Александр получил императорскую власть только по виду и названию, в действительности же ведение всех дел и государственное управление было всецело в руках женщин[1]. Они пытались придать всему благоразумный и достойный вид. (2) В первую очередь они избрали из состава сената шестнадцать мужей, считавшихся наиболее почтенными по возрасту и воздержанными по образу жизни, чтобы были они помощниками и советниками государю, и ничего не говорилось и не делалось, если после обсуждения они не подавали за это своего голоса[2]. Не только народу и войску, но и сенату было по душе это изменение императорской власти, когда наглая тирания была заменена некоей аристократической формой правления.
(3) Итак, прежде всего они отослали в их прежние собственные храмы и святилища статуи богов, которые были сдвинуты с мест и увезены Антонином[3]; тех же, кто был им безосновательно или только за их преступную славу облечен почестями и властью, они лишили всего ими полученного, приказавши каждому из них вновь вернуться в свое прежнее, подобающее их истинной цене состояние[4]. (4) Все дела, как гражданские, так и судебные, и руководство ими они поручили людям, наиболее прославленным ученостью и опытностью в законах[5], дела же военные — людям испытанным и отличившимся в дисциплине и делах ратных. После того, как в течение довольно длительного времени государство управлялось таким образом, Меса, будучи уже престарелой, скончалась и удостоилась императорских почестей, или, как это считается у римлян, была обожествлена[6]. (5) Мамея же, оставшаяся одна при сыне, старалась таким же образом повелевать и управлять им. Видя, что сын ее в цветущем возрасте, и опасаясь, как бы его цветущая юность, опирающаяся к тому же на безнаказанность и могущество власти, не ввергла его в пучину наследственных пороков, она со всех сторон оберегала императорский двор, не позволяла приближаться к юноше никому из людей, известных дурным образом жизни, дабы как-нибудь не развратить его нрав, когда льстецы будут направлять его достигшие полного расцвета желания к страстям постыдным. (6) Поэтому она убеждала его непрерывно в течение большей части дня разби-{98}рать судебные дела для того, чтобы, занимаясь делами важнейшими и необходимыми для императорской власти, он не имел времени предаваться какому-нибудь пороку. Александр и по самой природе своей обладал нравом кротким и мягким и был весьма расположен к человеколюбию, что он показал и в более зрелом возрасте. (7) Действительно, вступив в четырнадцатый год царствования, он правил без кровопролитий, и никто не может назвать убитого им человека[7]. И хотя некоторые подвергались величайшим обвинениям, тем не менее, он щадил и не казнил их, а так снисходительно со времени правления Марка не поступал ни один из государей нашего времени[8]. При Александре же никто не мог бы сказать или припомнить, чтобы за столько лет кто-либо был убит без суда.
(8) Жаловался Александр на мать свою и весьма огорчался, видя ее сребролюбие и непомерное усердие в этом. Ведь делая вид, что она накапливает богатства для того, чтобы Александр щедро и без труда мог делать приятное воинам, она умножала собственное состояние; иногда она навлекала нарекания на власть Александра тем, что против его воли и к его негодованию отнимала состояния и наследства некоторых людей на основании наветов.
(9) Мамея женила его на женщине из патрицианского рода[9], которую впоследствии изгнала из дворца, хотя и жила та с мужем в супружеском согласии и была любима им; надменная и желавшая одна быть государыней, завидуя ее званию, она дошла до столь великого бесчинства, что отец молодой женщины[10], как ни сильно был он уважаем своим зятем Александром, не вынеся притеснений Мамеи по отношению к нему самому и к его дочери, бежал в лагерь[11] и, принося Александру благодарность за почести, ему прежде оказанные, жаловался на Мамею за все ее обиды. (10) Она же в гневе повелела убить его, а дочь, выгнав из дворца, сослала в Ливию. Все это делалось против воли принуждаемого к тому Александра, ибо мать имела над ним чрезмерную власть, и все, ею приказанное, он исполнял. В том единственно можно упрекнуть его, что из-за чрезмерной кротости и большей, чем следует, почтительности к матери он повиновался тому, чего сам не одобрял.
2. (1) Итак, в течение тринадцати лет он безупречно, насколько это от него зависело, управлял государством; на четырнадцатом же году[12] неожиданно были получены послания от правителей Сирии и Месопотамии, сообщавшие, что Артаксеркс, царь персов, сокрушив парфян и лишив их власти над Востоком[13], убил Артабана, прежде называвшегося великим царем и владевшего двумя царскими венцами[14], покорил все соседние варварские народы и сделал их своими данниками; он не успокаивается на этом и не остается по ту сторону реки {99} Тигра, но, перейдя на другой берег в пределы Римской державы, опустошает набегами Месопотамию (2) и грозит сирийцам [15], а весь противолежащий Европе материк, отделяемый Эгейским морем и проливом Пропонтиды, — всю так называемую Азию, считая владением предков, желает вновь присоединить к Персидской державе, утверждая, что со времени Кира, который первым перенес власть от мидян к персам[16], вплоть до Дария, последнего персидского царя, власть которого упразднил Александр Македонский[17], — все, до Ионии и Карии, управлялось персидскими сатрапами; поэтому ему подобает восстановить для персов целиком всю державу, которой они ранее владели.
(3) После того, как правители восточных провинций сообщили и донесли об этом, Александр, встревоженный внезапно и неожиданно пришедшей вестью, пришел в большое смятение, в особенности еще и потому, что с детства вырос в мире[18]и всегда жил среди городской роскоши. И вот, посоветовавшись с друзьями, он решил сначала отправить посольство и посланием задержать натиск и надежду варвара. (4) В послании говорилось, что следует ему оставаться в собственных пределах, не затевать никаких новшеств и не возбуждать великой войны, воспламеняясь тщетными надеждами, и каждому удовлетворяться своим, ибо борьба с римлянами будет для него не такая, какую он вел против своих соседей и единоплеменных варваров. Послания напоминали о трофеях над ними Августа, Траяна, Луция и Севера[19]. Написав все это, Александр думал убедить или страхом принудить варвара оставаться в спокойствии, (5) а тот, ничуть не заботясь о том, что было ему написано, думал, что оружием, а не словами следует устраивать дела, непрерывно угонял и уносил все принадлежавшее римлянам; совершая набеги на Месопотамию и проходя по ней со своей конницей, он уводил людей и скот и осаждал расположенные на берегах рек лагеря, которые прикрывали Римскую державу. По природе хвастливый, воспламеняясь своими неожиданными успехами, он ожидал, что легко покорит себе все.
(6) Было, правда, нечто немаловажное, воодушевлявшее его в его стремлении увеличить свою державу. Ведь он первым из персов отважился напасть на Парфянское царство и восстановить Персидское царство. Ведь после Дария, который был лишен власти Александром Македонским, в течение очень многих лет македоняне и преемники Александра царствовали над восточными племенами по всей Азии, разделивши ее по странам[20]. (7) В то время как они враждовали между собой и македонское могущество от непрерывных войн ослабевало, Арсак, родом парфянин, первым, как говорят, склонил тамошних варваров к отложению от македонян; возложив на себя с {100} согласия парфян и сопредельных народов царский венец, он стал царем[21], и долго власть оставалась у его потомков, вплоть до современного нам Артабана, убив которого, Артаксеркс вернул власть персам и, легко покорив соседние варварские народы, уже начал злоумышлять и против Римской державы.
3. (1) Когда Александру, находившемуся в Риме, стало известно о дерзких поступках варвара на Востоке, он, находя их нестерпимыми, призываемый к тому же тамошними военачальниками, хотя и с неудовольствием и вопреки собственному желанию, решил тем не менее выступить в поход. И вот из самой Италии и из всех провинций, подчиненных римлянам, собирались в армию отборные воины[22], которые по телесной крепости и цветущему возрасту признавались пригодными для войны. (2) Величайшее движение произошло во всей Римской державе, когда против множества наступавших варваров, о которых приходили вести, собиралась столь же великая сила. Собрав находившихся в Риме воинов и приказав им всем сойтись на обычной равнине, Александр, взойдя на возвышение, сказал следующее: (3) «Желал бы я, мужи-соратники, держать перед вами обычную речь, которая и мне, говорящему перед вами, была бы прилична, и вам, слушающим, приятна, ибо вы, пользовавшиеся столь долголетним миром, если услышите теперь что-либо о неожиданной перемене обстоятельств, будете, возможно, поражены этим, как сказанным вопреки вашему ожиданию. (4) Однако доблестным и мудрым мужам должно не только желать продолжения наилучших обстоятельств, но и стойко переносит выпавшие им на долю опасности; ведь когда совершается что-либо доставляющее удовольствия, то наслаждение от этого сладчайшее, а когда успешно завершают что-либо по необходимости, то здесь уже проявляется славное мужество. Начинать несправедливые дела — значит бросать безрассудный вызов, отражать же с чистой совестью нарушителей спокойствия — есть дело безопасное, и твердая уверенность возникает у того, кто не совершает несправедливости и дает отпор. (5) Артаксеркс, муж персидский, убив своего владыку Артабана, перенеся верховную власть к персам и дерзко противостоя нашему оружию, презрев славу римлян, пытается совершать набеги и наносить вред владениям нашей державы. Сначала я пытался письмами и увещеваниями остановить его ненасытное безумие и жажду чужого; он же, влекомый варварской заносчивостью, не хочет оставаться дома и вызывает нас на битву. (6) Не будем же медлить и колебаться, но, старейшие из вас, вспомните свои трофеи, которые вы вместе с Севером и Антонином, отцом моим, часто воздвигали против варваров; вы же, пребывающие в расцвете лет, стремящиеся к известности и славе, докажите, что и во время мира вы в состоянии вести {101} себя спокойно и с достоинством, и с военными делами, когда того требует необходимость, доблестно справляетесь. (7) Варвары делаются смелыми против тех, кто уступает и медлит, а против оказывающих сопротивление никогда с той же силой не сопротивляются, так как добрую надежду сулит им не рукопашная битва с противником, но из набегов или бегства извлекают они для себя прибыль, получаемую путем грабежа. У нас же имеется правильный строй и порядок, и мы привычны всегда побеждать их».
4. (1) Все сказанное Александром вся армия приняла радостными восклицаниями и обещала с полной готовностью воевать. Он же, щедро наградив их деньгами, приказал приготовляться к походу. Придя на заседание сената и произнеся речь того же содержания, что ранее сказанная, он объявил о походе. (2) Когда настал заранее определенный день, он, принеся положенные при выступлении в поход жертвоприношения, сопровождаемый сенатом и всем народом, вышел из Рима, беспрестанно оборачиваясь к городу и проливая слезы. Но и из простого народа не было никого, кто бы без слез провожал его, ибо внушил он к себе любовь народу, выросши среди него и в течение стольких лет мягко управляя им. (3) С большой поспешностью совершив марш, посетив иллирийские провинции и воинские лагеря и собрав там великую силу[23], он прибыл в Антиохию. Оказавшись там, он приготовил все нужное для войны, упражняя солдат и приучая их к делам ратным.
(4) Он счел необходимым снова отправить посольство к персу и переговорить с ним о мире и дружбе, ибо он надеялся либо уговорить его, либо устрашить своим присутствием. Но варвар отослал римское посольство ни с чем, а сам, отобравши четыреста человек из персов, самых высокорослых, разукрашенных драгоценными одеждами и золотом, а также блещущих убранством коней и луков, отправил их послами к Александру, думая поразить римлян видом и обличием персов. (5) Посольство объявило, что приказывает великий царь Артаксеркс оставить римлянам и главе их Сирию и всю Азию, лежащую против Европы, и предоставить персам владеть всеми землями вплоть до Ионии и Карии и народами, отделяемыми Эгейским морем и Понтом, ибо это наследственные владения персов.
(6) Когда четыреста послов возвестили это, Александр приказал этих четыреста схватить и, снявши с них украшения, выслал во Фригию, предоставив им деревни для жительства и землю для возделывания, наложив на них только то наказание, чтобы они не возвращались в отечество, ибо он почитал бесчестным и неблагородным убивать не сражавшихся против него, {102} а только сообщивших ему приказанное им их владыкой. (7) В то время как все это происходило и когда Александр делал приготовления для того, чтобы перейти реки[24] и перевести армию в землю варваров, произошли некоторые мятежи среди воинов, прибывших из Египта, а также среди воинов, размещенных в Сирии, пытавшихся каким-нибудь образом провозгласить нового императора [25]; вскоре уличенные, они подверглись наказанию. Однако некоторые из лагерей Александр перевел в другие места, казавшиеся наиболее подходящими для отражения набегов варваров.
5. (1) Когда был наведен такой порядок и собралось великое множество войска, Александр счел, что его войско не уступает в силе и количестве всей массе варваров; посоветовавшись с друзьями, он разделил армию на три части и первой части отдал приказ повернуть на север и, пройдя через Армению, которая считалась дружественной римлянам, вторгнуться в страну мидян [26], (2) вторую же часть послал на восток варварской земли, где, говорят, Тигр и Евфрат, соединяясь, теряются в огромных болотах и по этой причине оказываются неизвестными устья только этих одних рек[27]; третью же, наиболее сильную часть армии, которой командовал он сам, он обещал вести против варваров средним путем[28]. Таким образом он надеялся с разных сторон напасть на ничего не ожидавших и не остерегавшихся врагов; масса, все время разделяясь для отражения наступающих, ослабеет и будет сражаться в беспорядке. (3) Ведь варвары не дают жалованья воинам, как римляне, и не имеют регулярных и постоянных лагерей, где упражняются в воинских искусствах; у них собираются поголовно все мужчины, а иногда и женщины, когда прикажет царь. По окончании же войны каждый возвращается к себе домой, обогатившись тем, что досталось ему от награбленного. (4) Луками и конями пользуются они не только во время войны, как римляне, но занимаются ими с детства и проводят жизнь в охоте, никогда не снимая с себя колчанов и не сходя с коней, но всегда пользуясь ими или против врагов, или против зверей. Вот так рассудил Александр, как казалось, наилучшим образом. (5) Судьба же расстроила его план. Войско, посланное через Армению, с трудом и риском перевалив через горы этой страны, скалистые и крутые (впрочем, в летнюю пору[29]путь там был еще довольно сносен) и вторгшись в страну мидян, опустошало ее, сожгло много деревень и увело большую добычу. Перс, узнав об этом, пришел на помощь с военной силой, отразить же римлян нисколько не сумел, (6) ибо сама страна, будучи каменистой, давала возможность идти пехоте уверенным шагом по удобному пути; конница же варваров из-за крутизны гор замедляла свой бег и с трудом могла пре-{103}следовать и нападать. Тогда же пришли к персу некие вестники с сообщением, что показалось другое войско римлян в восточных парфянских областях и наступает по равнинам. (7) По этой именно причине, опасаясь, как бы они, быстро опустошив парфянские земли, не вторглись в Персию, он, оставив некоторую часть своих сил, сколько, по его мнению, достаточно было для защиты Мидии, сам со всем войском поспешил на Восток. Армия же римлян продвигалась, не соблюдая порядка, так как никто не появлялся, никто не оказывал сопротивления, а кроме того, была надежда, что Александр с третьей частью армии, самой сильной и значительной, нападет на варваров в центре, варвары же, все время стягиваясь для сопротивления против тех, кто их тревожит, дадут тем самым остальным римлянам возможность двигаться более спокойно и безопасно.
(8) Было объявлено всем войскам переправляться во вражескую страну и назначено место, где им следовало сойтись, захватывая все, что встречалось по пути. Однако Александр подвел их, так как и армию не привел, и не совершил вторжения то ли из страха, чтобы не рисковать своей душой и телом за Римское государство, то ли удерживаемый женской боязливостью матери и ее чрезмерным чадолюбием. (9) Она сдерживала его мужественные порывы, убеждая, что другим следует подвергать себя опасностям ради него, а не ему самому вступать в сражение; это и привело к гибели наступающее римское войско. Перс, напав со всеми своими силами на ничего не подозревавшее войско, окружив его и как бы опутав сетью, поражая со всех сторон стрелами, истребил армию римлян, которые были слишком малочисленны, чтобы противостоять превосходящему противнику, и только беспрестанно прикрывали большими щитами незащищенные части своих тел, поражаемые стрелами; они довольствовались уже тем, что защищали свои тела, а не сражались. (10) Наконец, все они, собравшись в одно место и устроив из выставленных вперед щитов подобие стены, отбивались в положении осажденных и, со всех стороны забрасываемые стрелами и получая ранения, отражали неприятеля со всей возможной храбростью до тех пор, пока все не были перебиты. Поражение это было величайшим и неслыханным для римлян, ибо погублена была великая сила, не уступавшая силой духа и мощью никакой из древних; персу же удача в столь великом деле внушила надежду на еще большие подвиги.
6. (1) Когда об этом стало известно Александру, тяжко болевшему то ли от упадка духа, то ли от непривычного воздуха, то и сам он очень опечалился, и все войско было недовольно им, негодуя, что он обманул их и, не выполнив своего плана, предал наступавшую армию. (2) Однако Александр, страдая от {104} болезни и удушливого воздуха, видя к тому же, что все войско болеет и особенно гибнут от тяжких болезней иллирийские воины, употребляющие большое количество пищи, решил возвратиться в Антиохию и послал войску, находившемуся в Мидии, приказ возвращаться. (3) Возвращаясь, это войско в большинство своем погибло в горах, а многие в холодной стране отморозили конечности, так что возвратились из всего множества лишь очень немногие; бывший с ним отряд Александр довел до Антиохии, но и из этой части армии многие также погибли, так что великое уныние распространилось в войске и дурная слава пошла об Александре, утратившем прозорливость и счастье; и из трех частей армии, которые у него были, большинства он лишился вследствие разных несчастий — болезни, войны, мороза[30].
(4) Оказавшись в Антиохии[31], Александр после иссушающей жары в Месопотамии и сам быстро окреп благодаря здоровому воздуху и обилию воды в этом городе, и возвратил себе расположение воинов, утешив их в их огорчениях щедрыми денежными дарениями, ибо это он считал единственным средством для приобретения благорасположения воинов. Он собирал силу и снаряжал ее, чтобы снова повести против персов, если они будут беспокоить, а не сидеть тихо. (5) Пришло, однако, известие, что и перс, распустив свое войско, отослал всех по домам. Хотя и вышло так, что варвары в целом казались победителями, тем не менее они понесли ничуть не меньшие потери в частых стычках, происходивших и в Мидии, и в сражении в Парфии, где было множество убитых и еще более раненых. Ведь римляне уступили победу не без проявлений мужества и сами причинили врагам достаточно вреда, разбиты же были они потому только, что оказались в меньшем числе, (6) так что при почти одинаковом с обеих сторон числе павших воинов представляется все же, что оставшиеся в живых варвары одержали победу благодаря превосходству в числе, а не своей мощью. Немалое доказательство серьезного урона у варваров вот в чем: года три или четыре они оставались спокойными и не брались за оружие[32]. Узнав об этом, Александр и сам проводил время в Антиохии; почувствовав себя более уверенно и в безопасности, освободившись от забот о войне, он посвящал свой досуг удовольствиям города.
7. (1) Между тем Александр знал, что в Персии не все остается в состоянии спокойствия и мира, но что у варвара имеются задержки и препятствия к новому нападению с войском, которое, раз распущенное, нелегко собрать вновь, так как оно не является ни упорядоченным, ни постоянным, но представляет собой скорее неорганизованную толпу народа, чем армию; и запасов провианта у них имеется только такое количество, {105} сколько каждый, приходя, приносит с собой для собственного потребления; с неохотой и великим трудом покидают они детей, жен и родную страну. (2) В это время Александра смутили и ввергли в большее беспокойство неожиданные сообщения и письма: сообщали ему те, кому было вверено управление Иллирией, что германцы, перейдя Рейн и Истр, опустошают Римскую державу и нападают с великой силой на лагеря, расположенные на берегах, города и деревни и что иллирийские провинции, сопредельные и пограничные с Италией, находятся в немалой опасности[33]; (3) необходимо поэтому его присутствие там вместе со всей имеющейся у него армией. Эти известия встревожили Александра и опечалили воинов из Иллирика, считавших, что их постигло двойное несчастье: во-первых, из-за того, что они пострадали, сражаясь с персами, во-вторых, из-за того, что каждый из них узнавал о гибели родных от рук германцев[34]. Потому они негодовали и обвиняли Александра в том, что он по беспечности или из трусости погубил дело на Востоке, а теперь медлит и боится идти на Север. (4) И сам Александр, и бывшие при нем друзья испытывали страх уже и за самое Италию. Опасность со стороны персов они считали отнюдь не равной опасности со стороны германцев: ведь люди, живущие на Востоке, отделенные пространной землей и великим морем, едва лишь понаслышке знают об италийской земле; иллирийские же провинции, сжатые на узком пространстве и имеющие небольшую территорию под римским владычеством, делают германцев почти что близкими соседями римлян[35]. (5) Против собственной воли, досадуя, он объявляет поход[36] потому только, что того требовала необходимость; оставив силу, достаточную, по его мнению, для защиты римских берегов, очень заботливо укрепив стенами лагеря и сторожевые пункты и пополнив их определенным количеством войск[37], сам он с остальной массой поспешил против германцев. (6) Совершив весь путь с великой поспешностью, он появился на берегах Рейна и стал готовиться к войне против германцев; реку он перегородил судами и, соединив их между собой в виде моста, рассчитывал предоставить воинам удобную переправу. Реки эти, Рейн и Истр, самые большие из тех, что текут на севере, одна протекает вдоль Германии, другая вдоль Паннонии; летом течение их судоходно благодаря глубине и ширине, зимой же, покрытые льдом, они становятся пригодны для езды на лошадях, подобно равнине. (7) То, что было водой, становится столь твердым и крепким, что не только выдерживает копыта лошадей и ноги людей, но, если кто желает взять воды, приносит с собой не кувшины, не какие-либо сосуды, а топоры и заступы, чтобы, вырубив, взять воду без всякого сосуда, и несут ее, как камень. {106}
(8) Такова природа этих рек; Александр, ведя с собой множество мавританцев и большое число лучников с Востока и из страны осроэнов, а также некоторых парфян — перебежчиков или согласившихся за деньги следовать за ним и помогать ему, подготовлял их, чтобы выставить против германцев. Для последних наиболее опасно именно такое войско, так как мавританцы способны издали метать копья и проворно атакуют и отступают; лучники же легко и метко с большого расстояния пускают стрелы в обнаженные головы и крупные их тела… они набегали для рукопашного боя и зачастую оказывались по силе равными римлянам.
(9) В таком положении был Александр; тем не менее он решил отправить к германцам посольство и вести переговоры о мире. Он обещал доставить им все, в чем они нуждаются, и не жалеть денег. Это последнее особенно убедительно для германцев, людей сребролюбивых и всегда продающих римлянам мир за деньги; потому Александр предпочел попытаться лучше купить у них мир за деньги, нежели подвергаться риску на войне. (10) Однако воины были недовольны, так как Александр попусту проводил время и не проявлял в воинских делах ни доблести, ни рвения, но занимался только бегом колесниц и предавался изнеженной жизни, тогда как следовало выступить против германцев и наказать их за их дерзостные действия [38].
8. (1) Был тогда в войске некто по имени Максимин, родом из живущих в глубине страны фракийцев, полуварваров, из какой-то деревни, где, как говорят, раньше, будучи еще ребенком, пас стада; по достижении же юношеского возраста благодаря высокому росту и силе был зачислен в конницу; затем мало-помалу, направляемый судьбой, прошел через все воинские звания, и в конце концов ему было доверено командование лагерями и управление провинциями[39]. (2) Этого Максимина за опытность в военном деле, о которой упомянуто выше, Александр поставил над всем молодым пополнением войска с тем, чтобы он обучал его ратному ремеслу и приготовлял к участию в военных действиях. Исполняя со всей тщательностью все ему порученное, тот приобрел в полной мере расположение воинов, так как не только обучал их тому, что следовало делать, но и сам во всех делах показывал им пример, так что они были не просто учениками, но брали его за образец и подражали его мужеству. (3) Кроме того, он привязал их к себе подарками и разными отличиями. Вследствие этого юноши, большая часть которых была из паннонцев[40], любили Максимина за мужество[41], над Александром же насмехались за то, что им управляет мать и все дела устраиваются по воле и замыслам женщины, сам же он малодушен и лишен мужества в ратных делах. Они припоминали друг другу поражения, быв-{107}шие на Востоке из-за его медлительности, а также то, что он идя против германцев, не проявил ни мужества, ни отваги. (4) Поэтому, и всегда-то склонные к переворотам, они считали существующую власть вследствие ее длительности тяжкой и невыгодной для себя, так как уже были исчерпаны все щедроты, будущее же и предстоящее внушало им твердую уверенность на получение новых выгод, а неожиданное приобретение таковых всегда лестно и вожделенно. Они замыслили свергнуть Александра и провозгласить Августом и императором Максимина, своего соратника и сотоварища, казавшегося в силу своей опытности и мужества человеком, наиболее пригодным для ведения войны. (5) И вот, собравшись вооруженными на равнину как будто для обычных упражнений, они возложили на вышедшего и ставшего перед ними Максимина — был ли он в неведении относительно происходящего или тайно сам подготовил это заранее, неизвестно, — царскую порфиру и провозглашают его императором.
(6) Сначала он отказывался и сбрасывал с себя порфиру[42], но когда его обступили с кинжалами и грозили убить, он, предпочтя будущую опасность настоящей, принял почесть, так как, говорил он, прежде оракулы и сны часто предсказывали ему столь великую судьбу. Сказав воинам, что он против своей воли и вопреки желанию, только повинуясь их просьбе, принимает эту долю, (7) он требует, чтобы они делом подтвердили свое решение, взяв оружие, поспешили бы, упреждая молву, напасть на Александра, пока он еще ничего не знает, с тем, чтобы, ошеломив неожиданностью сопровождающих его воинов и телохранителей, или убедить их перейти на свою сторону, или очень легко принудить к тому их, ничего не ожидающих и неподготовленных. (8) Приобретя их благосклонность и преданность, он удвоил их довольствие, обещал великие раздачи и дары, отменил все наказания и взыскания и отправился с ними в путь; место же, где расположился лагерем Александр со своими приближенными, было не очень удалено[43].
9. (1) Когда об этом было сообщено Александру, он пришел в величайшее замешательство и, пораженный невероятностью известия, выбежав из императорской палатки, словно одержимый, проливая слезы и трепеща, стал обвинять Максимина в неверности и неблагодарности, перечисляя все благодеяния, с его стороны ему оказанные; (2) обвинял молодежь, дерзнувшую поступить столь опрометчиво и клятвопреступно; обещал дать все, чего они потребуют, и, если они чем-либо недовольны, исправить. Бывшие при нем воины в тот день проводили его с приветствиями, обещая всеми силами защищать его. (3) По прошествии же ночи, на рассвете, когда некоторые сообщили, {108} что Максимин приближается и вдалеке видна клубящаяся пыль и слышен шум и крики многочисленного войска, Александр, вновь выйдя на равнину и созвав воинов, стал умолять, чтобы они сражались и спасли его, которого они сами вскормили и в четырнадцатилетнее царствование которого жили вполне удовлетворенные; призывая всех к состраданию и сочувствию, он приказал вооружаться и, выйдя, строиться. (4) Воины сначала обещали, потом же мало-помалу разошлись и не хотели браться за оружие. Некоторые из них требовали выдачи им для расправы командующего войском и друзей Александра[44], выдвигая как основание то, что они, якобы, явились причиной смуты. Другие бранили мать, как сребролюбицу и скопидомку, так как Александр вызвал к себе ненависть скаредностью и тем, что неохотно прибегал к раздачам. (5) Выкрикивая подобного рода обвинения, они оставались некоторое время на месте; когда же войско Максимина было уже в пределах видимости и молодежь криками призывала воинов оставить скаредную бабу и трусливого мальчишку, раба своей матери, и присоединиться к сильному и разумному мужу, соратнику, который всю жизнь провел среди оружия и в ратных делах, воины, убежденные этим, покидают Александра, присоединяются к Максимину и все провозглашают его императором. (6) Александр же, трепеща и теряя присутствие духа, с трудом возвращается в свою палатку; обняв мать и, как говорят, горько жалуясь и обвиняя ее, что из-за нее он это претерпевает, покорно стал ожидать убийцу. В это время Максимин, провозглашенный Августом всем войском, посылает трибуна и нескольких центурионов убить Александра и его мать, и тех из его окружения, кто окажет сопротивление. (7) Они, придя на место и ворвавшись в палатку, убивают его самого и мать его, и тех, кто слыл его другом и приближенным. Немногим из них удалось ненадолго бежать или скрыться; всех их впоследствии Максимин схватил и предал смерти.
(8) Такой конец постиг Александра и его мать после четырнадцатилетнего по отношению к подданным безупречного и не знавшего кровопролитий царствования[45]; склонный к человеколюбию и благодеяниям, он был чужд убийств, жестокости и опрометчивых поступков. Во всяком случае, царствование Александра полностью заслужило бы добрую славу, если бы ему не ставили в упрек сребролюбие и скаредность матери. {109}
1. (1) Как жил и закончил свои дни Александр, пробыв императором четырнадцать лет, мы показали выше. Максимин же, переняв власть[1], произвел большие перемены; пользуясь своими возможностями очень круто и наводя большой страх, он пытался весьма мягкое и кроткое царствование превратить во всех отношениях в жестокую тиранию, зная о всеобщей неприязни к себе из-за того, что он первым был столь высоко взнесен судьбой, происходя из самых низов. (2) В силу своей природы он был как по нраву, так и по происхождению варваром: унаследовав от предков и соплеменников кровожадность, он стремился укрепить свою власть с помощью жестокости, боясь как-нибудь внушить презрение сенату и подданным, если они посмотрят не на его нынешнее положение, а на дешевые пеленки его младенчества. О нем все болтали и злословили, что он был пастухом во фракийских горах и, обладая большим ростом и физической силой, стал обыкновенным воином на родине[2] и счастливая судьба привела его к власти над римлянами.
(3) Итак, он немедленно отстранил всех, кто сопровождал Александра в качестве советников, избранных сенатом; некоторых из них он отослал в Рим, а от некоторых отделался под предлогом назначения управлять провинциями: он желал быть в войске единственным и не иметь соратников более знатного, чем он, рода для того, чтобы иметь возможность поступать тиранически и, находясь как бы на акрополе, не иметь рядом с собой никого, кого можно было бы стыдиться. (4) Всю прислугу, которая в течение стольких лет жила при Александре, он удалил от императорского двора. Большинство из них он даже убил, подозревая в дурных замыслах [3]: ведь он знал, что они горюют об убийстве Александра.
Еще больше возбудил его жестокость и гнев против всех некий тайный заговор, который, по слухам, был составлен против него и в котором единодушно действовали многие центурионы и все сенаторы. (5) Некто по имени Магн был патрицием и консуляром[4]. О нем донесли, что он собирает против Максимина отряд и убеждает некоторых воинов передать ему власть. А действовать, как говорили, будут так. {110}
(6) Им было известно, что, построив мост через реку, Максимин собирался переправиться к германцам; ведь как только он получил власть, он тотчас же принялся за военные дела, и поскольку казалось, что он избран из-за высокого роста, силы и военного опыта, то он старался оправдать делами свою репутацию и ожидания воинов; так же он пытался доказать справедливость осуждения медлительности и робости Александра в военных делах. Он не переставал упражнять и обучать воинов, сам нося оружие и воодушевляя войско.
(7) Итак, построив тогда мост, он собирался переправиться к германцам. Говорили, что Магн убедил немногих воинов, однако превосходных, более всего таких, которым была доверена охрана моста и забота об его исправности, после переправы Максимина, разрушив мост, передать Максимина варварам, потому что у него не будет возможности возвратиться. Река, очень широкая и глубокая, оказалась для него непреодолимой из-за отсутствия кораблей у вражеских берегов и из-за разрушения моста.
(8) Такая молва возникла о заговоре — она могла быть истинной или пущенной Максимином, точно же сказать нелегко, потому что она осталась непроверенной. Не дав никому возможности ни разобрать дело в суде, ни оправдаться, он всех, кого подозревал, внезапно схватил и казнил без пощады [5].
(9) Произошло также возмущение осроенских лучников[6], которые очень скорбели о смерти Александра; случайно встретив некоего проконсула из друзей Александра (Квартин было его имя[7], его Максимин отослал из войска), они схватили его, ничего не подозревавшего, против его воли и поставили своим полководцем, украсили порфирой, стали носить перед ним факел (почести, оказавшиеся пагубными для него) и привели к власти, хотя он этого и не желал.
(10) И вот ночью, став жертвой злого умысла, он был внезапно убит во время сна в палатке одним из спутников, считавшимся его другом; тот прежде командовал осроенцами (Македон было его имя[8]), однако был инициатором насильственного захвата Квартина и возмущения среди осроенцев; не имея никакой причины для вражды и ненависти, он сам убил того, кого схватил и убедил, и полагая, что он сильно угодит Максимина, доставил ему отрубленную голову Квартина. (11) А тот обрадовался самому деянию, избавившись, как он полагал, от врага [… ] Македона же, хотя тот надеялся на многое и думал, что получит исключительную награду, убил — и как предводителя происшедшего возмущения, и как убийцу того, {111} кого против воли сам уговорил, и как человека, оказавшегося неверным по отношению к другу.
(12) Такого рода причины еще больше разожгли злобу и жестокость в душе Максимина, и прежде склонной к этому[9]. И на вид он был очень страшен, и ростом чрезвычайно велик, так что нелегко было сравняться с ним кому-либо из тренированных эллинов или воинственнейших варваров.
2. (1) Совершив описанное выше, он, взяв все войско и бесстрашно перейдя мост, начал сражаться с германцами. Он привел с собой великое множество людей и почти всю римскую силу, огромное число мавританских копьеметателей, осроенских и армянских лучников, из которых одни были его подвластными, другие — друзьями и союзниками, и тех из парфян, кто либо был подкуплен деньгами и перебежал к нему, либо был захвачен в плен и находился в порабощении у римлян. (2) Эта масса войска еще раньше была набрана Александром, увеличена же Максимином и вымуштрована им военными упражнениями. Копьеметатели и лучники слывут особенно подходящими для сражения с германцами, так как они, не раздумывая, нападают на не ожидающих этого и легко отступают.
(3) Оказавшись на неприятельской земле, Максимин прошел большую территорию, причем никто ему не оказывал сопротивления, но, наоборот, варвары отступили. Он опустошил всю страну[10], особенно в пору полного созревания хлебов[11], и, поджигая деревни, отдавал их войску на разграбление. Огонь весьма легко распространяется по городам, какие есть у варваров[12], и по всем жилищам. (4) Ведь у них мало камня и обоженного кирпича, но зато леса густые, поэтому ввиду изобилия дерева они, скрепляя и сколачивая его, строят жилища. Максимин далеко продвинулся, совершая то, о чем мы говорили выше, уводя добычу и отдавая войску стада, которые ему попадались на пути.
(5) Германцы отступили с равнин и с тех мест, где не было деревьев, прятались же они в лесах и держались около болот, чтобы там вступать в сражение и совершать набеги, потому что чаща растений задерживала в себе стрелы и дротики врагов, а глубина болот становилась для римлян опасной из-за незнания местности; им же самим, знавшим по опыту местность и погружавшимся лишь до колена в труднодоступных и коварных местах, легко было проходить. (6) Они ведь были натренированы в плавании, так как для омовения используют только реки. {112}
Вот около этих-то мест происходило больше всего столкновений. Здесь сам император весьма отважно начал битву. Когда около какого-то большого болота, к которому в бегстве отступили германцы, римляне не решались преследовать их, Максимин, первым бросившись в болото вместе с конем, хотя конь и погрузился в воду выше живота, стал убивать стоявших против него варваров, (7) так что остальное войско, постыдившись предать государя, сражавшегося за них, воспрянуло духом и вступило в болото; с обеих сторон пало большое число людей: из римлян.., из варваров — почти все тогда участвовавшие; особенно отличился сам император — настолько, что болото наполнилось телами, и из-за стоячей воды, смешавшейся с кровью, сражение пешего войска имело вид морского боя.
(8) Об этом сражении и о своем подвиге он объявил сенату и народу не только письменно, но и, велев изобразить битву на больших картинах, поместил их перед зданием сената, чтобы римляне могли не только слышать о том, что произошло, но и видеть. Это изображение сенат впоследствии уничтожил вместе с остальными оказанными ему почестями. Произошли и другие столкновения, в которых он повсюду стяжал себе славу, отличившись собственными деяниями и своими военными подвигами.
(9) Захватив в плен многих из германцев и угнав добычу, он, когда уже наступала зима, возвратился в область паннонцев[13] и, находясь в Сирмии[14], слывшем крупнейшим тамошним городом, готовился к выступлению весной[15]. Ведь он угрожал и (и собирался это исполнить) истребить и подчинить варварские племена германцев вплоть до океана.
3. (1) Таков он был в военных делах. И до славы поднялись бы его деяния, если бы он не стал для близких и подданных еще более невыносимым и страшным. Что за польза была от того, что варвары истреблялись, если становилось все больше убийств в самом Риме и среди подвластных племен? И к чему забирать добычу у врагов, грабя и отнимая имущество у своих? (2) Доносчики встречали всяческое попустительство, больше того — их подстрекали поднимать давнишние судебные дела, среди которых попадались не поддававшиеся расследованию и проверке. Всякий, только вызванный в суд доносчиком, уходил сейчас же побежденным, лишившись всего имущества. (3) Ежедневно можно было видеть вчерашних очень богатых людей просящими милостыню на следующий {113} день. Столь великим было сребролюбие тирании под предлогом непрерывных расходов на оплату воинов.
Максимин легко обращал свой слух к клевете, не щадя ни возраста, ни достоинства человека. Очень многих из тех, кому было доверено управление провинциями и военными лагерями, после того как они имели консульское звание или славу, заслуженную трофеями, он повелевал схватить на основании мелочного и низкого наговора, (4) приказывая посадить на повозки их одних, без прислуги, и везти ночью и днем, будь то с востока, с запада или с юга, к паннонцам, где он находился. Помучив и оскорбив, он наказывал их изгнанием или смертью. Пока это делалось по отношению к отдельным людям[16] и несчастье затрагивало частное имущество, это было довольно безразлично населению городов и провинциям. (5) Ведь неудачи людей, которые слывут преуспевающими и богатыми, не только не остаются без внимания у черни, но иногда радуют некоторых дурных и ничтожных из зависти к более могущественным и преуспевающим. Когда же Максимин довел до бедности большую часть славных домов[17] — мелкие и незначительные он не считал достойными своих замыслов, — он перешел к общественному имуществу, и если были какие-либо государственные деньги, собиравшиеся для благодеяний и раздач простому народу или отложенные на театральные зрелища и всенародные празднества, он присваивал их себе; посвящения в храмы, статуи богов, почетные дары героям и какое было убранство общественных мест или украшения города, либо материалы, могущие быть превращенными в монету, — все переплавлялось.
(6) Именно это огорчило народ и вызывало народную скорбь — вид осадного положения вдали от битв и без оружия, вследствие чего некоторые из простых людей простирали руки и охраняли храмы, готовые скорее пасть убитыми перед алтарями, чем видеть ограбление Отчизны. Поэтому по городам и в провинциях настроение народных масс было чрезвычайно угнетенным. Не были довольны происходящим также и воины, потому что родственники и близкие упрекали их в том, что Максимин так поступает из-за них.
4. (1) Причины же эти, отнюдь не необоснованные, возбуждали массы к ненависти и мятежу. Все молились и взывали к обижаемым богам, начать же никто не решался до тех пор, пока при завершении третьего года правления[18] из-за малого и ничтожного повода — так ниспровергается тирания {114} — первыми взялись за оружие и решительно подняли мятеж ливийцы по следующей причине.
(2) Некто весьма круто управлял Карфагенской страной[19]и вместе со всевозможными жестокостями завел штрафы и денежные поборы, желая быть на хорошем счету у Максимина. Последний ведь отличал тех, кто, по его сведениям, подходил к его образу мыслей. Тогдашние управители казны, если они в редких случаях и оказывались честными, то все же, имея перед глазами опасность и зная о его сребролюбии, невольно подражали остальным.
(3) Итак, наместник Ливии по отношению ко всем прочим применял насилие и с неких молодых людей из знатных и богатых ливийцев, обложив их со всех сторон штрафами, попытался немедленно взыскать деньги и лишить их отцовского и родового имущества[20]. Огорченные этим, молодые люди пообещали ему отдать деньги, попросив отсрочки на три дня. Составив заговор и склонив на свою сторону всех, о которых знали, что те либо претерпели нечто ужасное, либо опасаются претерпеть, они приказывают работавшим на полях рабам ночью сойтись в город и прихватить дубинки и топоры. (4) Повинуясь приказу господ, те[21] до рассвета сошлись в город, пряча под одеждой оружие, принесенное для наспех затеянной войны. Собралась большая масса людей; ведь в Ливии, многолюдной по своей природе, было много народа, обрабатывавшего землю.
(5) С наступлением рассвета вышедшие вперед молодые люди велят группе рабов следовать за ними, как бы составляя часть остальной толпы, приказав в том случае обнажить принесенное оружие и стойко сопротивляться, если кто-нибудь либо из воинов[22], либо из народа подойдет к ним, чтобы покарать за задуманное дело. (6) Сами же они, положив за пазуху кинжалы, подходят к наместнику, будто бы собираясь говорить об отдаче денег, и, внезапно, напав на него, ничего не подозревавшего, наносят удары и убивают. Когда же окружившие его воины обнажили мечи, желая отомстить за убийство, пришедшие с полей, бросившись с дубинками и топорами, стали сражаться за господ и легко обратили противника в бегство.
5. (1) После такой удачи дела молодые люди сразу же, оказавшись в отчаянном положении, поняли, что для них есть единственное спасение: если они к своему дерзкому поступку добавят еще более крупные дела и если они возьмут к себе в сообщники наместника провинции, а все население склонят к восстанию. Это, как они знали, давно было желанным вслед-{115}ствие ненависти к Максимину, но задерживалось из-за страха.
(2) И вот вместе со всей толпой в полдень подходят они к дому проконсула. Гордиан было его имя[23]; он получил по жребию это проконсульство[24], был стариком около восьмидесяти лет, управлял прежде многими провинциями и был испытан в крупнейших делах. Поэтому они полагали, что он с радостью примет власть как высочайшее завершение своих предшествовавших деяний, а сенат и римский народ охотно признают мужа хорошего происхождения, занимавшего начальственные посты и как бы вполне последовательно дошедшего до такого положения.
(3) Случилось, что в тот день, когда произошли эти события, Гордиан, отдыхая, находился дома, сменив напряжение на покой и дела на бездействие. Молодые люди, вооруженные мечами, вместе со всей толпой одолев силой охрану, стоявшую у ворот, врываются и находят его отдыхающим на кровати; обступив Гордиана, они набрасывают на него пурпурный плащ и обращаются к нему с почетом, как к Августу. (4) Он же, ошеломленный необычайностью происходящего, полагая, что это ловушка, злостно подстроенная против него, бросившись с кровати на землю, умолял пощадить старика, ничем их не обидевшего, и сохранять верность и преданность государю.
В то время как они наступали на него с мечами, а он из-за страха и неведения не знал ни того, что совершилось, ни причины поворота судьбы, один из молодых людей, который выделялся среди них и происхождением, и силой красноречия, заставив остальных умолкнуть и велев успокоиться, держа правую руку на рукоятке меча, сказал Гордиану следующее: (5) «Так как существуют две опасности, одна — в настоящем, а другая — в будущем, причем первая совершенно очевидна, а вторая в руках неясной судьбы, то тебе следует выбрать, спастись ли сегодня вместе с нами и довериться надежде на лучшее, во что мы все уверовали, либо сейчас умереть от нашей руки. Если ты выберешь первое, то есть много оснований для хороших надежд: и ненависть у всех к Максимину, и жажда избавиться от жестокой тирании, и слава совершенных тобой ранее деяний, и твоя очень выдающаяся известность, и постоянный почет у сената и римского народа. (6) Если ты будешь противоречить и не согласишься с нами, тебе сегодня неминуемо предстоит конец. Мы погибнем и сами, если нужно, сначала погубив тебя. Мы решились на дело, требующее отчаянных поступков: ведь пал прислужник тирании и получил возмездие за жестокость, убитый нами. При таких обстоятельствах, {116} если ты будешь содействовать нам и станешь участником опасного предприятия, ты и сам воспользуешься почестями императорской власти, и предстоящее нам дело будет одобрено и не вызовет кары».
(7) В то время как молодой человек произносил примерно такую речь, остальная толпа, не сдерживая себя, — а сбежались уже все горожане[25], так как распространилась молва о происходящем, — провозглашает Гордиана Августом. Отказываясь и ссылаясь на старость, он, вообще-то честолюбивый, не без удовольствия уступил, предпочтя будущую опасность настоящей и считая, что в крайней старости не особенно страшно, если и придется умереть, удостоившись императорских почестей.
(8) Вся провинция Ливия немедленно взволновалась, и все знаки почета Максимина они уничтожали, а изображениями и статуями Гордиана стали украшать города; прибавив к его основному имени прозвание Африканский, они назвали его по себе, ведь так южные ливийцы называются на языке римлян.
6. (1) Гордиан же, пробыв несколько дней в Тистре[26], где все это произошло, нося уже имя и одеяние императора, уехал из Тистра и поспешил в Карфаген, город, как он знал, очень крупный и многолюдный, для того, чтобы там делать все, как в Риме. Ведь этот город и по обилию денег, и по числу жителей, и по величине уступает лишь одному Риму, оспаривая второе место у города Александра в Египте. (2) За ним следовала вся императорская свита из воинов, которые были там[27], и из городских юношей высокого роста и в убранстве, какое имеют в Риме идущие впереди телохранители[28]; ликторские пучки были обвиты лавровыми ветвями, что является признаком отличия императорских пучков от обычных, впереди несли факел, так что город карфагенян на короткое время получил облик и положение Рима, словно являясь его отображением.
(3) Гордиан рассылает многочисленные послания тем, которые слыли первыми лицами в Риме, отправляет письма наиболее видным членам сената, большинство из которых было его друзьями и родственниками. Он составил также официальное послание римскому народу и сенату, в котором сообщал о единодушной поддержке его ливийцами, решительно обвинял Максимина в жестокости, вызывавшей, как он знал, ненависть, (4) сам же обещал всяческую мягкость, изгнание всех доносчиков, пересмотр дел несправедливо осужденных, возвращение изгнанников в родные края; воинам он пообещал прибавку денег, какую никто раньше не давал, а народу посу-{117}лил раздачи. В первую очередь он решил убить находившегося в Риме префекта претория; Виталиан было его имя[29]. Гордиан знал, что тот действовал крайне свирепо и жестоко, был весьма любим Максимином и всецело предан ему. (5) Предполагая, что Виталиан будет стойко противиться происходящему и что из страха перед ним Гордиану никто не поможет, последний посылает квестора провинции[30], человека молодого, по природе храброго, физически сильного, цветущего возраста и готового на риск ради него; он предоставил в его распоряжение некоторое число центурионов и воинов, им он вручил запечатанное письмо на складных дощечках, на которых у государей рассылаются секретные и тайные послания[31]. (6) Он велит им, до рассвета войдя в Рим, подойти к Виталиану во время исполнения им судебных обязанностей, когда тот уйдет в комнату, где в одиночестве расследует и разбирает дела, считающиеся секретными и тайными, касающиеся безопасности государя, объявить, что они несут секретно письмо Максимину и что они посланы Гордианом[32] ради безопасности государя, (7) прикинуться, будто они хотят поговорить с ним наедине, и рассказать о поручении, затем, в то время как он займется проверкой печатей, притворившись, будто они о чем-то расспрашивают, убить его кинжалами, спрятанными за пазухой.
Все это удалось, как он велел. Была еще ночь — Виталиан выходил обычно до рассвета, — когда они в присутствии небольшого числа людей подошли к нему, отделившемуся от остальных. (8) Ведь одни еще не вышли, а другие, после приветствования (патрона) до наступления дня, уже ушли[33]. Так как было тихо и мало народа перед комнатой, то, сообщив ему о поручении, они без затруднения были впущены; после передачи послания, когда он бросил взгляд на печати, они, выхватив кинжалы и нанеся удары, убивают его и с обнаженным оружием выскакивают.
(9) Присутствовавшие ушли, ошеломленные, полагая, что это приказ Максимина; ведь он часто поступал так даже с теми, которые, казалось, были им особенно любимы.
Выйдя на середину Священной дороги[34], убийцы предъявляют письмо Гордиана к народу, консулам же и остальным вручают послания. Ими распускается слух, что убит и Максимин.
7. (1) Как только это известие распространилось, тотчас же весь народ стал бегать в разные стороны, как бы охваченный неистовством. Ведь всякая чернь безрассудно склонна к {118} новшествам, а римский народ, в массе огромный и разнообразный по составу людей, часто и легко меняет свое настроение.
(2) Сбрасывались статуи, изображения и все знаки почитания Максимина, и ненависть, прежде скрытая из-за боязни, несдерживаемая и освобожденная от страха, проявлялась беспрепятственно. Сенат, собравшись[35], прежде чем были получены точные сведения о Максимине, доверившись будущему на основании настоящего положения, провозглашает Гордиана с сыном Августами[36], а все, что связано с почитанием Максимина, уничтожает[37].
(3) Клеветники и те, кто выступал чьим-либо обвинителем, или бежали, или были убиты обиженными; управителей и судей, претворявших в жизнь его жестокость, чернь вытаскивала на улицы и сбрасывала в клоаки. Произошло также немало убийств людей, не сделавших ничего несправедливого; неожиданно врываясь в дома и понося как клеветников, грабили и убивали заимодавцев, своих противников в судебных делах и тех, кто по какой-либо незначительной причине вызывал ненависть. (4) Под прикрытием свободы и безнаказанности в мирное время происходили дела, обычные для гражданской войны, так что проконсула города (Сабин было его имя), бывшего не раз консулом, когда он хотел помешать происходящему, ударили дубиной по черепу, и он скончался[38].
Таково было состояние народа, а сенат, раз уж исчезла опасность страха перед Максимином, стал делать все, чтобы провинции отпали от него. (5) Повсюду ко всем наместникам были разосланы посольства, для чего были избраны мужи из самого сената и видные люди из всаднического сословия, а также ко всем были разосланы послания, объявлявшие мнение римлян и сената, увещевавшие наместников помочь их общей родине и сенату, а жителей провинций — повиноваться римлянам, которым издавна принадлежала государственная власть и для которых те с давних пор — друзья и подвластные. (6) Большинство приняло посольства и легко отвратило провинции от Максимина, чья тирания была ненавистна[39], убив тех, кто на местах занимал должности и был на стороне Максимина, они присоединялись к римлянам. Немногие же либо умертвили прибывших послов, либо под стражей отослали к Максимину, каковых он хватал и жестоко наказывал.
8. (1) Таковы были дела в городе Риме и таково настроение. Когда Максимину сообщили о совершившемся, он стал мрачен и сильно озабочен[40], но притворился, что относится к этому с {119} презрением. В первый и во второй день он спокойно находился у себя, советуясь с друзьями о том, что следует делать[41].
(2) Все войско, которое было с ним, и все люди, находившиеся в той стороне, узнали об этих известиях, и души у всех были взволнованы смелым поворотом в столь больших делах, но никто никому ничего не говорил, и всякий притворялся, что ничего не знает; таков был страх, что ничто не скроется от Максимина и что следят не только за тем, что передается словом или звуком, но даже знаками глаз.
(3) Между тем Максимин по прошествии третьего дня собрал все войско на равнине перед городом и, взойдя на трибуну (он принес с собой листок с речью, которую сочинил ему кто-то из друзей)[42], произнес, читая, следующее: (4) «Я знаю, что если скажу вам недостоверное и неправдоподобное, то оно, как я полагаю, будет достойно не удивления, но шуток и насмешек. На вас и на ваше мужество поднимают оружие не германцы, которых мы часто побеждали, и не савроматы, каждый раз умолявшие о мире; персы, которые прежде опустошали Месопотамию, теперь успокоились, довольствуясь тем, что они имеют, так как их сдерживает ваша слава и военное мужество, известное им по моим действиям, которые они испытали, когда я командовал войсками на берегах[43]. (5) Но ведь (разве не смешно сказать) обезумели карфагеняне и, уговорив или принудив к роли императора жалкого старика, в крайней старости лишившегося рассудка, забавляются императорской властью, как на праздничных шествиях. На какое войско полагаются они, у которых достаточно одних ликторов для обслуживания наместника? Какое носят оружие те, у кого нет ничего, кроме дротиков для борьбы со зверями? Хоры, насмешки и стихи — это их военные упражнения.
(6) Пусть никого из вас не приводит в смущение то, что возвестили относительно Рима. Виталиан ведь был убит, захваченный коварством и обманом, а легкомыслие и изменчивость римского народа так же, как его смелость, которой хватает только для крика, вам прекрасно известны; если только они увидят двух или трех тяжеловооруженных, то, толкая и топча друг друга, каждый убегает, думая о своей собственной опасности, и забывает об общей. (7) Если же вам кто-нибудь сообщил содержание послания сената, не удивляйтесь, что наша воздержанность кажется им жестокостью, а больше ценится то, что в разнузданном образе жизни сродни им, и они называют ужасными мужественные и достойные почтения дела; распущенность и вакхическое исступление доставляют им {120} удовольствие, как если бы это было что-либо спокойное. Поэтому они недоброжелательно относятся к моей власти, энергичной и благопристойной, обрадовались же имени Гордиана, обесславленную жизнь которого вы прекрасно знаете. (8) Против них и людей такого рода у нас война, если кто-нибудь хочет так это назвать. Я ведь полагаю, что большинство или почти все, если только мы ступим в Италию, протягивая с мольбой оливковые ветви и детей, будут распростерты у наших ног (а остальные убегут из-за трусости и слабости), так что у меня будет возможность отдать вам все их достояние, а у вас, взяв его, безбоязненно воспользоваться им».
(9) Произнеся примерно такое и наговорив много бранного по отношению к Риму и сенату, выразив свой гнев грозными жестами руки и свирепой мимикой лица, будто враги находились тут же, он объявляет о выступлении на Италию. Раздав воинам чрезвычайно много денег, спустя один день он отправился в путь, ведя большое число войска и людей, подвластных Риму[44]. (10) За ним следовало немалое число германцев, которых он покорил оружием или уговорами побудил к дружбе и союзу, а также осадные машины и военные орудия, и все, что он вез с собой, идя на варваров. Поход он совершал неторопливо из-за подходивших отовсюду повозок и провианта. (11) Так как поход на Италию был внезапным, то он собрал все необходимое для войска не заранее, как делал обычно, но из случайных и вынужденных ресурсов. Он решил послать вперед фаланги паннонцев; ведь им он более всего доверял, так как именно они первыми назвали его императором и по своей воле обещали идти на риск ради него. Итак, он приказал им опередить остальное войско и первыми занять области в Италии.
9.(1) Таким образом они держали путь с Максимином, но в Карфагене дела шли не так, как они надеялись. Был некто из числа сенаторов по имени Капеллиан[45], он управлял подвластными римлянам мавританцами, которых называют нумидийцами[46]. Чтобы сдерживать грабительские набеги варваров, окружавших народ мавританцев, провинция была ограждена лагерями. (2) Он имел под своим началом значительную военную силу[47].
К этому Капеллиану Гордиан был издавна враждебно настроен из-за какого-то судебного спора. И теперь, получив звание императора, он послал к Капеллиану преемника и приказал удалиться из провинции. (3) А тот, присягнувший Максимину, который доверил ему наместничество, возмутил-{121}ся этим, собрал все войско, убедил сохранить верность и присягу Максимину и затем подступил к Карфагену, ведя огромную силу из крепких мужей в расцвете лет, снабженных всевозможным оружием, военным опытом, практикой битв с варварами и готовых к сражениям. (4) Когда Гордиану сообщили, что войско подходит к городу, сам он был в крайнем ужасе, а встревоженные карфагеняне, полагая, что твердая надежда на победу заключается в большом количестве народа, а не в правильном построении войска, выходят все сразу, чтобы противостоять Капеллиану. Старик Гордиан, как говорят некоторые, при наступлении Капеллиана на Карфаген впал в отчаяние и, зная мощь Максимина, а также не видя в Ливии никакой равной и способной сражаться с ним силы, сам повесился в петле. (5) Скрывая его кончину, карфагеняне избрали его сына для руководства массами[48].
Во время столкновения численное превосходство было на стороне карфагенян, но они не имели боевого порядка, не были обучены военным делам (потому что выросли во время продолжительного мира и постоянно предавались празднествам и наслаждениям) и были лишены оружия и военных орудий[49]. (6) Каждый прихватил из дома либо маленький меч, либо топор, либо дротики, употребляемые на псовой охоте; нарезав оказавшиеся под рукой шкуры и распилив бревна на куски случайных форм, каждый, как мог, изготовлял прикрытия для тела.
Нумидийцы же[50] — меткие копьеметатели и настолько великолепные наездники, что управляют бегом коней без узды, с помощью одной лишь палки. (7) Они с большой легкостью повернули массу карфагенян, которые, не выдержав их напора, побросав все, обратились в бегство. Тесня и топча друг друга, те в большей степени были погублены своими, нежели врагами. Здесь погиб и сын Гордиана, и все сопровождавшие его; из-за массы трупов они не смогли ни подобрать мертвых для погребения, ни найти тело молодого Гордиана. (8) Беглецы, которым удалось войти в Карфаген и скрыться там, рассеялись по всему городу, огромному и многолюдному; спаслись немногие из многих; остальная же масса, теснясь около ворот, причем каждый спешил проникнуть в них, погибла от ударов копьеметателей и ран, наносимых тяжеловооруженными. (9) По городу раздавалось много воплей женщин и детей, на глазах которых погибли те, кто был им наиболее дорог.
Иные говорят, что, когда Гордиану, оставшемуся дома из-за старости, стало известно, что Капеллиан вступает в Карфаген, Гордиан, отчаявшись во всем, вошел в комнату, будто бы {122} для того, чтобы уснуть, продел шею в петлю из пояса, который он носил, и окончил жизнь.
(10) Так завершил свой жизненный путь Гордиан, прожив сначала счастливо и умерев в образе императора [51]. А Капеллиан, войдя в Карфаген, убил всех видных граждан, спасшихся из сражения, и не удержался ни от ограбления храмов, ни от расхищения частных и общественных денег. (11) Вступая в другие города, которые уничтожили знаки почитания Максимина, Капеллиан убивал видных граждан[52], а простых изгонял, позволял воинам сжигать и грабить поля и деревни под видом наложения наказания за то, в чем они провинились перед Максимином[53]; втайне же он думал о приобретении для себя благосклонности воинов, чтобы, располагая надежной силой, он сам мог добиться власти, если дела Максимина пошатнутся[54].
10. (1) В таком состоянии было положение в Ливии. Когда в Риме стало известно о кончине старца, народ пришел в сильное смятение и недоумение, а в особенности же сенат, так как погиб Гордиан, на которого они надеялись. Ведь они знали, что Максимин не пощадит никого; он и по природе относился к ним враждебно и с ненавистью, теперь же по основательным причинам, естественно, гневался на них, так как они прямо заявили себя врагами.
(2) Было решено сойтись и обдумать, что следует делать; решили рискнуть сразу предпринять войну и поставить во главе избранных голосованием императоров, между которыми они хотели разделить власть, чтобы господство, находясь в руках не одного человека, не могло обратиться в тиранию. Они сошлись не в обычном месте заседания, а в храме Юпитера Капитолийского[55], которого римляне почитают на акрополе. (3) Заперевшись одни в священной ограде, как бы в присутствии Юпитера, свидетеля и участника — наблюдателя происходящего, выделив из числа сенаторов подобающего возраста и положения тех, кого они утверждали путем голосования на основании большинства голосов (другие тоже получили голоса, и мнения разделились)[56], они сделали императорами Максима и Бальбина.
(4) Из них Максим занимал много командных должностей в лагерях, став префектом Рима, правил твердо и в представлении простого народа отличался умом, находчивостью и воздержанным образом жизни[57], Бальбин же был из патрициев, дважды занимал должность консула и безупречно управлял провинциями, а по характеру был довольно прост[58]. (5) После {123} того, как они были избраны голосованием, их назвали Августами, а сенат в своем постановлении наделил их императорскими почестями.
Пока это происходило на Капитолии, народ либо по наущению друзей и близких Гордиана[59], либо узнав по слухам о происходящем, подступил к воротам, преградив толпой весь путь на Капитолий; несли камни и бревна, протестуя против постановления сената, и особенно отвергали Максима. (6) Ведь он круто управлял городом и применял много решительных мер к негодным и легкомысленным людям из черни. Напуганные, они выражали ему неудовольствие, кричали и грозили убить их обоих. Требовали, чтобы император был избран из рода Гордиана и чтобы титул императорской власти оставался у этого дома и имени. (7) Бальбин и Максим силой пытались прорваться на Капитолий в окружении вооруженных мечами юношей из всаднического сословия и бывших воинов, которые находились в Риме; им, однако, препятствовали массой камней и бревен, пока они, по чьему-то наущению, не перехитрили народ. Был маленький ребенок, дитя дочери Гордиана, носивший то же имя, что и дед[60]. (8) Послав нескольких из бывших с ними людей, они велят доставить ребенка. Те, найдя его дома играющим, подняв на плечи, идут сквозь толпу, показывая его черни, говоря, что он внук Гордиана, и называя его его именем, несут ребенка на Капитолий, а народ стал славословить его и забрасывать листьями. (9) Когда же сенат объявил ребенка Цезарем, так как он по возрасту не мог управлять делами, народ перестал гневаться и позволил государям вступить в императорский дворец.
11. (1) В то же самое время случилось гибельное бедствие в Риме, началом и поводом для которого послужил дерзкий поступок двух мужей из сената. Все сошлись в сенат, чтобы рассмотреть создавшееся положение. (2) Узнав об этом, воины, которых Максим оставил в лагере (они были уже накануне освобождения от воинской службы и по возрасту оставлены дома)[61], подошли к входу в сенат, желая узнать о происходящем; невооруженные и одетые в простые плащи, они стояли вместе с остальным народом. (3) Другие оставались перед дверями, но двое или трое, которым не терпелось услышать обсуждение, вступили в здание сената, так что даже зашли за поставленный там алтарь Победы[62]. Сенатор, недавно бывший консулом, по имени Галликан, родом карфагенянин[63], и другой, бывший претор по имени Меценат [64], мечами, принесенными за пазухой, наносят удары в грудь воинам, ничего не {124} ожидавшим и даже державшим руки под плащами. (4) Из-за происшедшей стычки и смятения оказалось, что все, кто открыто, кто тайно, были вооружены мечами, принеся их будто бы ради собственной защиты против неожиданного злого умысла врагов. В то время воины, сраженные и от внезапности не сумевшие защититься, полегли перед алтарем. (5) Видя это, остальные воины, потрясенные тем, что случилось с их товарищами, испугавшись массы народа, и сами, не имея оружия, обратились в бегство.
Галликан же, выбежав из сената в гущу народа, показывая меч и окровавленную руку, побуждал преследовать и убивать врагов сената и римлян, друзей и союзников Максимина[65]. (6) Легко поддавшись уговорам, народ стал славословить Галликана; воинов же, каких можно было настичь, забрасывали камнями. Другие воины, успевшие убежать раньше (причем несколько из них было ранено), прибежав в лагерь и заперев ворота, взялись за оружие и стали охранять стену лагеря. Галликан же, сразу решившийся на столь большое дело, навлек на город гражданскую войну и большое бедствие. (7) Он убедил толпу ворваться в общественные склады оружия, которое было приготовлено скорее для торжественных шествий, чем для сражения[66], и прикрыть свое тело, чем каждый сумеет; отперев гладиаторские казармы, он вывел гладиаторов, вооруженных их собственным оружием[67]. Сколько было в частных домах и мастерских копий, мечей и секир, — все расхватывалось. (8) Воспламенившись, народ превращал в оружие любой подвернувшийся предмет из пригодного для сражения материала. Собравшись таким образом, они направились к лагерю и сразу же бросились к воротам и стенам, словно готовые к осаде. Воины же с большой опытностью, вооруженные… и зубцы стен, и щиты отгоняли их, пуская в них стрелы и отстраняя от стены длинными копьями.
(9) С наступлением вечера, когда утомленный народ и израненные гладиаторы захотели уйти, воины, увидев, что те повернули, подставляют спины и уходят беспечно, так как полагают, что немногочисленные воины не решатся преследовать такую массу, внезапно открыв ворота, выбежали вслед за народом, убили гладиаторов, и в толчее погибло много народа. Воины преследовали их настолько, чтобы недалеко отойти от лагеря, и, возвратившись обратно, остались за стенами.
12. (1) После этого гнев народа и сената усилился. Избирались военачальники[68], со всей Италии собирались отборные воины и вся молодежь, и вооружились они на скорую руку сделанным и случайно подвернувшимся оружием. Большую {125} часть их Максим повел с собой, чтобы воевать с Максимином; прочие остались охранять город и защищать его.
(2) Все время совершались нападения на стену лагеря, но у них ничего не получалось, так как воины бились, находясь наверху, и они, поражаемые и получая ранения, уходили с уроном.
Оставшийся дома Бальбин в изданном постановлении умолял народ пойти на примирение, а воинам обещал амнистию и давал прощение за все провинности. (3) Он, однако, не убедил ни тех, ни других; зло все время увеличивалось, потому что народная масса была возмущена тем, что к ней с презрением относятся немногочисленные воины, а воины негодовали на то, что терпят такое от римлян, словно от варваров.
Наконец, так как штурмовавшие стену не могли ничего сделать, военачальники решили отрезать все источники воды, по которым она втекала в лагерь, и заставить воинов сдаться из-за недостатка питья и нужды в воде.
(4) Взявшись за это, они стали отводить всю воду лагеря в другие русла, отрезая и загораживая стоки воды в лагерь[69]. Воины же, видя опасность и оказавшись в отчаянном положении, отперли ворота и выступили; после жестокого сражения и бегства народа воины в своем преследовании проникли далеко за город.
(5) Потерпев поражение в рукопашном бою, массы народа взбирались на дома и, швыряя черепицу, камни и разные черепки, губили воинов, а те не решались идти на них из-за незнания устройства домов; затем, так как дома и мастерские были заперты, они поднесли огонь к дверям и ко всем деревянным выступам, каких было много в городе. (6) Пламя очень легко распространилось по большей части города из-за скученности жилищ и большого количества сплошного дерева[70] и превратило в бедных многих богатых, утративших великолепное и большое имущество, ценное богатыми доходами и разнообразной роскошью. (7) Вместе с этим сгорело множество людей, не сумевших убежать, так как пламя успело охватить все выходы. Были разграблены целые состояния богатых людей еще и потому, что к воинам ради грабежа примешались злодеи и негодяи из простого народа. Огонь погубил такую часть города, что с этой частью не мог бы сравниться в целом ни один из крупнейших городов.
(8) Такое происходило в Риме; Максимин же, окончив путь, остановился у границ Италии и, принеся жертвы на пограничных алтарях[71], собирался совершить вторжение в Ита-{126}лию; он приказал всему войску быть под оружием и выступать в строгом порядке.
Мы описали восстание Ливии, гражданскую войну в Риме, то, что произошло у Максимина, и его прибытие в Италию; последующее будет рассказано ниже. {127}
1. (1) То, что было совершено Максимином после кончины Гордиана, а именно — его прибытие в Италию, отпадение Ливии и распря между воинами и народом в Риме, описано в предыдущей книге. Остановившись у границ, Максимин выслал вперед лазутчиков, чтобы они разведали, нет ли каких-нибудь тайных засад в горных ущельях или в лесных чащах. (2) Сам же он, сведя войско в долину, выстроил отряды тяжеловооруженных четырехугольниками, вытянутыми более в длину, чем в глубину, чтобы охватить большую часть долины[1], а весь вьючный скот и повозки поместил в середине; сам он вместе с телохранителями следовал в арьергарде. (3) С обеих сторон скакали подразделения конных латников, мавританские копейщики и лучники с Востока. Он вел в качестве союзников и великое множество германских всадников: их он чаще всего выдвигал вперед, чтобы они принимали на себя первые удары врагов вследствие того, что они были горячи и смелы в начале сражения, а как только приходилось подвергать себя опасности, они стоили мало, как и подобает варварам.
(4) Пройдя всю равнину стройно и в полном порядке, войско остановилось перед первым италийским городом, который местные жители зовут Гема[2]. Он построен в самой высокой части равнины у предгорья Альп. Здесь встреченные Максимином разведчики и лазутчики донесли, что город пуст, а жители все до одного бежали, поджегши двери храмов и домов; все, что находилось в городе и на полях, одно — увезли с собой, другое — сожгли, и не осталось провианта ни для вьючных животных, ни для людей. (5) Максимин обрадовался поспешному бегству италийцев[3], надеясь, что так же, не дожидаясь его прихода, будет поступать все население; войско же, в самом начале похода испытывая голод, было огорчено. Переночевав, одни в городе, в домах без дверей и совершенно пустых, другие — на равнине, они с восходом солнца поспешили к Альпам. Природа воздвигла эти длинные горы, словно стену Италии, высотой выше облаков и необычайно вытянутые в длину, так что они, охватив всю Италию, простираются в правой ее части до Тирренского моря, а в левой — до Ионийского залива. (6) Они покрыты сплошными густыми лесами, и про-{128}ходы в них узки из-за обрывов, уходящих на большую глубину, или из-за неровностей скал. Тропы сделаны человеческой рукой, с великим трудом они проложены древними италийцами. С большим страхом двигалось войско, опасаясь, что вершины уже заняты, а проходы, чтобы помешать их прохождению, завалены. Их опасения и страхи были вполне естественны, если принять во внимание природу этих мест.
2. (1) Когда же они беспрепятственно перешли горы, никого по пути не встретив, то, спускаясь на равнину, уже приободрились и запели пэан. Максимин возымел надежду, что все удастся ему очень легко, так как италийцам не придали смелости даже труднопроходимые местности, где они могли либо скрываться и спасаться, либо устраивать ловушки при помощи засад, либо сражаться сверху, с более высоких позиций.
(2) Когда они оказались на равнине, лазутчики донесли, что самый большой город Италии Аквилея запер ворота[4], что посланные вперед отряды паннонцев мужественно штурмуют город, но, несмотря на частые атаки, ничего не достигают, выбиваются из сил и отступают, осыпаемые камнями, копьями и множеством стрел. Рассердившись на паннонских военачальников за то, что они столь нерадиво сражаются, Максимин поспешил сам вместе с войском, рассчитывая очень легко взять город. (3) Аквилея и прежде, как очень большой город, имела множество собственных жителей; находясь у моря, представляя собой как бы гавань Италии[5] и будучи расположена напротив всех иллирийских племен[6], она предоставляла для торговли тем, кто к ней приплывал, все привозимое с материка по суше и по рекам, а привозимое с моря, необходимое жителям материка, то, чем их страны в зимнее время не изобиловали, отправляла во внутренние области; обрабатывая землю, более всего пригодную для получения вина, они доставляли тем, кто не занимается виноградарством, этот напиток в изобилии; (4) поэтому в городе было множество не только граждан, но также чужестранцев и торговцев. А в это время население города еще больше увеличилось, так как сюда с полей стеклась вся масса народа, покинувшая городки и деревни и доверившаяся мощи города и оборонительной стене, которая, будучи весьма древней, в большей своей части была уже прежде разрушена, так как по установлении власти римлян города уже более не нуждались ни в стенах, ни в вооружении[7]; вместо войны они получили прочный мир и соучастие в римском гражданстве. (5) Теперь, однако, приспела необходимость восстановить стену, вновь отстроить развалины, вос-{129}становить башни и укрепления. Итак, со всей поспешностью огородив город стеной и заперев ворота, они, всем народом расположившись на стенах, ночью и днем отбивались от наступавших. Командовали ими и ведали всем два человека, оба бывшие консулы, выбранные сенатом, одного из них звали Криспин[8], другого Менофил[9]. (6) С величайшей предусмотрительностью они запаслись громадным количеством продовольствия с таким расчетом, чтобы был достаток, если даже осада затянется. И колодезная вода была у них в изобилии, ведь в городе много вырытых колодцев; у стен протекает река, давая в одно и то же время и защиту в качестве рва, и снабжение водой [10].
3. (1) Так город был подготовлен к осаде. Когда Максимину доложили, что город хорошо охраняется и заперт[11], он решил послать под видом посольства людей, которые снизу повели бы переговоры; может быть, они убедят тех открыть ворота. Был в войске трибун, которому Аквилея была родным городом, а дети, жена и все домашние заперлись в городе. (2) Его и послал Максимин вместе с другими центурионами, надеясь, что он как согражданин легко их убедит. Придя, послы передали, что Максимин, их общий государь, велит им сложить оружие с миром, встретить его как друга, а не врага, заняться лучше заключением соглашения и жертвоприношениями, а не убийствами и не допустить полного разрушения до основания их родного города, тогда как есть возможность и им самим спастись, и родной город спасти, потому что великодушный государь дарует им амнистию и прощение их заблуждений — не они ведь в этом виноваты, а другие. (3) Подобные слова послы, стоя внизу, выкрикивали так, чтобы было слышно; большинство народа, находившегося на стене и башнях, кроме тех, кто охранял другие участки, спокойно выслушивало эти речи. (4) Криспин же, опасаясь, как бы народ, поверив обещаниям и предпочтя борьбе мир[12], не отворил ворота, быстро обходя стену, уговаривал и упрашивал их держаться мужественно и достойно сопротивляться, не нарушать верность сенату и римскому народу, но прослыть спасителями и передовыми бойцами всей Италии, не верить обещаниям клятвопреступного и коварного тирана и не отдавать себя, прельстившись ласковыми речами, на явную гибель, тогда как есть возможность довериться изменчивой судьбе войны; (5) ведь часто даже находившиеся в численном меньшинстве одерживали верх над более многочисленными и, хотя и казались слабейшими, одолевали тех, кто казался более мужественным; не следует страшиться многочисленности вражеского войска. {130} «Ведь сражающиеся за другого и за благоденствие, предназначенное другому, если только таковое осуществится, проявляют умеренное рвение к бою, зная, что сами они будут участвовать в опасностях, а самые значительные и главные плоды победы пожнет другой; (6) у тех же, кто сражается за родину, более сильны надежды от богов на победу, так как они желают не чужое захватить, но свое собственное спасти. Рвением к битвам они обладают не по приказу другого, а из-за собственной нужды, так как плод победы целиком остается у них». (7) Говоря подобные слова и каждому в отдельности, и всем вместе, Криспин, по природе человек вообще благородный и опытный в речах на языке римлян[13], мягко управлявший аквилейцами, убедил их стоять на своем, а послам велел уйти ни с чем. Поговаривали, что он упорствовал в решении продолжать войну потому, что в городе было много людей, опытных в искусстве гадания по жертвоприношениям и по печени животных, и они объявляли о том, что знамения благоприятны; а италийцы больше всего верят именно такому гаданию. (8) И были даны прорицания, что местный бог обещает победу; его называют Белен и чрезвычайно почитают, желая видеть в нем Аполлона[14]. Некоторые воины Максимина говорили, что его образ часто появлялся в воздухе, сражаясь за город. (9) Привиделось ли это кому-нибудь на самом деле или только желавшим, чтобы столь великое войско не навлекло на себя позора, не справившись с гораздо меньшим числом невоенных людей, и чтобы казалось, что они побеждены богами, а не людьми, — не могу сказать; неожиданность исхода заставляет поверить во всякое…
4. (1) Когда послы, ничего не добившись, вернулись к Максимину[15], он, распаляясь еще большим гневом и яростью, стал действовать энергичнее. Дойдя до очень большой реки, протекающей в шестнадцати милях от города, он обнаружил, что течение у нее, при огромной глубине и ширине, стремительное[16]; ибо теплое время года, растопляя снега, смерзавшиеся в течение всей зимы на нависающих горах[17], создавало громадный вздувшийся поток. Поэтому для войска переход через реку был невозможен: ведь мост, большое и прекраснейшее сооружение, построенное древними государями из четырехфутовых каменных глыб, опиравшееся на постепенно увеличивавшиеся арки, аквилейцы разобрали и уничтожили. И так как не было ни судов, ни моста, войско стояло в молчании. (3) Некоторые германцы, незнакомые с сильным и бурным течением италийских рек, думая, что на равнинах реки текут медленно, как и у них на родине (потому они легко замерзают, {131} что движение у них не быстрое), прыгнули в воду вместе с конями, приученными переплывать реки, и погибли, унесенные течением. (4) Построив за два или три дня палаточный лагерь, Максимин окружил его рвом, чтобы никто не мог на него напасть, а сам оставался на своем берегу с целью обдумать, каким образом навести мост через реку. Ввиду недостатка в лесе и судах, соединив которые следовало навести мост через реку, некоторые мастера подсказали, что на опустошенных полях есть много пустых сосудов для переноски вина, изготовленных из круглых колод, которыми ранее пользовались местные жители для собственного употребления, чтобы пересылать вино заказчикам без вреда для него; эти сосуды, выдолбленные наподобие судна[18], если их связать вместе, всплывут наверх, подобно челнам, и при этом не будут унесены благодаря связывающим их канатам; сверху на них будут набросаны ветки и насыпан умеренный земляной настил большим количеством рабочих рук и спешно. (5) Когда насыпь устоялась, войско, перейдя реку, пошло к городу. Они находили покинутые людьми дома предместий, вырубали виноградные лозы и все деревья, а кое-что и поджигали; так они осквернили красоту, которой прежде отличались эти местности. Ведь благодаря ровным рядам деревьев, соединенных со всех сторон связанными одна с другой по-праздничному виноградными лозами[19], можно было бы подумать, что страна украшена венком. Изрубив все это под корень, войско спешило к стенам. (6) Однако, устав, оно не решилось сразу идти на штурм; находясь вне выстрела и распределяясь по отрядам и подразделениям вокруг всей стены, как каждым в отдельности было приказано, они, отдохнув один день, приступили затем к осаде.
Они начали подвозить различные осадные машины и, всеми силами штурмуя стены, не пренебрегали ни одним способом осады. (7) Хотя происходили многочисленные и почти ежедневные атаки и все войско как будто сетями опутывало город, аквилейцы, изо всех сил и храбро дерясь, сопротивлялись, обороняя стены, заперев храмы и дома, и всем народом, вместе с детьми и женами, бились сверху, с укреплений и башен, и не было возраста, который оказался бы бесполезным для участия в битве за родину. (8) Предместья и все, что было вне городских ворот, было разрушено войском Максимина, а деревом построек воспользовались для сооружения осадных машин.
Они старались разрушить хоть какую-нибудь часть стены, чтобы, ворвавшись в город, войско могло разграбить все и, {132} разрушив город, оставить страну пастбищем для овец и пустыней; ведь у Максимина не будет пристойного и славного пути на Рим, если первый же сопротивлявшийся италийский город не будет уничтожен. (9) Поэтому обещаниями раздач и просьбами сам Максимин и сын его, которого он сделал Цезарем[20], разъезжая на конях, убеждали войско, усердно призывая проявлять рвение и подбадривая его.
Аквилейцы же бросались сверху камнями и, смешивая с серой и асфальтом смолу и оливковое масло и налив эту смесь в полые сосуды с широкими ручками и зажигая ее, при приближении воинов рассеивали ее, выливая вниз все разом наподобие дождя. (10) Летящая смола вместе с вышеупомянутыми веществами, попадая на обнаженные участки тела, разливалась по всему остальному, так что воины сбрасывали с себя горящие панцири и прочее вооружение, в котором железо накалялось, а части, изготовленные из кож и дерева, горели и стягивались. Можно было увидеть воинов, обнаживших себя, а брошенное оружие, снятое не благодаря мужеству в бою, а хитрости военного искусства, являло вид отнятых у врагов доспехов. Из-за этого огромное множество врагов лишилось зрения и получило повреждения лица, рук и других обнаженных частей тела. Но и на подводившиеся к стене осадные машины аквилейцы сбрасывали факелы, также пропитанные смолой и камедью и снабженные на конце наконечниками копий; подожженные, несясь вниз, они вонзались в машины, крепко в них засев, и легко их сжигали.
5. (1) Итак, в первые дни военное счастье оставалось в состоянии неясности и равновесия; по прошествии же некоторого времени войско Максимина утратило решительность и, терпя неудачу в своих надеждах, впало в уныние; ведь тех, кто, как они полагали, не выдержит никакого штурма, они нашли не только сопротивляющимися, но и активно противоборствующими. (2) Аквилейцы же воодушевились и преисполнились всяческого рвения [21]; приобретая в непрерывном сражении одновременно боевой опыт и отвагу, они начали презирать воинов и Максимина настолько, что даже смеялись над ними и поносили самого Максимина, когда он ездил вокруг стен, против него и его сына они извергали издевательские и позорные ругательства; приходя от этого в раздражение, он еще больше наливался злобой. (3) Не имея возможности направить ее против врага, он наказывал очень многих начальников своих воинов за то, что они недостаточно мужественно и нерадиво ведут штурм стен. Отсюда и появились ненависть к {133} нему и озлобление со стороны своих, а со стороны врагов — еще большее презрение.
У аквилейцев всего оказалось в изобилии; было у них и большое количество продовольствия, так как в город заранее в большом количестве было завезено все, что нужно было для еды и питья людям и скоту; войско же во всем испытывало нужду, так как фруктовые деревья были вырублены, а земля опустошена им самим. (4) Помещаясь в наспех сооруженных палатках, а большинство — под открытым небом, воины выносили дождь и жару и погибали от голода, так как не было подвоза продовольствия ни для них самих, ни для скота. Ведь римляне, соорудив стены и ворота, перегородили пути в Италию. (5) Сенат послал консуляров с отборными и лучшими во всей Италии мужами[22], чтобы они охраняли все морские берега и гавани и чтобы никому не дозволялось выплывать[23]; поэтому о том, что делалось в Риме, Максимин не слышал и не знал; все проезжие дороги и тропы охранялись, так что никто не мог по ним пройти.
Получилось так, что войско, которое, как казалось, осаждает город, само оказалось в осаде; ведь оно ни Аквилею не могло взять, ни, удалившись оттуда, пойти на Рим из-за отсутствия судов и повозок — все было уже занято и отрезано. (6) Ползли основанные на подозрениях и преувеличивавшие истину слухи, будто весь римский народ взялся за оружие, вся Италия действует единодушно, все иллирийские[24] и варварские провинции, а также провинции Востока и Юга собирают войско, Максимина же все одинаково ненавидят и умом и сердцем.
Воины находились в отчаянном положении и во всем терпели нужду, чуть ли даже не в воде. (7) Питье бралось только из протекающей рядом реки, его и пили, оскверненное кровью и трупами; ведь аквилейцы, не имея возможности похоронить умерших в городе, сбрасывали их в реку, да и в войске убитых или погибших от болезни бросали в реку, так как не имелось того, что нужно для погребений. (8) И вот войско испытывало всяческую нужду и было в унынии. В то время как Максимин отдыхал в палатке — а в этот день была передышка от военных действий и большинство воинов удалилось в палатки и на посты, назначенные для охраны, — воины, лагерь которых находился у самого города Рима под так называемой Альбанской горой[25], где они оставили своих детей и жен[26], решили убить Максимина, чтобы избавиться, наконец, от длительной и бесконечной осады города и больше не опустошать Италию ради всеми осужденного и ненавистного тирана. (9) Собрав-{134}шись с духом, они в полдень приближаются к его палатке, где к ним примкнули и охранявшие его телохранители, срывают со значков изображения Максимина и его, вышедшего из палатки вместе с сыном, чтобы поговорить с ними, не позволив этого, убивают[27]. Умерщвляют они также командующего войском и всех близких друзей Максимина; бросив трупы на поругание и надругательство всякому желающему, они оставили их в пищу собакам и птицам. Головы Максимина и его сына послали в Рим. Таков был конец Максимина и его сына, наказанных за дурное правление[28].
6. (1) Когда все войско узнало о случившемся, всех охватило оцепенение, и отнюдь не все были довольны тем, что было сделано, больше же всех — паннонцы и фракийские варвары, которые вручили ему власть. Однако, раз дело было уже сделано, они хоть и против воли, но терпели; приходилось притворно радоваться вместе с другими тому, что произошло. (2) Сложив оружие, они в мирном порядке подошли к стенам Аквилеи, объявляя об убийстве Максимина; они просили отворить ворота и принять как друзей вчерашних врагов. Военачальники аквилейцев, однако, не позволили открыть ворота, но, выставив изображения Максима, Бальбина и Цезаря Гордиана, украшенные венками и лаврами, сами их славословили и потребовали, чтобы воины признали, провозгласили и славословили императоров, провозглашенных римским народом и сенатом. (3) О тех Гордианах говорили, что они удалились на небо и к богу. На стенах города устроили рынок, выставляя на продажу в изобилии все необходимое — разнообразную пищу и питье, одежду и обувь, — словом все, что только мог предоставить на потребу людям благоденствующий и процветающий город. (4) Тут войско изумилось еще больше, когда поняло, что у тех было бы все необходимое, если бы даже они еще долго выдерживали осаду, — а сами они из-за отсутствия всякого продовольствия скорее погибли бы, чем захватили город, обеспеченный всем. Войско оставалось вокруг городских стен, получая все необходимое, кто сколько хотел, — со стен; те и другие переговаривались между собой. Картина была мирная и дружеская, но оставалась видимость осады, так как стены были заперты и войско располагалось вокруг них.
(5) Таково было положение под Аквилеей. Всадники же, везшие голову Максимина от Аквилеи, совершили путь со всей возможной быстротой; при их приближении к другим городам ворота открывались и жители встречали их с лавровыми ветвями. Переплыв озера и болота между Альтином и Равенной[29], они встретились с императором Максимом, пре-{135}бывавшим в Равенне, где он собирал отборных людей из Рима и лучших воинов из Италии. (6) Пришла к нему на помощь и немалая сила германцев, присланная ими из расположения, какое они к нему издавна питали — с тех пор как он был у них заботливым правителем.
Итак, пока он подготавливал силу для войны с войском Максимина, к нему прибывают всадники, неся голову Максимина и его сына, с вестью о победе и счастье и о том, что войско мыслит заодно с римлянами и почитает императоров, которых избрал сенат. (7) При столь неожиданном известии на алтарях стали совершать жертвоприношения и все славословили без труда одержанную победу. Получив благоприятные предзнаменования, Максим отсылает всадников в Рим, чтобы возвестить о случившемся народу и доставить голову. Когда те прибыли и влетели в город, показывая насаженную на пику голову врага, чтобы она была видна всем, — тут уж невозможно передать радость этого дня.
(8) Не было такого возраста, который не спешил бы к алтарям и святилищам, и никто не оставался дома, но все носились, как исступленные, поздравляя друг друга, и сбегались на ипподром, будто устраивая народное собрание в этом месте[30]. И сам Бальбин совершал гекатомбы, и все должностные лица, и сенат; во все провинции были разосланы вестники и глашатаи с лавровыми ветвями[31].
7. (1) Так обстояли дела в Риме. Максим же, выйдя из Равенны, явился к Аквилее, перейдя топи, которые, наполняясь водами реки Эридана и окрестных болот, семью устьями вливаются в море, поэтому местные жители и называют их на своем языке [32] «Семью морями». (2) Аквилейцы, тотчас же открыв ворота, приняли его, а италийские города начали присылать посольства из виднейших своих мужей, которые в белых одеждах и с лавровыми ветвями несли изображения своих отеческих богов и все золотые венки из посвящений, какие у них были; они славословили Максима и осыпали путь листьями.
Войско, осаждавшее Аквилею, вышло навстречу в мирной одежде и с лавровыми ветвями в руках, но не все целиком по искреннему расположению, а с притворной преданностью и почтением, вынужденные к тому нынешним поворотом судьбы императорской власти. (3) Ведь большинство из них негодовало и втайне скорбело о гибели выбранного ими государя и о том, что у власти — избранники сената.
Оказавшись в Аквилее, Максим в первый и второй день занимался жертвоприношениями, а на третий день, созвав все {136} войско на равнину, где для него было устроено возвышение, сказал следующее:
(4) «Вы узнали на опыте, сколь полезно было вам раскаяться и присоединиться к римлянам, вместо войны вкушая мир с помощью богов, которыми вы поклялись; и ныне вы храните военную присягу, которая является священным таинством Римской державы[33]. Вам и впредь следует постоянно наслаждаться всем этим, храня верность римлянам, сенату и нам, императорам, которых избрали народ и сенат, решив, что мы как бы последовательно дошли до такого положения ввиду благородного происхождения и длинного ряда многочисленных подвигов. (5) Власть не есть личная собственность одного человека, но издавна является общим достоянием римского народа — в том городе и пребывает судьба императорской власти; нам вместе с вами вручено управление и распоряжение государственными делами. Все это вместе с порядком и подобающим благоустроением, с уважением и почтением по отношению к правителям принесет вам счастливую и совершенно свободную от лишений жизнь, а всем другим людям, живущим в провинциях и городах, — мир и повиновение властям. Вы будете жить и по своему вкусу среди своих, вместо того, чтобы терпеть бедствия на чужбине. (6) А о том, чтобы и варварские племена оставались спокойными, будем заботиться мы. При двух государях с большим удобством будут устраиваться дела в Риме, и если что-нибудь потребует отправления в чужие страны, то один всегда легко сможет оказаться там, куда зовут настоятельные дела[34]. Пусть никто из вас не думает, что у нас остается какое-нибудь воспоминание о том, что у нас или у римлян, или у других народов, которые восстали из-за обид, было сделано — ведь вы действовали по приказанию; но да будет все предано забвению, да будет договор о прочной дружбе и вечная уверенность в благорасположении и добром порядке».
(7) Произнеся примерно такие слова, Максим объявил о щедрых денежных раздачах и, проведя в Аквилее несколько дней, предпринимает обратный путь в Рим. Прочее войско он отослал в провинции и в их лагеря, а сам возвратился в Рим с телохранителями, которые охраняют императорский дворец, и с теми, кто служил под начальством Бальбина[35]. (8) С ними возвратились и прибывшие в качестве союзников германцы[36]; он полагался на их верность, так как этим народом он справедливо управлял еще прежде, когда не был императором. При въезде в Рим его встретил Бальбин, взявший с собой Цезаря {137} Гордиана; сенат же и народ принимали его, славословя как триумфатора.
8. (1) Остальное время правили они городом, соблюдая всяческую благопристойность и порядок[37], повсюду славословимые — и частным образом, и всенародно. Народ был доволен ими, гордясь государями благородными[38] и достойными императорской власти; воины, однако, возмущались в душе и были недовольны славословиями народа; они тяготились самим их благородством и негодовали на то, что имеют государей из сената. (2) Их огорчали и германцы, сопровождавшие Максима и стоявшие в Риме [39]; воины ожидали, что найдут в них противников, если решатся на какой-нибудь дерзкий шаг, и подозревали, что те подстерегают случай обезоружить их с помощью какой-нибудь хитрости, а сами, раз они тут же находятся, стать на их место. Они вспоминали пример Севера, который обезоружил убийц Пертинакса. (3) Когда происходили Капитолийские состязания и все были заняты празднествами и зрелищами, они внезапно обнаружили свой образ мыслей, который до тех пор скрывали, и, не сдерживая своего гнева, под влиянием неразумного порыва все как один бросились во дворец и ворвались к старикам-государям. (4) Случилось так, что у тех не было большого согласия, но каждый тянул власть к себе, как это обычно бывает под влиянием жажды единовластия и непримиримости к соучастнику во власти. Бальбин желал первенствовать ввиду знатного происхождения и дважды занимавшейся им должности консула, Максим же — ввиду того, что он был префектом города и слыл опытным в делах; тот и другой были благородного происхождения, патриции, имели значительное число предков — и это поддерживало их стремление к единовластию. (5) Это и явилось для них главной причиной гибели. Когда Максим узнал, что так называемые преторианцы идут их погубить, он пожелал послать за находившимися в Риме германскими союзниками, которые будут достаточно сильными, чтобы оказать сопротивление злоумышленникам. Бальбин же, думая, что это злой умысел против него и обман (ведь он знал преданность германцев Максиму), воспротивился этому, говоря, что германцы явятся не для защиты и не для сопротивления преторианцам, а чтобы доставить Максиму единовластие[40]. (6) И вот, пока они спорят об этом, воины все вместе вбегают — стража, охранявшая дворцовые входы, отступила перед ними, — хватают стариков[41], срывают бывшую на них простую одежду, какую носят дома, нагих выволакивают из императорского дворца со всяческой бранью и издевательством, бьют их и {138} смеются над государями из сената, рвут им, словно упиваясь этим, бороду и брови, подвергают всяким телесным мукам; потом их уводили в лагерь через весь город. Они не пожелали убить их сразу, во дворце[42], а хотели надругаться над живыми, чтобы заставить их дольше испытывать страдания.
(7) Узнав об этом, германцы берутся за оружие и спешат на помощь императорам; при вести об их приближении, преторианцы добивают совершенно изувеченных государей. Бросив тела на проезжей дороге, подняв Цезаря Гордиана, провозглашают его императором (так как в то время не нашли другого)[43], крича народу, что они убили тех, кого народ с самого начала не пожелал видеть у власти, и что они избрали Гордиана, внука того Гордиана, которого заставили взять власть римляне. Вместе с ним они входят в лагерь и, заперев ворота, успокаиваются. Германцы, увидя убитыми и лежащими во прахе тех, ради кого они спешили, не желая начинать напрасную войну за мертвых мужей, возвратились в свои казармы.
(8) Таков был недостойный и беззаконный конец почтенных и достопамятных, благородных и заслуженно пришедших к власти старцев[44]. Гордиан же приблизительно в тринадцатилетнем возрасте был провозглашен императором и принял власть над римлянами[45]. {139}
Несколько рукописей преимущественно XV в. (но лейденская рукопись ХI в. с поправками, сделанными в XV—XVI вв.) сохранили нам сочинение, озаглавленное «История императорской власти после Марка в восьми книгах»[1].
Об авторе этой истории не имеется никаких сведений. Нам приходится довольствоваться тем, что можно извлечь для его биографии из его произведения[2]. Геродиан дает нам некоторые точки опоры для заключения о времени его жизни. В правление императора Коммода (180—192 гг. н. э.) он был в Риме на играх и вместе с другими зрителями видел («мы виде-{143}ли» — I, 15, 4) таких отовсюду привезенных зверей, какими раньше можно было любоваться только на картинах. Столь же ясно говорит Геродиан и о своем присутствии на разнообразных зрелищах во всех театрах и на священнодействиях в правление Септимия Севера (III, 8, 10), отпраздновавшего секулярные игры в 204 г. Третье упоминание (менее ясное) о пребывании в Риме относится ко временам Каракаллы (об этом ниже). Последнее упомянутое в истории Геродиана событие — убийство императоров Максима и Бальбина (VIII, 8, 3—8) в первой половине 238 г. Все это дает основание думать, что Геродиан мог умереть самое раннее в 240 г., а возможно, и значительно позднее (примерно около 255 г.)
Что же касается года рождения Геродиана, то некоторое заключение можно извлечь из его указания: он в противоположность большинству историков описывает недавно прошедшие времена, и то, что помнят его современники, и притом его сведения не заимствованы от других, т. е. не принадлежат к числу тех, которые не поддаются точному знанию и подтверждению свидетельскими показаниями (I, 1, 3). Это признание должно относиться и к начальным главам истории Геродиана, посвященным описанию смерти Марка Аврелия (180 г. н. э.). Если, как не без основания думают, Геродиан был тогда в более или менее сознательном возрасте, то он мог родиться около 165 г.
Очень немногое можно извлечь из сочинения Геродиана об обстоятельствах его жизни. Большая осведомленность историка в событиях, совершавшихся в Антиохии и в близких к последней восточных областях (II, 7, 8—9, 10; 10,7; 14,6; III, 1,4—6; 2,10; 3,4; 4,1,6; 6,9; IV, 8,6; 9,8; 13,8; 15,9; V, 1,1—3; 4,1—2; VI, 4,3—6; 6,2—4), натолкнула ряд исследователей на мысль, что он был родом из Антиохии и долгое время проживал там. Нельзя сомневаться в том, что он жил или бывал в Риме (I, 15, 4; III, 8, 10)[3].
Некоторые попытки расширить наши сведения о жизни Геродиана не привели к положительным результатам. Это, во-первых, неудачная попытка отождествить его с грамматиком Геродианом Техником. Против возможности считать их одним и тем же лицом говорят как соображения хронологического порядка, так и известные нам обстоятельства жизни грамматика[4]. Последний жил в правление Марка Аврелия, {144} тогда как историк должен был быть совсем юным еще в правление Коммода; кроме того, грамматик всю жизнь занимался наукой, историк же начал писать свой труд, побывав на разных должностях.
Не более удачным оказалось предположение, что в одной латинской надписи можно усмотреть упоминание о нашем Геродиане. Надпись относится ко времени Септимия Севера или его сына Каракаллы. Этот эпиграфический текст составлен в честь некоего Тиберия Клавдия Геродиана, легата провинции Сицилии, судьи и патрона Панормитанской колонии[5], т. е. явно в честь сенатора, каковым наш Геродиан быть не мог.
Хронологический охват истории Геродиана — 59 лет: от смерти Марка Аврелия в 180г. н. э. до начала единоличного правления Гордиана III — 238 г. н. э. Это соответствует словам самого историка, который, говоря в начале своего труда об особенностях описываемого времени, ограничивает последнее 60 годами (I, 1, 5). В другом месте он говорит уже о 70 годах (II, 15, 7). Это противоречие часть ученых предлагает устранить путем исправления текста, т. е. и во втором случае читать «шестьдесят». Было высказано и очень вероятное предположение, что в процессе написания своего труда Геродиан изменил первоначальное намерение и принял решение (оставшееся, впрочем, неосуществленным) расширить рамки своей истории [6].
Труд Геродиана в том виде, в каком мы его имеем, был, скорее всего, закончен вскоре после 239 г. Впрочем, была выдвинута как возможная и более поздняя дата — царствование Филиппа Араба (244—249 гг.); основанием для такого мнения {145} послужили очень сдержанные упоминания о Гордиане III, которые не подходят для времени его правления[7].
Общий план «Истории» Геродиана следующий:
Кн. I — проэмий, смерть Марка Аврелия, правление Коммода.
Кн. II — правление Пертинакса, правление Дидия Юлиана, провозглашение императором Септимия Севера, его прибытие в Рим, его выступление против Нигера.
Кн. III — борьба Севера против Нигера и против Альбина, правление Севера.
Кн. IV — совместное правление Антонина (Каракаллы) и Геты, убийство Геты, единоличное правление Антонина, убийство Антонина и начало правления Макрина.
Кн. V — правление Макрина, правление Антонина (Гелиогабала).
Кн. VI — правление Севера Александра.
Кн. VII — правление Максимина, провозглашение Гордиана I, гибель Гордиана I (и Гордиана II), провозглашение Максима и Бальбина (и Гордиана III) цезарями.
Кн. VIII — поход Максимина на Италию, осада Аквилеи и гибель Максимина, совместное правление Максима и Бальбина, их гибель и провозглашение Гордиана III.
В центре внимания Геродиана всегда император — его личность и деятельность, образ жизни и судьба. История, с точки зрения Геродиана, почти целиком укладывается в рамки биографий императоров. Однако план и характер изложения у Геродиана очень далек от биографических схем Светония и «Scriptores Historiae Augustae» (SHA); если мы что-нибудь узнаем из этой области, то лишь попутно, когда это требуется по ходу какого-нибудь рассказа. Преисполненный глу-{146}бокого уважения к императорской власти и ее носителям, Геродиан старается по возможности избежать всего того, что слишком компрометировало личность императоров.
Риторическое образование историка и его литературный талант особенно сказываются в его рассказах о событиях, речах и экскурсах. Рассказы его всегда красочны и эффектны. Резко очерчены ситуации, намерения и действия персонажей, их высказывания подаются ярко; каждая данная сцена плотно примыкает к рамкам того повествования, часть которого она составляет[8].
Довольно многочисленные речи, само собой разумеется, составлены самим историком; впрочем, Геродиан достаточно ясно предупреждает читателя об этом, когда по поводу той или иной речи говорит, что было сказано «примерно такое». О речах Геродиана некоторые отзываются как о бесцветных, не дающих ничего сравнительно с окружающим их контекстом и лишь в большей степени, чем основной текст, снабженных сентенциями. Имеется, однако, и другой взгляд: в речах отражаются мысли современников Геродиана, именно то, что он дает в окружающем речи контексте. Оба эти взгляда по-своему справедливы: действительно, перечисленные качества в той или иной степени присущи всем речам Геродиана. Следует только заметить, что речи считались необходимой частью исторического повествования, так что Геродиан, сочиняя их, только следовал установившейся до него традиции. Не обладая ни глубиной понимания эпохи или даже отдельных событий, ни способностью проникать в психологические особенности исторических персонажей, он довольствовался тем, что вкладывал в уста исторических деятелей лежавшие на поверхности мысли и чувства, доступные пониманию читателей, тем самым закрепляя свои авторские высказывания и как бы {147} придавая им документальную достоверность. Несмотря на это, в некоторых его речах мы все же встречаем отражение личных качеств того, кто произносит речь: прозорливость Марка Аврелия (I, 4,3—6), похвальба Коммода (I, 5,5—6), душевное благородство и серьезность Пертинакса (II, 3,5—10), решительность и сознание своей силы Септимия Севера (II, 13,5—9) [9].
По разным поводам Геродиан дает в своей истории разного рода экскурсы, главным образом излагая в них незнакомый греческому читателю материал для ознакомления с римскими порядками, обычаями и праздниками (I, 9,2; 10,5; 11,1—5; 15,1—3; III, 8,10; IV, 2; V, 4,8; 6,3; VI, 1,4; VII, 5,8; 6,1—2; VIII, 5,8), отчасти при этом щеголяя своей осведомленностью. Не все в объяснениях Геродиана безукоризненно правильно, как показало исследование его экскурсов[10].
Когда говорят об общем характере истории Геродиана, то в первую очередь отмечают непонимание им основных черт описываемой им эпохи. Нигде нет более или менее глубокого анализа исторических событий, нет и общей картины состояния империи в политическом, социальном или экономическом отношении. Не следует, однако, забыть, что всего этого мы не найдем и у других современных Геродиану исторических писателей, и в более поздних литературных источниках. Характеристика состояния империи, взаимоотношения между носителями верховной власти, сенатом и армией, роль населения Рима и провинций — все это выяснено в работах историков нового времени, причем материал, извлекаемый из книги Геродиана, оказался в высшей степени полезным даже для тех исследователей, которые не склонны высоко расценивать Геродиана как историка.
Многочисленны у Геродиана те места, где чрезвычайно наглядно показано первенствующее значение армии во внутренней жизни государства, роль ее в устранении императоров и замещении вакантного престола, так что временами сама императорская власть становилась игрушкой в руках воинов. Ясно видно падение престижа сената, который поднимал голову только при императорах, считавших нужным не только оказывать внешние знаки уважения сенату, но и править в согласии с ним (к таким государям наш историк относится с особой симпатией); в то же время перед лицом императоров, попиравших достоинство сената, нарушавших данные ими же обещания и жестоко расправлявшихся с неугодными сенаторами, и сенат в целом, и отдельные члены сенаторского сословия оказывались бессильными и неспособными к сопротивлению.
Временами на сцену выступает у Геродиана римский народ, либо приветствуя прибытие императора в Рим, либо поднимая мятеж против императорского любимца, либо вступая в борьбу с войском. Эти вспышки бывают кратковременными и приводят к успеху в тех случаях, когда требования народа поддерживаются каким-нибудь близким к верховному правителю лицом. Очень удачно один из исследователей говорит, что на страницах истории Геродиана временами появляется «фантом римского народа» [11].
Рассказы Геродиана, кроме того, показывают нам слабость Италии и падение ее значения и престижа. Из многих других явлений выделим еще широкие размеры дезертирства и образование больших отрядов дезертиров, представлявших серьезную угрозу для спокойствия Империи. Исследователи находят у Геродиана материал для истории юношеских коллегий — collegia iuvenum[12].
С другой стороны, есть события, о которых Геродиан умалчивает; так, например, он не упоминает об эдикте Каракаллы 212 г. (дарование прав римского гражданства подавляющему большинству свободного населения Римской империи)[13]. {149}
Географические познания Геродиана не отличаются обширностью и точностью. Исследователи уличают его в отсутствии ясности там, где историк должен был проявить хорошую осведомленность. Так, при описании битв римлян под предводительством Макрина и Севера Александра, так и в сообщениях о германских походах Каракаллы, Александра и Максимина, отсутствуют какие бы то ни было географические показания. Войско Септимия Севера на своем пути к Атре проходит у Геродиана по Счастливой Аравии, хотя речь может идти только об Аравии Скенитской (III, 9,3). Слияние рек Тигра и Евфрата происходит, по мнению Геродиана, в восточной части страны парфян (VI, 5,2). Город Гема, обычно относимый у географов к Паннонии, оказывается в представлении Геродиана первым городом Италии на пути шедшего с севера Максимина (VIII, 1,4). Отмечают и ряд других географических погрешностей у Геродиана[14].
Хронологические указания Геродиана часто ненадежны. Нередко они имеют неопределенный характер: «спустя немного времени», «спустя несколько лет», «в определенный день», «с тех пор», и т. п. (см., например, I, 6,1; 8,1; 9, 7,8; 10,1; 12, 1,3; 14,1; II, 1,5; 2,2; 5,2; 6,3,6; 9,5; 12,4; 14,3, 4; III, 9,1; 10,2; 12,7; IV, 1,5; 3,1; 4,1; V, 3,2,10; 6,1, 2; VII, 4,3; 5,3; 12,3). Количество лет или месяцев правления императоров Геродиан любит закруглять, вступая при этом в противоречие с нашими другими источниками. Он отводит Коммоду 13 лет самостоятельного (после смерти отца) правления (I, 17,12). Сообщение Кассия Диона отличается большей точностью — 12 лет, 9 месяцев, 14 дней (LXXII, 22,6)[15]. У Геродиана Пертинакс правит неполные два месяца (II, 4,5). В действительности (мы и здесь должны верить точным показаниям Диона — LXXIII, 10,3) он правил 87 дней — с 1 января по 28 марта 193 г.[16]. В противоречии с Дионом, легендами монет и надписями Геродиан говорит о шестом годе правления Гелиогабала (V, 8,10) [17]. О неудовлстворитель-{150}ности хронологических знаний Геродиана говорят многие исследователи — как по отдельным конкретным поводам, так и в самой общей форме[18].
Сообщения Геродиана не раз подвергались критике со стороны своего содержания: историка упрекали в неточностях, несогласованностях, пристрастии к типичному, следовании определенным схемам[19]. Отнюдь не легкий по отношению ко всякому античному историку вопрос об источниках представляет особые трудности в применении к Геродиану. Прежде всего, вопреки обыкновению других историков древности сам Геродиан в общей форме прямо указывает на источники своей осведомленности. Позиция доверия или недоверия к этому указанию Геродиана, занятая исследователем, ведет последнего к одному из двух диаметрально противоположных направлений и, следовательно, к разным, несводимым один к другому результатам.
Во-вторых, параллельные сообщения Кассия Диона и SHA, частью совпадающие с сообщениями Геродиана, частью дополняющие их, частью с ними контрастирующие, требуют работы интерпретатора, который в зависимости от своего толкования взаимоотношений между параллельными текстами даст свое освещение генезису свидетельств Геродиана. {151}
Естественно начать с показаний самого историка. В начале своего труда (I, 1) он противопоставляет себя большинству тех, кто занимается составлением историй, и старается возобновить память о давно прошедших делах. Эти историки, по мнению Геродиана, стремятся прославить навеки свою образованность, боясь, если они будут молчать, затеряться в общей толпе людей. Они в своем изложении пренебрегали истиной, но заботились о слоге и благозвучии. Приятное на слух изложение мифического материала будет, по их представлению, поставлено им в заслугу, а до точности исследования никто доискиваться не будет. Дальше речь идет о некоторых видах искажения исторической правды: из вражды и ненависти к тиранам, из лести и почтения по отношению к государям, городам (полисам) или частным лицам некоторые историки достоинством своей речи придают больший, чем того требует истина, блеск простым и незначительным деяниям.
Итак, Геродиан неодобрительно отзывается о тех, кто избирает темой своего повествования события давнего прошлого, истинность которых не проверяется ни самим историком, ни его читателями. Приятность изложения обеспечивает авторам успех независимо от правдивости или лживости их рассказов. Мы не вправе вкладывать в слова Геродиана то, чего в них нет, именно осуждения литературной (риторической) разработки материала. Строго держась смысла его слов, мы можем усмотреть в них лишь выпад против писателей, прикрывающих недостоверность своих рассказов литературными прикрасами; все дело здесь в маскировке недоброкачественного содержания, так что литературные красоты оказываются отрицательным явлением, когда они помогают успеху недостоверных сообщений. Особо отмечена тенденциозность, проявляющаяся — опять-таки при помощи словесных средств — в возвеличивании обыкновенных деяний. При этом побудительными мотивами для историков оказываются их объективные отношения к тиранам, государям, городам, отдельным гражданам.
Очевидно, все перечисленные недостатки других («большинства») историков должны быть чужды самому Геродиану. Действительно, себя он отделяет от них, заявляя в первую очередь о том, что его история не занимается далеким прошлым, не получена им от других, не является «неизвестной и лишенной свидетелей». События, описанные им, произошли на памяти читателей. Сведения об этих событиях собраны со всяческой тщательностью, и знание о многочисленных великих делах, происшедших за короткое время, будет не лишено приятности для последующих поколений. {152}
Итак, свое преимущество перед другими Геродиан усматривает в следующем: 1) тема его истории — не седая древность, где невозможна проверка свидетельскими показаниями; 2) он получил свои сведения не «от других», т. е. не от предшественников — исторических писателей; 3) материал был собран им с тщательностью (сюда implicite включена достоверность).
Что касается читателей, то это будут и современники описываемых им событий, и последующие поколения. В утверждении, что знание событий принесет удовольствие читателям будущего, иногда видят обещание давать занимательные рассказы. Контекст показывает, однако, другое понимание слов Геродиана: самые сведения таковы, что черпать их из исторического труда будет интересно. Дальнейшее подтверждает правильность такого понимания слов Геродиана. Сравнительно с отрезком времени от установления единовластия Августа до Марка Аврелия, приблизительно в 200 лет, тот охватывающий 60 лет отрезок, который будет объектом внимания Геродиана, доставляет невиданные до тех пор примеры смены государей, гражданских и внешних войн, движений племен, взятий городов, землетрясений, заражений воздуха, удивительных поворотов в жизни тиранов и государей (не будем дальше следить за развитием высказанных Геродианом мыслей.
Подведем с точки зрения источниковедения итоги рассмотрения того, что высказывает историк в своем введении. Геродиан гордится тем, что пишет свой труд, опираясь не на предшественников, а на собранный им самим материал, и уверяет читателя в своей точности. Никакой заслуги в том, чтобы использовать письменные источники, он не видит. Ниже он скажет, что он записал увиденное и услышанное им в течение всей своей жизни; кое в чем из этого он участвовал, находясь на императорских и общественных службах (I, 2, 5). Здесь яснее, чем где бы то ни было, автор дает нам понять, что его история родилась в результате собственных наблюдений, собирания сведений (слухов) и временами близкого отношения к событиям. Три соображения говорят в пользу правдивости его утверждений. Во-первых, чрезвычайно малая вероятность немедленной фиксации в письменном виде всех разнообразных событий описываемого Геродианом времени; такого рода записи, а особенно распространение их, не говоря уже о публикации в собственном смысле слова, не всегда были безопасны в бурные времена быстрой смены правителей, часто беспощадно расправляющихся с приверженцами своих предшественников и соперников. Во-вторых, если бы историк, прокламирующий свою самостоятельность, в действительности лишь повторял {153} (пусть с видоизменением) то, что всякий его современник мог бы прочитать у других авторов, то он сам подставлял бы себя под удар, так как уличить его в несамостоятельности было бы очень легко. В-третьих, манера обращения Геродиана с письменными источниками в тех случаях, где они имелись в его распоряжении, вовсе не свидетельствует о его стремлении извлечь из них как можно больше материала для своего повествования.
В самом деле, характеризуя Марка Аврелия, Геродиан говорит о приверженности императора ко всяким видам добродетели и о его любви к старинному слогу, что обнаруживают «дошедшие до нас его слова и писания» (I, 2, 3). Эта слишком маленькая выжимка из сочинений и записанных речей Марка Аврелия не может убедить нас в незнакомстве с ними Геродиана, но в то же время ясно показывает, что удельный вес этих письменных памятников как источника при написании соответствующих глав I книги истории Геродиана был крайне невелик. Геродиан отказывается описывать мужественные и разумные деяния Марка, поясняя, что эти деяния были описаны многими мудрыми мужами. Опять ссылка на известную автору литературу, которой, однако, он не счел нужным воспользоваться в своем произведении, заранее ограничив свою тему хронологическими рамками своей собственной (сознательной) жизни. Упоминая о сновидениях Септимия Севера, укрепивших в нем желание идти на Рим для захвата верховной власти и уверенность в успешном завершении похода, наш историк ссылается на автобиографическое сочинение Севера и на выставленные напоказ картины. Сам Геродиан не повторяет того, о чем рассказал император. Исключение он делает для одного сновидения, которое послужило последним толчком для выступления Севера (II, 9, 4). Как видим, из письменного источника взят какой-то минимум. Следует еще отметить, что весь рассказ о времени правления Септимия Севера не носит на себе отпечатка апологии или энкомия, какой был бы понятным и естественным в изложении, непосредственно вытекающем из автобиографии со свойственными этому жанру особенностями. По поводу походов Септимия Севера, в частности, против соперников Нигера и Альбина, Геродиан мог многое узнать из существовавших уже пространных прозаических и стихотворных произведений, посвященных жизнеописанию императора (II, 15, 6). В действительности, данные, которые могли бы быть почерпнуты из этих произведений, остаются вне поля зрения Геродиана. Это военные переходы, остановки, произнесенные Севером в разных городах речи, божественные знамения, местности, столкновения, количество павших в битвах с обеих сторон. Все это, как можно понять {154} из слов Геродиана, вполне укладывается в рамки биографии одного государя, но цель нашего историка другая — обозрение известных ему деяний многих императоров за определенный период времени (II, 15, 7). Поэтому он намерен в дальнейшем выбрать из того, что сделал Север, самое главное и представляющее собой нечто связное. В отличие от авторов других сочинений об этом императоре, Геродиан в своем рассказе воздерживается от угодливого превознесения; с другой стороны, он обещает не опустить ничего, что достойно упоминания. Таким образом, многочисленные литературные источники по царствованию Септимия Севера не могли принести большой пользы Геродиану. Фактический материал, содержавшийся в них, не смог заинтересовать его, а панегирический тон, видимо, отталкивал.
Обратим внимание на заявление о том, что историк собирается описывать известные ему деяния императоров. Сопоставляя эти слова со сделанным выше заявлением о намерении Геродиана рассказывать о том, что он видел и слышал, мы не можем уклониться от заключения, что здесь историк еще раз отгораживается от литературных источников и выражает притязание на непосредственное или почти непосредственное отражение исторической действительности. Тон, восхвалявший подвиги императоров, исторической литературы второй половины II в. н. э., т. е. близкого к Геродиану времени, известен нам по произведению Лукиана «Как следует писать историю». В связи с победоносным походом Луция Вера против парфян в 162—165 гг. появилась обширная литература, посвященная этому походу. Отличительными ее чертами были выспренняя льстивость и далекое от реальной осведомленности содержание. Лукиан протестует против представления высмеиваемых им писателей, будто легче и проще всего писать историю, стоит только в какой-то небольшой степени владеть пером (гл. 5). В качестве одного из пороков исторических сочинений он отмечает небрежное отношение к фактам и злоупотребление похвалой правителям и военачальникам (гл. 7). Превознося своих и унижая чужих, такие историки стирают ту грань, какая существует между историческим повествованием и похвальным словом. Забывается и различие между поэтическим произведением, где вполне уместен полет фантазии, и историей, где он недопустим (гл. 8). Приятность может сопутствовать дельному, т.е. сообразному с истиной, изложению, но подлинное назначение исторического повествования — показ истины. Превосходящая всякую меру лесть способна, по мнению Лукиана, вызвать только отвращение со стороны восхваляемых, если последние обладают достойным мужчины умом (гл. 12). В насмешливом тоне, пересыпая свою речь историче-{155}скими и мифологическими примерами и сравнениями, Лукиан приводит пышные и претенциозные вводные слова услышанных им описаний похода Луция Вера (гл. 14—15). Не будем дальше следить за ходом рассуждения Лукиана. Для нас важно было найти реальную параллель к тем историкам-панегиристам, с которыми не хочет иметь ничего общего Геродиан. Неумение и даже нежелание передавать историческую правду, низкопоклонство и наклонность к пустозвонным внешним эффектам одинаково претят как Лукиану, так и Геродиану.
По одному частному поводу — количество убитых и взятых в плен в битве при Лугдуне со стороны Севера и Альбина — Геродиан говорит, что это число дается писателями по-разному в зависимости от прихоти автора (III, 7,6). Вспоминая историческую ситуацию и тенденцию историков к лестному для императора освещению событий, мы вправе понять слова Геродиана в том смысле, что в угоду Септимию Северу историки его времени выдумывали цифровые показатели, чтобы представить в наиболее блестящем виде его победу над последним соперником, стоявшим на его пути к единовластию, — Альбином.
Видимо, для времени правления и, в частности, для походов Септимия Геродиан мог бы многое почерпнуть из имевшейся тогда литературы, начиная с жизнеописания императора, им самим составленного. Однако и здесь Геродиан остается верным своему принципу стараться быть независимым от исторической литературы там, где последняя могла ему кое-что дать. Он настаивает на том, что его исторический труд отражает действительность в той мере и в том виде, в каких он, Геродиан, видел ее и слышал о ней.
Почему мы должны проявлять недоверие к признаниям автора, который решительно и последовательно отрицает свою зависимость от чужих исторических повествований и противопоставляет им свой труд, основанный на результатах собственного непосредственного опыта и на рассказах лиц, видимо, более или менее близко стоявших к событиям.
Геродиан чрезвычайно скупо осведомляет читателя о том, как ему стали известны те или иные описываемые им события или явления. Кое-что он видел, кое-что он слышал, кое к чему имел близкое касательство, находясь на императорской или общественной службе (т. е. опять-таки видел, но уже с более близкого расстояния, и слышал от лиц, имевших возможность многое наблюдать вблизи). Но какой именно из этих источников осведомленности историка действовал в каждом отдельном случае, этого Геродиан нам не открывает. В очень редких случаях, притом даже не очень важных с источниковедческой {156} точки зрения, Геродиан прямо говорит об автопсии. Коммод дал народу невиданные дотоле зрелища. Он уже заранее объявил, что будет без промаха поражать зверей копьями и стрелами. В назначенный день он действительно выполнил обещание, показав чудеса меткости. Звери были привезены с разных сторон: «Мы тогда и увидели тех, кому мы удивлялись на картинах». По поводу секулярных игр, устроенных Септимием Севером в 204 г., Геродиан пишет: «Мы увидели при нем разнообразные зрелища одновременно во всех театрах». Еще раз тот же глагол «видеть» в первом лице множественного числа аориста употреблен в сообщениях о сумасбродствах Антонина (Каракаллы), связанных с его увлечением Александром Македонским. Он наполнил Рим изображениями македонского царя, «а кое-где (надо думать, там же, в пределах Рима) мы видели смехотворные изображения» (речь идет о голове с двумя лицами — Александра и Антонина). Мы имеем, таким образом, прямое свидетельство о пребывании нашего автора в Риме по крайней мере три раза — в правления Коммода, Септимия Севера и Каракаллы. Все три раза речь идет не о событии или происшествии в собственном смысле слова, а о зрительных впечатлениях. Предупредив читателя в самом начале своего труда, что он пишет, основываясь на том, что ему довелось видеть и слышать, Геродиан не считает нужным точно разграничивать виденное от слышанного, и самое употребление глагола «видеть» в трех перечисленных выше случаях следует рассматривать не как печать достоверности, а, скорее, как стилистический прием типа «вот что тогда можно было увидеть», «вот что видели тогда люди» (ср. I, 15,1 — «чтобы увидеть то, чего они раньше и не видели и не слыхали»; III, 8,10 — «призывая всех прийти и посмотреть то, чего они не видели и не увидят»).
С большой долей вероятности можно думать, что картины, увековечивавшие походы императоров и выставленные на общее обозрение, принадлежат к числу тех вещей, которые Геродиан видел собственными глазами. Септимий Север после своих успехов в Парфии отправил послание сенату и народу и, кроме того, приказал выставить картины, изображавшие его битвы и победы (III, 9,12). Еще раньше Геродиан говорит о выставленных напоказ изображениях сновидений Севера (II, 9,4). Антонин (Гелиогабал), желая приучить римский сенат и народ к виду императора, носящего роскошные восточные одеяния, послал в Рим из Никомедии для установки в здании сената над статуей Победы свой портрет во весь рост в облачении жреца, совершающего священнодействия (V, 5,6—7). Максимин приказал изобразить на картине большого размера свою битву с {157} германцами и свои подвиги в ней и выставить эту картину перед зданием сената (VII, 2, 8). Не может быть полной уверенности в том, что Геродиан сам видел на поле битвы при Иссе бронзовую статую Александра Македонского, о существовании которой в свое время он знает (III, 4, 3), или остатки стены вокруг Византия, свидетельствовавшие о высокой технике строителей и военной доблести тех, кто ее разрушил (III, 1,7).
Геродиан не выдает себя за очевидца всех описанных им событий: он ведь не только «видел», но и «слышал». Критерий для отделения того, что он знает понаслышке, у нас отсутствует. Рассуждая a priori, можно со значительной долей вероятности возвести к устным сообщениям ряд имеющихся в истории Геродиана рассказов. Трудно, например, представить себе, чтобы Геродиан подростком или юношей мог находиться при умирающем Марке Аврелии на берегах Дуная (I, 3—4, 7). Очень сомнительно, чтобы Геродиан был очевидцем покушения Квинтиана на жизнь Коммода (I, 8,5). То же следует сказать о патетической сцене в резиденции Коммода, когда сестра императора Фадилла открывает брату глаза на замыслы Клеандра (I, 13,1—4); о событиях, предшествовавших заговору Марции—Лэта—Эклекта, и о самом заговоре, убийстве Коммода, тайном выносе его трупа из дворца (I, 17—II, 1,3); о ночном посещении Пертинакса Лэтом и Эклектом (II, 1,5—10); об убийстве Пертинакса (II, 5,2—8); о покупке императорской власти Юлианом (II, 6,5—11); об убийстве Юлиана (II, 12,7—13,1). Слишком смело было бы предполагать, что Геродиан видел разжалование Севером преторианцев и его расправу над ними (II, 13), битву у Исского залива между Севером и Нигером (III, 4,1—6), попытку подосланных Севером людей убить Альбина в Британии (III, 5,3—8), битву при Лугдуне, в которой Альбин потерпел поражение и был убит (III, 7,2—7). Сделать Геродиана участником похода Севера на Восток невозможно уже потому, что в его рассказе — явная географическая несообразность (III, 9,3). Неудачный заговор Плавтиана с его тайной беседой с Сатурнином, изменой последнего и последующими перипетиями Геродиан, разумеется, описывает не по собственным наблюдениям (III, 11,4—12,12). Не мог историк быть свидетелем попыток Антонина (Каракаллы) подкупить врачей, чтобы они ускорили смерть его отца (III, 15,2), переговоров о разделе империи между Каракаллой и Гетой (IV, 3,5—9), убийства Геты Каракаллой (IV, 4,2), коварного поведения Каракаллы во время торжественной встречи, устроенной ему парфянским царем (IV, 11,2—7), прочтения Макрином доноса против него Каракалле (IV, 12,4—8), убийства Каракаллы (IV, 13,2—8). У нас нет никакого основания считать Геродиана бойцом или хотя бы {158} наблюдателем битвы между войсками Макрина и Артабана (IV, 14,3—15,9), свидетелем смерти Макрина (V, 4,11). Абсолютно невозможно причислить к тому, что видел Геродиан, походы Севера Александра на Восток и особенно на Север, так как участник походов или близко стоявший к ним человек не мог бы ограничиться слишком общими, лишенными всякой конкретности географическими указаниями (IV, 5,1—6,3; 7,2— 10 и др.); отпадает вместе с тем и возможность наблюдения гибели Александра (IV, 9,1—7), заговора осроенских стрелков (VII, 1,9—11). Едва ли можно думать, что Геродиан описывает как очевидец провозглашение в Ливии императором Гордиана и его смерть (VII, 4,1—6,3; 9,1—9), происшествия в сенате (VII, 11,3—4), осаду Максимином Аквилеи и все связанные с этой осадой события (VIII, 2,3—7,7).
Один возможный критерий автопсии или близкого отношения к событию — яркость описания, наглядность картины, обилие деталей — теряет всякую силу в применении к писателю, владевшему всеми средствами современной ему риторики и обладавшему способностью разукрасить, представить в наиболее завлекательном и выпуклом виде полученный от других (путем устной передачи) материал. Хорошим предостережением должно служить нам и изображение отплытия афинского флота в Сицилию в 415 г. у Фукидида (VI, 32,1—2). Сжатое, но очень картинное описание Фукидида могло бы подать повод думать, что автор находился либо среди отплывавших, либо среди остававшихся на берегу, если бы мы не знали, что он в это время в Афинах не был и быть не мог. По-видимому, историк Пелопоннесской войны получил точное и достоверное сообщение очевидца, данные которого легли в основу известного нам рассказа.
Еще одно замечание. Иногда придается преувеличенное значение повторяемости деталей в разных, аналогичных по содержанию рассказах Геродиана. Если историк, в нашем случае Геродиан, повторяет в своих рассказах одну и ту же деталь, то это считается доказательством выдуманности этой детали по крайней мере в одном из двух (или более) случаев[20]. Геродиан описывает торжественную встречу сенатом и народом императора Коммода при его возвращении в столицу с берегов Дуная. При его приближении к Риму весь сенат и все жители города вышли ему навстречу на далекое расстояние, неся лавровые ветви и всевозможные цветы (I, 7,3). Когда {159} Септимий Север, сокрушив Альбина, направился со своим войском в Италию и вступил в Рим, народ, неся лавровые ветви, принял его со всяческим почетом и благоговением, а сенат приветствовал его (III, 8,3). Совпадение в одной детали отнюдь не дает права делать заключение, что одну из этих встреч историк действительно видел, другую же сочинил по аналогии. Возьмем обе картины в целом. Сын Марка Аврелия, в изображении Геродиана юный и прекрасный, был желанным для всех и вызывал у подданных самые радужные надежды — люди не могли удержаться и спешили приветствовать его. Не то — в случае Септимия Севера. Он вступает в Рим, питая злобные чувства по отношению к сторонникам Альбина. О ликовании и добрых надеждах народа нет и речи. Что же касается сенаторов, то они в большинстве испытывают страх, зная, что победитель будет относиться к ним беспощадно, как человек, для которого достаточно будет хотя бы маленького повода для расправ с нежелательными людьми. Ситуация при Коммоде и при Септимии Севере была далеко не одной и той же. Единственная точка соприкосновения — несение лавровых ветвей. Коммода встречают еще на подступах к Риму, Севера — уже внутри города; навстречу Коммоду несут лавровые ветви и цветы, а о последних в описании встречи Севера не сказано ни слова. Встреча императора народом, надо думать, не обходилась без лавровых ветвей. Геродиан мог видеть две встречи, столь разные по своему эмоциональному фону и большей части деталей, но в одной внешней черточке похожие одна на другую. Нужно ли говорить о трафаретности (и, следовательно, нереальности) исторического рассказа на том основании, что в нем, как в каком-нибудь другом или даже в каких-нибудь других рассказах, воины провозглашают полководца или начальника императором после того, как тот произнес перед ними речь? Одинаковая или, чаще, неодинаковая, но лишь в какой-то степени сходная мотивировка действий исторических лиц не должна обязательно считаться применением одной и той же схемы, придуманной автором исторического повествования. Повторяемость ситуаций, действий, объяснений характерна не только для манеры того или иного историка, но и для самой исторической действительности той бурной эпохи, в которую жил и писал Геродиан.
Признавая, в согласии с показаниями самого Геродиана, что некоторые его рассказы и сообщения передают непосредственно увиденное им, мы не можем и не должны уклониться от отнесения ряда его рассказов и сообщений (притом большей их части) за счет собранного им устным путем материала. {160} Выше была речь о неточности и расплывчатости хронологических и географических показаний Геродиана. К этому следует добавить, что в его рассказах обычно даются имена лишь главных действующих лиц, изредка и второстепенных[21]. Все это направляет нашу мысль в определенную сторону. Не зафиксированное в письменном виде повествование с определенными хронологическими и географическими данными, не документальный текст, а услышанный Геродианом устный рассказ, не содержавший в себе необходимых историку уточнений по части времени и места, естественнее всего считать источником для изложения тех событий, которые Геродиан не мог наблюдать сам. Собранные у разных свидетелей рассказы, с трудом укладывавшиеся в более или менее жесткие хронологические рамки, лишенные точных географических данных, вращались вокруг главных действующих лиц. У Геродиана не было ни возможности, ни желания придавать им то, чего в них недоставало. Своим делом он считал риторическую обработку собранного материала, чтобы получить свои впечатляющие, бьющие на эффект эпизоды, не всегда точно локализуемые и часто соединенные с окружающим контекстом зыбкими хронологическими мостиками. Одна довольно характерная для первичных записей событий (свидетелем которых записывающий не был) черта присуща многим рассказам Геродиана — ссылка на слухи («говорили», «злословили» и т. п.). Гораздо реже прибегает он к сопоставлению вариантов. Такие моменты сохраняются у Геродиана, несмотря на его тенденцию давать закругленные рассказы. Луцилла, сестра Коммода, делает сообщником своих враждебных императору замыслов знатного и богатого молодого человека Кодрата. «Злословили, — сообщает по этому поводу Геродиан, — что она состояла с ним в тайной любви» (I, 8,4). Марция, завладев списком тех, кого собирался казнить Коммод, посылает за Эклектом. Он обычно приходил к ней как императорский кубикулярий, а кроме того злословили, что она состоит с ним в любовной связи (I, 17,6). Это обстоятельство никак не влияет на ход событий; Лэт, о котором не было подобных слухов, ведет себя совершенно так же, как и Эклект, но народная молва существовала, и с ней историк считается. Частое общение находившихся на виду лиц не только в этом случае породило подобный слух. Уместно вспомнить о передававшемся из уст в уста в лагере 10 тыс. греков слухе о близких отношениях между Киром Младшим и приехавшей к нему для переговоров киликийской царицей. {161} Невоздержанный образ жизни Юлиана был предметом нареканий (II, 6,6). Отнесем сюда и тайные предостережения людей старшего возраста против излишнего доверия к произнесенной в сенате речи Септимия Севера с обещаниями самого обнадеживающего характера. Большинство сенаторов поверило императору, но были среди представителей старшего поколения и такие, кто в частных беседах говорил о коварстве Севера, его способности притворяться и в конечном счете добиваться того, что ему выгодно (II, 14,4). Эти опасения, впоследствии оправдавшиеся, могли сохраняться в устном предании и оживиться после смерти Севера и его сына Каракаллы. После рассказа о первой крупной победе Севера над войском Нигера — этим войском командовал Эмилиан — Геродиан вспоминает о ходившем по поводу этого Эмилиана слухе, будто он с самого начала изменил Нигеру (III, 2,3). В объяснении причин предательства Эмилиана было расхождение: одни говорили о зависти по отношению к Нигеру, другие — о влиянии писем от детей, находившихся в Риме в руках Севера и умолявших Эмилиана позаботиться об их спасении (там же). По-видимому, множество слухов ходило о ливийце Плавтиане, который, будучи человеком простого звания, выдвинулся при Севере до поста префекта претория и стал необыкновенно влиятельным. Недоброжелатели рассказывали о нем, что он в молодости подвергся изгнанию, после того как был уличен в мятеже и многих преступлениях (III, 10,6). В поисках причин благосклонности императора к Плавтиану строились догадки и о родстве между ними, и об интимных отношениях (там же). Любимый вольноотпущенник Антонина (Каракаллы), его секретарь Фест, умер во время пребывания императора в Илионе. Смерть его совпала с увлечением Каракаллы памятью Ахилла. Фесту были устроены очень пышные похороны, так как, уподобляя себя Ахиллу, император увидел в умершем Патрокла. Вся эта ситуация вызвала два объяснения: одни говорили, что Фест умер от болезни, другие — что он был отравлен специально для того, чтобы быть похороненным, как Патрокл (IV, 8,4).
О значении молвы как источника осведомленности и ее быстром распространении говорит сам Геродиан в связи с лживым посланием Каракаллы сенату и народу по поводу его мнимых успехов и покорения всего Востока. Сенат под влиянием страха из низкопоклонства декретировал императору все почести, хотя истинное положение дел было хорошо известно сенаторам: «ведь дела государя не могут оставаться скрытыми». Письмо Матерна тому же Антонину с обвинением Макри-{162}на в стремлении к власти получает у Геродиана, вероятно в результате раздвоения устного предания, две мотивировки: либо о замыслах Макрина ему вещали божества (он перед этим общался с магами, занимавшимися некромантией), либо сам он действовал из желания дискредитировать Макрина (IV, 12,5). Обстоятельства смерти Макрина, торопившегося в Рим после своего поражения от сторонников Антонина (Гелиогабала) и задержавшегося в Халкедоне из-за неблагоприятных условий для переправы, описаны явно по слухам: «говорят…» (V, 4,11). Север Александр не выполнил своего плана во время войны с персами, не вывел свое войско в назначенное место и таким образом оказался виновником страшного поражения римлян. Геродиан дает два возможных объяснения поведения императора: либо он побоялся подвергнуть опасности свою жизнь, либо его удержала мать по своей женской робости и чрезмерному чадолюбию (VI, 5,8). Эти два объяснения уже потому не должны приписываться самому Геродиану, что они связаны с двумя обвинениями, которые не раз предъявлялись Александру на протяжении его царствования и немало способствовали его гибели, — отсутствие смелости (VI, 6,6; 7,3, 10; 8,3; 9,5) и полное подчинение воле матери (VI, 1,10; 8,3; 9,4, 5,8). Не удивительно, что в войске и народе связывали неудачу персидского похода с теми свойствами императора, которые всегда вызывали недовольство. После неудачного похода Александр возвратился в Антиохию больным — либо от упадка духа, либо от непривычки к воздуху тех стран, по которым он проходил (VI, 6,1). Две возможности в данном случае выдвигаются не самим историком. Они могли фигурировать в рассказах участников похода и других современников. В пользу этого говорит контекст: ведь в дальнейшем Геродиан считается только с одним из объяснений — Александр с трудом выносит свою болезнь и удушливый воздух, болеют и все воины, особенно непривычные к жаркому, сухому климату иллирийцы (VI, 6,2); в Антиохии, благодаря ее приятной прохладе и хорошей воде, император легко восстанавливает свои силы (VI, 6,4). Об императоре Максимине, который был родом из фракийской деревни, передавали, что он в детстве был пастухом. Молодые паннонские воины в своей среде радовались мужеству Максимина и высмеивали малодушие Александра и его зависимость от воли матери (VI, 8,3). По-разному объясняли поведение Максимина, когда воины впервые объявили его императором, а он сбрасывал с себя императорскую порфиру, которую пытались накинуть ему на плечи. Согласно одному объяснению, все происходившее было {163} полной неожиданностью для Максимина, согласно другому — все это он сам заранее подстроил (VI, 8,5). О последних мгновениях жизни Александра рассказывают, что он, обняв мать, горько жаловался, называя ее виновницей своих бед. Прямая ссылка на повсеместные разговоры дается Геродианом в сообщении об общераспространенной молве о том, что Максимин, начав с пастушества и став простым воином, был доведен судьбой до власти над Римским государством. Рассказ о подробностях заговора Магна против Максимина вводится словами «говорили, что план действия будет таким». Заговор был жестоко подавлен Максимином. Поэтому, как заявляет Геродиан, он дает те сведения, какие удалось получить на основании слухов. Он не ручается за достоверность своего сообщения, так как не было ни судебного разбирательства, ни возможности защищаться; молва могла в сущности передавать лишь то, что угодно было Максимину. Бесспорным фактом было самоубийство престарелого Гордиана I и в Карфагене. Согласно одному слуху, он повесился при приближении к городу войск Капелиана, сторонника Максимина; согласно другому, это произошло уже после поражения карфагенян под командой Гордиана II и гибели последнего. В обстоятельном рассказе об осаде Аквилеи Максимином особо при помощи слова «говорили» выделено все то, что касается гаданий по внутренностям жертвенных животных. В том же рассказе говорится, что, по словам некоторых воинов Максимина, в воздухе часто являлся образ местного бога Белена, сражавшегося за город (VIII, 3, 8). Отмечаются преувеличенные слухи об общей мобилизации всего римского народа, о единодушии всей Италии, о наборе войска среди иллирийских и варварских племен на востоке и на юге (VIII, 5,6).
Согласно прямому, ясному, не допускающему никаких иных толкований свидетельству Геродиана, он пишет о том, что он видел и слышал. Не подлежит сомнению, что сообщения о слышанном сильно преобладают над сообщениями о виденном. И здравый смысл, и разбор рассказов Геродиана, и сравнение с рассказами Кассия Диона (отчасти и Мария Максима) не дают основания усомниться в справедливости этого показания.
Как уже сказано выше, важными источниками для изучения описанной Геродианом эпохи являются история Кассия Диона и сборник биографий императоров, который известен под названием «Historia Augusta» (НА), авторов которого (подлинных или мнимых) принято называть «Scriptores Historiae Augustae» (SHA). Представляет большой интерес вопрос о взаимоотношении между историей Геродиана и двумя другими названными здесь источниками. {164}
Более простым оказывается этот вопрос применительно к НА. Сборник написан гораздо позднее истории Геродиана. В некоторых местах он содержит прямые ссылки на Геродиана[22], которые одними из исследователей приписываются самим SHA, другими — более поздним интерполяторам[23].
Сложнее обстоит дело с Дионом. Здесь ставятся следующие вопросы: 1) знал ли Геродиан сочинение Диона; 2) пользовался ли он этим сочинением; 3) если пользовался, то как и в какой степени; 4) если не знал, то чем объяснить сходство ряда мест у того и другого автора.
По первому вопросу существуют два диаметрально противоположных мнения: одна точка зрения — Геродиан не знал сочинения Диона[24], другая — он не мог не знать этого сочинения [25], и отрицающие знакомство Геродиана с сочинением Диона впадают в большую ошибку, так как не учитывают широкого распространения образованности во II—III вв. н. э., начитанности образованных людей того времени и (добавим мы) наличия библиотек даже в провинциальных городах. Попытки доказать, что Геродиан непосредственно использовал историю Диона[26], натолкнулись на большие трудности. Некоторое сходство в ряде мест текста обоих историков, бесспорно, наблюдается, но нигде нет текстуальных совпадений, нигде нет {165} явных признаков заимствования. Поэтому наиболее осторожные исследователи, склонные видеть большую близость между некоторыми местами истории Геродиана и Диона, предпочитают говорить не о заимствовании первого от второго, а о зависимости обоих от какого-то общего источника[27]. В сущности можно говорить о сходстве между рассказами Геродиана и Диона лишь в самых общих чертах; они оба часто рассказывают об одном и том же, причем в некоторых случаях имеется большее или меньшее сходство.
Всем этим подсказывается определенное решение основного вопроса о взаимоотношении между двумя историками. Признавая вероятность знакомства Геродиана с трудом Диона, мы все же нигде не усматриваем бесспорных следов зависимости Геродиана от его предшественника. Доверием к показаниям Геродиана о характере его источников (виденное и слышанное) оправдывается следующий подход к сравнительной оценке параллельных рассказов у Геродиана и Диона. В тех случаях, когда последний описывает то, что он видел и чего не мог видеть Геродиан (заседания сената, некоторые события при дворе) мы должны отдать предпочтение Диону (если нет возможности доказать наличие у него тенденции, введшей его в заблуждение или побудившей дать искаженное изображение). В таких случаях мы признаем Геродиана рупором определенных слухов и будем доискиваться причин искажения или своеобразного преломления событий в его изложении. Геродиан становится для нас информатором о слухах, имевших хождение в римском обществе (или части его) и выражавших отношение к императорам[28] и другим действующим лицам рассказов. В других случаях, где отпадает возможность считать Диона очевидцем событий, его рассказ будет отражением устной традиции определенных кругов общества, не тождественных тем, чью традицию дает нам Геродиан. {166}
На некоторых примерах можно будет показать особенности геродиановских рассказов, их сходство и несходство с рассказами Диона и SHA. Одним из таких примеров может служить рассказ о падении Перенниса. Фаворит императора Коммода Переннис, назначенный префектом претория, отвращал молодого государя от дел правления, предоставляя ему заниматься попойками. Фактически Переннис сосредоточил власть над государством в своих руках. В то же время он делал все возможное, чтобы внушить Коммоду подозрения против отцовских друзей и против других лиц, выделявшихся знатным происхождением и богатством. Отличаясь ненасытной алчностью, он пользовался своим положением для собственного обогащения. Заговор императорской сестры Луциллы, в котором приняли участие некоторые лица сенаторского сословия, и неудачное покушение на жизнь Коммода дали Переннису подходящий повод для расправы не только с непосредственными участниками заговора, но и с теми, на кого пало какое-либо подозрение, и для присвоения их имущества (I,8). После этого Переннис стал думать о захвате верховной власти. Под его влиянием Коммод поставил во главе иллирийских войск его сыновей, которые, помогая отцу в его планах, тайно собирали военную силу. Сам Переннис копил деньги для щедрых раздач воинам, имея в виду привлечь их на свою сторону против Коммода. Поворотным моментом в судьбе Перенниса оказался неожиданный случай во время священных игр на Капитолии. Перед началом зрелища, когда император и должностные лица сидели на своих местах и театр был полон зрителей, вдруг на сцену вбежал человек, по виду философ, и обратился к Коммоду с предостережением опасаться Перенниса и его детей; здесь было и упоминание о собранных Переннисом деньгах, об иллирийских войсках и о нависшей опасности. Схваченный по приказу Перенниса, философ был предан сожжению как впавший в безумие и клеветник. Происшествием все же воспользовались враги Перенниса, чтобы настроить против него императора. Тем временем какие-то воины привезли из Иллирика монеты с изображением Перенниса и нашли способ показать их Коммоду. Результатом было совершенное ночью убийство Перенниса, а затем и вызванного Коммодом в Рим его сына (выше Геродиан говорил о сыновьях, здесь он говорит об одном сыне — I, 9).
Получается стройный рассказ: жадный любимец государя, не довольствуясь реальной властью и богатством, лелеет мысль стать обладателем императорского звания и принимает серьезные меры к осуществлению своих замыслов; обстоятельства, однако, не благоприятствуют ему, и он терпит полное крушение. {167}
Сравним с этим то, что находим у Кассия Диона в сокращенном изложении Ксифилина (LXXII, 9). Поведение Коммода, увлекавшегося ездой на колеснице и предававшегося всяким излишествам, вынудило префекта претория Перенниса взять на себя не только воинские дела, но и все управление государством. Воины были недовольны Переннисом и ставили ему в вину все то, что им не нравилось. Войско, находившееся в Британии, выбрало из своей среды 1500 стрелков и послало их в Италию. При их приближении к Риму их встретил Коммод. На его вопрос о причине появления они ответили жалобой на Перенниса, который будто бы злоумышляет против Коммода, желая сделать императором своего сына. Ненавидевший Перенниса Клеандр со своей стороны поддерживал такое обвинение, и Коммод, убежденный всем тем, что он услышал, выдал префекта воинам, которыми тот командовал. После издевательств над своим бывшим начальником они убили не только его, но и его жену, сестру и двоих сыновей. Как видим, Переннис у Кассия Диона не такая отрицательная личность, как у Геродиана. Управление гражданскими и военными делами он не узурпировал; то и другое сосредоточилось в его руках благодаря ходу вещей. О замысле захватить верховную власть для сына говорится не как о реальном факте, а как о выдумке врагов (воинов, прибывших из Британии, и Клеандра).
У Элия Лампридия (SHA, vita Commodi, 5—6, 2), показания которого, как думают, восходят к книге сенатора Мария Максима, современника событий[29], Переннис характеризуется теми же отрицательными чертами, что и у Геродиана, но в некоторых деталях имеются заметные отличия. Сыновья Перенниса действуют как военачальники в Сарматии; поводом для недовольства Переннисом послужило назначение им на должности военных начальников в Британии людей из всад-{168}нического сословия. Переннис объявлен врагом и отдан воинам на растерзание. Главное — нет никакого намека на стремление Перенниса присвоить себе или своему сыну императорскую власть.
Вот возможное объяснение отмеченных разногласий у трех авторов. Сенаторы Кассий Дион и Марий Максим не считаются с официальной версией, в которой впавший в немилость императорский любимец изображался в самых мрачных красках. Оба сенатора по своему положению стояли ближе к событиям, к тому же находились в большей или меньшей степени в оппозиции к императору. Они передают то, что они узнали из устных рассказов, ходивших в сенатских кругах. Геродиан при всем своем уважении к сенату далеко не всегда находится под влиянием сенатских традиций. Он в данном случае собрал и в приукрашенном виде изложил то, о чем рассказывали среди народа после гибели Перенниса, официально объявленного врагом на основании обвинения в покушении на захват верховной власти[30].
Другим примером может служить рассказ о падении Клеандра. Начнем с Геродиана. Фригиец родом, раб, Клеандр, попав в императорский дворец, вырос вместе с Коммодом. Сделал головокружительную карьеру: ему была доверена личная охрана императора, ведение императорским покоем, должность префекта претория. Необыкновенные успехи внушили ему надежду стать главой Римского государства. Он приступил к осуществлению своего плана: скупив большую часть хлеба, он держал его под замками с тем, чтобы потом щедрыми раздачами привлечь к себе народ и войско. Однако ни это, ни постройка гимнасия для всенародного пользования им как баней не могли изменить враждебного отношения римлян к временщику. Виновником своих бедствий народ считал ненасытного и корыстолюбивого Клеандра. О нем сначала злословили в театрах. Дело закончилось тем, что огромная толпа народа двинулась в предместье, где пребывал Коммод. Внезапно по приказу Клеандра преторианцы напали на безоружный народ. Многие погибли в свалке по дороге в город. В самом городе положение изменилось, так как городские жители, заперев свои дома, начали бросать с крыш камни и кирпичи на всадников. Теперь гибли уже и всадники со своими конями. К народу присоединились находившиеся в городе пехотинцы. Стараниями Клеандра император оставался в полном {169} неведении относительно того, что творилось (I, 12,3—9). Вывела его из этого состояния его сестра Фадилла. Ворвавшись во дворец, она предстала перед братом с распущенными волосами и, бросившись на землю, показывая крайнюю степень горести, произнесла патетическую речь с описанием происходивших ужасов и обвинениями против Клеандра. При этом она разорвала свои одежды, а некоторые из присутствующих, осмелев после ее речи, принялись устрашать Коммода. Напуганный император вызвал Клеандра и приказал схватить и обезглавить его. Народ затем убил двух сыновей Клеандра и всех его друзей (I, 13,1—6).
Сравнительно пространный рассказ Диона (судя по сокращенному изложению Ксифилина) близок к рассказу Геродиана. Раб, кубикулярий, женившийся на одной из наложниц Коммода, губит своих соперников и становится очень влиятельным. Он продает сенаторское достоинство, командные посты в армии, наместничества, все начальнические места. Дион приводит острое словцо некоего совсем невидного человека — Юлия Солона, что, лишившись своего имущества, он был сослан в сенат. В своей алчности Клеандр дошел до того, что в одном году сменил 25 консулов, чего не бывало ни до, ни после того. Наживаясь везде, где только можно было, имея в руках несметное богатство, Клеандр делал большие подношения императору и его наложницам; он тратил деньги и на постройки, в частности на бани и другие сооружения, полезные частным лицам и городам (LXXII, 12). Поднявшись так высоко, Клеандр внезапно пал. Во время недостатка хлеба Папирий Дионис, стоявший во главе cura annonae, старался еще более увеличить бедствия, чтобы раздуть нелюбовь народа к Клеандру. На ипподроме были конные состязания. В определенный момент (Дион указывает в какой именно) на ипподром вбегает толпа детей и рослая, грозного вида девушка, которую впоследствии на основании всего того, что случилось, считали явившейся богиней. Раздаются страшные крики детей. Народ бросается к ним и, выкрикивая все, что можно только себе представить, бежит к Коммоду, проживавшему тогда на вилле Квинтилиев. В своих возгласах народ желает всякого добра Коммоду и проклинает Клеандра. Последний высылает против народа воинов, которые кое-кого убивают и ранят. Тем не менее народ, полагаясь на свою численность и поддерживаемый преторианцами, продолжает идти вперед. Ничего не подозревающему Коммоду открывает глаза на происходящее наложница Марция. Немедленно император дает распоряжение {170} убить воспитывавшегося у него ребенка Клеандра, а самого его выдать народу. В конце — поругание Клеандра, его смерть и убийство близких к нему людей (LXXII, 13).
Очень сжато (видимо, со слов Мария Максима) Лампридий (SHA, vita Commodi, 6—7) говорит о действиях Клеандра, особенно подчеркивая обиды, нанесенные им сенаторскому сословию. По его наущению в состав сената включались даже вольноотпущенники, наместничество в провинциях он продавал за деньги, многих знатных лиц довел до казни и т.д. Конец Клеандра описан очень кратко: когда вследствие козней Клеандра был казнен по ложному доносу Аррий Антонин, Коммод, будучи не в состоянии выносить ненависть неистовствовавшего народа, отдал Клеандра на растерзание черни.
При всей близости трех рассказов и в больших линиях, и в общей настроенности рассказ Геродиана обнаруживает некоторые отклонения от двух других. Ему чужды точные указания времени и места, имеющиеся у Диона. Ему не нужен Папирий Дионис, махинации которого имели целью еще больше очернить Клеандра в глазах народа: Геродиан, как и народная масса, и без усилий Папирия Диониса верит в виновность Клеандра; для них важны были факты, ложившиеся черным пятном на память поверженного любимца императора. Одна деталь особенно обращает на себя внимание. Из состояния неведения Коммода выводит женщина, но у Геродиана это — сестра императора, а у Диона — наложница Марция. Скорее всего, близкий к высоким сферам Дион сообщает истину, а Геродиан передает распространенные в народе слухи, расцвечивая сцену всеми доступными ему риторическими украшениями. Народная молва могла предоставить большую роль в гибели Клеандра именно Фадилле, вдове погубленного некогда Клеандром Бирра (Бурра)[31].
В качестве третьего примера можно заняться рассказами о смерти Коммода. В изображении Геродиана, наскучив мольбами Марции, Лэта и Эклекта не ронять своего достоинства переселением накануне Нового года (193 г.) в гладиаторскую казарму с тем, чтобы оттуда совершить свой новогодний выход в виде гладиатора (I, 16,4—5), Коммод пишет на табличках из липы приказ умертвить этих трех лиц и вместе с ними многих {171} других. Приказ он оставляет на своей постели (хотя, надо сказать, один из обреченных — кубикулярий Эклект — имел по своей должности доступ в императорскую спальню). Таблички находит маленький мальчик, любимец императора Филокоммод, и, играя, уносит с собой. Встретившая и принявшаяся ласкать его Марция отнимает таблички, боясь, как бы он не унес что-нибудь нужное. Ознакомившись с содержанием написанного и придя в ужас, она посылает за Эклектом. Последний по прочтении пересылает их Лэту. Принимается решение немедленно действовать — добавить яду в первый бокал вина, который обычно замешивала для Коммода Марция. Отравление не удалось из-за рвоты, которая была результатом либо извержения пищи, уже ранее переполнившей желудок, либо действия противоядия, «какое обычно принимают государи перед всякой едой». Опасаясь, как бы Коммод после удаления яда из его организма не протрезвел и не погубил их, заговорщики впускают к нему некоего Нарцисса, крепкого и цветущего молодого человека, который, получив от них щедрые обещания, задушил Коммода (I, 17,1—11). Так представляет дело Геродиан со свойственным ему мастерством рассказчика.
Дион (в передаче Ксифилина) гораздо суше и короче. Накануне Нового года Коммод задумал убить обоих намеченных консулов — Эриция Клара и Соссия Фалькона, чтобы объявить себя единственным консулом и выступить в этом качестве в новом году в виде гладиатора из гладиаторской казармы. Не только недостойное поведение императора, но и его постоянные угрозы заставили Лэта и Эклекта составить заговор, в который они вовлекли и Марцию. Марция подает Коммоду отравленную говядину. Отравление не удается из-за рвоты. Заподозрив недоброе, Коммод принимается угрожать. Тогда заговорщики посылают за гимнастом Нарциссом, который и задушил Коммода в то время, когда тот мылся (LXXII, 22).
Очень краткое, всего в несколько строк, лишенное подробностей сообщение Лампридия (vita Commodi, 17,1—2) сводится к тому, что расточительство и вообще поведение Коммода побудили Лэта и Марцию составить заговор с целью умертвить императора. Сначала ему дали яду, а когда он не подействовал, позвали атлета, с которым Коммод обычно упражнялся; по приказу участников заговора атлет задушил императора.
Как ни кратко сообщение Лампридия, в нем можно заметить то общее с рассказом Диона, что Марция у обоих авторов хотя и является участницей заговора, но не выдвинута на пер-{172}вый план, как это имеет место у Геродиана. Яд в вине у Геродиана, в говядине у Диона может быть отнесен за счет слухов, ходивших в более близкой и более далекой от двора среде. Мы не будем удивляться тому, что Геродиан выбрал (если только ему действительно пришлось выбирать) более эффектный вариант — с замешиванием вина.
Гораздо интереснее, однако, другое. Отсутствующий в этом месте у Диона рассказ о приказе на табличках и случайном обнаружении его заинтересованными лицами имеется у Диона, как оказывается, в истории Домициана. Перечислив участников заговора против этого императора, историк называет среди них ненавидевшую мужа и опасавшуюся за свою жизнь императрицу Домицию. Дальнейшее снабжено ссылкой «Я слышал и то…». Домициан записал на двойной липовой дощечке имена тех, кого он намеревался предать смерти, и положил дощечку под подушку у себя на постели. Маленький ребенок во время его сна взял, ничего не подозревая, этот приказ. Встретившая его Домиция отняла записку, прочла ее и показала другим, что и повело к ускорению действий заговорщиков (LXII, 15).
Сходство рассказов Геродиана и Диона, несмотря на незначительные разногласия, разительное. Не будем следовать за теми, кто хочет видеть здесь некоторый подлог Ксифилина, перенесшего будто бы рассказанный Дионом эпизод из одной эпохи в другую (от Коммода к Домициану). Перед нами, несомненно, два варианта одного и того же рассказа, приуроченные к жизнеописаниям двух разных императоров, отделенных друг от друга почти столетним промежутком времени. Как бы невысоко мы ни расценивали историческую достоверность труда Геродиана, сколько бы мы не уличали его в неточностях, неполноте, непонимании, отдельных ошибках, стремлении бить на эффект, это не даст нам права говорить о грубой фальсификации и сознательной перетасовке событий. Историю с ребенком Филокоммодом Геродиан узнал из устного рассказа, так же как узнал свою историю о безымянном ребенке Дион. В год смерти Коммода Диону могло быть немного более 30 лет[32]. Он мог до этого, или в это время, или даже позднее услышать такой рассказ об императоре Домициане. Одновременно с этим могла бытовать известная нам из Геродиана версия о Коммоде, сконструированная по аналогии с рассказом о Домициане. Аналогичная ситуация могла возродить старое предание, притянуть его к новому событию и спо-{173}[*]
данием Геродиан, естественно, должен был ухватиться за занимательный рассказ[33].
Благодарной темой для историко-филологического истолкования сообщений Геродиана было бы сравнение их с сообщениями Кассия Диона и SHA. Очень полезны существующие работы, где производится сравнительный анализ таких сообщений с точки зрения их достоверности. Однако не менее полезными и продуктивными были бы сравнения под другим углом зрения: выяснение генезиса рассказов на фоне интересов создавших их слоев общества, отношения их к действующим лицам рассказов, наконец, и личных позиций авторов. В результате может получиться материал для общей оценки Геродиана как исторического источника[34]. {174}
Абгар, царь Осроены, III, 9, 2;
Август, титул римского императора, II, 8,6; 10,9; 12,6; III, 2,9; 3,3; 9,1; V, 2,1; VI, 8,4; 9,6; VII, 5,3; 5,7; 7,2; 10,5;
Август, Октавиан, римский император, I, 1,4; II, 11,5; III, 7,8; 13,3; VI, 2,4;
Августа, титул римской императрицы, V, 6,1; 8,8; VI, 1,9;
Адвент, М. Оклатиний, префект претория, IV, 12,1; 14,2;
Адиабена, княжество в Месопотамии, III, 9,3;
Адриан, П. Элий, римский император, I, 7,4;
Азия, римская провинции в Малой Азии, но название также относится ко всем римским провинциям к западу от Евфрата, III, 1,6; 2,2; 5—6; IV, 3,5; 8,3—6; VI, 2,2; 6; 4,5;
Аквилея, город в Италии, VIII, 2,2—6; 3,1—2; 7—8; 4,1—2; 4—10; 5,2—3, 5, 7; 6,2—4; 7,1—3; 7,7;
Александр Македонский, I, 3,2; III, 4,3; IV, 8,1—2; 6—7; 9; 9,3—4; VI, 2,2; 6;
Александр Север, римский император, V, 3,3; 10; 7,1—4; 8,2—6; 10; VI, 1,1—10; 2,1; 3—5; 3,1—7; 4,1—4; 6—7; 5,1—2; 4; 7—9; 6,1; 2—4; 6; 7,2— 3; 5—6; 8—10; 8,3—4; 7—8; 9,1—8; VII, 1,1; 3—4; 9; 2,2;
Александрия, город в Сирии, недалеко от Иссы, III, 4,3;
Александрия, город в Египте, IV, 3,7; 8,6—9,8; VII, 6,1;
Алексиан, родовое имя императора Александра Севера, V, 3,3; 7,3;
Альбанская гора, местность недалеко от Рима, VIII, 5,8;
Альбин, Д. Клодий, римский полководец и Цезарь, II, 15,1—5; III, 5,2—8; 6,2—8; 7,2—8; 8,1;
Альпы, горы на севере Италии, II, 11,8; III, 6,10; VIII, 1,5—2,1;
Альтин, город в Италии, VIII, 6,5;
Антигон, царь Македонии, I, 3,3;
Антоний, Марк, триумвир в 43 г. до н.э., III, 7,8; 13,3;
Антонин Пий, римский император, I, 7,4;
Антиохия, город в Сирии, II, 7,9; 8,7—6; 9; 10,7; 14,6; III, 1,3; 2,10; 3,3—4; 4,1; 6; 6,9; IV, 3,7; 8,6; 9,8; 13,8; 15,9; V, 1,1; 2,3; 4,1; VI, 4,3; 6,2—4; 6,6;
Анхис, миф., отец героя Энея, предок М. Ацилия Глабриона, II, 3,4;
Аполлон, греческий бог, VIII, 3,8;
Аравия, III, 9,3;
Армения, III, 1,2; 2,6; 9,2; VI, 5,1; 5,5; VII, 2,1;
Артабан, царь Парфии, III, 9,9—11; IV, 10,1—5; 1 1,1—4; 13,3; 14,1; 15,1—9; VI, 2,1; 2,7; 3,5;
Артаксеркс, греческий вариант имени Ардашира, царя Персии, основателя династии Сасанидов, VI, 2,1—2; 2,3—7; 3,5; 4,4—5; 5,5—6; 5,9—10;
Аршак, царь Парфии, VI, 2,7;
Аршакиды, династия царей Парфии, IV, 10,5;
Асклепий, бог врачевания, IV, 8,3;
Астроарха, финикийское имя богини Урании, V, 6,4;
Атрена, греческое название месопотамского княжества Хатры, III, 1,2—3; 5,1; 9,1; 3—7; 9;
Ахиллес, миф. герой, IV, 8,4—5; 9,3;
Бальбин, римский император, VII, 10,3—5; 7—9; 12,2—3; VIII, 6,2; 6; 8; 7,4—6; 8; 8,1—8;
Барсемий, царь Хатры, III, 1,3; 9,1;
Бассиан, имя императора Каракаллы, III, 10,5; имя императора Гелиогабала, V, 3,3; 6; {264}
Белен, местный бог в Аквилее, VIII, 3,8;
Берит, город в Сирии, III, 3,3;
Британия, римская провинция, II, 15,1; 5; III, 6,6; 7,1—3; 8,2; 14,1—10; 15,6—8;
Британик, брат императора Нерона, IV, 5,6;
Вериссим, М. Анний Вер, сын императора Марка Аврелия, I, 2,1;
Веста, римская богиня, I, 11,4; 14,4;
Весталки, жрицы Весты, I, 11,4—5; 14,5; IV, 6,2; 4;
Византий, город на европейском берегу Босфора, III, 1,5—7; 2,1; 6,9; IV, 3,6; V, 4,11;
Виталиан, префект претория, VII, 6,4—8; 8,6;
Вифиния, римская провинция в Малой Азии, III, 2,6; 9; 3,1; IV, 3,6; 8,6; V,4,11;
Галатия, римская провинция в Малой Азии, III, 2,6; 3,1;
Галл, река во Фригии, I, 11,2;
Галликан, консуляр, VII, 11,3—7;
Галлия, III, 8,2; 15,8;
Ганимед, миф. герой, I, 11,2;
Ганнибал, карфагенский полководец, IV, 8,5;
Гелиогабал, сирийский бог, V, 3,3—6; 5,6—7; 6,3—10;
Гелиогабал, прозвище М. Аврелия Антонина, римского императора, V, 3,2—3; 6—12; 4,2—11; 5,1; 3—4; 5,6—6,10; 7,1; 3—7; 8,1—10; VI, 1,1;
Гема, греческое название города Гемона в Италии, VIII, 1,4;
Геракл, мифологический герой, I, 14,8; 9; 15,8;
Германик, почетный титул, I, 15,9; имя брата императора Тиберия, IV, 5,6;
Германия, германцы, I, 3,5; 5,8; 6,5; 6; 8—9; 13,2; 15,7; II, 1,4; 2,8; 4,3; 9,1; 9; 10,5; IV, 7,3—4; 13,6; VI,7,2—6; 8—10; 8,3; VII,1,5—8; 2,1—9; 3,1; 8,4; VIII,1,3; 4,3; 6,6; 7,8; 8,2; 5; 7; 10;
Гета, П. Септимий, римский император, соправитель Каракаллы, III, 9,1; 10,3—4; 13,6; 14,9; 15,4; IV, 3,2—3; 5—8; 4,3; 6; 8; 5,4; 5,6-6,4; 9,2—3; 13,8;
Глабрион, сенатор, II, 3, 3-4;
Гордиан I, М. Антоний Семпрониан, римский император, VII, 5,2—8; 6,1—7; 9; 7,2; 8,5; 7; 9,2; 4—5; 9—10; 10,1; 5—8; VIII, 1,1; 6,3;
Гордиан II, М. Антоний Семпрониан, сын Гордиана I, римский император, VII, 7,2; 9,5; 7; VIII, 6,3;
Гордиан III, М. Антоний, внук Гордиана I, римский император, VII, 10,7—9; VIII, 6,2; 7,8; 8,7—8;
Греция, греки, I, 2,3; 3,3; 11,1; 16,2; II, 11,4; III, 2,8; V, 3,5; 5,4; 7,5; VII, 1,12;
Дарий, царь Персии, III, 4,3; VI, 2,2; 6;
Диадумениан, М. Опеллий Антонин, сын императора Макрина, Цезарь, V, 4,12;
Дидона, легендарная основательница Карфагена, V, 6,4;
Дионис, греческий бог, I, 3,3; V, 3,7;
Дионисий, тиран Сиракуз, I, 3,2;
Домициан, Т. Флавий, римский император, I, 3,4; IV, 5,6;
Европа, II, 8,7; 14,7; III, 1,6; IV, 3,5—6; V, 4,11; VI, 2,2; 4,5;
Евфрат, река в Месопотамии, II, 7,4; 8,8; VI, 5,2;
Египет, I, 17,6; VI, 4,7; VII, 6,1;
Иберы, племя в Испании, I, 10,2;
Ил, миф. герой, I, 11,2;
Илион, город в Малой Азии, I, 14,4; IV, 8,4—6;V,6,3;
Иллирия, иллирийцы, 1, 9,1; 4; II, 8,10; 9,1; 8—9; 10,1; 8—9; 11,7; 9; 13,10; 14,6; 15,5; III, 1, 1; 2,2; 4,1; 5; 7,2; VI. 4,3; 6,2; 7,2-3; 4; VIII, 2,3; 5,6; {265}
Индия, I, 15,5;
Иокаста, легендарная мать Эдипа, IV, 9,3;
Иония, область в Малой Азии, VI, 2,2; 4,5;
Ионийский залив, название Адриатического моря, VIII, 1,5;
Исс, город в Сирии, III, 4,2—5;
Истр, совр. Дунай, I, 6,1; 8; II, 9,1; IV, 7,2; 8,1; VI, 7,2:6—8;
Италия, италийцы, I, 6,2; 7,2—3; 9,9; 12,1; 14,4; 15,1; 16,1—2; II, 1,4; 4,6; 6,10; 11,3—6; 8; III ,8,10; 14,6—7; IV, 7,2; V, 6,5; VI, 3,1; 7,2; 4; VII, 8,8—9; 12,1; 8; VIII, 1,4—6; 2,1—4; 3,4; 7; 4,3; 8; 5,4—6; 8; 6,5; 7,2;
Кампания, область в Италии, III, 13,1;
Капеллиан, наместник Нумидии, VII, 9,1—11;
Капитолий, холм в Риме, IV, 8,1; VII, 10,5—8;
Капитолийские игры, I, 9,2; VIII, 8,3;
Каппадокия, римская провинция, III, 1,4; 3,1; 7;
Каракалла, М. Аврелий Антонин, римский император, III, 9,1; 10,3—5; 8; 11,1; 12,3—4; 10—12; 13,2; 6; 14,9; 15,1—2; 4—7; IV, 3,3— 7; 4,2—8; 5,1—7; 7—6,4; 7,1—8,6; 4— 7; 9; 9,1—8; 10,1—1 1,9; 12,2—5; 7— 8; 13,3—8; 14,2; 4—5; 15,8; V, 1,1— 3; 6; 2,1—2; 5; 3,2; 10—11; 4,3—4;
7,3; VI, 3,6;
Кария, область на юге Малой Азии, VI, 2,2; 4,5;
Карры, город в Месопотамии, IV, 13,3;
Карфаген, город в Африке, V, 6,4; VII, 6,1—2; 4,2—3; 8,5; 9,1—10; 11,3;
Квартин, консуляр, VII, 1,9—10;
Квинтиан, молодой сенатор, I, 8,5—6;
Кельты, I, 10,2;
Кизик, город в Малой Азии, III, 2,1— 2; 6; 9;
Киликия, область. в Малой Азии, III, 1,4; 3,8;
Кир, царь Персии, VI, 2,2;
Клеандр, вольноотпущенник императора Коммода, I, 12,3—8; 13,1; 4; 6;
Кодрат, молодой аристократ, 1, 8,4— 5; 8;
Коммод, М. Антонин, римский император, I, 2,1; 3,5; 5,1—8; 6,1—4; 7— 9; 7,1—5; 8,1—8; 9,1; 3—5; 8—10; 11,5; 10,1—7; 12,3; 6; 13,1—8; 14,7— 9; 15,1—9; 16,1; 3—5; 17,1—12; II, 1,1—2,7; 4,4; 7; 5,1; 7—8; 6,10—11; 10,3; III, 2,4; IV, 6,3; V, 1,6; 6,2;
Криспин, Рутилий Пуденс, командующий в Аквилее, VII, 2,5; 3,4— 7;
Криспина, Бруттия, жена императора Коммода, I, 8,4;
Кронос, греческий бог, I, 16,1;
Ктесифон, город в Парфии, III, 9,9— 11;
Лаодикея, город в Сирии, III, 3,3; 5; 6,9;
Лаврент, город в Италии, I, 12,2;
Лаций, область в Италии, I, 16,2;
Лет, Кв. Эмилий, префект претория, I, 16,5; 17,4; 17,7—11; II, 1,3—9; 2,1; 2,5; 9;
Лет, полководец Севера, III, 7,3—5;
Ливия, ливийцы, II, 9,2; III, 10,6; IV, 3,7; 8,5; V, 6,4; VI, 1,10; VII, 4,1, 3—4; 5,8; 6,3; 9,4; 11; 12,9; VIII, 1,1;
Лугдун, город в Галлии, III, 7,2—7;
Луны храм, в Каррах, IV, 13,3;
Луций Вер, римский император, соправитель М.Аврелия, I, 8,3; IV, 5,6; VI, 2,4;
Луцилла, дочь императора М. Аврелия, I, 6,4; 8,3—4; 8; IV, 6,3;
Мавритания, мавританцы, I, 15,2; 5; III, 3,4—5; IV, 15,1; 3,7; VI, 7,8; VII, 2,1; 9,1; 3; VIII, 1,3;
Магн, консуляр, VII, 1,5—8; {266}
Македон, командир осроенских стрелков, VII, 1,10—11;
Македония, македонский, I, 3,3; III, 2,8; IV, 8,1—2; 9,4; V, 7,3; VI, 2,2; 6—7;
Макрин, М. Опеллий, римский император, IV, 12,1—2; 5—8; 13,1—2; 7— 8; 14,2—8; 15,1; 6—9; V, 1,1—3,2; 11; 4,1—2; 4—12; 5,2;
Максим, М. Клодий Пупиен, римский император, VII, 8,5; 10,3—9; 12,1; VIII, 6,2; 6—7; 7,1—8; 8,1—8;
Максим, Юлий Вер, сын императора Максимина и соправитель, VIII, 4,9; 5,2; 9; 6,6—7;
Максимин, Юлий Вер, римский император, VI, 8,1—2; 4—7; 9,1; 5—7; VII,1,1—12; 2,1—9; 3,1—6; 4,1—2; 5,1; 5; 8; 6,1; 3; 6,6; 6,9—7,6; 8,1— 11; 9,1; 3—5; 11; 10,1; 11,2; 12,1; 8—9; VIII, 1,1—6; 2,1—2; 4; 3,1—3; 5—6; 8—9; 4,1—6; 8—9; 5,1—9; 6,2—7; 7,7;
Мамея, Юлия, дочь Месы, мать императора Александра Севера, V, 3,3; 7,1; 3; 5; 8,3; 10; VI, 1,1; 5; 8—10; 5,8; 8,3; 9,4—8;
Марий Гай, римский полководец, III, 7,8;
Марк Аврелий, Антонин, римский император, I, 1,4—5; 2,1—5; 3,1—2; 5; 4,1—8; 5,1; 6—7; 6,1; 3—4; 7,4; 8,1—3; 14,8; 17,12; II, 1,4; 7; 4,2; 9,9; 10,3; 14,3; III, 10,5; IV, 1,4; 5,6; 6,2—3; V, 1,8; 2,4; VI, 1,7;
Марсово поле, в Риме, IV, 2,6;
Марциалий, Юлий, центурион охраны Каракаллы, IV, 13,1—2; 5—7;
Марция, наложница Коммода, 1, 16,4; 17,4—11; II,1,3;
Матерн, лидер восстания в Галлии и Испании, I, 10,1—7; 11,5;
Матерниан, Флавий, префект Рима, IV, 12,4—6; 13,1;
Мать богов, малоазийская богиня, I, 10,5; 11,1—5;
Мезия, римская провинция, III, 10,1;
Менофил, Туллий, консуляр, VIII, 2,5;
Меса, Юлия, сестра Юлии Домны, бабка императоров Гелиогабала и Александра Севера, V, 3,2—3; 9— 11; 5,1; 5—6; 7,1—3; 8,2—4; 10; VI, 1,1; 4;
Месопотамия, область между реками Тигр и Евфрат, III, 9,3; IV, 11,8— 9; 13,3; 15,9; VI, 2,1; 5; 8,4; 6,4;
Меценат, сенатор, VII, 11,3;
Мидия, область в Парфии, V, 5,4; VI, 2,2; 5,1; 5; 7; 6,2; 5;
Нарцисс, вольноотпущенник императора Коммода, I, 17,11;
Нерон, римский император, I, 3,4; IV, 5,6;
Нигер, Песценний, римский полководец и император, II, 3,3; 7,3—5; 7—10; 8,1—8; 9,1; 10,6—7; 12,2; 14,5—7; 15,5; III, 1,1—7; 2,2—3; 5—6; 9—10; 3,1—5; 4,1—9; 5,1; 6; 6,4; 7,8; 8,6—7;
Никея, город в Малой Азии, III, 2,9; 10;
Никомедия, город в Малой Азии, III, 2,9; V, 5,3;
Нил, река в Египте, IV, 9,8;
Нумидия, римская провинция, IV, 3,7; VII, 9,1—3; 6;
Океан, I, 5,6; 6,6; VII, 2,9;
Осроена, княжество в Месопотамии, III, 9,2; VI, 7,8; VII, 1,9—10; 2,1;
Палладий, статуя, I, 14,4; V, 6,3—4;
Паннония, паннонцы, I, 3,1; II, 9,1— 2; 11—12; 11,3; III, 10,1; VI, 7,6; 8,3; VII, 2,9; 3,4; 8,11; VIII, 2,2; 6,1;
Парфия, парфяне, I, 15,2; III, 1,2; 5,1; 9,8—12; IV, 10,2—11,9; 14,6—7; 15,1—4; 6—7; V, 1,4; VI, 2,1; 7; 5,6— 7; 6,5; 7,8; VII, 2,1;
Патрокл, мифологический герой, IV, 8,4—5;
Пергам, город в Малой Азии, IV, 8,3;
Переннис, префект претория, I, 8,1— 2; 8; 9,1; 4—10;
Перинф, город во Фракии, III, 6,9; {267}
Персия, персы, VI, 2,2—4; 6—7; 3,5—7; 4,4—6; 5,2—5; 7; 9—10; 6,4—6; 7,1;3; VII, 8,4;
Пертинакс, П. Гельвий, римский император, II, 1,3—4; 7; 10; 2,2; 4—5; 8—9; 3,1—11; 4,1—9; 5,1—9; 6,1; 9; 7,5; 9,5—6; 8—9; 10,1; 4; 9; 13,1;
12; 14,3; III, 1,1; IV, 6,3; V, 8,1; VIII, 8,2;
Пессинунт, город во Фригии, I, 11,1— 5;
Плавтиан, Фульвий, префект претория, III, 10,5—8; 11,1—4; 8; 12,3—4; 10; 12;
Плавтилла, (в тексте не названа по имени), дочь Плавтиана, жена императора Каракаллы, III, 10,5— 7; 13,2—3; IV, 6,3;
Победа, богиня, V, 5,7; VII, 11,3;
Помпей Гней, римский полководец, III,7,8;
Помпеян, Т. Клавдий, сенатор, I, 6,4—7; 8,3—4;
Понт, совр. Черное море, VI, 4,5;
Пропонтида, совр. Мраморное море, III, 1,5; IV, 3,6; 8; V, 4,11; VI, 2,2;
Птолемей, царь Египта, I, 3,3;
Равенна, город в Италии, VIII, 6,5; 7,1;
Рейн, река в Германии, II, 9,1; VI, 7,2; 6—8;
Ромул, легендарный основатель Рима, IV, 5,5;
Сабин, префект Рима, VII, 7,4;
Сатурналии, праздник в Риме, I, 16,1—2; II, 2,2;
Сатурнин, трибун преторианской гвардии, III, 11,4—9; 12,1—8;
Сарматы, племя на Дунае, VII, 8,4;
Священная улица в Риме, I, 14,5; II, 9,5; IV, 2,4; VII, 6,9;
Север, Л. Септимий, II, 9,2—5; 7—8; 10—12; 10,1—9; 13; 11,1—3; 6; 12,1— 6; 13,1; 5—9; 12; 14,1—7; 15,1—7; III, 1,1; 2,1—7; 9—10; 3,1—3; 6—8; 4,1—5; 7; 5,1—8; 6,1—8; 10; 7,2—8; 8,1—5; 6—10; 9,1—12; 10,1—2; 6; 11,1; 3—4; 12,1—4; 9—10; 13,1—6; 14,1—10; 15,1—3;5;8; IV, 1,1;3—4; 2,1—3,1; 4,7; 13,8; V, 3,2; VI, 2,4; 3,6; VIII, 8,2;
Сирия, сирийцы, II, 7,9; 10,6-8; III, 2,3; 3,3—6; 7,4; 11,8; V, 4,6; 5,3; VI, 2,1; 4,5; 7;
Сирмий, город в Паннонии, VII, 2,9;
Сицилия, I, 3,2; III, 13,3; IV, 6,3;
Соэмия, Юлия, мать императора Гелиогабала, V, 3,3; 8,8—10;
Сулла, Л. Корнелий, римский полководец и диктатор, III, 7,8; IV, 8,5;
Сульпициан, Т. Флавий, префект Рима, II, 6,8—9;
Тавр, горы в Малой Азии, III, 1,4; 2,6; 10; 3,1—2; 6—8;
Тантал лидийский, миф. герой, I, 11,2;
Тиберий, римский император, IV, 5,6;
Тибр, река в Риме, I, 11,3; V, 8,9;
Тигр, река в Месопотамии, II, 8,8; III, 4,7; VI, 2,1; 5,2;
Тир, город в Финикии, III, 3,3; 5;
Тирренское море, VIII, 1,5;
Тистра, город в Африке, VII, 5,7; 6,1;
Тит, Флавий Веспасиан, римский император, IV, 5,6;
Траян, М. Ульпий, римский император, I, 7,4; VI, 2,4;
Урания, римская богиня, V, 6,4—5;
Фадилла, дочь императора Марка Аврелия, I, 13,1—4;
Фарос, название маяка, IV, 2,8;
Фаустина, дочь императора Марка Аврелия, I, 7,4;
Фест, секретарь императора Каракаллы, IV, 8,4—5;
Филокоммод, мальчик-любимец императора Коммода, I, 17,3—4;
Финикия, финикийцы, II, 7,4; III, 3,3; V, 3,4; 9; 4,6; 5,4; 9—10; 6,4; 9;
Форум, в Риме, II, 9,6; {268}
Фракия, римская провинция, II, 14,6; III, 1,5; IV, 8,1; VI, 8,1; VII, 1,2; VIII, 6,1;
Фригия, область в Малой Азии, I, 11,1—3; 12,3; VI, 4,6;
Халкедон, город на Азиатском берегу Босфора, IV, 3,6; V, 4,11;
Цезарь, титул наследников императоров, II, 15,3; III, 5,2; 7,8; V, 4,12; 7,1; 4; 8,4; VII, 10,9; VIII, 4,9; 6,2; 7,8; 8,7;
Цезарь, Гай Юлий, III, 7,8;
Эклект, вольноотпущенник императора Коммода, I, 16,5; 17,4; 6— 11; 11,1,3—7; 10; 2,5;
Эмеса, город в Сирии, V, 3,2—5; 9;
Эмилиан, Аселлий, наместник в Азии, полководец Нигра, III, 2,2;3;
Эней, миф. основатель Рима, I, 11,3; II, 3,4;
Эридан, река в Италии, VIII, 7,1;
Эфиопия, I, 15,5;
Юлиан, М. Дидий, римский император, II,6,6—11; 13; 7,1—3; 5—6; 8,5; 10,4—5; 11,7—9; 12,1—7; 13,1; III, 1,1; 2,4; 7,8;
Юлиан, Ульпий, префект претория, V, 4,3—4;
Юлия Домна, жена императора Септимия Севера, III, 15,6; IV, 3,4—5; 8—9; 4,3; 5,4; 6,3; 9,3; 13,8; V, 3,2;
Юпитер, греч. Зевс, бог, I, 7,6; 11,1—2; 14,8; 16,1; II, 3,11; 14,2; III, 8,4; IV, 5,7; VII, 10,2—3; {269}