Иван Гончаров
И А Гончаров в воспоминаниях современников
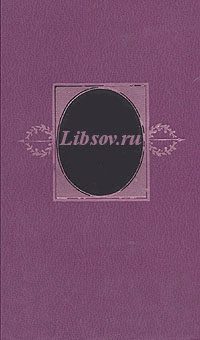
И. А. Гончаров в воспоминаниях современников
Содержание:
И. И. Панаев. Воспоминание о Белинском. (Отрывок)
А. В. Старчевский. Один из забытых журналистов. (Отрывок)
А. Я. Панаева. Из "Воспоминаний"
М. М. Стасюлевич. Иван Александрович Гончаров
П. Д. Боборыкин. Творец "Обломова"
А. М. Скабичевский. Из "Литературных воспоминаний"
Е. П. Левенштейн. Воспоминания об И. А. Гончарове
А. Ф. Кони. Иван Александрович Гончаров (Из "Воспоминаний о писателях"
М. В. Кирмалов.Воспоминания об И. А. Гончарове
К. Т. Современница о Гончарове (Е. П. Майкова)
A. П. Плетнев. Три встречи с Гончаровым
И. И. Панаев
ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ
(Отрывки)
Расскажу об одном вечере (это уже было года два или три после смерти Белинского) у А. А. Комарова, на котором присутствовал Гоголь. Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем. Я познакомился с ним летом 1839 года в Москве, в доме Сергея Тимофеевича Аксакова. В день моего знакомства с ним он обедал у Аксаковых и в первый раз читал первую главу своих "Мертвых душ". Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением Он благоговел перед его талантом Мы все также разделяли его нетерпение. В ожидании Гоголя не пили чай до десяти. часов, но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному столу без него.
Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые "Письма" писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами.
От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина.
- Чем же вас угощать, Николай Васильевич? - сказал наконец в отчаянии хозяин дома.
- Ничем, - отвечал Гоголь, потирая свою бородку. - Впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги.
Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты... Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.
Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.
- Сейчас подадут малагу, - сказал хозяин дома, - погодите немного.
- Нет, уж мне не хочется, да к тому же поздно...
Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы.
Не знаю, как другим, - мне стало как-то легче дышать после его отъезда.
Но обратимся к Белинскому...
К нему часто сходились по вечерам его приятели, и он всегда встречал их радушно и с шутками, если был в хорошем расположении духа, то есть свободен от работы и не страдал своими обычными припадками. В таких случаях он обыкновенно зажигал несколько свечей в своем кабинете. Свет и тепло поддерживали всегда еще более хорошее расположение его духа.
Его небольшая квартира у Аничкина моста в доме Лопатина, в которой он прожил, кажется, с 1842 по 1845 год, отличалась, сравнительно с другими его квартирами, веселостью и уютностью. Эта квартира и ему нравилась более прежних. С нею сопряжено много литературных воспоминаний. Здесь Гончаров несколько вечеров сряду читал Белинскому свою "Обыкновенную историю". Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым. Надобно сказать, что Гончаров, зная близкие отношения Языкова с Белинским, передал рукопись "Обыкновенной истории" Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее. Языков с год держал ее у себя, развернул ее однажды (по его собственному признанию), прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: "Кажется, плоховато, не стоит печатать". Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам.
Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил:
- Ну что, Языков, ведь плохое произведение - не стоит его печатать?..
А. В. Старчевский
ОДИН ИЗ ЗАБЫТЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОГО ЛИТЕРАТОРА)
(Отрывок)
У стариков Майковых, родителей Аполлона Николаевича, было довольно знакомых молодых людей, которые собирались к ним по воскресеньям к обеду или вечером; бывали и дамы. Все это был народ comme il faut, и это была для Дудышкина первая школа, в которой он брал уроки общежития, и он действительно стал цивилизоваться и скоро усваивал себе все хорошее.
Следует сказать здесь без преувеличения, что Дудышкин всем обязан семейству Майковых, добрых и образованных людей. Тут он познакомился с Владимиром Андреевичем Солоницыным, завсегдатаем Майковых, бывшим правителем канцелярии департамента внешней торговли и в то же время помощником О. И. Сенковского по редакции "Библиотеки для чтения", с И. А. Гончаровым, служившим у Солоницына переводчиком, с М. П. Заблоцким-Десятовским, П. М. Цейдлером н другими лицами, родственными Майковым, которые впоследствии имели влияние на всю его жизнь.
Это было во всех отношениях прекрасное и образцовое семейство вроде тех, о каких мечтали во французских и английских повестях, где описывались семейства Ван-Дика, Чимарозы и других. Семейство Майковых состояло из шести членов, но, начиная с обеда до поздней ночи, там почти ежедневно собиралось порядочное общество. Глава семейства, сын известного в начале этого столетия директора императорских театров Аполлона Александровича Майкова, Николай Аполлонович Майков, отставной гусарский офицер, красивый брюнет, с открытым, добродушным характером, был женат на дочери московского золотопромышленника Гусятникова, Евгении Петровне, стройной, красивой брюнетке, с продолговатым аристократическим лицом, на которую был чрезвычайно похож второй сын Валериан. Н. А. Майков после женитьбы вышел в отставку и жил в Москве. Когда же пришло время воспитывать старших сыновей, он переселился в Петербург. (...) Тогда Николаю Аполлоновичу было уже под пятьдесят, супруге его Евгении Петровне за сорок. Были они люди в высшей степени радушные, симпатичные и гостеприимные. Старший сын, Аполлон Николаевич, еще очень молодой человек, похожий на отца, только в миниатюрном виде, рано обнаружил поэтический талант, который доставил ему известность впоследствии. Второй сын, Валериан, был наделен большими публицистическими способностями, но тогдашнее время обрезало ему крылья, а затем случайная смерть погубила весьма даровитого и способного юношу. Третий сын, так называемый старичок по своему тихому и спокойному нраву, Владимир Николаевич, менее даровитый, был тогда еще гимназистом. Четвертый - Леонид Николаевич - был тогда ребенком. (...)
Прибавьте ко всему этому милое, свободное, но всегда приличное обращение, откровенность, юмор, радушие хозяев и умение их поддерживать разговор, переплетая его оживленными эпизодами и отступлениями, и тогда вы получите довольно приблизительное понятие о том, какое значение имел в свое время дом Майковых для молодых людей, которым почему-либо приходилось сблизиться с его младшими членами. В этом кругу никогда не происходило ни пошлых разговоров, не сообщалось двусмысленных анекдотов, никто не осуждался, никто не осмеивался; а между тем всем было весело, привольно, занятно, и постоянные посетители неохотно брались за шляпы в три часа ночи, чтобы отправиться восвояси.(...)
...В семействе Майковых, по вечерам, в воскресенье и другие праздничные дни, когда собиралось много молодежи, часто происходили чтения чего-нибудь выдающегося в современной журналистике, с критическими и другими замечаниями, идущими к делу. Чтения эти введены были покойным Владимиром Андреевичем Солоницыным, о котором уже была речь выше, но со смертью его чтения эти почти прекратились, как вдруг Иван Александрович Гончаров, написав свою "Обыкновенную историю", заявил в один вечер, что, прежде чем отдать ее в печать, желал бы прочесть свое первое произведение у Майковых в несколько вечеров и выслушать замечания именно молодого, чуткого, откровенного и ничем не стесняющегося поколения; тем более что все слушатели были его ближайшие друзья и доброжелатели, и если бы в чем-нибудь замечания их оказались неверны, то их тут же и опровергнут.
В тот же день я получил от Владимира Аполлоновича Солоницына записку, в которой он приглашал меня прийти в шесть часов вечера слушать сочинение Гончарова, о существовании которого до тех пор никому не было известно. Вот содержание этой записки:
"Евгения Петровна (то есть Майкова), Валерьян и я купно советуем тебе прийти слушать повесть Ивана Александровича (то есть Гончарова), хотя к шести часам, иначе Иван Александрович рассердится, тем более что он читает повесть для тебя и Юнии Дмитриевны, которые не слыхали ее, а не для М-х (то есть Майковых), которые уже слышали ее дважды. Притом он, пожалуй, и не отдаст ее в твой журнал (тогда я имел в виду издавать "Русский вестник", который передавал мне С. Н. Глинка). Если ты не придешь, это его весьма обидит; ты знаешь, как он скрупулезен. Итак, убедительно советуем прийти к шести часам. Ответь хоть еловом.
В. Солоницын".
На другой день я явился в семь часов вечера к Майковым и застал там всех наших знакомых. Спустя четверть часа Иван Александрович начал читать свою повесть. Все мы слушали ее со вниманием. Язык у него хорош; она написана очень легко, и до чаю прочитано им было порядочно. Когда разнесли чай, начались замечания, но они были незначительны и несущественны. Вообще повесть произвела хорошее впечатление. Чтение продолжалось несколько вечеров сряду, и по мере ближайшего знакомства с повестью развивался и интерес; все яснее и яснее выходили лица. Конечно, замысел ее незатейлив, ничего сложного и запутанного не было; но по мере ближайшего знакомства с действующими лицами все чаще и чаще становились замечания; но это были замечания слишком молодых и неопытных еще людей, дамы тоже делали в эти замечания и свои вставки, также не имевшие никакого критического значения; старики вовсе не высказывались.
Жаль, что тогда среди нас не было ни одного человека с опытом и авторитетом, который знал бы, на что следовало обратить внимание, что изменить, сократить или развить Несмотря, однако, на самые легкие замечания молодежи, Иван Александрович обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валериана Майкова, и решился сделать изменения в повести "Обыкновенная история" сообразно с указаниями молодого критика Конечно, Иван Александрович во время чтения своей повести при многочисленном обществе сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постояннно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк Но все же переделка эта потребовала немного времени, потому что спустя несколько дней опять назначено было вторично прослушать "Обыкновенную историю" в исправленном виде, я снова получил приглашение, но не мог им воспользоваться, потому что редактор "Журнала министерства народного просвещения", Константин Степанович Сербинович, прислал мне какую-то спешную работу; а так как он был человек в высшей степени аккуратный и всегда означал, к какому дню статья должна быть готова и доставлена ему на дом лично, поэтому я не был на вторичном чтении повести Гончарова.
Героем для повести Гончарова послужил его покойный начальник Владимир Андреевич Солоницын и Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский, брат которого, Михаил Парфенович, бывший с нами в университете и знакомый Ивана Александровича, близко познакомил автора с этой личностью Из двух героев, положительных и черствых, притом не последних эгоистов, мечтавших только о том, как бы выйти в люди, составить капиталец и сделать хорошую партию, Иван Александрович выкроил своего главного героя.
Племянничек с желтыми цветами составлен из Солика (племянника В. А. Солоницына - Владимира Аполлоновича Солоницына) и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского; а прощание с матерью, приготовление к отъезду и первое впечатление, произведенное на племянничка Петербургом, - это описание своего отъезда из родного гнезда и приезд в Петербург.
Антон Иванович - это тоже лицо, мне хорошо знакомое; для этого господина материалом послужил, во-первых, Владимир Андреевич Солоницын, а во-вторых, действительный Антон Иванович, знакомый Дудышкина, целых сорок лет заведовавший делами Новинских, торговцев мехами, и к которому во всех делах обращался за советом Степан Семенович Дудышкин, не придавая, однако, этим советам большого значения.
"Исторический вестник", 1886, Л3
А. Я. Панаева
ИЗ "ВОСПОМИНАНИЙ"
С первого же года "Современнику" повезло. В февральской книжке 1847 года 1} был напечатан роман Гончарова "Обыкновенная история", имевший огромный успех. Боже мой! Как заволновались любознательные литераторы! Они старались разведать настоящую и прошлую жизнь нового писателя, к какому сословию он принадлежит по рождению, в какой среде вращается и т. п. Многие были недовольны сдержанностью характера Гончарова и приписывали это его апатичности. Тургенев объявил, что он со всех сторон "штудировал" Гончарова и пришел к заключению,, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы, "он даже как-то боится разговаривать о них, чтоб не потерять благонамеренность чиновника. Такой человек далеко не пойдет! Посмотрите, что он застрянет на первом своем произведении".
Странно, что предсказания Тургенева о литературной будущности его современников почти никогда не оправдывались...
Я забыла упомянуть, что в 1847 году, не помню, в каком месяце, в Петербурге проездом был Гоголь 2}. Он изъявил Панаеву желание приехать к нему вечером посмотреть на молодых сотрудников "Современника", причем, конечно, сделал свою обычную оговорку, чтобы ни посторонних лиц, ни дам не было. За час до прибытия Гоголя в кабинете Панаева собрались Гончаров, Григорович, Кронеберг и еще кто-то, а из старых московских знакомых Гоголя были Боткин и Белинский. Гоголь просидел недолго; когда он уехал, я вошла в кабинет и заметила, что у всех на лицах было недоумевающее выражение и все молчали, один Белинский, расхаживая по комнате, находился в возбужденном состоянии и говорил:
- Не хотел выслушать правды - убежал!.. Еще лучше. Я в письме изложу ему все!.. Нет, с Гоголем что-то творится... И что за тон он принял на себя, точно директор департамента, которому представляют его подчиненных чиновников... Зачем приезжал?
На другой же день вечером Белинский пришел к Панаеву и прочитал свое известное теперь письмо к Гоголю 3}. При чтении письма находилось несколько человек приятелей, и копия с него тут же была списана. Письмо было передано частным образом Гоголю...
Когда было напечатано первое произведение Дружинина в "Современнике" 4}, то Тургенев говорил Некрасову и Панаеву:
- Положительно везет "Современнику"! Вот это талант, не чета вашему "литературному прыщу" 5} и вознесенному до небес вами апатичному чиновнику Ивану Александровичу Гончарову. Эти, по-вашему, светилы - слепорожденные кроты, выползшие из-под земли: что они могут создать? А у Дружинина знание общества; обрисовка Полиньки Сакс художественная, видишь гётевские тонкие штрихи, а никто в мире, кроме Гёте, не обладал таким искусством создавать грациозные типы женщин. Я прозакладываю голову, что Дружинин быстро займет место передового писателя в современной литературе.. И как я порадовался, когда он явился ко мне вчера с визитом-джентльмен!.. Надо, к сожалению, сознаться, что от новых литераторов пахнет мещанской средой...
Как вообще некоторые высшие сановники начали в это время смотреть на литературу, может служить доказательством следующее приглашение, полученное Панаевым, через И. А. Гончарова, от попечителя Петербургского учебного округа, князя Щербатова:
"Князь Щербатов поручил мне просить вас, любезнейший Иван Иванович, пожаловать к нему в пятницу вечером и жаловать в прочие пятницы. Там, кажется, будут и другие редакторы и литераторы, с которыми со всеми он хочет познакомиться. Только он просит извинить его, что за множеством дел и просителей он не может делать визитов. Вечер же-самое удобное время, говорит он, даже когда понадобится объясниться по журнальным делам. Он спрашивал меня, кто теперь есть здесь из наших литераторов (разумеется, порядочных). Я назвал П. В. Анненкова, Григоровича, Толстого; он усердно приглашает и их. О Василии Петровиче Боткине я не упомянул, потому что не знал о приезде его. Помогите склонить их поехать к князю, там они найдут немало наших. А как давно с вами не видались; не увидимся ли во вторник, а не то так в субботу у Языкова?
Ваш Гончаров
Князь считает вас уже за знакомого и ожидает к себе без церемоний".
А. Я. Панаева: Примечания
(А. Д. Алексеев, О. А. Демиховская)
Панаева Авдотья Яковлевна, по второму мужу Головачева (1820-1893) писательница, сотрудничавшая в "Современнике", автор очерков, повестей и романов, посвященных главным образом бесправному положению русской женщины. В соавторстве с Н, А. Некрасовым ею написаны романы "Три страны света" (1848) и "Мертвое озеро" (1851). А. Я. Панаева - автор "Воспоминаний", над которыми она работала в 80-х годах. Несмотря на имеющиеся в них ошибки и неточности, они, по словам А. Н. Пыпина, отражают "много справедливого при некоторых личных пристрастиях".
Впервые - "Исторический вестник", 1889, Л 4, стр. 49, 54; Л 7, стр.
47. Печатается по изданию: А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, Гослитиздат, М. 1956, стр. 168, 174, 183-184, 267.
1} Роман "Обыкновенная история" печатался в ЛЛ 3 и 4 (март, апрель) "Современника" за 1847 год.
2} В 1847 году Гоголь в Петербурге не был.
3} Знаменитое письмо В. Г. Белинского к Гоголю было написано в июле 1847 года в Зальцбрунне. Не исключена возможность, что Белинский мог читать письмо у Панаева в 1847 году по возвращении из Зальцбрунна.
4} Повесть "Полинька Сакс" ("Современник", 1847, Л 12).
5} Имеется в виду Ф. М. Достоевский, о котором в эпиграмме, сочиненной Некрасовым и Тургеневым, имелись строки:
Рыцарь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.
М. М. Стасюлевич
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
И. А. Гончаров после кратковременной болезни - около трех недель скончался в двенадцатом часу дня 15 сентября. Самая кончина его наступила так тихо, что в первое время окружающие приняли смерть за сон, последовавший немедленно по удалении врача, как это уже случалось не раз и прежде.
Мы навестили Ивана Александровича на его даче в Петергофе в последний раз 25 августа и нашли его здоровье в таком удовлетворительном положении, в каком давно уже не случалось нам его видеть. О значительном восстановлении его сил за лето можно было судить уже по тому, что он не только рассказал нам о том,, сколько он "наработал" летом, но даже мог взять на себя труд прочесть один из трех очерков, продиктованных им в течение летних месяцев 1]. Если он тут же передал нам свои желания относительно этих рукописей- "на случай смерти" - и собственноручно повторил тоже на обертке рукописей, то мы не могли видеть в этом какого-нибудь предчувствия, так как он в последние годы не раз делал подобную оговорку. Конечно, в его возрасте малейшая неосторожность могла повлечь за собою, совершенно неожиданно для окружающих, самые тяжкие последствия. Так это и случилось. Два дня спустя, 27 августа, он заболел так сильно острою, но вовсе не опасною во всяком другом возрасте болезнью, что можно было ожидать немедленной катастрофы; острая болезнь, однако, прошла и вместе с тем унесла с собою безвозвратно его последние силы. Это-то обстоятельство и было настоящей причиною его смерти, - и тем не менее организм покойного выдерживал борьбу со смертью
в течение двадцати дней. 6 сентября оказалось даже возможным благодаря небольшому улучшению перевезти больного с дачи на его городскую квартиру, где медицинская помощь могла быть более доступна. Еще за три дня до смерти, при консультации врачей, на которую был приглашен д-р Л В. Попов, обнаружилось снова некоторое улучшение сравнительно с предыдущими днями, и только слабая деятельность сердца при затрудненном дыхании говорила о легкой возможности быстрого конца, несмотря на улучшение.
В те немногие дни, которые следуют за смертью, общество всегда пользуется возможностью непосредственно выражать свои отношения к заслугам такого таланта, каким владел Иван Александрович Гончаров. Несмотря на то, что преклонный возраст покойного отдалил день его кончины от времени появления в свет последнего его крупного литературного произведения более чем на двадцать лег, публика в течение четырех дней и в самый день погребения, 19 сентября, в Александро-Невской лавре, собиралась толпами на Моховой в квартире усопшего - более похожей на келью отшельника, - где он прожил около тридцати лет, и выражала самую живую симпатию к его памяти. Целые десятки лет, прошедшие со времени появления лучших произведений И А Гончарова и составивших ему прочную славу и почетное имя в нашей новейшей литературе, очевидно, не могли ослабить в обществе того впечатления, какое они производили в свое время, лет тридцать - сорок тому назад. Действительно, последним произведением его литературного творчества следует, собственно, считать роман "Обрыв", появившийся в нашем журнале в 1869 году, когда автору его было не более пятидесяти семи лет. Нельзя, конечно, было тогда ожидать от него скоро нового произведения, так как он, по-видимому, буквально следовал совету Горация держать девять лет под изголовьем свой труд, прежде нежели выступить с ним в свет: десять лет прошло тогда со времени появления "Обломова" (1868 год) 2], которому предшествовал "Фрегат "Паллада"" более чем за десять лет (1857 год), и только за десять лет перед тем появилась "Обыкновенная история" (1847 год). Но после "Обрыва" прошло тщетно и десять лет и двадцать лет, и этот роман так и остался без преемника. Знавшие покойного близко могут при этом только свидетельствовать, что такой перерыв, или, вернее сказать, поворот, в литературной деятельности автора "Обломова" отнюдь не был результатом хотя бы малейшего падения в нем творческих сил, напротив-лица, имевшие с ним частые свидания и встречи, очень хорошо помнят, что перед ними по-прежнему оставался тот же умный, высоко и разносторонне образованный, подчас веселый и в высшей степени наблюдательный собеседник, которому, по-видимому, ничего не оставалось, как только взять в руку перо, чтобы создать что-нибудь новое, вполне достойное автора "Обломова" Объяснить такое, по-видимому, ненормальное явление может быть задачею только будущего биографа, который получит возможность войти в изучение всех подробностей внутренней жизни покойного и его литературных отношений.
Обыкновенно говорят, что в собственной его природе было много "обломовщины", что потому ему так и удался "Обломов", но это могло только показаться тем, кто не знал его ежедневной жизни или увлекался тем, что действительно Гончаров охотно поддерживал в других мысль о своем личном сходстве с своим же собственным детищем Между тем он был весьма деятельным и трудолюбивым человеком, всего менее похожим на Обломова Его постоянно занимала мысль о создании чего-нибудь нового; это было видно из его интимных бесед, причем он всегда требовал безусловной тайны Но незадолго перед смертью, в 1888 году, вероятно по неосторожности, он проговорился, так сказать, публично о том, что всегда тщательно хранил в тайне, а именно - в одном из писем к нам Это письмо было получено нами за границей, и мы счастливым образом имеем теперь право сослаться на него без "нарушения воли" автора, так как письмо было уже напечатано нами в извлечении еще при жизни автора 3], а следовательно, с полного его согласия, в январе 1888 года, писано же в августе 1887 года, из Усть-Нарвы, где Гончаров проводил летнее время В своем письме он повторил нам тот вопрос, с которым мы часто обращались к нему при наших встречах
""Что я делаю? - спрашиваете вы меня из вашего прекрасного далека, с берегов Атлантического океана" (так писал нам Гончаров)
"Ничего, - сказал бы я по примеру прежних лет (действительно, этим словом он всегда начинал свой ответ, но потом точно так же всегда сам увлекался охотою поговорить, как увлекся и теперь в письме). - беру тепловатые морские ванны, гуляю по берегу, ем, пью и больше ничего (одним словом, - прибавим от себя, - Обломов да и только). Но это не совсем верно: я что-то делаю еще, но пока сам не знаю что... Помните, когда я вам показал из своего домашнего архива университетские воспоминания, вы заинтересовались ими и уверили меня, что их можно напечатать... Разбирая бумаги с пером в руке, я кое-что отмечаю и заношу на бумагу. "Для чего?" - спрашивал я и еще спрашиваю теперь себя. Если бы я (тут начинается обычный поворот его мысли в другую сторону) захотел похлестаковствовать, я бы сказал. "Допеваю, сидя на пустынном берегу, свои лебединые песни" 4]. Но я ничего никогда не пел и не допеваю; насмешники, чего доброго, пожаловали бы из лебедя в какого-нибудь гуся или спросили бы меня, может быть, не хочу ли я приумножить свое значение в литературе, внести что-нибудь новое, веское? Это на старости-то лет - куда уж мне! Причина, почему я вожу пером по бумаге, простая, прозаичная, а именно - от прогулок, морских ванн, от обедов, завтраков, от бездейственного сидения в тени, на веранде, у меня все-таки остается утром часа три, которых некуда девать..."
Действительно, эти строки писал уже семидесятипятилетний старец, испытавший в последнее время тяжкую болезнь, закончившуюся потерею правого глаза; но Он и за двадцать лет перед тем говорил уже нечто подобное, а двадцать лет спустя как бы невольно сознался в том, что он и в семьдесят пять лет "что-то делал еще", кроме воспоминаний. Так оно и было в действительности; он никогда не мог отрешиться и не отрешался от прирожденной его таланту творческой деятельности; на появление же его имени в печати под статьей, принадлежащей какой-нибудь другой области литературы, он смотрел как на какую-то измену своему призванию. После напечатания "Обрыва" в 1869 году, года три спустя появилась в нашем журнале его столь известная критическая статья по поводу бенефиса актера Монахова, давшего "Горе от ума" (в 1872 году). После спектакля гончаров в кругу близких ему людей долго и много говорил о самой комедии Грибоедова, и говорил так, что один из присутствовавших, увлеченный его прекрасной речью, заметил ему: "А вы бы, Иван Александрович, набросали все это на бумагу, ведь все это очень интересно". На этот раз он обещал исполнить просьбу, хотя не без обычных для него в таком случае возражений и отнекиваний. Но напечатание этой статьи представило неимоверные затруднения, и мы думаем - именно по вышеуказанной причине. Теперь довольно только сказать, что статья была один раз уже набрана и опять разобрана; при напечатании оказалось, что статья явилась в корректурах с одною начальной буквой Г., и то после некоторой борьбы; в печати, в мартовской книге, под статьей были уже две буквы: И. Г.; на обертке той же книжки журнала явились все три буквы:
И. А. Г., и только в конце года в алфавитном указателе 1872 года, при декабрьской книге, заглавие статьи могла сопровождать полная подпись автора. Не время и не место говорить теперь, как все это происходило, хотя это в высшей степени характерно; довольно заметить, что когда вся эта история окончилась к общему удовольствию, Иван Александрович любил сам вспоминать о ней и самым добродушным образом смеялся по поводу ее. "А как я хорошо назвал свой этюд: "Мильон терзаний"! - говаривал он. -Ведь это в самом деле был миллион терзаний и для меня и для вас; а читатель и не догадывается, почему я выбрал такое заглавие!"
Все подобное на поверхности представлялось в Гончарове капризом, но это вовсе не был каприз; он, наверное, и тогда, в 1872 году, "что-то делал еще", и ему была невыносима мысль, что имя его явится в печати под чем-нибудь, что не составляет для него настоящего дела. Правда, и в критике он оказался большим мастером, но в похвалах по поводу "Мильона терзаний" он видел что-то оскорбительное для себя, какой-то совет ему, который возникал только в его же душе, а именно - оставьте, мол, творчество, возьмитесь-ка лучше за критику! И таким образом можно было иногда огорчить его, думая быть ему приятным. Но все это - повторяем - являлось не результатом тяжелого, капризного характера, а вытекало из внутренней собственной его истории и из вышеприведенной нами мысли Гончарова о необходимости остаться верным истинному призванию своего таланта, как он лично и весьма справедливо понимал свой талант.
В самом конце восьмидесятых годов, в 1887, 1888 и 1889 годах, появились у нас его "Университетские воспоминания" (апрель 1887 года), "На родине", воспоминания и очерки (январь и февраль 1888 года), и в 1889 году (март), в заключение его деятельности, в нашем журнале было помещено литературное, так сказать, духовное завещание его под заглавием "Нарушение воли", столь памятное еще всем. Оно оканчивалось словами: "Завещаю и прошу и прямых и непрямых моих наследников и всех корреспондентов и корреспонденток, также издателей журналов и сборников всего старого и прошлого - не печатать ничего (курсив автора), что я не напечатал или на что не передал права издания и что не напечатаю при жизни сам, - конечно, между прочим, и писем. Пусть письма мои остаются собственностью тех, кому они писаны, и не Переходят в другие руки, а потом предадутся уничтожению... У меня есть своего рода рudeur 1} являться на позор свету с хламом, и я прошу пощады этому чувству, то есть pudeur. Пусть же добрые, порядочные люди, "джентльмены пера", исполнят последнюю волю писателя, служившего пером честно, и не печатают, как я сказал выше, ничего, что я сам не напечатаю при жизни и чего не назначал напечатать по смерти. У меня и нет в запасе никаких бумаг для печати,-писал он в 1889 году, - это исполнение моей воли и будет моею наградою за труды и лучшим венком на мою могилу..."
Мы охотно напечатали тогда у себя такое литературное завещание, но это нисколько не помешало нашим, конечно самым дружеским, прениям по поводу возбужденного автором вопроса о "нарушении воли". Более всего мы настаивали на защите собственного же его возражения себе, заключающегося в этой же самой статье. Он сам одобрительно отозвался об издании писем Кавелина и Крамского, без их воли и немедленно после их смерти, и тут же сам, правда, заметил, что ему могут указать на такое коренное противоречие в его статье; в ответ же на такое естественное возражение он писал: "И теперь (то есть после возражения) повторю, что не следует издавать лишнее в письмах, что мало интересно для всех..." Вот что, следовательно, составляет существо мысли Гончарова, и с этим нельзя не согласиться, да, впрочем, и вся его статья была вызвана действительно бесцеремонным отношением в нашей печати того времени к памяти умерших литераторов и нелитераторов; если в статье встречаются преувеличения, то они вполне оправдываются некоторой беспредельностью самой этой бесцеремонности, иногда выходившей за геркулесовы столпы.
Впрочем, мы, кажется, и сами вышли из тесных пределов того, что называют некрологом, и приблизились невольно к преждевременной пока области личных воспоминаний о покойном, который со временем, как мы сказали, представит хотя весьма трудную, но интересную и благодарную задачу для своего биографа во многих отношениях.
В своей частной жизни Иван Александрович Гончаров восполнил свое одинокое существование, взяв на свое попечение случайно оставшихся на его руках чужих детей по смерти их отца, находившегося у него в домашней службе, вырастил их и дал им хорошее воспитание, так что о нём можно было сказать словами Беранже: "Heureux celui qui pouvait faire un реu de biеn dans son petit coin" 2}, - и он сделал такое малое, бесшумное дело в своем действительно маленьком уголке и был вполне счастлив. В запечатанном письме, найденном в его столе, на наше имя, от 9 октября 1886 года он дает, между прочим, разъяснение всем своим посмертным распоряжениям; понимая, какую он мог оказать плохую услугу "тройке детей" - его собственное выражение, - дав им солидное среднее образование и не позаботившись в то же время о том, чтобы "поддержать их на первых шагах жизни", Иван Александрович Гончаров оставил им свое денежное имущество и движимость, кроме кабинета "с запертыми в нем помещениями", относительно чего он сделал особое распоряжение; в этих помещениях, как он говорит в письме, нет ничего ценного в имущественном смысле. Итак, покойный не только делал добро, но и умел его делать, хороший пример тем благотворительным заведениям, которые оставляют всякую заботу о своих питомцах, раз последние отбыли срочное время в стенах заведения, а иногда такой срок кончается двенадцатилетним возрастом.
1 Стыдливость (франц.).
2 Счастлив тот, кто в своем уголке мог сделать хоть немного добра (франц).
Стасюлевич М. М.: ПРИМЕЧАНИЯ
[А. Д. Алексеев, О. А. Демиховская]
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826-1911) - историк, профессор Петербургского университета, публицист, издатель-редактор журнала "Вестник Европы". С Гончаровым знаком с начала 60-х годов, а с 1868 года - один из самых близких друзей Гончарова. Начиная с 1869 года, Гончаров был сотрудником "Вестника Европы", опубликовав в нем "Обрыв" (1869, ЛЛ 1-5), "Мильон терзании" (1872, Л 3), "Из университетских воспоминаний" (1887, Л4), "На родине" (1888, ЛЛ 1, 2) и "Нарушение воли" (1889, Л 3).
Публикуемый очерк является некрологом Гончарова. Печатается по публикации в "Вестнике Европы", 1891, Л 10, стр. 859-865. Подпись: М. С.
1] Летом 1891 года Гончаров написал три очерка: "Май месяц в Петербурге", "Превратность судьбы" и "Уха", которые были опубликованы посмертно.
2] Здесь допущены неточности в датировках: "Обломов" опубликован в 1859 году; отдельные очерки из "Фрегата "Паллада"" печатались в журналах в 1855-1857 годах, полное издание вышло в 1858 году.
3] В качестве предисловия к очерку "На родине" ("Вестник Евролы", 1888, Л 1, стр. 5-7).
4] Летом 1887 года, находясь в Усть-Нарве (Гунгербурге), Гончаров писал воспоминания "На родине" и подготавливал к печати очерки "Слуги".
( Сканировано по изданию: И. А. Гончаров в воспоминаниях современников / Л., 1969.)
П. Д. Боборыкин
ТВОРЕЦ "ОБЛОМОВА"
(Из личных воспоминаний)
I
Время летит. Не успеете вы оглянуться, и живые люди уже перешли в царство теней. Летит оно в последние годы с такой же предательской быстротой, как для тех, кто должен высиживать месяцы и годы в одной комнате; а с ним стушевывается в памяти множество фактов, штрихов, красок, из которых можно создать нечто, или - по меньшей мере - восстановить.
Давно ли умер И. А. Гончаров? Настолько давно, что в нашей печати могло бы появиться немало воспоминаний о нем. Их что-то не видно. Не потому ли, что покойный незадолго до смерти так тревожно отнесся к возможности злоупотребить его памятью печатанием его писем? Этот запрет тяготеет над всеми, у кого в руках есть такие письменные документы. Недавно сделано было даже заявление одним писателем: как разрешить этот вопрос совести и следует ли буквально исполнять запрет покойного романиста?
Здесь мы не станем поднимать вопроса - принципиально, разбирать, составляют ли письма собственность того, кто их писал, или того, кому они адресованы. На Западе, в особенности во Франции, частные люди, даже совсем неизвестные, гораздо щекотливее по этой части. Но с развитием репортерства и рекламы наступило царство всякого рода нескромностей. Не помню, однако же,
чтобы кто-нибудь из известных писателей, ученых или политических деятелей на Западе, сходя в могилу, наложил такой точно запрет, и у нас это, сколько мне кажется, первый случай.
Как ни почтенно желание каждого, у кого имеются письма первоклассного писателя, исполнить его предсмертную волю, но не пожалеть об этом трудно. Правда, опыт последних годов показал, что печатать без выбора все, что сохранилось из переписки хотя бы самого знаменитого человека, значит оказывать медвежью услугу его памяти. Однако сколько же писем нельзя не считать драгоценными не только для знакомства с натурой и судьбой писателя, но и для фактического изучения его эпохи? В самое последнее время стали появляться целые серии писем передовых русских людей 30-х и 40-х годов. Есть, например, заграничный сборник (который мог бы появиться и в России) писем двух крупных личностей: одного романиста, другого ученого и общественного деятеля, к их другу, умершему за границей, с которым оба они должны были разойтись по некоторым, тогда жгучим, вопросам и принципам И если б тот и другой воззвали к своим современникам с таким же запретом, как Гончаров, - драгоценнейший эпизод из истории нашего общества был бы потерян для потомства.
Но воспоминания - дело личное. Это собственность каждого из нас, самая коренная и неоспоримая. И было бы чрезвычайно приятно видеть поскорее в печати все то, что об авторе "Обломова" знали и слышали его современники фактического, свободного от всякой ненужной примеси.
II
До 1870 года я не был знаком с Иваном Александровичем; кажется, даже не видал его нигде: в обществе, в театре, на заседании или на каком-нибудь публичном чтении.
Первые пять лет 60-х годов я провел большею частью в Петербурге, принадлежал уже литературе, даже профессионально издавал большой журнал в течение двух с лишком лет, посещал всякие сферы и слои общества и все-таки не встретился с Гончаровым. Не помню, обращался ли я к нему письменно с просьбою о сотрудничестве. Скорей не обращался; вероятно потому, что тогда сложилось уже мнение о том, как он медленно и редко пишет, так что бесполезно к нему и обращаться. А последние пять лет того же десятилетия я провел за границей с одним только приездом в Москву, где прожил с лета до зимы 1866 года.
К маю 1870 года перебрался я из Вены в Берлин перед войной, о которой тогда никто еще не думал ни во Франции, ни в Германии. Между прочим, я состоял корреспондентом тогдашних "Петербургских ведомостей", и их редактор, покойный В. Ф. Корш, проезжал в то время Берлином. Там же нашел я моего товарища по Дерптскому университету, тоже уже покойного, Владимира Бакста личность очень распространенную тогда в русских кружках за границей; с ним я еще студентом, в Дерпте, переводил учебник Дондерса.
В Hotel de Rome, где я обедал за табльдотом, нашел я целое русское общество: племянника В. Ф. Корша и его двух молодых приятелей" слушателей Берлинского университета: сына одного знаменитого хирурга и брата второй жены этого хирурга. Душой кружка был Бакст, прекрасно знакомый с Берлином и отличавшийся необыкновенной способностью пленять русских высокопоставленных лиц. Его приятели называли это "укрощением генералов".
Это молодое общество прозвало само себя "бандой" и проводило время всегда вместе, устраивало у себя русские чаепития; по вечерам и даже по ночам посещали всякие характерные места Берлина.
Вот эту "банду" и полюбил И. А. Гончаров, проживавший также в Берлине как раз в то время. Он, вероятно, отправлялся на какие-нибудь воды или на морские купанья, но не торопился туда ехать Берлин ему нравился, и он проводил время, с обеда, почти исключительно в обществе "банды", к которой и я должен был пристать. Но наша встреча произошла не в Hotel de Rome за табльдотом, а на улице Под липами, когда члены "банды" отправлялись с ним на прогулку в Тиргартен.
Обед в Hotel de Rome считался самым лучшим, и наши веселые ребята постоянно звали Гончарова обедать с ними. Он жил под липами, в существующем до сих пор Britisch Hotel.
- Иван Александрович, - повторяли они ему, - ведь вы сами говорите, что еда у вас не первый сорт; так зачем же вы там обедаете? Да лучше бы вам и совсем переехать в "Рим", где цены такие же, а комнаты и стол и сравнить нельзя?
- Вы правы, друзья мои, - кротко отвечал им каждый раз Гончаров, - но, видите ли, как же я тогда буду проходить мимо Britisch Hotel'я. Хозяин может стоять на крыльце, увидать меня. Я не могу этого сделать Как хотите!
Этот штрих был и тогда уже чрезвычайно характерен для автора "Обломова". Для него стоило великих усилий решиться на что-нибудь такое, что может поставить его в неловкое положение. Про эту преобладающую черту его натуры и воспитания мне много рассказывал автор "Тарантаса", граф В. А. Соллогуб, еще в последние годы моего учения в Дерпте. Он хорошо знал Гончарова с самых первых его шагов как писателя, и у него было несколько забавных рассказов: как Иван Александрович тревожно охранял свою неприкосновенность, боясь пуще огня как-нибудь себя не скомпрометировать. Но мы и тогда, студентами, не очень доверяли автору "Тарантаса", его рассказам и анекдотам, обличавшим почти всегда слабость к красному словцу.
На тротуаре вблизи Britisch Hotel'я и познакомили меня с Гончаровым. До сих пор помню, с какой интонацией он повторил мою фамилию и своим мягким, приятным тоном прибавил вопросительно:
- Писатель?
И пошли мы всей "бандой" к Бранденбургским воротам, а оттуда в парк. Разговор сейчас же зашел именно о Тиргартене. Гончаров восхищался этим удобством: иметь под боком, в центре города, такую обширную и прекрасную прогулку. Дорогой было удобно оглядеть его.
Он показался мне очень похожим на тогдашние его портреты и смотрел моложе своих лет. Ему было уже под шестьдесят, так как он родился в 1812 году. Ходил он бодро, крупной походкой, сохранившейся до глубокой старости; седины очень мало, умеренная полнота, чистоплотно и старательно одетый, по тону и манерам не похожий ни на чиновника, чем он долго был, ни на артиста, ни на помещика, а скорее на типичного петербургского жителя, вроде образованного и воспитанного представителя какой-нибудь фирмы или человека, имеющего почетное звание в каком-нибудь благотворительном обществе.
Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его разговор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей заграничной жизни, облекался в очень литературную форму, полон был замечаний, тонко продуманных и хорошо выраженных; но и тогда уже для того, кто ищет в крупных литературных деятелях подъема высших интересов, отзывчивости на жгучие вопросы времени, Гончаров не мог быть человеком, способным увлекать строем своей беседы.
Через несколько дней на вечернем чае все той же "банды" он очень долго рассказывал нам о своей собачке, оставленной им в Петербурге, и в этой исключительной заботе о ней видна была уже складка старого холостяка, привыкшего уходить в свою домашнюю обстановку.
Нежелание первому задевать вопросы литературы и общественной жизни, осторожность и чувство такта препятствовали Гончарову сразу придавать разговору чисто писательский оттенок. Но если вы наводили его на такие темы, он высказывался всегда своеобразно, говорил много и без всякого неприятного личного оттенка, за исключением щекотливых пунктов, которые рискованно было задевать с ним.
III
В Петербурге в половине 70-х годов мне привелось провести вечер с Гончаровым в одном редакторском доме. Хозяин и хозяйка хотели воспользоваться посещением такого видного гостя, и в обширной гостиной, где собрано было много дам, произошло повальное представление литературной знаменитости всех присутствующих. Тут еще яснее можно было распознать одну из основных черт натуры и душевного склада Гончарова. Его должно было очень коробить оттого, что хозяева заставили его играть роль крупнейшего литературного сановника. Довольно сильное сознание своего писательского "я" было у него соединено не только с боязнью
всякой неловкости, всякого щекотливого положения, но и с застенчивостью, какую до смерти в большом обществе имел и Тургенев. Помню очень хорошо, что Гончаров на этом же вечере воспользовался первой же возможностью, чтобы уйти в залу, где начались танцы, и стать там в сторонке.
Прошли целые пять лет с нашей встречи в Берлине, и мы разговорились. Он немного постарел за это время, но был еще очень бодр и представителен, с той же свободной, красивой речью. Свою писательскую карьеру он начинал уже считать поконченною, изредка появляясь в печати с вещами вроде его статьи "Миллион терзаний", где его ум, художнический вкус и благородство помыслов вылились в такой привлекательной форме.
У меня никогда не было привычки, встречаясь с писателем, от которого ждут всегда нового и крупного, спрашивать: чем он "подарит" публику? И я знал уже, что Гончаров не любил таких вопросов. После "Обрыва", напечатанного в конце 60-х годов, он вправе был огорчаться тем, что в тогдашней критике произведения его не оценили как следует. Непонимание и выходки рецензентов очень часто заслоняют от самого писателя тот прием, какой оказывает ему масса публики. Так было в значительной степени и с "Обрывом". На роман накинулась вся тогдашняя грамотная Россия. Известно было, что печатание его в "Вестнике Европы" привлекло особенный интерес и к самому журналу.
Этот роман и в особенности лицо Марка Волохова для будущего биографа-психолога-поворотный пункт в душевном настроении Гончарова. В литературных и светских кружках Петербурга давно ходили толки о том, что автор "Обрыва" заподозрил своего ближайшего сверстника Тургенева в похищении у него замысла лица Базарова, так как его собственный нигилист был им задуман давно, раньше появления "Отцов и детей". И в начале 70-х годов эта идея особенно сильно бродила в его душе. Ближайшие его знакомые в разное время передавали мне подробности о взрывах этого живучего подозрения, которое питалось, вероятно, всем складом жизни Гончарова, жизни старого холостяка, привыкшего перебирать в себе на всевозможные лады малейшую подробность в своих человеческих и писательских испытаниях и впечатлениях. Поэтому собеседник, знавший про такой болезненный пункт его души, должен был всегда держаться настороже и лучше совсем не упоминать о некоторых именах и книгах. Я слышал от тех же лиц, что, к половине 70-х годов писательская подозрительность все в том же направлении дошла до того, что Гончаров видел во многом, выходившем тогда из-под пера парижских натуралистов, приятелей Тургенева, подкопы под него; находил у них даже свои сюжеты и замыслы лиц.
Я вполне уверен, что те, от кого мне пришлось не раз узнавать про это, передавали фактически верно все слышанное ими в разговорах с автором "Обрыва"; но мне лично не привелось ни в Берлине в 1870 году, ни в Петербурге пять лет спустя, ясно и отчетливо схватить проявления такого характерного писательского аффекта.
Вот хоть бы на том вечере, который остался у меня довольно отчетливо в памяти, мы разговаривали долго, задевали, сколько помню, и литературные темы; но мой собеседник говорил обо всем сдержанно, изящно, без всякого неприятного, болезненно-нервного оттенка, какой, например, сейчас же сказался бы у Достоевского.
Хотя Гончаров не любил ничем щеголять в разговоре - ни остроумием, ни глубокомыслием, ни блестящей образованностью, но когда он был в духе, его беседа стояла совершенно на уровне такого писателя, каким он считался. Несмотря на щепетильность и осторожность его натуры, он цельно, искренно и своеобразно высказывался обо всем, что составляло его человеческое и писательское profession de foi 1}. Ни малейшей уступки красному словцу, превосходный, как художник сказал бы, сочный тон в рассказе, в описании, в диалектике, с тем оттенком приятного резонерства, какой проник и в лучшие его произведения.
1} мировоззрение (франц.).
Лично я не могу сказать, чтобы и в эти встречи, и впоследствии, когда мы видались очень часто, он вызывал на более задушевный разговор, интересовался бы, над чем вы работаете в данную минуту. Вероятно, это происходило прежде всего от сильно развитого чувства такта и осторожности, мешающей в какой бы то ни было форме касаться личных дел, мыслей, интересов своего собеседника. Зато с этим литературным сановником всякому, самому молодому литератору - повторяю опять: когда он был в духе - говорилось легко. Вы не слышали ни покровительственного тона, ни генеральских советов; вы не чувствовали и большого расстояния между собой и этим знаменитым представителем старого поколения. Вы стояли с ним на одной и той же почве на почве общечеловеческой и культурной любви к образованию, науке и нравственным идеалам. Вы вперед видели, что если бы к этой знаменитости, знающей себе цену, обратились вы в разговоре или в письме как писатель, он ответил бы вам, как равный равному, говорил бы или написал бы письмо содержательно и приятно, без сладости и без рисовки.
Гончаров, и часто встречаясь с вами, писателем моложе его и скромнее по своему положению, не имел привычки привлекать вас тем, что интересуется вашей последней "вещью"; но в его тоне вы распознавали достаточное литературное знакомство с вами, как бы не требующее никаких особенных заигрываний.
Меня всегда интересовал вопрос: как крупный писатель-художник работает, как ему дается то, что называется письмом, пошибом. Автор "Обломова" давно уже, с самого появления этого романа, считался сам Обломовым. Про него все уверенно говорили как про человека, чрезвычайно ленивого и, главное, кропотливого. Это поддерживалось тем, что он выпускал свои произведения в такие пространные промежутки; не сделал себе привычки писать постоянно и сейчас же печатать написанное.
Ленивой никак нельзя было назвать его натуру. Осторожной, склонной к мнительности и постоянному передумыванию известной темы - да; но ни в каком случае не пассивной, как у его героя. Голова постоянно работала, и две трети жизни прошли у Гончарова на службе, то есть в привычках так или иначе занятого человека. Да и в смысле чисто физическом, мышечном, он до глубокой старости сохранил очень бодрые привычки, был испытанный ходок и уже за семьдесят лет с постоянным катаром и одышкой, если только был на ногах, ходил пешком обедать с одного конца Петербурга на другой, с Моховой на Мойку. И психически он склонен был к душевному возбуждению, что беспрестанно сказывалось в его разговоре. Человеку, даже мало знавшему его, легко было предположить, что в писательской работе он вряд ли вел себя как апатический фламандец, как истый сын Обломовки.
В преклонных летах обратился он к русскому читателю с своей исповедью "Лучше поздно, чем никогда", где и рассказал историю развития своего творчества. Такие документы чрезвычайно драгоценны, и ими недостаточно пользуется критика. Но в этой вещи Гончаров не входил в подробности, которые ему казались бы в печати недостаточно скромными и интересными для читателя. И задолго до появления его статьи, написанной уже за немного лет до кончины, мне привелось услыхать от него одну весьма ценную подробность о том, как писался "Обрыв". Это было, кажется, еще во время прогулок наших по Берлину.
Последнюю часть "Обрыва", задуманного им так давно, он писал за границей, на водах и, если хорошо помню, - в Париже.
- Целыми днями писал я, - рассказывал он, - с утра до вечера, без всяких, даже маленьких, остановок, точно меня что несло. Случалось исписывать целый печатный лист в день, и больше, и так быстро, что у меня делалась боль в пальцах правой руки, и я из-за нее только останавливал работу.
Припомните, что это было во второй половине 60-х годов. Так мог работать человек за 50 лет, в душной комнате отеля. Подобная порывистая и энергическая работа немыслима для пассивной натуры, и она же показывает, что в деле стиля, пошиба можно достичь мастерства, яркости и красоты формы совсем не одним только корпеньем над выбором существительных и прилагательных, каким страдал Флобер. В "Обрыве" общий замысел и отдельные лица подвергались критике; но язык почти везде так же хорош и колоритен, как и на лучших страницах "Обломова".
IV
Время подползло к 80-му году. После лечения на немецких водах приехал я в первый раз на наше Балтийское взморье в Дуббельн, около Риги. Тогда это купальное местечко только что завело у себя благоустроенный акционерный кургауз, и купальщики Петербурга, Москвы и провинций потянулись туда.
Поселившись в акционерном доме, я сразу очутился среди знакомых русских. Там проводил лето на маленькой дачке около самого кургауза и Гончаров. Это был, кажется, не первый его приезд на Балтийское побережье, которое он очень полюбил, и с тех пор часто езжал, настолько часто, что теперь улица, ведущая от акционерного дома по направлению к следующему местечку, Маиоренгоф, названа Гончаровской. Вместе с одним общим добрым знакомым мы составили маленький кружок и обедали на террасе кургауза, по вечерам ходили по Штранду (как там называют прибрежье) и вели продолжительные разговоры.
Тогда Гончарову было уже 68 лет; но он совсем не смотрел дряхлым старцем: волосы далеко еще не поседели, хотя лоб и обнажился, в лице сохранялась еще некоторая свежесть, в фигуре не было еще старческой полноты; ходил он очень бойко, все тем же крупным энергическим шагом, держался прямо. Только голос стал слабее, и тогда уже начал он жаловаться на катаральное состояние дыхательных путей; жаловался и на болезнь глаза, которая в скором времени обострилась, причиняла ему впоследствии сильнейшие боли и кончилась потерею зрения в этом больном глазе. Болезнь эта была внутренняя, болезнь зрительного нерва и сетчатки.
Все это пришло позднее, а тогда он был еще довольно смелым купальщиком и беседа его отличалась живостью и разнообразием. Большой возраст сказывался иногда во внезапных вспышках раздражения, хотя каждый из его собеседников старался о том, чтобы не произносить при нем некоторых имен и не заводить речи на известные темы, которые могли сделаться щекотливыми.
Вообще, Гончаров держался и тогда широкого и благожелательного отношения к нашей беллетристике и к молодым писателям. Личных нападок он избегал, не позволял себе и в то время того, что мы называем литературным генеральством. В нем каждый молодой его собрат мог видеть необычайно цельное мировоззрение художника, который никогда, однако же, не оставался равнодушным к высшим запросам морали и человечности. Этот писатель с полным правом мог с своей авторской исповедью "Лучше поздно, чем никогда" позволить себе возглас о бесплодии словопрений, вращающихся около формулы искусство для искусства. Бездушным эстетиком, конечно, он никогда не бывал, но в нем жил пушкинист чистой воды, испытавший в ранней молодости обаяние нашего великого поэта, доходившее в людях его поколения до настоящего культа.
Если сравнить его беседу с тем, что давал в разговоре прямой его соперник Тургенев, то получится значительная разница. Тургенев любил искусство не менее, чем Гончаров, и его коробила тенденциозность нашей критики, тот загон, в котором вообще находились тогда художественные запросы; но разговор Тургенева носил часто слишком анекдотический характер; в нем было больше ума, остроумия и очистительной критики, направленной на людей, чем цельности чувства, проникающего крупного художника, высокой преданности своему делу. За последние 10-12 лет своей жизни Тургенев говорил о собственной писательской работе изредка, как бы нехотя, постоянно оговариваясь, что он пишет мало и редко и смотрит на то, что пишет, как на вещи, к которым совсем не следует относиться с такими требованиями, какие раздавались тогда. Почти всегда, даже в более задушевной беседе, у него был тон усталого и скептического знатока литературы, желающего оградить свои ощущения от ненужной тревоги. Конечно, в нем могла сказываться и горечь непонимания, оставшаяся от травли, какую критика устроила когда-то роману "Отцы и дети", но ведь и Гончаров тоже был вправе считать себя обиженным всем тем, что было в отзывах об "Обрыве" резкого, а иногда и прямо враждебного.
И несмотря на это, в Гончарове до последних лет его жизни сидело очень цельное чувство писателя-художника. Он смотрел на себя уже как на ветерана, не решался задумывать и выполнять большие произведения; но как только заходила речь на какую-нибудь общую художественно-литературную тему, он высказывался всегда в тоне искренней преданности задачам творческой литературы. Тогда в нем слышался не петербуржец-холостяк с душевными странностями, не отставной крупный чиновник, не литературная знаменитость, знающая только свое генеральское "я", а писатель, долгие годы воспитывавший в себе любовное и почтительное отношение к изящной литературе, ее задачам и идеалам.
Такой Гончаров мог быть очень приятен в беседе и семидесятилетним стариком. Слушая его в то первое лето, которое мы проводили вместе в Дуббельне, я частенько забывал совсем о главном щекотливом пункте, которого рискованно было касаться, то есть о Тургеневе. Не помню, случилось ли мне проговориться, - помню только чрезвычайно отчетливо часть нашего разговора, бывшего тотчас после обеда в парке акционерного дома, и где Гончаров сам, говоря о способности писателя к захватыванию в свои произведения больших полос жизни, выразился такой характерной фразой, и притом без малейшего раздражения:
- Возьмите вы, например, Тургенева. Он вам представит ряд прелестных картинок. Перед вами будет сад, полный цветов и красивых растений. Но большого английского парка он вам не разобьет!
Это было сказано четыре года спустя после напечатания самого обширного романа Тургенева "Новь". Не знаю, согласятся ли многие с таким определением. В нем, однако ж, не сквозило никакой неприятной ноты.
И в течение всего лета мне не привелось выслушать от Гончарова какую-нибудь диатрибу, направленную на своего соперника.
Зато несколько раз бывали за обедом и во время прогулок по берегу моря вспышки раздражения уже с некоторым оттенком старчества - и всегда почти против французского натурализма, романов Золя и его школы. Гончаров не отрицал в них таланта; но и не мог беспристрастно оценить то, что они внесли с собою в дело художественного изображения современной жизни. Тут чувствовалась, быть может, и особенная подкладка, но протест против крайностей натурализма вскипал в нем, вероятно, и помимо всякого личного чувства, как в писателе старых традиций, проникнутом большой целомудренностью художнического чувства Его возмущало тогда и промышленное направление западной беллетристики, в особенности французской. Попадая на эту зарубку, он легко раздражался.
- Ведь, что горько, - говорил он раз, тоже на берегу моря, - кабы они были бездарности... А то возьмите вы хоть какого-нибудь Габорио. Ведь у него талант есть, но он животное! Раз попал в жилку, привлек публику и пошел валять, без стыда, без совести!
Все лето 1880 года Гончаров чувствовал себя прекрасно, был чрезвычайно общителен, приглашал нас и к себе завтракать в мезонин той дачки, где он жил. Вернувшись в Петербург, он продолжал свои беседы в нескольких письмах, которые я получил от него в Моcкве. Хотя в них не было ничего сколько-нибудь щекотливого для его памяти, а, напротив, много доказательств того, как он симпатично и даровито писал письма более интимного характера, я воздержусь от напечатания их в этом очерке.
Еще два раза встречались мы на том же Балтийском прибрежье, но жили в разных местах и видались гораздо реже. Тогда уже Гончаров стал страдать глазом и припадками болезни легких. Он как-то сразу превратился видом в старца, отпустил седую бороду, стал менее разговорчив, чаще жаловался на свои болезни, жил на Штранде больше для воздуха, чем для купанья. Его холостая доля скрашивалась нежной заботой о чужих детях, которых он воспитал и обеспечил.
За последнее десятилетие мне привелось навещать его и в Петербурге, в его квартире на Моховой, куда доступ делался все труднее и труднее. Коренные душевные особенности всплывали тогда гораздо яснее в разговоре, и надо было всегда заботиться о том, чтобы не навести его на какую-нибудь щекотливую тему. Старчество людей с громким именем сказывается всего чаще в беспокойном тщеславии, которое заставляет человека беспрестанно говорить о том, чем он прославился. У Гончарова преклонный возраст проявлялся скорее в болезненном ограждении себя как человека и писателя решительно от всего, что могло бы поставить его в какое-нибудь ответственное положение перед публикой и критикой. Но творческий инстинкт не замирал в нем почти до самых последних дней, и уже семидесяти пяти лет он мог еще художественно изображать типы прислуги крепостного времени.
Последняя наша встреча была все-таки же на берегу моря, по дороге из Дуббельна в Маиоренгоф, тихим летним вечером.
1892 год.
"Русские ведомости", 1892, Л339, 8 декабря
(Сканировано по изданию: Боборыкин П. Д. Воспоминания: В 2 т. М., 1965. Т. 2.)
А. М. Скабичевский
ИЗ "ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ"
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПЕРЕЖИТОМ
Литературный салон Майковых в сороковые и пятидесятые годы был средоточием именно литераторов, группировавшихся вокруг "Отечественных записок". Наибольший тон в этом салоне давал Гончаров, этот истый бюрократ и в своей жизни и в своих романах с их бюрократическими идеалами, Адуевым и Штольцем. В качестве учителя поэта Аполлона Майкова он, конечно, озаботился привить достаточное количество бюрократического яда в голову своего ученика.
Нужно, впрочем, заметить, что вся семья Майковых была от природы расположена к принятию этого яда. Я не знаю, что представлял собою Вал. Майков, умерший до моего знакомства с его семьею. Что же касается всех прочих членов семьи, то они всегда поражали меня строгою уравновешенностью их натур, крайнею умеренностью и аккуратностью во всех суждениях и поступках, наружным благодушием и мягкосердечием, под которыми втайне гнездилось эгоистическое себе на уме, а порою и достаточная доза душевной черствости. Но все это скрашивалось таким светским тактом в обращении как с выше, так и с ниже поставленными людьми, что находиться в их обществе было очень легко и приятно. Невольно казалось нам, юнцам, что трудно и представить себе людей более передовых, гуманных и идеальных. Это и был тот самый "гармонизм" всех элементов человеческой природы, на который в кружке нашем смотрели как на квинтэссенцию той истинной просвещенной нравственности, которая заменила для нас отвергнутую нами обветшалую прописную мораль.
Ко всему этому надо прибавить, что все Майковы поголовно были эпикурейцы, тонкие ценители всего изящного и гастрономы, умеющие вкусно и в меру поесть и выпить. Наконец, все Майковы подряд были созерцатели, с примесью некоторой доли сентиментальности. О Майкове-отце нечего и говорить уж: поставщик образов в Исаакиевский собор и другие церкви Петербурга, он вечно витал в мире небесных образов, и глаза его то и дело возносились горе. Старший сын его, Аполлон, в свою очередь, был преисполнен звуков чистых и молитв: любил уноситься своим поэтическим воображением в эпохи античной древности и средневекового рыцарства и спускался в мир окружавшей его действительности только для подражания любовным мотивам Гейне и для воспевания подвигов великих мира сего.
Средний сын, Владимир, тоже склонен был к созерцательности. Между прочим, административная служба по департаменту внешней торговли столь иссушила его, что жена его, обладавшая более живым и пылким темпераментом, не в состоянии была ужиться с ним и сбежала от него на Кавказ с одним нигилистом, которого впоследствии Гончаров покарал, изобразивши в своем романе "Обрыв" в образе Марка Волохова. В 1865 году, живя в Парголове, я встретил однажды этого господина у Владимира Майкова, жившего на даче в Мурине, и мы гарцевали с ним даже верхами на чухонских лошадях. Он, как раз в то время, ухаживал за госпожою Майковой и показался мне очень симпатичным молодым человеком, не имеющим ничего общего с карикатурным героем романа Гончарова.
Что касается младшего брата Майкова, Леонида, нашего сотоварища, то он выдался более в мать, чем в отца; братья его все были брюнеты, а он блондин, весь какой-то мягкотелый и уже в юности обещавший со временем потучнеть.
КОЕ-ЧТО ИЗ МОИХ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
О семействе Николая Аполлоновича и Евгении Петровны Майковых существует уже немало воспоминаний в нашей литературе, начиная с И. И. Панаева и других.
Это был литературный салон, игравший некогда очень видную роль в передовых кружках сороковых годов. Сюда стекались все молодые корифеи, группировавшиеся вокруг "Отечественных записок"; здесь Гончаров учил маленького Майкова российской словесности, а затем вокруг Валериана Майкова группировались передовые люди более юной формации...
В мое время старики Майковы жили уже более замкнутой жизнью. Из литературных корифеев я встречал здесь лишь старого друга дома - Гончарова, Дудышкина, Громеку; раз или два при мне заглянул Писемский. Гончаров, при своей замкнутости, вечном спокойствии, отсутствии малейшей экспансивности и подъема тона, не оставил во мне ровно никаких впечатлений и воспоминаний. К тому же он мало сближался с молодежью, сидел всегда на почетных местах и чинно беседовал с старшими. Примеру его следовал и тучный, отяжелевший, неповоротливый в своих движениях и молчаливый Дудышкин. Совсем другое Представляли собой Писемский и Громека. Писемского я встретил в 1861 или в 1862 годах, как раз тогда, когда он писал свое "Взбаламученное море". Я никогда, ни до того, ни после того, не встречал такого крайнего озлобления против молодежи, какое обнаруживал Писемский. Очень может быть, что присутствие двух-трех молодых людей его пришпоривало, но только он был поистине беспощаден, и, между тем как я с Л. Н. Майковым и еще с кем-то из наших ходили взад и вперед по зале, прислушиваясь к его речам и едва удерживаясь от смеха, Писемский, как градом, осыпал нас самыми энергическими выражениями, и его голос так и гремел по всей зале к общему смущению всей публики.
Е. П. Левенштейн
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ
[I]
Первые мои воспоминания о моем дяде относятся к 1855 году, когда мне было всего семь лет. Он тогда вернулся, после своего кругосветного путешествия, в свой родной город Симбирск, чтобы повидаться со своими родственниками. Я его видела тогда у моих родителей, и в моей памяти сохранились лишь кое-какие отрывочные воспоминания о нем. Помню только, что он много рассказывал о своем путешествии, из которого привез нам всем подарки, между прочим, замечательные японские картинки на рисовой бумаге. Он был в очень хорошем настроении, был любезен и внимателен ко всем. Он рассказывал много, но в конце говорил моей матери, что она лучше всего может прочесть то, что он рассказывает, в его "Путевых заметках" 1].
После первого его приезда я в течение долгого времени не видала его и не слыхала о нем ничего такого, что бы врезалось у меня в памяти. Поэтому могу упомянуть теперь только о втором его приезде, в 1862 году, когда мне было почти четырнадцать лет. Он тогда приехал летом в Симбирск из Петербурга, предварительно предупредив мою мать, что в этом году он не намерен отправиться за границу, куда ежегодно ездил (преимущественно в Баден-Баден) 2], а думает на досуге работать в Симбирске над новым романом (утвердительно не могу сказать, но, мне кажется, над "Обрывом"); он спросил мою мать, можно ли будет ему провести у нее лето, чему она, конечно, весьма обрадовалась, так как они с малолетства были между собой очень дружны. Ему, разумеется, отдали самую лучшую комнату в доме и предоставили сад, в котором он проводил большую часть времени, беспрепятственно работая в беседке. Он был очень доволен всем, говоря, что не столько дорожит комфортом, сколько тишиной и свободой для своей работы, что немыслимо для него получить в Петербурге. Дядя был удивительно изящен во всем: в манерах, в разговоре, даже в отдельных выражениях, что мне особенно нравилось.
Он просил, чтобы к нему никого не допускали. Если он на улице завидит, бывало, еще издалека кого-либо из наших знакомых, то тотчас же сворачивает куда-нибудь в сторону, избегая встреч. Это немало огорчало мою мать, которая очень любила брата и гордилась им. К его счастью, в городе летом почти никого не было, все помещики разъезжались по своим имениям, а Симбирск наш был в то время помещичьим городом. Если бы Иван Александрович прибыл в Симбирск зимой, то он никак не отделался бы от посещений и знакомств и ему, конечно, не дали бы заниматься. Он писал, вероятно, "Обрыв", так как часто что-то шутил со мной, называя меня "Верой", а племянницу моего отца "Марфинькой", на том основании, что племянница имела склонность к Хозяйству, а я - к книгам и музыке.
Дядя был по временам мрачен, раздражителен, говоря, что он страдает головными болями, и особенно его мучает часто tic douloureux 1}, что особенно болезненно ощущает он перед дурной погодой или грозой. Я очень порядочно говорила по-французски, и дядя заставлял меня часто читать ему вслух лучшие отрывки из французской литературы, всегда выбирая их сам или направляя мой выбор. Попадались иногда в чтении слова, смутно понимаемые мной, и дядя объяснял мне их очень полно, наглядно и ясно.
Раз встретилось выражение "les injures du temps" 2}. Я понимала каждое слово в отдельности, но смысл сочетания их мне был непонятен.
Дядя взглянул на меня, как бы раздумывая, как яснее мне его перевести. Вдруг вскочил на ноги, схватил меня за руки и быстро подвел к зеркалу, висевшему тут же в комнате, между двумя окнами. Он совсем приблизил свое лицо к моему. "Ты видишь разницу между моим лицом и твоим?"-спросил он. Конечно, я видела ясно эту разницу. Я видела мое юное лицо с полудетским выражением удивленных и выжидающих глаз, с тонкой, розовой, гладкой кожей, чуть-чуть подернутой легким, нежным пушком, и обрамленное пышными темными волосами, а рядом с собой, прижатое ко мне щека со щекой, лицо дяди. Оно мне показалось вдруг как-то особенно старым, какие-то тени покрывали его, морщинки, раньше не замеченные мною, тянулись около глаз, от крыльев носа и углов рта, чего не могли скрыть ни усы, ни бакенбарды. Глубоко сидящие глаза его с красноватыми веками вокруг и массою мелких, издали незаметных складочек смотрели на меня в зеркало неприветливо. Гладко зачесанные за уши волосы, в которых начинали пробиваться серебристые нити, выдавали крупный череп. Он схватил пальцами свою щеку около глаз и приподнял ее. "Ты видишь это, мою кожу и твою? Ты видишь, понимаешь разницу?"
Да, конечно, я видела ее: кожа на лице дяди была совсем другая, чем на моем, не гладкая, а вся в каких-то ямочках, точках, складочках. "Да, я вижу", - проговорила я, все еще не понимая, к чему клонятся его вопросы.
- Моя кожа теперь не такая, как твоя, но раньше, когда я был моложе, и моя кожа была такая же, как и твоя. Вот тебе и "les injures du temps"!
Дядя придерживался строго определенного режима, вставал в восемь часов, делал себе холодные обливания и, окончив свой туалет, отправлялся гулять, а после прогулки приступал к своему обычному завтраку a l'anglaise 3}, как он говорил, состоявшему из бифштекса, холодного ростбифа и яиц с ветчиной, все это он запивал кофе или чаем. В остальное время он придерживался нашего домашнего режима.
Перед обедом он делал ручную гимнастику. Помню, раз в аллее сада я застала его неожиданно за гимнастикой и хотела убежать, но он остановил меня, сказав, что через несколько минут кончит свои упражнения и тогда позовет проэкзаменовать меня, по просьбе матери, по моим научным занятиям. Я тогда брала частные уроки по всем предметам школьного курса у симбирских учителей, и, между прочим, по русскому языку со мной занимался другой незабвенный мой дядя, Николай Александрович Гончаров, который много лет был учителем в симбирской гимназии. Он же занимался со мной год и немецким языком. По-французски я говорила и писала свободно, так как с малых лет у нас была в доме француженка.
Возвращаюсь назад Итак, Иван Александрович позвал меня, и экзамен начался. Все шло отлично. Вдруг дядя задал вопрос:
- А скажи-ка, кто изобрел книгопечатание?
- Не знаю, - был мой ответ.
- Возможно ли? Что ты, милая? Чему же тебя учили?! Не знать этого! Дядя страшно волновался при этом, бранил учителей и всех и всё. А я, чувствуя себя ни в чем не виноватой, принялась плакать.
Увидев мои слезы, дядя понял не заслуженную мною обиду, продолжал спрашивать, но уже вовсе не строгим голосом: "Ну, а кто был Лютер?" Опять "не знаю"; но я сказала это таким испуганным голосом, что дядя махнул рукой, прибавив: "Да это ни на что не похоже!"
Объяснилось все это тем, что я еще не проходила истории того периода, и потому мне недоставало многих познаний Я была слишком неразвита для моего возраста, хотя была очень любознательна и любила учиться. Дядя решил, что лучше будет отвезти меня в Москву, в пансион, где уже кончили курс мои кузины Кирмаловы. Вот чем закончился мой несчастный экзамен.
Затем, в последующие дни, было несколько совещаний у мамы с обоими братьями. Конференция кончилась тем, что было решено отвезти меня в Москву.
В первых числах августа 3] начались сборы в Москву для помещения меня в пансион. Бедная моя мать, страшно любившая меня и притом никуда до того времени не выезжавшая из Симбирска за всю жизнь, начинала с грустью поговаривать о предстоящей разлуке со мной и о дальнем неведомом путешествии, которое ее ужасало. Отец не мог нас сопровождать, имея на руках труднобольных; в то время не было еще везде железных дорог: приходилось до Нижнего ехать Волгой, а оттуда до Москвы на почтовых лошадях.
Неудивительно, что моя мать была в нерешимости, доходила почти до отчаяния, а между тем надо было меня везти в Москву. Вот горе-из-за меня! Анна Александровна решилась на все жертвы; вероятно, ее всячески уговаривал брат Иван Александрович. Чтобы успокоить ее, он предложил сопутствовать нам до Москвы и помочь ей отыскать пансион и устроить меня там, для чего ему потребовалось бы пробыть в Москве несколько лишних дней. Все это показывает, до чего он любил сестру.
Благополучно добрались мы до Нижнего, хотя путешествие наше было сопряжено с большими неудобствами на пароходе. От Нижнего ехали в двух тарантасах, на почтовых. Помню, около Владимира проезжали Муромскими лесами. Поговаривали о случаях нападения и ограбления путешественников. Даже ямщики - и те спешили проезжать некоторые места, зная, где может представиться опасность; им, привычным, и то было жутко.
Помню, что хотя и редко, но встречались пикеты, охранявшие путь. Дядя часто смотрел в заднее окошечко повозки, не отрезаны ли наши чемоданы. Мы от страха мало спали, плохо ели, обеда почти нигде нельзя было достать, и знаменитый наш писатель весьма плохо себя чувствовал, бранил русские дороги, вспоминая заграничный комфорт и пути сообщения. Однажды утром ему сделалось даже дурно, и он напугал нас.
Мы, по счастью, тогда еще не знали железных дорог и не так страдали от всех этих неудобств и лишений.
Наконец благополучно добрались до Москвы и там через два дня простились с Иваном Александровичем, с которым я уже не видалась до зимы 1865 года.
[II]
Когда Левенштейны (в 1867 году) приехали в Баден-Баден, то, пробегая Cur-Liste 4}, доктор был приятно поражен, прочитав имя M-r Jean Gontscharoff среди приезжих. Помня привычку знаменитого дядюшки рано вставать, они решили навестить его утром на следующий день. Встав в 5 часов, они около шести постучались в его дверь, за которой слышался плеск воды. По голосу Иван Александрович сейчас же узнал Евдокию Петровну. "Это ты, Дунечка? Очень рад. И с мужем? Принять сейчас не могу, делаю ablution 5}. Пройдите в сад; я приведу себя в порядок и явлюсь к вам". Около получаса ждали они его на променаде около гостиницы, одной из лучших в городе. "Радушно и вполне по-родственному, - рассказывала Евдокия Петровна, - встретил он нас, по-прежнему называя меня Дунечкой... Он угостил нас кофе, повел на дальнюю, ежедневную свою прогулку, причем часто справлялся, не устала ли я, не жела. ли я отдохнуть". Евдокия Петровна не помнит всех разговоров за этот день, но он оставил в ней воспоминание чего-то светлого, приятного, родного. Возвращаясь с прогулки, они встретили расфранченных дам, которые окликнули Гончарова по-русски. Он извинился, оставил Левенштейнов и подошел к этим дамам, которые изредка, во время разговора с ним, лорнировали Левенштейнов, что было тем неприятно, особенно потому, что они были в дорожных, далеко не элегантных костюмах. Они отошли в сторону, чтобы не помешать дяде. Вскоре он их нагнал в веселом настроении, извинился, что оставил их, и пригласил пройти в курзал, где показал рулетку. На счастье "Дунечки" он бросил два-три золотых и проиграл их; а затем угостил их обедом за table d'hotes. Они несколько стеснялись своих костюмов среди beau mond'a этой людной гостиницы. Иван Александрович успокаивал их, говоря, что это сущий пустяк, был очень весел и настойчиво удерживал их до другого дня, когда обещал показать им окрестности Баден-Бадена, которые - как он говорил - очень интересны. После обеда они отправились, втроем, в парк. Но темные тучи заволокли с запада все небо, чувствовался холодок, какай-то сыроватый туман оседал в низинах... Гончаров замолчал, а затем, круто повернувшись к своим спутникам, вдруг сказал: "А знаете что? Поезжайте-ка лучше сегодня. Погода, видимо, переменится, пойдут дожди, и это продлится недели две. Я это чувствую уже на себе: сейчас ухо заболело, стреляет. Неможется мне. Уезжайте лучше; что вы тут будете делать? Ничего более интересного здесь нет. Уезжайте!" Эта перемена в его настроении очень поразила Левенштейнов; но, видя его нервное, возбужденное состояние, они поспешили успокоить его, обещали уехать в тот же день и, поблагодарив за его любезность, распрощались с ним. Он облегченно вздохнул, пожал им руки и пожелал счастливого пути.
1} Нервный тик (франц).
2} Сокрушительные удары времени (франц).
3} На английский лад (франц.).
4} Список приезжих (франц.).
5} Обливание (франц.).
ПРИМЕЧАНИЯ
(А. Д. Алексеев, О. А. Демиховская)
Левенштейн Евдокия Петровна (1848-1911) - приемная дочь сестры Гончарова, А. А. Музалевской, вышедшая замуж за московского врача-психиатра, имевшего свою лечебницу для бедных. И. А Гончаров относился к ней с большой симпатией.
Воспоминания Е. П. Левенштейн записаны с ее слов Е. А. Гончаровой и состоят из двух разрозненных частей. Первая часть опубликована М. Ф. Суперанским в сборнике "Огни" (кн. 1, Пг. 1916, стр 179-184), вторая - в "Вестнике Европы", 1908, Л 12, стр. 44-45. Печатается по вышеуказанным публикациям.
1] В книге "Фрегат "Паллада"".
2] Находясь за границей, Гончаров отдыхал и лечился преимущественно в Мариенбаде и в Булони.
3] Гончаров выехал из Симбирска на пароходе 11 или 12 июля 1862 года.
(Сканировано по изданию: И. А. Гончаров в воспоминаниях современников/ Подготовка текста и примеч. А. Д. Алексеева и О. А. Демиховской. Л., 1969.)
А. Ф. Кони
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
Сто лет назад, в годину грома и молний Отечественной войны, у нас родились два человека, которым суждено было сыграть выдающуюся роль в родной словесности. Оба горячо и каждый по-своему любили Россию. Один, твердый во взглядах на её призвание и нужды и стойкий в проведении в жизнь своих убеждений, сыпал, как кремень, при каждом прикосновении с действительностью искры ума, таланта, любви, негодования... Это был Герцен. А другой был тот, в чью память мы собрались здесь сегодня и кого хотим помянуть. Замечательно, что в тот же год в Англии родился Диккенс, столь любимый современными ему поколениями русских читателей и во многом сходный с Гончаровым в приемах и объеме своего творчества. Только что говоривший на этой кафедре академик Овсянико-Куликовский уже сказал нам о художнике великой силы, о бытописателе, умевшем в ярком образе отметить такое присущее нашей жизни явление, как обломовщина. Но рядом и в неразрывной связи с творчеством писателя стоит его личность. На ней хочу я преимущественно остановиться, хотя бы и в кратком очерке. На это дает мне право давнее знакомство с Гончаровым, которого я видел и слышал в первый раз еще вскоре по возвращении его из кругосветного плавания. В начале семидесятых годов я снова встретился с ним и, сойдясь довольно близко, пользовался его неизменным дружеским расположением в течение последних пятнадцати лет его жизни. В моем жилище хранится толстая пачка его писем, полных живого и глубокого интереса, а со стен на меня смотрят Вера с Марком Волоховым и Марфинька в оригинальных рисунках Трутовского с посвящением их автору "Обрыва", завещанные мне последним. С мыслью о Гончарове связывается у меня благородное воспоминание о впечатлениях юных лет в незабвенные для русской литературы времена, когда в конце пятидесятых годов, как из рога изобилия, сыпались чудные художественные произведения, когда появились "Дворянское гнездо" и "Накануне", "Тысяча душ" и "Обломов", "Горькая судьбина" и "Гроза".
Не могу, однако, не коснуться свойств, условий и содержания его творчества. Обращаясь к свойству последнего, необходимо отметить его крайний субъективизм, т. е. тот личный характер, которым оно всецело проникнуто. Произведения Гончарова прежде всего - изображение и отражение его житейских переживаний. Он сам сказал: "Что не выросло и не созрело во мне самом, чем я сам не жил, то недоступно моему перу; я писал свою жизнь и то, что к ней прирастало". Поэтому его личность тесно связана с его творчеством, и на последнем постепенно отражается все, что трогало его душу, как теплое воспоминание, как яркая действительность или как захватывающая его мысль и внимание картина. Говоря однажды о Толстом, он писал Валуеву, что Толстой набрасывает на жизнь широкую сеть и в нее захватывает разнообразные явления и множество лиц. Но то же самое можно сказать и о нем самом. Зорко приглядываясь и чутко прислушиваясь к образам и звукам "прираставшей" к нему жизни, он переживал их в душе, и потому в его произведениях чувствуется не меньше "сердца горестных замет", чем "ума холодных наблюдений"; потому в них под прозрачной тканью вымысла видятся, как и у Толстого, частые автобиографические подробности. Вообще, если искать сравнения между крупными русскими писателями, то Гончаров ближе других подходит к Толстому, и у него, как у Толстого, почти отсутствует юмор. Изображая жизнь, он, конечно, не мог не отмечать вызывающих улыбку или смех людей, встречавшихся ему на жизненном пути или перевоплощаемых им в своих произведениях. Обломовский Захар, вестовой на "Палладе", "слуги" содержат в себе черты неподдельного комизма. Но это лишь плод тонкой наблюдательности Гончарова. Там же, где он пытался создавать сложные комические положения, это ему не удавалось. Достаточно припомнить слабый в художественном отношении и почти карикатурный образ Крицкой в "Обрыве". Написав большой юмористический рассказ "Иван Саввич Поджабрин", Гончаров потом сам от него открещивался и не допускал перепечатки его в полном собрании своих сочинений. У него, как и у Толстого (Толстого первой половины его творчества), нет в произведениях политических или общественных вопросов, которые ставились бы или разрешались автором. И это потому, что Толстого более всего интересовала нравственная природа человека вообще, независимо от условий, в которых ей суждено проявляться, а Гончаров стремился изобразить национальную природу русского человека, народные его свойства, независимо от того или иного общественного положения. Поэтому, вероятно, Гончаров менее других выдающихся русских писателей был понятен иностранцам, и лишь много лет спустя после его кончины на него обратил внимание германской публики талантливый писатель Евгений Цабель, а уже в самые последние годы им стала заниматься и восхищаться итальянская критика. Может быть, некоторым сходством в творчестве объясняется и то особенно теплое чувство, с которым отзывался при мне Толстой о Гончарове в 1887 году в Ясной Поляне, прося меня передать ему сердечный привет и выражение особой симпатии, несмотря на весьма малое с ним личное знакомство.
Другой особенностью, свойственной творчеству Гончарова, была выношенность его произведений, благодаря которой "Обломов" и "Обрыв"- в особенности второй-писались долгие годы и появлялись сначала в виде отдельных, имевших целостный характер, отрывков. Так, "Обломову" за несколько лет предшествовал "Сон Обломова", а "Обрыву" - тоже за много лет "Софья Николаевна Беловодова". Он точно следовал рецепту замечательного художника-живописца Федотова: в деле искусства надо дать себе настояться; художник-наблюдатель - то же, что бутыль с наливой: вино есть ягоды есть нужно только уметь разлить вовремя. Медлительному, но творческому духу Гончарова была несвойственна лихорадочная потребность высказываться по возможности немедленно, и этим в значительной степени объясняется гораздо меньший успех "Обрыва" сравнительно с двумя первыми его романами: русская жизнь опередила медлительную отзывчивость художника. Ему было свойственно страдальчески переживать тяжелые муки рождения своих произведений. Он часто сомневался в себе, падал духом, бросал написанное и принимался за начатое произведение снова, то не доверяя своим силам, то пугаясь разгара своей фантазии. Так, он писал в 1868 году М. М. Стасюлевичу: "Морально вы осмысливали мой труд ("Обрыв"), предсказывая его значение, и поселили и во мне, вместо крайней недоверчивости к себе самому, некоторую уверенность к написанному и бодрость - идти дальше. Я смелее гляжу вперед-и плодом этого то, что все остальное... стоит готовое у меня в голове, как будто то, что крылось так долго где-то внутри меня, вдруг высыпало, как сыпь, наружу. Ах, если б уж совсем в течение лета нарвало и прорвалось. Как это нужно! Тогда бы я оправдался и перед публикой в долгом молчании...". "Перспектива вся открылась передо мной до самой будущей могилы Райского, с железным крестом, обвитым тернием". В том же году он писал тому же: "У меня мечты, желания и молитвы Райского кончаются, как торжественным аккордом в музыке, апофеозом женщин, потом родины, России, наконец, божества и любви... Я боюсь, боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов". Но он, однако, знал цену этих мук творчества. Когда в половине восьмидесятых годов почетный академик К. Р. сообщил ему, что трудится над большой поэмой, которая стоит ему неимоверных усилий, то радостных мгновений, то минут отчаяния, он отвечал: "Вот эти-то минуты отчаяния и суть залоги творчества! Это глубоко радует меня... Если б их не было, а было одно только доброе и прекрасное, тогда хоть перо клади".
К условиям творчества Гончарова, кроме его медлительности, относилась и тяжесть самого труда, как орудия творчества. Сомнения автора касались не только существа его произведений, но и самой формы в ее мельчайших подробностях. Это доказывают его авторские корректуры, которые составляли, подобно корректурам Толстого, истинную муку редакторов. В них вставлялись и исключались обширные места, по нескольку раз переделывалось какое-либо выражение, переставлялись слова, и уже подписанная к печати корректура внезапно требовалась обратно для новой переработки. Поэтому рабочая сторона творчества доставалась ему тяжело. "Я служу искусству, как запряженный вол",-писал он Тургеневу. Вспоминая свою литературную деятельность, он сказал мне в 1880 году: "Помните, что говорит у Пушкина старый цыган Алеко: "Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское шутя", вот так и я пишу^горестно и трудно, а другим оно дается шутя". Эта "горестная и трудная" работа для успеха своего нуждалась и в особой обстановке. С одной стороны, он - русский человек до мозга костей-не был способен к размеренному, распределенному на порции труду - по столько-то страниц в день, как это делал, например. Золя, а с другой стороны, когда внешние обстоятельства и личное настроение складывались гармонически, он был способен работать запоем. Из письма его к С. А. Никитенко в 1868 году из Киссингена оказывается, что он, засев за "Обрыв" после разных колебании, написал в две недели своим убористым и мелким почерком 62 листа кругом, что должно составить от 12 до 14 печатных листов. При этом, однако, он нуждался в абсолютной тишине. "В работе моей, - писал он Стасюлевичу из Мариенбада,-мне нужна простая комната... с голыми стенами, чтобы ничто даже глаз не развлекало, а главное, чтобы туда не проникал никакой внешний звук, чтобы могильная тишина была вокруг и чтоб я мог вглядываться, вслушиваться в то, что происходит во мне, и записывать. Да, тишина безусловная в моей комнате и только!" А затем он извещал Стасюлевича, что против него поселилась какая-то "чертова кукла" и повергла его в полное бездействие почти непрерывной в течение дня игрой на фортепиано.
К условиям творчества Гончарова надо отнести отсутствие полной свободы для литературных занятий. Он не был обеспечен материально, как Толстой и Тургенев, а этого обеспечения литературный труд, даже в самом разгаре писательства Гончарова, давать не мог даже для скромной жизни. Достаточно сказать, что за уступку авторского права на все свои сочинения в половине восьмидесятых годов он получил всего 16 тысяч рублей. Современные гонорары писателям, далеко не имеющим значения Гончарова, показались бы в то время совершенно баснословными. Поэтому ему приходилось служить и, следовательно, отдавать значительную часть своего времени государственной службе. Ему пришлось занимать место цензора, быть редактором официальной "Северной почты" и окончить службу по выслуге скромной пенсии в звании члена главного управления по делам печати. К своим служебным обязанностям он относился, как человек строгого долга, глубоко добросовестно в смысле труда и с благородной самостоятельностью мнений, всегда направленных на защиту мысли, дарований и правды. Это было не легко и требовало усиленной письменной работы. В записках Никитенко содержатся неоднократные указания на его деятельность в этом именно смысле. Обнародованные в последнее время доклады его в Главном управлении показывают, с какой настойчивой убедительностью и искусством приходилось ему оберегать литературную ниву от того, чтобы она не обратилась в "поле, усеянное мертвыми костями". А между тем его думу и душу тянуло к писательству. Он сам говорит о своих первых впечатлениях на этом поприще: "Чтение и писание выработало мне, однако, перо и сообщило, бессознательно, писательские приемы и практику. Чтение было моей школой, литературные кружки того времени сообщили мне практику, т. е. я присматривался к взглядам, направлениям и т. д. Тут я только, а не в одиночном чтении и не на студенческой скамье, увидел - не без грусти - какое беспредельное и глубокое море литература, со страхом понял, что литературу, если он претендует не на дилетантизм в ней, а на серьезное значение, надо положить в это дело чуть не всего себя и на всю жизнь!.."
Наконец, на творчество его влияли и физические недуги. Нервная восприимчивость, сидячая по необходимости жизнь и сильная склонность к простуде отражались на его настроении иногда в чрезвычайно сильной степени. До чего это доходило - видно из письма его к Стасюлевичу в 1868 году из Киссингена: "Подул холод, - пишет он, - нашли тучи - и все это легло мне на душу, и опять наверх всплыли мутные подонки, опять я бросил перо, повесил голову и стал видеть наяву скверные, преследующие меня сны! Опять дружеские лица стали превращаться в врагов, кивать на меня из-за угла... Мне опять стало душно, захотелось и в воду, и в огонь, и в Новый свет бежать, и даже уйти совсем на тот свет... Писать ли дальше?"
Переходя к содержанию творчества, мы видим в нем полное подтверждение заявления Гончарова о том, что он писал только то, что переживал, что чувствовал, что сам близко видел и знал. Поэтому главнейшие его произведения не имеют в себе ничего условного, отвлеченного или фантастического и вообще ничего или почти ничего сочиненного. Это все художественные отклики на жизнь, почерпнутые из реальной действительности. Сначала в них содержится личное переживание-"Обыкновенная история", затем рисуется типическое явление русской жизни - "обломовщина", - наконец, в "Обрыве" развертывается обширная бытовая картина с выхваченными из жизни лицами, группирующимися вокруг "бабушки", за которою автору видится другая великая бабушка - Россия. Содержание "Обыкновенной истории" несложно: недаром она обыкновенная. Маменькин сынок, идеалист и романтик, явившись в Петербург к прозаическому и положительному дяде, горячо - более на словах, чем на деле-воюет за жизнь, какою он ее себе представлял, против жизни, какая ему является в действительности, и под конец не только признает себя побежденным, но и смеется вместе с дядей над своими заблуждениями. Спор с дядей переходит довольно быстро в согласный дуэт, гармонию которого нарушает лишь скорбный образ дядиной жены, вянущей и угасающей в атмосфере роскоши и бездушного довольства призрачными благами жизни. Но не представляет ли этот романособенно в первой его части - личные переживания Гончарова и нечто приросшее к ним? Ведь и он родился в мирном уголке, где жизнь текла лениво и почти неслышно.
..."Самая наружность родного города, - пишет он в своих воспоминаниях, - не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Те же, большею частью деревянные, посеревшие от времени дома и домишки, с мезонинами, с садиками, иногда с колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, бесконечные заборы; те же деревянные тротуары, с недостающими досками, та же пустота и безмолвие на улицах, покрытых густыми узорами пыли. Вся улица слышит, когда за версту едет телега или стучит сапогами по мостовой прохожий. Так и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонные окна с опущенными шторами и жалюзи, на сонные физиономии сидящих по домам или попадающиеся на улице лица. "Нам нечего делать!-зевая, думает, кажется, всякое из этих лиц, глядя лениво на вас,-мы не торопимся, живем - хлеб жуем да небо коптим!" Те же воспоминания говорят нам, как пошли затем годы учения в Москве-тоже спокойно, без сучка и задоринки, все было патриархально и просто, ходили в университет, как к источнику за водой, запасались учением, кто как мог, и, кончив свои годы, расходились. Московские уголки и затишье, отдаленные от шума и сует, были удобны тем, что студенты жили каждый своей особой жизнью, не отвлекаясь от занятий ничем посторонним, а затем наступил возврат в родную Обломовку.
"Меня охватило,- рассказывает Гончаров, - как паром, домашнее баловство. Многие из читателей, конечно, испытывали сладость возвращения, после долгой разлуки, к родным, и поймут, что я на первых порах весь отдался самой неге ухода, внимательности. Домашние мешают пожелать чего-нибудь; все давно готово, предусмотрено. Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда - и все не наглядятся на меня".
Там, в этой обстановке, среди неприхотливого doice far niente, забывая немногое, чему научился теоретически, и лениво предаваясь маниловским мечтам, Гончаров мог бы войти в обычную колею обломовщины... Но натура его, богато одаренная и возвышенная, энергическая и живая, с этим примириться не могла. Он жаждал новизны и чувствовал, что "даль зовет". Этой далью на первое время был Петербург, город, где, по мнению немецкого писателя, "улицы всегда мокры, а сердца всегда сухи", город, уподобляемый громадной кузнице, в которой почти неизбежно или обожжешься, или замараешься. Здесь Гончарову пришлось позабыть привольное житье в родных палестинах. Оказалось нужным начать учиться вновь и переучиваться и пробиваться среди новых встреч и отношений. В письмах и воспоминаниях его об этом времени подчас слышится, что для него столица сыграла роль Адуева-старшего. Вот почему, когда представился случай уехать вокруг света, он, уже обжившийся в Петербурге, уже занявший видное место в литературе, с радостью ухватился за возможность его покинуть и освежить свои впечатления.
"Обыкновенная история" была своего рода эпопеей личности, приходящей в столкновение с прозой жизни. Но русская жизнь, пробуждаясь от многолетнего сна и застоя, являла не одну прозу. Из ее недр слышался призыв к развитию этой личности, к деятельности, к борьбе с косностью. На этот зов жизни Гончаров отозвался другой эпопеей, но в более широких рамках распространенного явления природы русского человека. И это был- Обломов. Но жизнь шла вперед. В ней происходила борьба старого с новым, чувствовался перелом, и было очевидно, что старый быт уходит. Гончаров никогда не отрицал темных сторон этого быта, но он умел ценить и любить его добрые патриархальные стороны, и совершавшийся на его глазах перелом не мог не вызвать в нем любящего прощального взгляда на то доброе, что уходило из русской жизни безвозвратно. Да и "сеть" не могла оставаться праздной, и он решился закинуть ее в знакомом ему уголке родины. Он сам говорит об "Обрыве": "На многих пигмеях, в крошечном озере, отразилось состояние брожения, в котором находилась Россия, и происходившая борьба старого с новым. Я следил за отражением этой борьбы на знакомом мне уголке, на знакомых лицах". Настоящей героиней романа, конечно, является Вера, и около нее, в лучах ее образа бледнеет центральная фигура всего повествования-Райский. В изображении Веры слышатся житейские переживания самого Гончарова. Между петербургской светской девицей тех годов, когда Гончаров приехал в столицу и стал наблюдать, и Верой шестидесятых годов-целая пропасть. Одна- Наденька из "Обыкновенной истории", кисейная барышня и красивая "букашка", безвольно подчиняющаяся окружающему укладу и указке старших; другая'-по объяснению самого автора, жертва "в борьбе старой жизни с новою... Она сама знала, что отжило в старой, и давно тосковала, искала свежей, осмысленной жизни, хотела сознательно найти и принять новую правду". Одна-вся в рутине прошлого, другая - на пороге неизвестного, но манящего будущего, и между ними в лице Ольги из "Обломова" - чистое и гордое существо с ее бесплодной жертвой и торжественным "никогда!", разбивающимся о нравственную дряблость Ильи Ильича. В возвышенном образе Веры, готовой на жертву безусловно, со всею полнотою любви, и горячо отвергающей условную любовь "на срок", Гончаров изобразил свой идеал русской женщины. Он явился глубоким и горячим защитником равноправия в любви и в оценке того, что принято называть "падением женщины". В своих малоизвестных заметках, напечатанных в "Русском обозрении" 1895 года, Гончаров подробно разъясняет эту сторону своего "Обрыва": "Меня давно с молоду занимал один из важных, вопиющих, по своей несправедливости вопросов: это вопрос о так называемом падении женщин. Меня всегда поражали: во-первых - грубость в понятии, которым определялось это падение, а во-вторых - несправедливость и жестокость, обрушиваемые на женщину за всякое падение, какими бы обстоятельствами оно ни сопровождалось, - тогда как о падении мужчин вовсе не существует никакого вопроса... Падение женщин определяют обыкновенно известным фактом, не справляясь с предшествующими обстоятельствами: ни с летами, ни с воспитанием, ни с обстановкой, ни вообще с судьбой виновной девушки. Ранняя молодость, сиротство или отсутствие руководства, экзальтация нервической натуры-ничто не извиняет жертву, и она теряет все женские права на всю жизнь, и нередко, в безнадежности и отчаянии, скользит дальше по тому же пути. Между тем общество битком набито такими женщинами, которых решетка тюрьмы, то есть страх, строгость узды, а иногда еще хуже - расчет на выгоды, - уберегали от факта, но которые тысячу раз падали и до замужества, и в замужестве, тратя все женские чувства на всякого встречного, в раздражительной игре кокетства, легкомыслия, праздного тасканья, притворных нежностей, взглядов и т. п., куда уходит все, что есть умного, тонкого, честного и правдивого в женщине. Мужчины тоже со своей стороны поддерживают это и топят молодость в чаду разгула страстей и всякой нетрезвости, а потом гордо являются к брачному венцу, с болезненным или изношенным организмом, последствиями которого награждают девственную подругу и свое потомство,-как будто для нас, неслабого пола, чистота нравов вовсе необязательна". Таким образом, еще в шестидесятых годах вопрос о добрачном целомудрии мужчин, разработанный скандинавскими писателями и в особенности Бьернстерне-Бьернсоном в его "Перчатке", был поставлен в русской литературе, т. е. с лишком сорок лет назад, Гончаровым.
Наряду с такими драгоценными вкладами в нашу словесность, как "Обыкновенная история", "Обломов" и "Обрыв", в литературные произведения Гончарова вкраплены необыкновенно живые воспоминания, полные ярких красок и живой наблюдательности. Таковы, например, "Слуги" и в особенности "Фрегат "Паллада". Сюда же надо отнести блестящий критический анализ "Горя от ума" "Мильон терзаний", содержащий в себе никем до сих пор не превзойденную по тонкости и глубине оценку Чацкого, который "сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей". Но если бы Гончаров написал лишь одного "Обломова", то и этого было бы достаточно, чтобы признать за ним непререкаемое право на одно из самых выдающихся мест в первом ряду русских писателей. Его Обломов так же бессмертен, как Чичиков, и так же, как он, меняет обличье и обстановку, оставаясь одним и тем же в существе. Современный Чичиков, конечно, давно уже продал и, вероятно, весьма выгодно свою бричку и расстался с Селифаном. Он ездит в купе первого класса скорых поездов, состоит членом какой-нибудь торговой компании или кредитного товарищества и промышляет не мертвыми душами, а искусственно вздутыми акциями для составления фиктивного складочного капитала "общества прикосновения к чужой собственности", как выражался покойный Горбунов. И Обломов уже не лежит на диване и не пререкается с Захаром. Он восседает в законодательных или бюрократических креслах и своей апатией, боязнью всякого почина и ленивым непротивлением злу сводит на нет вопиющие запросы жизни и потребности страны,-или же уселся на бесплодно и бесцельно накопленном богатстве, не чувствуя никакого побуждения прийти на помощь развитию производительных сил родины, постепенно отдаваемой в эксплуатацию иностранцам.
Нужно ли говорить о прекрасном языке Гончарова, богатом красками, сильном и сочном? Если сравнивать писателя с художником-живописцем, то широкая кисть Гончарова скорее всего напоминает Рубенса, как нежные и пленительные контуры Тургенева напоминают письмо Рафаэля, а яркие образы Толстого - "светотень" Рембрандта.
Оценка литературной деятельности Гончарова была не всегда одинакова. Он испытал и общее, почти восторженно: признание, и холодность невнимания, и тупость непонимания, и то, что называется succes d'estime. Приветствуемый, хотя и не без некоторых оговорок, Белинским, автор "Обыкновенной истории", "Обломова" и "Фрегата "Паллады"" сделался любимцем читателей и за свои произведения и за тот внутренний смысл Обломова, который был указан и разъяснен Добролюбовым. Но "Софья Николаевна Беловодова" была принята холодно, а к "Обрыву" критика отнеслась во многих случаях с суровостью совершенно незаслуженного разочарования. Нашлись рецензенты, силившиеся дать почувствовать "маститому" автору, что Тарпейская скала находится недалеко от Капитолия. Ему не пришлось, подобно Тургеневу за "Отцов и детей" и Достоевскому за "Преступление и наказание", выслушать тупые и злобные упреки в оклеветании молодого поколения, - это было бы в конце шестидесятых годов уже устарелым приемом, - но пришлось узнать, что он певец крепостного права, что он не понимает и совершенно не знает русского человека и русской жизни, и наряду с этим выслушать упрек в том, что, рисуя образ своей "бабушки", он дошел до того, что "даже не пощадил ее святых седин".
К этим внешним терниям, язвившим его впечатлительную душу ("с такой натурой, как моя, - писал он Стасюлевичу, - нужна не крапива смеха и не грубые удары всевозможных бичей"), присоединялись и другие, внутренние, коренившиеся в болезненном настроении этой души. Среди них первое место занимало жившее в ней чувство к Тургеневу, если и не прямо враждебное, то во всяком случае полное крайнего недоверия, смешанного с какою-то смутною боязнью. О причинах разлада двух видных русских художников существует много легенд, но ни одна из них не уясняет основного источника этого разлада. О зависти здесь не могло быть и речи: каждый из них представлял большую самодовлеющую величину, и Гончаров не отрицал крупного таланта Тургенева. Некоторые предполагали, что разлад начался после того, как в Базарове Гончаров усмотрел предвосхищение созревшего у него образа Марка Волохова, с которым он познакомил Тургенева в конце пятидесятых годов, когда они еще встречались за границей. С этого будто бы времени начались жалобы Гончарова на то, что Тургенев-непосредственно и через знакомых-выпытывает у него сюжеты задуманных произведений и пользуется ими для себя и для своих иностранных литературных друзей. Такая более чем странная причина разлада во всяком случае должна была возникнуть гораздо ранее появления "Отцов и детей", так как еще в 1860 году в "Искре" (Л 19 от 20 мая) напечатано было стихотворение Обличительного поэта (Д. Минаева) "Парнасский приговор", в котором русский писатель, "вялый и ленивый, неподвижный, как Обломов, встав безмолвно и угрюмо, окруженный тучей гномов", приносит богам жалобу на собрата и говорит: "Он, как я, писатель старый, издал он роман недавно, где сюжет и план рассказа у меня украл бесславно... У меня герой в чахотке; у него портрет того же; у меня Елена имя, у него - Елена тоже, У него все лица так же, как в моем романе, ходят, пьют, болтают, спят и любят"... Парнасский суд решает обречь виновного играть немую роль купца в "Ревизоре" (зимою 1859 - 60 года в спектаклях, устроенных Литературным фондом в Пассаже, Тургенев действительно появился в группе купцов, которым городничий Писемский - говорит: "Жаловаться, аршинники, самоварники?!"), а жалобщика обрекает поехать путешествовать вокруг света для написания в дороге нового творения. Отсюда видно, что о жалобах Гончарова на Тургенева было известно уже в начале 1860 года. Быть может, это ревнивое отношение к произведениям Тургенева явилось у Гончарова и раньше, так как в одном из писем к Никитенко он намекает, что бабушка Татьяна Марковна в "Обрыве" была задумана гораздо раньше, чем тетушка Лизы, Марфа Тимофеевна, в "Дворянском гнезде". В письме к Тургеневу от 28 марта 1859г. он писал: "Сцене бабушки и внучки вы дружески и великодушно пожертвовали довольно слабой сценой вашей повести". Таким образом, по-видимому, ревнивый разлад с Тургеневым начался давно и притом без всякого основания, так как однородные явления жизни, воспринимаемые самостоятельными художниками, могли создавать в их душе сходные в существе, различные во внешних проявлениях образы. А ввиду глубины их таланта и творческой силы, ни один из них не нуждался в каких-либо заимствованиях. Известно, что Тургенев, в силу каких-то неуловимых особенностей и мягкости своего характера, вызывал у некоторых сомнение в своей искренности и этими своими свойствами возбуждал против себя. Достаточно припомнить злобный памфлет Достоевского в "Бесах", ссору Тургенева с Толстым, отзыв о нем Додэ в "Trente ans de Paris".Чем-нибудь из этих своих свойств он, вероятно, бессознательно уязвил и Гончарова, и на этой почве у последнего выросла так называемая навязчивая идея, подобная той, которой, как ныне оказывается, страдал драматург Стриндберг. Такая идея, как известно, сначала является лишь временами, отгоняемая рассудком, но затем рассудок перестает с нею бороться, и она овладевает вполне сознанием своей жертвы и образует своего рода безумный круг представлений, в котором уже все ей подчиняется и ею внушается... Так было и с Гончаровым, который вообще отличался мнительностью. Это состояние его, как видно из писем к С. А. Никитенко, дошло до своего апогея в 1869 году, когда под влиянием встреч за границей с какими-то русскими дамами, которые, догадываясь о его больном месте, бередили своими намеками его душевную рану и "для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар", он даже хотел прекратить печатание "Обрыва", содержание которого будто бы уже передано Ауэрбаху и будет использовано последним в его новом романе. Под влиянием этого состояния он написал в 1868 году Стасюлевичу: "Вы знаете, чего я хотел в своем сочинении, какие честные мысли, добрые намерения руководили мной, и как много теплой любви... к людям и к своей стране разлито в этом моем фантастическом уголке России, в его обитателях и т. д. ... И вдруг, не только безучастие, а какой-то злой смех, глухая вражда вместо ласки и участия - еще до появления труда приветствуют меня!.. Хочется мне скорее кончить и отдать вам, чтобы поскорее покраснели хоть немного те, которые, ничего во мне не понимая и не допуская никакой исключительности в натуре, ничего не нашли другого, кроме злого и грубого смеха, да еще предали меня заживо в чужие руки на глумление и на съедение". В другом письме он пишет: "Хочется сказать в Райском все, что я говорил вам о себе лично... Вызнаете, какой я дикий, какой я сумасшедший...- а я больной, загнанный, затравленный, не понятный никем и нещадно оскорбляемый самыми близкими мне людьми, даже женщинами, всего более ими, кому я посвятил так много жизни и пера... Жду утешения только от своего труда: если кончу его, этим и успокоюсь и больше ничем - и тогда уйду, спрячусь куда-нибудь в угол и буду там умирать. К несчастью, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни дворянского, ни птичьего, и я сам не знаю, куда я денусь"... Последний отголосок этого состояния видел и я, когда летом 1880 года в Дуббельне, ссылаясь на трудность приобретения и дороговизну ставшего редкостью "Обломова", я уговаривал его издать полное собрание своих сочинений. "Такой совет мне мог бы дать,- сказал мне, мрачно потупясь, Гончаров,- лишь недруг: разве вы хотите, чтобы меня стали обвинять в том, что я обокрал Тургенева?!" Мне стало ясно, что навязчивая идея завершила свой круг... После смерти Тургенева эта болезненная мнительность прошла. Гончаров перестал иносказательно говорить о Тургеневе и в отзывах стал отдавать ему справедливость. Так, уже через год после кончины последнего, он писал почетному академику К. Р.: "Тургенев... воспел, т. е. описал русскую природу и деревенский быт в небольших картинах и очерках ("Записки охотника"), как никто!", а в 1887 году, говоря о "безбрежном, неисчерпаемом океане поэзии", писал, что в него надо "чутко всматриваться, вслушиваться с замирающим сердцем... заключать точные приметы поэзии в стих или прозу (это все равно: стоит вспомнить тургеневские стихотворения в прозе)"...
Те, кто встречал лишь изредка Гончарова или предполагал найти в нем живое воплощение одного из его наиболее ярких образов, охотно отождествляли его с 06-ломовым, тем более, что его грузная фигура, медлительная походка и спокойный, слегка апатичный взор красивых серо-голубых глаз давали к этому некоторый повод. Но в действительности это было не так. Под спокойным обличьем Гончарова укрывалось от нескромных или назойливо-любопытных глаз тревожная душа. Главных свойств Обломова - задумчивой лени и ленивого безделья - в Иване Александровиче не было и следа. Весь зрелый период своей жизни он был большим тружеником. Его переписка могла бы составить целые томы, так как он поддерживал корреспонденцию с близкими знакомыми часто и аккуратно, причем письма его представляют прекрасные образцы того эпистолярного рода, который был привычен людям тридцатых и сороковых годов. Это была неторопливая беседа человека, который не только хочет подробно и искренно поделиться своими мыслями и чувствами и рассказать о том, что с ним происходит, но и вызвать своего собеседника рядом вопросов, участливого внимания и милых шуток на такое же повествование. Современный человек почти уже не знает подобных писем. Все свелось к деловой краткости и телефонному или, вернее, телеграфному стилю для того, что называется "констатированием фактов". Среди деловой суеты и нервномятущейся жизни всем стало некогда, и старый "обмен мыслей" заменился лаконичностью открытого письма. Один мой знакомый, большой поклонник того, что называется в искусстве l'elimination du superflu, даже проектировал шутя писание на открытках, отправляемых друзьям, родным и знакомым не по деловым поводам, одного лишь своего уменьшительного имени. Он рассуждал так: когда и откуда писано письмо видно из штемпеля; что писавший думал об адресате - ясно из того, что он к нему пишет; из этого же видно, что он делал, когда изготовлял письмо; из того же видно, что он здоров, ибо только известие о серьезной болезни может тревожить близких людей, и, наконец, уменьшительное имя, привычное для них, должно указывать на неизменность и теплоту добрых отношений. Не таковы были письма Гончарова. Написанные мелким почерком, с массой приписок, они в своей совокупности рисовали Гончарова во всех проявлениях его сложной духовной природы и, конечно, стоили ему немалых труда и времени. Не говоря уже об обычном тяжелом и скучном труде цензора, который он выполнял со свойственной ему щепетильной добросовестностью, он много и внимательно читал, и отзывы его в беседах о выдающихся произведениях изящной, а иногда и научной литературы указывали на ту глубокую вдумчивость, с которой он не раз подвергал внутренней проверке прочитанное, прежде чем высказать о нем свое обоснованное мнение. Нужно ли затем говорить о его сочинениях, из которых главные написаны в двадцатилетний период, с 1847 по 1867 год, и составляют восемь неоднократно переработанных с начала до конца толстых томов?
Точно так же неверно представление о квиетизме Гончарова. Внешнее спокойствие, любовь к уединению шли у него рядом с глубокою внутреннею отзывчивостью на различные явления общественной и частной жизни. Разборчивый в друзьях и не очень податливый на поспешное сближение, он не торопился следовать нашей мало похвальной и приводящей к горьким разочарованиям привычке открывать чуть не каждому встречному свой внутренний мир. Он знал, что в храм своей души следует пускать посетителей с большою осмотрительностью, из боязни, чтобы, войдя туда с холодным любопытством, они не оставили там грязных следов и не набросали папиросных окурков. Не раз в последние годы своей жизни, сторонясь от новых и случайных знакомств, он многозначительно цитировал слова Пушкина: "А старость ходит осторожно и подозрительно глядит". Но к скорбям и радостям тех, в дружбу кого он уверовал, он умел относиться с живым сочувствием, со словом горячего и настойчивого ободрения, с деликатным участием оценивая и освещая их душевные переживания. В интимной дружеской беседе он оживлялся и преображался. Молчаливый и скупой на слова в большом обществе, он становился разговорчив вдвоем, и его живое слово, образное и изящное, лилось свободно и широко. Но все шумное, назойливое, все имевшее плохо прикрытый характер допроса, его и раздражало, и пугало, заставляя быстро уходить в свою скорлупу и поспешно отделываться от собеседника общими местами. Активное участие в каких-либо торжествах всегда его страшило, и он отбивался от него всеми способами. Так уклонился он от участия в московских и петербургских празднествах, связанных с открытием в 1880 году памятника Пушкину в Москве, несмотря на то, что не менее Тургенева преклонялся перед великим поэтом и благоговел перед его памятью" Я не могу забыть одного из его воспоминаний, рассказанных им мне в том же 1880 году, во время одной из долгих вечерних прогулок по Рижскому взморью. "Пушкина я видел впервые,-говорил он,- в Москве, в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством. Через несколько лет, живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его матовое, суженное внизу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос, врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете. Пушкин был в это время для молодежи все: все ее упования, сокровенные чувства, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений, - все сводилось к нему, все исходило от него... Я помню известие о его кончине. Я был маленьким чиновником - "переводчиком" при министерстве внутренних дел. Работы было немного, и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но надо всем господствовал он. И в моей скромной чиновничьей комнате, на полочке, на первом месте стояли его сочинения, где все было изучено, где всякая строчка была прочувствована, продумана... И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собою, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал... Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины. Нет, это неверно - о смерти матери. Да! Матери... Через три дня появился портрет Пушкина с надписью: "Погас огонь на алтаре", но цензура и полиция поспешили его запретить и уничтожить..."
В том же 1880 году, летом, члены рижского русского певческого и литературного общества "Баян" совершали свой обычный ежегодный праздничный выезд в Дуббельн и, пользуясь пребыванием в последнем Гончарова, П. Д. Боборыкина и меня, пригласили нас на свой праздничный обед с музыкой и речами. Иван Александрович был этим приглашением совершенно выбит из колеи, написал старшинам письмо, умоляя "пощадить и простить" его, утром в день выезда "Баяна" из Риги телеграфировал о том же, боясь, что заказное письмо могло не дойти, а когда на реке Аа показался украшенный флагами пароход с участниками "выезда", то, опасаясь, что его могут прийти уговаривать, поспешно ушел на берег моря и проскитался там один, пока пускавшиеся с отходившего обратно парохода ракеты не указали ему, что опасное для него торжество окончилось.
Когда возникла мысль о его литературном юбилее, Гончаров пришел в болезненное волнение, убедительно и настойчиво отговаривая всех, кто мог быть прикосновенен к организации этого празднования, оставить всякую мысль об этом, угрожая, в нарушение своего сложившегося житейского обихода, покинуть среди зимы Петербург и уехать, "куда глаза глядят", оставив юбилейное чествование без виновника торжества. Только после неоднократных попыток и с большим трудом удалось уговорить его принять самый тесный кружок его друзей по "Вестнику Европы", поднесших ему мраморные столовые часы с бронзовым изображением Марфиньки из "Обрыва" и воздержавшихся, щадя старика, от всяких приветственных речей. И этот же, как он сам себя называл, "угрюмый нелюдим" бывал жив, остроумен и даже весел, когда оставался вдвоем или в самом небольшом кружке. Таким я помню его во время долгих прогулок по берегу моря на рижском штранде и в Усть-Нарове, когда прелесть его ярких воспоминаний и рассказов заставляла его спутника забывать свою усталость. Между этими воспоминаниями было много таких, которые не вошли во "Фрегат "Палладу"". Живая наблюдательность искрилась в них; нежная любовь к русскому человеку и глубокое понимание его милых и оригинальных свойств проникали их. Особенно помнится мне его рассказ о наших матросиках, которые покатывались со смеху, указывая пальцами на голые колена двух неподвижно стоявших у одного из дворцов часовых в шотландском костюме, красных от гнева, но покорных дисциплине. "Что вы тут делаете? - спросил их Гончаров: - чему смеетесь?" - "Да ты посмотри, ваше благородие, королева-то им штанов не дала!". Или другой рассказ о том, как в окрестностях Капштадта, подойдя к кучке матросов, что-то любопытно разглядывавших, он увидел на ладони одного из них огромного скорпиона, тщетно силившегося пробить ядовитым хвостом толстый сплошной мозоль на ладони руки, привыкшей лазить по вантам. "Что ты? Брось! Брось! - воскликнул Гончаров: - он тебя до смерти укусит!" "Укусит? - недоверчиво спросил матрос, презрительно скосив глаза на скорпиона: - Этакая-то сволочь? Тьфу!" - и он бросил скорпиона на землю и раздавил его необутой для прохлады ногой. Был между этими рассказами один, который, кажется, не оставил следа в истории Крымской войны по скромности и сдержанности участников. Когда в далеком Японском море адмиралом Путятиным было получено на "Палладе" известие об объявленной России Францией и Англией войне, он созвал к себе в каюту Посьета и, сколько мне помнится, Лесовского и, в присутствии Гончарова, связав их обязательством хранить тайну, объявил им, что, зная невозможность для парусного фрегата успешно сразиться с винтовыми железными кораблями неприятеля или уйти от него, он решил сцепиться с ним вплотную и взорваться.
Не менее милым собеседником бывал Гончаров за своими многолетними обедами вдвоем в "Hotel de France", у Полицейского моста, и в кружке сотрудников "Вестника Европы" за еженедельными обедами у покойного Стасюлевича. Здесь, ничем не стесняемый и согреваемый атмосферой искренней приязни, он иногда подолгу вызывал особое внимание слушателей своими экскурсиями в область литературы или искусства. Скрестив перед собою пальцы красивых рук, приветливо смотря на окружающих, он оживлялся, и в глазах его появлялся давно уже, казалось, потухший блеск. Так продолжалось многие-многие годы, но не без перерывов. Эти перерывы совпадали с приездами в Петербург Тургенева, во время которых Гончаров избегал бывать на обедах у Стасюлевича. Однажды, во время такого перерыва, на мой вопрос, когда же мы увидимся в Галерной, он с некоторым замешательством ответил: "Да вот все никак не могу собраться: все что-нибудь да помешает", и, очевидно, сознавая, что такое объяснение идет вразрез с его регулярной и размеренной жизнью, прибавил, помолчав: "Чеченец ходит за рекой".
Гончаров не любил вспоминать о своей внутренней жизни в прошлом, но из того, что он всегда описывал свою жизнь и то, что к ней прирастало, можно заключить, что он в полной мере испытал то чувство, которое возбуждали его Ольга и Вера, эти превосходные олицетворения того, что Гете называл das ewig Weibliche. Едва ли он был мучеником своей любви, как Тургенев, или пережил какую-либо тяжелую в этом отношении драму... Он говорил, по крайней мере, что в словах пушкинского Мефистофеля, упрекающего Фауста за то, что "хитро так в деве простодушной он грезы сердца возбуждал", содержится поучительный завет всякому честному человеку. Но бури в этой жизни, без сомнения, были. Он называл не раз жизнь тяжелым испытанием и часто цитировал по этому поводу слова Пушкина о "мучительных снах", повторяя: "И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет". "После страстей,- писал он,- остается дым, смрад, а счастья нет! Воспоминания - один стыд и рванье волос. Страсть - несчастье. Ее надо ограничить, задушить и утопить в женитьбе, - но она необходима в будничной, серой жизни, как гроза в природе. Это - другая жизнь среди жизни". Во всяком случае, когда я узнал его ближе, в начале семидесятых годов, его сердечная жизнь была в застое. Но сердце у него было нежное и любящее. Это был капитал, который не мог оставаться без употребления и должен был быть пущен в оборот. Человеку бывает нужно, необходимо уйти от тоски одиночества, от края мрачной пропасти глубокого разочарования в людях и в самом себе в какую-либо привязанность. Так случилось и с Гончаровым.
В течение многих лет у него служил камердинером и заведовал его домашним хозяйством честный и усердный курляндский уроженец. В конце шестидесятых годов он умер скоропостижно, и Иван Александрович, соболезнуя положению его вдовы с тремя малолетними детьми, оставил ее служить у себя, предоставив ей маленькое помещение через площадку лестницы своей квартиры, и заменил ею умершего ее мужа в домашнем услужении при своем маленьком хозяйстве старого холостяка. С годами, когда стали подрастать дети, сердце Ивана Александровича откликнулось на их чистую ласку, и он привязался к ним, и особенно к старшей девочке, глубоко и трогательно. Его заботам, просьбам, материальным жертвам, ходатайствам, письменным и словесным, эти дети были обязаны своим воспитанием и образованием в средних учебных заведениях, за которым он следил с исключительным вниманием. Возможность дать им средства, чтобы подышать свежим воздухом и укрепить свои силы где-нибудь на даче или на берегу моря, сердечно радовала старика, которому в этом нередко помогали дочери его старого друга А. В. Никитенко. И в этой вполне бескорыстной привязанности Гончаров дошел до крайних пределов. Заботы о детях, их мысли, чувства, привычки, складывавшиеся особенности характера, шутливые и нежные прозвища, им даваемые, наполняли его жизнь, вплетались в его беседу. Внимание к ним, ласка Сани (так звали старшую из них) вызывали горячую благодарность с его стороны. Мало-помалу их жизнь пустила в его существование крепкие, неразрывные корни...
С половины восьмидесятых годов жизнь Гончарова пошла заметно на убыль, в особенности после того, как он ослеп на один глаз вследствие кровоизлияния, причинившего ему тяжкие до слез страдания. Он побледнел и похудел, почерк его стал хотя и крупнее, но неразборчивее, и он по целым неделям не выходил из своей малоуютной и темноватой квартиры на Моховой, в которой прожил тридцать лет. На летнее время далекий и любимый Дуббельн сменился более близкой Усть-Наровой, а затем и Петергофом: угасающего автора "Фрегата "Паллады"" продолжало тянуть к морю. Но с тех пор, как смерть, очевидно, уже недалекая, простерла над ним свое черное крыло и своим дыханием помрачила его зрение и затем ослабила его слух, он просветлел духом и проникся ко всем примирением и прощением, словно не желая унести в недалекий гроб свой какие-либо тяжелые чувства. Он стал трогателен в своем несчастии и, выражаясь словами его любимого поэта, "прост и добр душой незлобной". В этом уединении, принимая только немногих близких знакомых, весь отдавшись заботам о будущем приголубленной им семьи, он ждал кончины со спокойствием усталого от жизни и верующего человека. "Я с умилением смотрю,писал он мне в 1887 году,- на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенке в церквах или в своих каморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго-и видят в жизни и над жизнью высоко ?только крест и евангелие, одному этому верят и на одно надеются... "Это глупые, блаженные",-говорят мудрецы-мыслители. Нет...-это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных". В 1889 году с ним произошел легкий удар, от которого, однако, он оправлялся с трудом, а в ночь на 15 сентября 1891 г. он тихо угас, не перенеся воспаления легких. Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за два дня до смерти, и, при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: "Нет! Я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил"...
На новом кладбище Александро-Невской лавры течет речка, один из берегов которой круто подымается вверх. Когда почил Иван Александрович Гончаров, когда с ним произошла всем нам неизбежная обыкновенная история, его друзья Стасюлевич и я - выбрали место на краю этого крутого берега, и там покоится теперь автор Обломова... на краю обрыва... Но сегодня наша мысль переносится от этой могилы к колыбели Гончарова, и мы благодарим судьбу, зажегшую на небе русского слова и русской мысли светоч его великого дарования.
1911
(Сканировано по изданию: Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989.)
М. В. Кирмалов
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ
Первые мои воспоминания об Иване Александровиче относятся к 1870-1871 годам, ко времени моего детства.
Дедушка часто брал меня и сестру с собой при посещении Ивана Александровича. Звать его надо было дядей, ибо звание дедушка он не любил. Помню хорошо расположение комнат в его квартире (старой, до переделки) в доме Устинова на Моховой. Комнаты небольшие. В кабинете перед столом у окна стояла высокая подставка деревянная, вроде складного стула с натянутой сверху материей, на которой постоянно лежала книга: большого формата издание басен Крылова 1], прячем иллюстрации к басням были не в звериных, а в человеческих лицах. Так, басня "Плотичка" была иллюстрирована изображением молодой дамы, сидящей на балконе, окруженной толпой поклонников.
Иван Александрович иногда читал нам басни и показывал "картинки", иногда дарил нам безделушки; так, я получил от него перочинный ножичек-брелок и трость из его большой коллекции тростей, собранной со всех стран земного шара. Коллекция эта в виде объемистой пачки покоилась на двух кронштейнах над его кроватью.
В это же время его посещала и Варвара Лукинична, служившая в институте, с своими двумя детьми. Мальчика за его тонкую и высокую фигуру он шутя называл "Макаровой". Но внимания он заметно больше оказывал девочкам.
На рождество он устроил у себя для нас елку. Были мы с сестрой, дети Варвары Лукиничны и, кажется, дети Людвига. В кабинете на круглом столе стояла маленькая елка, а под ней подарки детям, и среди них - хрустальная сахарница в виде сердца.
Иван Александрович был оживлен, ласков и шутлив с детьми. Усадив нас и Мимишку вместе на диване, он стал вызывать всех по очереди и вручать подарки. Первая была вызвана Мимишка, получившая сахарницу, и тут же, стоя на задних лапках, съела из рук Ивана Александровича кусочек сахару.
Всех детей Иван Александрович оделил дорогими и интересными подарками: игрушками, книгами и прочим.
Иван Александрович иногда посещал моих родителей - в нашей скромной квартире, - приносил новые французские романы, много рассказывал. К сожалению, помню только то, что он часто переходил на французский язык. Впоследствии отец говорил мне, что к французскому языку он прибегал тогда, когда рассказ переходил на события из его сердечной жизни; он это делал, щадя наше детское неведение.
Раз он пришел к нам тотчас после нашего обеда и, торопясь куда-то, наскоро у нас закусывал. Мать неуверенно предложила ему к жаркому кислой капусты, прибавив, что после обедов в Hotel de France он, вероятно, не захочет есть такое кушанье. "Отчего же? Капуста - это букет обеда", ответил Иван Александрович и с аппетитом покушал капусты.
Не могу не рассказать о встрече Ивана Александровича с известной в то время в Петербурге авантюристкой Л. М. Гулак-Артемовской 2]. Встреча эта была, если можно так выразиться, мимическая, ибо с обеих сторон не было сказано ни слова. Иван Александрович сидел с матерью у стола друг против друга и беседовал. Вдруг в отворенной из передней двери показывается изящная фигура Гулак-Артемовской. Увидав и узнав Ивана Александровича, она сначала растерянно остановилась, затем быстро подошла к матери и, став почти спиною к Ивану Александровичу, что-то шепотом сказала ей на ухо и так же быстро скрылась за дверью.
Иван Александрович отодвинул свой стул, с недоумением посмотрел на странную гостью. Но ему, великому знатоку женщин, довольно было и этих нескольких секунд, чтобы уловить то, что было дурного во внутреннем облике этой женщины. И он после говорил матери, не советуя продолжать с ней знакомство.
О "любвях" знаю очень мало со слов отца, с которым Иван Александрович бывал откровенен.
В начале своей жизни в Петербурге Иван Александрович испытывал недостаток в средствах и как пример рассказывал, что, идя весной, в мае, в Летний сад на свидание с одной дамой, должен был надеть ватное пальто, ибо летнего не было...
По нашим семейным воспоминаниям завязка романа Ивана Александровича и Варвары Лукиничны 3] относится ко времени приезда Ивана Александровича в Симбирск. Авдотья Матвеевна (мать Ивана Александровича) поместила его в комнате верхнего этажа близко от комнаты, занимаемой Варварой Лукиничной. В эгой обстановке, очевидно, произошло сближение. При отъезде Ивана Александровича, когда он прощался с домашними, Варвара Лукинична, не выдержав горя разлуки с любимым человеком, с воплем: "Ваня, Ваня!.." бросилась в присутствии всех ему на шею.
Не знаю, продолжалась ли связь по приезде Варвары Лукиничны в Петербург. Она впоследствии вышла замуж, и муж ее терпеть не мог Ивана Александровича; часто со злобой спрашивал отца: "Ну, что ваш действительный статский советник, как поживает?.."
* * *
Было время, когда после ссоры с Тургеневым Иван Александрович ожидал от него вызова на дуэль "Ну что ж, надо будет принять вызов", - говорил он отцу.
О поэзии Некрасова он высказывался так: "Это рогожа, на которой вышиты шелковые узоры..."
* * *
В последние годы жизни Ивана Александровича его приглашал к себе на вечера великий князь Сергей Александрович и был с ним очень ласков. Но Иван Александрович уклонялся от посещений, говоря "Вы ведь здесь молодые, полные жизни; ну что буду делать среди вас я, кривой старик?.."
* * *
Иван Александрович, по-видимому, не любил музыки. Такое впечатление осталось у отца после того, как они с Иваном Александровичем слушали "Русалку" Даргомыжского. Отец уговорил Ивана Александровича сходить послушать в "Русалке" певца-тенора Комиссаржевского, восхищавшего тогда, в начале семидесятых годов, весь Петербург. Особенно хорошо у него выходила каватина: "Невольно к этим грустным берегам..." Иван Александрович не сразу согласился пойти послушать оперу, равнодушно просидел третий акт и, нисколько не восхитившись каватиной, ушел до конца оперы домой...
* * *
В средине восьмидесятых годов Иван Александрович был занят заботами о детях своего покойного слуги. Приходилось хлопотать, ездить к начальству учебных заведений. Конечно, для Ивана Александровича делали все, о чем он просил; но в готовности разных лиц сделать ему угодное он чутким и подозрительным ухом улавливал уверенность в том, что он хлопочет за своих детей. "Вот, насбирали по лакейским и девичьим сплетен и считают этих детей моими", - возмущался он, идя с отцом и мною по Невскому.
"Вот принял на свои плечи чужую семью, увеличились расходы, приходится стеснять себя; теперь рубль представляет для меня эпоху". Это, конечно, обычное брюзжание старика, ибо детей он любил, и сильно. Саней он восхищался, находя, что у нее "грёзовская головка".
Иван Александрович нежно любил свою няню Аннушку. Я хорошо помню эту старушку, нянчившую и меня и жившую в то время на покое у бабушки моей Александры Александровны в Хухореве. В ее слабом, иссохшем теле жила кристально чистая душа ребенка, полная до краев любовью к детям и ко всем домашним...
* * *
В последний раз я видел Ивана Александровича в декабре 1887 года. Он встретил меня на улице и, узнав, что я еду в провинцию на службу, позвал к себе проститься.
На другой день я позвонил у его квартиры. Отворившая мне дверь Александра Ивановна окинула меня подозрительным взглядом и на мой вопрос, можно ли видеть Ивана Александровича, сухо ответила, что Иван Александрович не принимает. Впустила она меня в переднюю только после моего заявления, что Иван Александрович сам позвал меня в этот день к себе.
Ревниво, подумал я, охраняется Иван Александрович в последние годы жизни от сношений с родными.
Я нашел Ивана Александровича в маленькой темноватой гостиной (квартира прежняя была расширена), в кресле. Он казался очень постаревшим и ослабевшим. Оброс бородой, вместо правого глаза была впадина, прикрытая веками. Но во взгляде другого, здорового глаза, казалось, мерцал удвоенным светом глубокий ум и какая-то покойная просветленность.
Он говорил о своем здоровье, о болях в кишечнике; когда же я заикнулся о докторах, сказал спокойно: "Какой же доктор вылечит меня от семидесяти пяти лет". Дальше он советовал мне самому пробивать себе дорогу в жизни, но в трудных обстоятельствах обещал свою помощь. Расспрашивал о родных. Когда я стал прощаться. он остановил меня, сказав: "Я дам тебе на дорогу, но только немного". Несмотря на мое уверение, что у меня достаточно средств на дорогу, он пошел в кабинет, вынул из ящика письменного стола и вручил мне двадцать рублей, Расстались мы оба взволнованными.
Кирмалов М. В.: ПРИМЕЧАНИЯ
(А. Д. Алексеев, О. А. Демиховская)
Кирмалов Михаил Викторович (1863-1920) - сын племянника И. А. Гончарова В. М. Кирмалова, пользовавшегося наибольшей симпатией и вниманием со стороны писателя. Так, в одном из писем 1863 года к Кирмаловым И. А. Гончаров писал: "Ты собираешься, Виктор Михайлович, в конце мая приехать сюда и спрашиваешь, рад ли я буду тебя видеть; еще бы! Не только рад, но дам тебе и деньжонок на проезд из Москвы и обратно. Скажу даже тебе, что мне очень часто скучно бывает, что вас нет с Дашенькой здесь, и что при вас мне было бы гораздо веселее, как с близким и милым семейством" ("Вестник Европы", 1908, Л 12, стр. 432). Не изменились его симпатии к молодым Кирмаловым и четверть века спустя. В 1888 году в письме к Д. Л. Кирмаловой он снова подтверждает: "Из родных, кроме сестер, Александры и Анны Александровны, вы с Виктором Михайловичем ближе мне других племянников". И в том же письме об их сыне: "Миша твой был у меня: он такой хороший, скромный молодой человек, - и мне остается повторить с тобою- дай бог, чтоб он таким и остался!" (там же, стр. 435).
По окончании Петербургского лесного института М. В. Кирмалов служил лесничим в городах Себеж и Речица.
Воспоминания М. В. Кирмалова, как и воспоминания Е. А. Гончаровой и В. М. Чегодаевой, написаны по просьбе М. Ф. Суперанского к столетию со дня рождения И. А. Гончарова и для печати не предназначались. Нет сомнения в том, что в большей своей части они написаны со слов отца, хорошо знавшего И. А. Гончарова с 1858 года, "в самый богатый в смысле переживаний и встреч период его жизни". Сам М. В. Кирмалов, посылая М. Ф. Суперанскоиу в январе 1913 года свои воспоминания, писал ему: "Высылаю вам "навозну кучу" набросков воспоминаний об И. А. Гончарове. Буду счастлив, если в этой куче вы найдете зерно - не говорю жемчужное, а хотя бы ячменное" (ЦГАЛИ, ф. 488. оп. 1, Л 51).
Публикуется впервые, с сокращениями, по рукописи, храпящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ЦГАЛИ, ф. 488, оп. 1, Л 51).
1] Имеется в виду издание басен И. А. Крылова 1834 года с иллюстрациями A. П. Сапожникова.
2] О Л. М. Гулак-Артемовской и ее процессе см.: А. Ф. Кони, Собрание сочянений, т. I, Юриздат, М. 1966, стр. 139-147.
3] Варвара Лукинична Лукьянова, в замужестве Лебедева, была гувернанткой детей сестры И. А. Гончарова А. А. Кирмаловой. Впоследствии, при содействии Гончарова, стала классной дамой и начальницей петербургского Николаевского сиротского института. Варвара Лукинична - первое сильное увлечение И. А. Гончарова во время его приезда в Спмбирск летом 1849 года. Роман не завершился браком, но дружеские отношения между ними и переписка продолжались до 80-х годов. Известно, что в 1882 году В. Л. Лукьянова просила И. А. Гончарова дать благословение под венец ее дочери Варе (ИРЛИ, ф. 134, оп. 8, Л 29).
(Сканировано по изданию: И. А. Гончаров в воспоминаниях современников/ Подготовка текста и примеч. А. Д. Алексеева и О. А. Демиховской. Л., 1969.)
К. Т.
СОВРЕМЕННИЦА О ГОНЧАРОВЕ
(ПИСЬМО ИЗ СОЧИ)
Под убаюкивающий ропот бирюзового моря безвестно для широкой публики доживает свои дни забытая писательница Екатерина Павловна Майкова.
Было время, когда она жила в сфере высшей интеллектуальной жизни, когда ее окружал цвет русской литературы, когда она, так сказать, грелась в лучах славы наших знаменитых писателей.
В славную эпоху 60-х годов в числе близких Екатерине Павловне лиц были такие первостепенные величины, как И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, поэт А. Н. Майков и в особенности И. А. Гончаров и другие dii minores литературного Олимпа.
Но годы прошли, и волею судьбы Екатерина Павловна, как лермонтовский листок, оторвавшийся от ветки родимой, нашла приют лет тридцать тому назад под лазурным небом черноморского побережья, в небольшом тогда поселке Сочи. И теперь лишь щедрое солнце юга согревает ее одинокую старость.
По и в этом диком месте Екатерина Павловна не замерла, а в меру возможности уделяла нечто от идеализма той эпохи, внося в окружающую среду семена высокой усвоенной ею духовной культуры.
Благодаря заботам Е. П. Майковой возникла прекрасная библиотека-читальня, сыгравшая для Сочи большую культурную роль, основан в ее домике на Приморской улице Горный клуб, метеорологическая станция.
Но человек другой эпохи, иного исторического цикла, Екатерина Павловна все-таки полной душой живет лишь в сфере великих образов прошлого, создав в своих комнатах, в мезонине, своего рода литературный музей.
Несмотря на свои восемьдесят три года, Екатерина Павловна удивительно сохранила остроту внешних чувств и ясность памяти.
С особенным благоговением и бережностью она хранит воспоминания об И. А. Гончарове, другом которого она была.
Знакомство с Гончаровым состоялось в доме Майковых - литературном салоне того времени, - и семья Майковых стала как бы своей для автора "Обыкновенной истории".
Еще очень юной, семнадцати лет, Екатерина Павловна, только что вышедшая замуж за Вл. Н. Майкова, брата поэта и впоследствии соредактора "Современника", встретилась со знаменитым писателем. Впечатление он произвел необыкновенно яркое.
Всесторонне образованный, глубоко начитанный в классической литературе, русской и западноевропейской, Гончаров стал читать в молодом кружке Майковых лекции по литературе. Это не были лекции в обычном смысле, а живая беседа, курс в образной и увлекательной форме.
К своим занятиям Иван Александрович относился вдумчиво и серьезно, заявив себя в записках таким же исключительным мастером стиля, каким мы знаем его по художественным произведениям.
Гончаров любил чуткую и любознательную ученицу Екатерину Павловну, которую за простоту и наивную серьезность к "вопросам" прозвал "старушкой".
- А что же не видно нашей старушки? - спрашивал Гончаров, когда чуть не каждый вечер приходил к Майковым.
В этом же кружке впервые был задуман план образцового детского журнала, в котором ощущалась нужда и в котором должны были принять живое участие выдающиеся художественные и литературные силы.
Мысль эта осуществилась созданием в 1852 году журнала "Подснежник" под фактической редакцией Е. П. Майковой, писавшей там рассказы и популярные статьи, а Гончаров, Тургенев, Майковы и другие лица деятельно вносили туда свои творческие вклады.
Издавался журнал великолепно, клише специально заказывались в Лейпциге, и "Подснежник" оказал огромное воспитательное влияние на молодое, подрастающее поколение. Когда, например, писатель С. Я. Елпатьевский посетил недавно в Сочи Майкову, то вспоминал этот журнал, читанный им в детстве, говоря, что первые ростки направления и мировоззрения восприняты им из "Подснежника".
Братья-писатели в то время жили дружной семьей. Еще задолго до разрыва с Тургеневым И. А. Гончаров путешествовал вместе с Майковым, Тургеневым, Григоровичем и другими, Гончаров вместе с Екатериной Павловной усердно посещал галереи и музеи искусств, причем в отношении прославленных произведений живописи и скульптуры проявлял оригинальную эстетическую оценку. Общепризнанные шедевры, вроде "Сикстинской мадонны" в Дрездене и других, не производили на него такого впечатления, как, например, на Тургенева, который патетически изливал свой восторг. В подтверждение верности своего восприятия Иван Александрович ссылался на неиспорченное и непосредственное чутье Е. П. Майковой. Ее тонкую наблюдательность в восприятии явлений заграничной жизни Иван Александрович ставил в пример прочим писателям. "Смотрите, - говорил он, - мы, художники, не заметили вот этого паруса на озере, этого светового эффекта, а от ее внимания такие художественные детали не ускользали".
Екатерина Павловна во время экскурсий по европейским городам удивлялась тому культу еды, который царил среди писателей. Когда намечался маршрут пути, то сообща подробно обсуждалось меню, где и что будут они есть. В одном городе обращалось внимание на устрицы, в другом - на дичь, в следующем - на вина. В области гастрономического искусства Гончаров соперничал с Тургеневым, Григорович - с ними обоими.
Присутствие женщины сдерживало обыкновенно развеселившуюся компанию. Под влиянием великолепного вина языки развязывались, начинались вольные анекдоты. Особенно на этот счет отличался Григорович. В это время И. А. Гончаров, указывая на Екатерину Павловну, обращался к сотоварищу с укором:
- Осторожнее, Григорович, не забывайте, что среди нас почти ребенок!
На что Григорович извиняющимся тоном отвечал:
- Ей-богу, простите, ведь вы знаете мою черносливную натуру.
С течением времени Гончаров отдалялся от своих литературных товарищей. Чем старше делался Иван Александрович, тем подозрительнее относился к окружающим. Роман "Обломов" был зенитом славы Гончарова, которую он делил с Тургеневым.
Гончаров не был равнодушен к тому успеху у публики, который в большей доле выпал его сопернику. Привыкший делиться своими художественными планами с Тургеневым, Гончаров подробно рассказал последнему содержание глав и целые сцены будущих произведений. Но потом Гончарову стало казаться, что быстро пишущий Тургенев просто пользуется откровенностью Гончарова и заимствует у него типы и образы.
В памяти Е. П. Майковой зафиксировался такой, например, эпизод.
Гончаров прислал из-за границы письмо с подробным изложением плана и описанием действующих лиц своего будущего романа "Обрыв". Письмо прислано было общему другу писателей Льховскому, обладавшему замечательно тонким критическим чутьем. С его мнением и оценкой считалась вся литературная среда, в том числе Некрасов, редактор "Современника". Необыкновенный оратор, Льховский, к сожалению, не мог в равной степени выражать свои мысли письменно.
Тургенев, вернувшийся только что в Петербург, уезжая к себе в имение, спросил у провожавшего его Льховского, нет ли сведений от Гончарова. Узнав о письме, Тургенев попросил взять это письмо с собой, говоря, что прочтет внимательно в дороге. Тот, конечно, дал.
Прошло лето, осенью писатели все собрались в Петербурге. И так как все они обыкновенно, до напечатания своих вещей, читали их в тесном кругу у Майковых в рукописи, то и на этот раз был объявлен вечер для прочтения нового романа Тургенева "Накануне".
Тургенев почему-то пригласил на этот вечер всех, за исключением Гончарова.
Гончаров случайно, соскучившись дома, пошел к дому Майковых, увидел огонек у них и решил зайти.
Каково же было удивление Ивана Александровича, когда он застал всех в сборе, и в том числе Тургенева, читающего свою вещь.
Приход Гончарова не показался никому странным, так как все полагали, что и он приглашен, по обыкновению. Смущен был несколько, по словам Майковой, И. С. Тургенев.
Обиженный Гончаров молча сел и стал слушать чтение. Когда Тургенев кончил чтение, Гончаров, взволнованный, не сказав никому ни слова, ушел.
Затем видится с Льховским и спрашивает у него, не показывал ли тот его письма Тургеневу. Тот откровенно рассказал, в чем было дело.
После этого Гончаров пишет резкое письмо Тургеневу и обвиняет его в плагиате. Тургенев отвечает в примирительном тоне с целью разъяснить дело.
Инцидент получил широкую огласку, и друзья принимают меры для примирения двух любимых писателей. Устанавливается третейский суд, на котором сходство в описании героев Льховский и другие старались объяснить совпадением творчества великих художников, пользующихся по-своему одним и тем же куском мрамора.
Все же Тургенев согласился уничтожить две инкриминируемые Гончаровым главы.
Об этом характерном эпизоде в отношениях между Гончаровым и Тургеневым Майкова рассказывала также и Д. Н. Овсянико-Куликовскому, посвятившему Екатерине Павловне свой этюд о Гончарове.
В комнате-музее Майковой хранятся неопубликованные письма и некоторые бумаги Гончарова, его портреты с автографами и книги с собственноручными надписями. У нее же имеется от Гончарова необыкновенно художественной работы ларец и другие драгоценные реликвии.
Между прочим, Майкова помогала Гончарову в его литературной работе. Автор "Обломова" отличался оригинальной манерой письма. Вынашивая годами образы в голове, Гончаров время от времени делал на клочках бумаги наброски сцен, содержания глав, имена действующих лиц, описания и характеристики. В конце концов накапливался из этих черновых заметок целый портфель бумаг. Вот он и просил Майкову, которой доверял, разобраться в этом хаосе, систематизировать их в определенном порядке, так как "без этой предварительной работы, без этой канвы я никогда не приступлю к написанию своего "Обрыва"".
Все литераторы, кому приходится бывать в Сочи, считают своим долгом навестить Майкову, с удовольствием слушая ее богатые воспоминания.
Имя симпатичной старушки хорошо знакомо Д. Н. Овсянико-Куликовскому, В. И. Дмитриевой, И. П. Белоконскому и многим другим.
"Московская газета", 1912, 4 июня.
A. П. Плетнев
ТРИ ВСТРЕЧИ С ГОНЧАРОВЫМ
По поводу столетия рождения И. А. Гончарова хочу поделиться воспоминаниями о нем, хотя и поверхностными, ввиду того, что я был очень молод, когда я его видел, но имеющими значение, как свидетельство человека, лично знакомого с знаменитым романистом. Я того мнения, что в таких случаях непосредственное знакомство с великим человеком может дать более верное освещение хотя бы наружности, а иногда и психологии описываемого лица, нежели суждение о нем понаслышке или из вторых рук.
И. А. Гончаров был знаком с моим отцом и семейством, как и И. С. Тургенев. Но мое первое знакомство с Гончаровым произошло уже после кончины отца, за границей, в Берлине. Мы возвращались в Россию из Парижа и остановились в Берлине в British Hotel, на улице Unter den Linden, как фаз в том отеле, где проездом также остановился Гончаров. Это было в конце шестидесятых годов. Гончаров незадолго перед тем написал свой роман "Обрыв", весьма одобрительно встреченный читающей публикой.
Помню как сейчас, как мы встретились с Иваном Александровичем у входа в отель. Моя покойная матушка вступила с ним в оживленную беседу, поздравив его с новым произведением.
Мне было лет тринадцать, но я живо заинтересовался личностью писателя, о котором уже много слышал. Сильно запечатлелась в моем уме его наружность, его внешний облик, так что я только таким могу себе его представить до сих пор. В портретах Гончарова, наиболее распространенных, он представлен обрюзглым, вялым, лысым стариком, ничуть не дающим о нем верного понятия. В пору своего расцвета Гончаров был полный, круглолицый, с коротко остриженными русыми баками на щеках, изящно одетый мужчина, живого характера, с добрыми, ласковыми светло-голубыми глазами.
Это был тип наших старых бар, горячо любивших Россию и весь ее патриархальный уклад, но при этом признававших западную культуру и ее "святые чудеса", как говорил Герцен.
Гончаров же по внешности, по манерам носил отпечаток тех русских свойств, которые так ярко выступили в его произведениях. Тут смешались и доброта и упрямство, скромность и вместе с тем гордость и некоторое славянское эпикурейство.
Вторая моя встреча с Гончаровым произошла несколько лет спустя в Петербурге, в нашем доме. За вечерним чаем, среди довольно большого общества, он много говорил и казался в особенно хорошем расположении духа. Гончаров мог очаровать своей беседой, так мягко и приятно лилась его речь. Помню один момент из его беседы. По какому-то поводу он указал на различное действие на людей одной и той. же причины. В подтверждение своей мысли он сделал остроумное сравнение. "Предположим, - заметил он, - что две мухи в одно время сядут на поверхность тромбона, например, одна на наружную стенку, а другая на внутреннюю. Если музыкант в это время дунет в инструмент, то одной мухе будет казаться, что произошло землетрясение, а другой. покажется, что разразилась буря или. циклон. То же бывает и с нами, когда часто один и тот же факт понимается нами различно в зависимости от нашего общественного положения".
Третья моя встреча с Гончаровым была случайная, в ресторане гостиницы "Франция" в, Петербурге, куда Гончаров ходил обедать в течение нескольких лет подряд. Он сидел на диване перед накрытым столом, углубившись в чтение газеты. Это было много лет спустя, и автор "Обломова" значительно постарел и осунулся. Что-то грустное отпечаталось на его чертах - быть может, то бессилие творчества, о котором он сам поведал в письме на просьбу какого-то издателя написать новый роман.
* Алексей Петрович Плетнев (1854-?) - писатель и критик, сын П. А. Плетнева.
Впервые: Одесский листок. 1912. 7 июня.