Пьер Грималь
Цмцерон
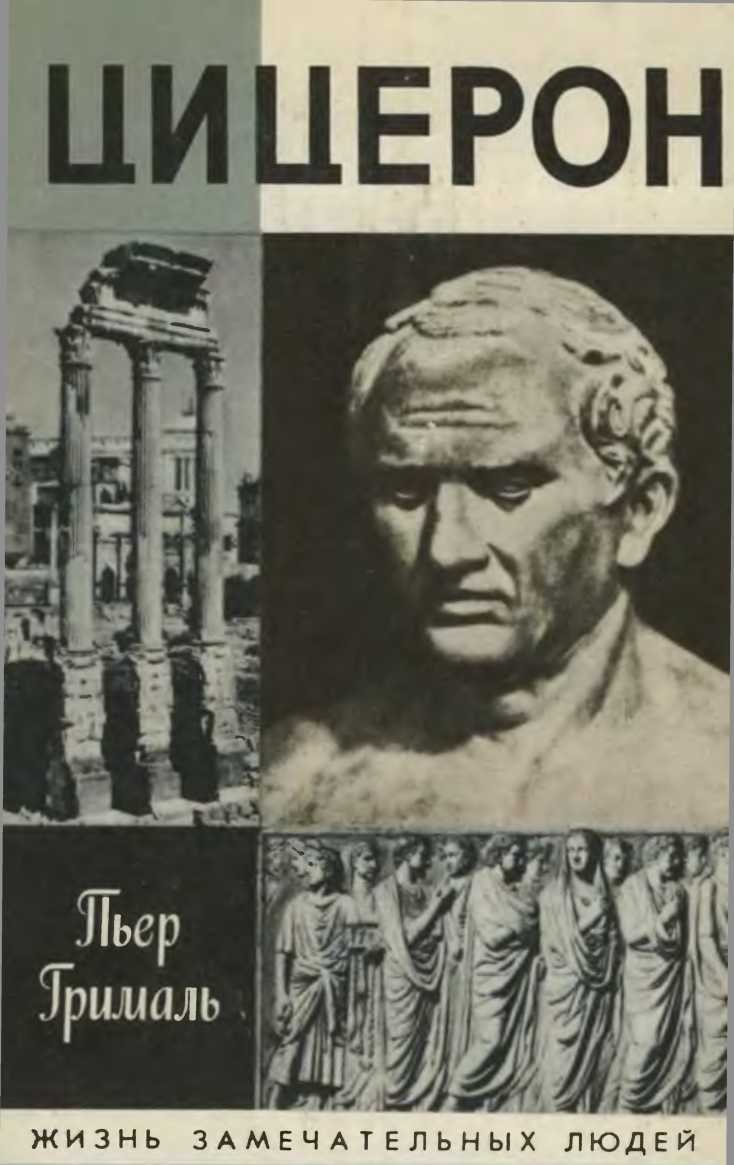
Книга известного французского ученого, автора многочисленных исследовании по культуре Древнего Рима Пьера Грималя, более специальна, чем многие издания в серии ЖЗЛ. Соответственно, во вступительной статье к ней приходится прежде всего описать общеисторический фон, на котором живут и действуют герои книги, раскрыть общеисторическую логику, по которой разворачиваются описанные в ней процессы; обратить внимание читателя как на бесспорные и значительные научные достоинства книги, так и на некоторые уязвимые ее стороны; наконец, рассказать более подробно о «проблеме Цицерона» — главной проблеме, возникающей из монографии П. Грималя, но выходящей далеко за рамки Древнего Рима, дать читателю материал для раздумий и самостоятельных решений
Древний Рим играет ключевую роль в истории европейской, да и мировой культуры На протяжении столетий вклад его в эту историю оценивался очень неоднозначно, то резко отрицательно, то восторженно положительно. Причины были и для одной и для другой оценки, но как бы ни рассматривать роль Древнего Рима в истории, бесспорными остаются три капитальных факта Первый — начавшись как незначительное поселение на заболоченном левом берегу реки Тибра в Средней Италии, Рим на протяжении столетии переживал неимоверные трудности, много раз оказывался на волосок от гибели, горел и восставал из пепла и тем не менее неуклонно рос, расширял свои владения и к первым векам новой эры стал величайшей державой, объединившей весь тогдашний цивилизованный мир от Гибралтара до Персидского залива и от Шотландии до порогов Нила. В ходе борьбы с силой, в истории почти не встречавшейся, проявились свойства римского племени — поразительная жизненная энергия, выносливость, великая вера в свою звезду, самоотвержение, организаторский талант Рим навсегда остался как бы эталоном этих лучших народных свойств. Второй бесспорный факт связан с тем, что слова «завоевание» и «владение» характеризуют отношения Рима с окружающими народами односторонне и неполно Все было — истребление целых племен, разрушение огромных материальных и культурных ценностей, бесконечные насилия, прямой грабеж. Но после завоевания на покоренные страны и народы распространялось римское гражданство; они втягивались в экономическую, административную и правовую систему империи, а это избавляло их от бесконечных междоусобных распрей, приобщало к более высоким формам цивилизации и в конечном счете содействовало развитию их производительных сил Комплекс народов и стран, который мы до сего дня обозначаем словами «Западная Европа», со всей его долгой и столь важной для всего мира историей, в исходной форме своей создай Древним Римом и реально существует в пределах былой Римской державы. Наконец, третий факт: многие основополагающие духовные представления и нормы общественной жизни, традиционные ценности, социально-психологические стереотипы, переданные Римом Европе (независимо от того, усвоил ли он их от Древней Греции или выработал самостоятельно) на протяжении более полутора тысяч лет, вплоть до XIX столетия, составляли почву и арсенал, язык и форму европейской культуры. Не только основы права и государственной организации, не только устойчивый набор сюжетов и художественных образов усвоены Европой от античности через Древний Рим, но сами первоначала ее общественного бытия — идея демократии, гражданской ответственности, разделения властей, классический принцип в искусстве, проблема соотношения внутренней жизни личности и ее внешней общественной активности вышли из того же источника. Уже потому, что книга П. Грималя посвящена одному из самых крупных деятелей культуры и истории Рима, вобравшему в себя и выразившему в эстетически совершенной форме его исторический опыт, она заслуживает самого внимательного прочтения.
В жизни и творчестве Цицерона история Рима предстает на трагическом изломе, обнажившем ее внутренние противоречия. Рим и тот мир, который он представлял, при всем его величии, роскоши и блеске, был миром, в сущности, бедных наций, миром относительно примитивных производственных структур и сравнительно низкого уровня производительных сил. Основой производства и состояния оставалась земля и ее обработка, городское производство развивалось лишь в пределах ремесла. Масса населения жила и трудилась в рамках более или менее натурального уклада, не обеспечивала, следовательно, значительный рост внутреннего рынка и не стимулировала тем самым развитие товарного производства. Абсолютно преобладающей оставалась такая консервативная форма общественной организации, как община, а основой идеологии, морали и системы ценностей — идеализация общественной неподвижности, преклонение перед нравами предков и прежде всего автаркия, то есть замкнутость каждого очага производства, каждой ячейки народной жизни в себе.
Античная городская община называлась у римлян «цивитас», по-гречески «полис», причем это последнее название часто распространяется на все виды античных городов-государств. И цивитас, и полис были не просто местом обитания, административным центром или архитектурно оформленным пространством. Они были тем единственным местом на земле, где гражданин чувствовал себя защищенным от враждебного мира законами и стенами, чувствовал себя частью солидарного гражданского коллектива, находился под покровительством богов — мифических создателей города, его установлений и традиций. Но все живое развивается; в развитие — пусть медленное и ограниченное — был включен и консервативный организм полиса; развитие же означало создание избыточного продукта, его обмен и превращение в товар, усиление роли денег, имущественную дифференциацию и разрушение гражданской солидарности, рост торговли, импорт новых вещей, идей и форм жизни, В ходе исторического развития гражданская община оказывалась таким образом в противоречии с собственной консервативной природой, с основополагающим для нее принципом автаркии, короче — с самой собой. И чем шире раздвигал Рим границы своей державы, тем больше размывалась общинно-патриархальная основа цивитас, а реальной альтернативы ей на том этапе исторического развития не было. Деньги, рабы и сокровища потоком шли в Рим, но не поглощались полунатуральным укладом, а лишь вращались на его поверхности, обогащая многих, но и разлагая старинные установления и обычаи, общественную мораль, и чем больше стран покорялись Риму, тем интенсивнее шел этот процесс. Ко времени Цицерона кризис стал универсальным.
Выход обозначался на том пути, по которому уже некогда пытались пойти союзы греческих городов, Александр Македонский и полководцы — его преемники: по пути создания надполисных структур, способных, сохраняя общинный уклад, включить полисы в обширные государственные образования, с единым центром управления, учитывающим интересы всех частей государства, единой системой административных норм и законов и — неизбежно — единым властителем. В Риме претенденты на эту роль при жизни Цицерона сменяли один другого — Сулла Лепид, Красс, Помпей. Последним в этом ряду был Цезарь. Он сумел не только стать диктатором, но и приступить к созданию нового государственного строя — ограниченной старинными установлениями, но в то же время им неподвластной и опирающейся на военную силу пожизненной и легализованной диктатуры. Самостоятельные общины-республики, полностью и подлинно управлявшие всеми своими делами, навсегда уходили в прошлое.
Старинные ценности античного мира, религиозные, гражданские, моральные, художественные, оказались под сомнением, из объективно заданных и инстинктивно усвоенных они стали предметом обсуждения, нравственных раздумий, философского осмысления и художественного анализа. Цицерон воплотил эту фазу духовного развития античного мира. В его сочинениях поставлены многие проблемы, над которыми Европе предстояло биться веками и тысячелетиями — соотношение принципов местного самоуправления и государственной централизации, личной власти и гарантий того, что она не перерастет в тиранию, взаимной правоты и неправоты частной морали и государственной необходимости в их неслиянности и нераздельности. Познакомившись с книгой П. Грималя, читатель сможет составить себе весьма полное представление обо всей этой стороне дела.
Столь же полное представление получит он и о самом герое книги. Ни в зарубежной литературе, ни на русском языке нет столь подробного свода изложенных для широкого читателя сведений о жизни и творчестве великого оратора. По обилию источников биография Цицерона, пожалуй, не имеет себе равных в истории античной литературы, и все их данные скрупулезно учтены П. Грималем. В книге нет ссылочного аппарата, и это как бы скрывает всестороннюю эрудицию автора — она, однако, живет в подтексте книги и сообщает ей высокую научную добротность. Нет, например, ссылок на источники или литературу при характеристике гражданской жизни Арпина, родного города героя книги, но специалист видит, как много материала частных исследований и археологических отчетов за ней стоит, как тактично введены в текст полуцитаты из трактата Цицерона «Об обязанностях». Точно так же, говоря о нравах форума в пору появления там юного Цицерона, П. Грималь не погружается в детальное описание теоретической контроверзы двух основных складывавшихся в те годы течений римского ораторского искусства — так называемых азианизма и аттикизма, но дает о них ясное представление, используя (опять же без ссылок и даже без упоминаний) многочисленные сочинения древних авторов по риторике и, в частности, малоизвестное, позднее и незаконченное сочинение Цицерона «О наилучшем виде ораторов».
Мы привыкли понимать под культурой совокупность достижений в области искусства, просвещения и науки. При этом за пределами внимания остается — или по крайней мере долго оставалась — та совокупность категорий мировосприятия, социально-психологических традиций, полуосознанных норм жизнеотношения и общественного поведения, привычек и вкусов, которые образуют реальную почву и реальный воздух истории, ту тональность жизни, что отличает одну эпоху от другой, один народ от другого, придает неповторимый колорит характерам, поступкам и мыслям людей, их произведениям. В последние два-три десятилетия, однако, именно эту совокупность черт, эту атмосферу и почву исторического процесса в научной литературе стало принято называть культурой. Понятие культуры тем самым существенно расширяется и углубляется, сближается с повседневной жизнью личностей и масс, с непосредственной исторической действительностью. Одна из лучших черт книги П. Грималя состоит в том, что деятельность Цицерона и его творчество рассматриваются в ней в непосредственной связи с культурой Древнего Рима в этом, современном смысле слова.
Так, важнейшей чертой римской культуры в указанном выше смысле является то обстоятельство, что человек в Риме никогда не выступал как изолированный индивид, полностью самостоятельно определяющий свое жизненное и общественное по-ведение. Он всегда принадлежал к небольшому плотному человеческому единству — фамилии, местной общине, религиозной или ремесленной коллегии, дружескому кружку. П. Грималь убедительно показывает, какое значение имели эти социальные микрообщности в мире, где жил и действовал Цицерон, как влияли они на его поступки и решения. Другим проявлением все той же специфической культуры римлян было их отношение к религии. Она никогда не выступала в роли внутреннего лирического переживания, которая характерна для многих форм христианства, а всегда была опосредована либо государственными интересами, либо чисто фетишистским отношением человека с богами — принципом «я приношу жертву и молюсь тебе, чтобы ты помог мне». В книге хорошо показано, какое значение имело такое восприятие религии и в жизни народа, и в жизни Цицерона (особенно, например, перед отъездом в изгнание, см. главу X).
Важность и научная актуальность темы, беспримерная полнота ее разработки, изображение главного героя на мастерски выписанном фоне обычаев и традиций, политических нравов Рима — таковы достоинства «Цицерона» П. Грималя.
Недостатки книги менее значительны, чем ее достоинства, но обратить на них внимание читателя все же следует. Первый из них, при чтении сразу бросающийся в глаза, — пеэкопомность словесного изложения, частые повторы и перекрестные ссылки («как было сказано выше», «как мы уже знаем», «нам уже приходилось говорить, что...» и т. п.). Наверное, все-таки не нужно на этом основании читать книгу с пропусками: среди, казалось бы, многословного, обильного повторами рассказа сплошь да рядом встречаются важные сведения, точные замечания, острые запоминающиеся формулировки. С указанным характером изложения связан и еще один недостаток, характерный главным образом для разделов, касающихся философских трудов Цицерона, — преобладание риторического изложения над аналитическим. Рассказы о философских произведениях сороковых годов, например, представляют собой скорее импрессионистические эссе, нежели общедоступно изложенные научные их характеристики.
Самый серьезный упрек, который можно сделать автору, состоит в беглости и эскизности описаний собственно исторического — в отличие от культурного и хроникально-политического — фона. Поэтому будет, может быть, небесполезно напомнить основные события рассматриваемой эпохи в их логической связи. Кризис Римской республики, вызванный причинами, обозначенными выше, впервые стал очевидным в первой половине II века до н. э. Выйдя в 201 году победителем из тяжелейшей в своей истории войны с Карфагеном, могучим городом-государством Северной Африки, державшим под своим контролем все Западное Средиземноморье, Рим тут же погрузился в серию войн против городов-государств Греции, господствовавших в Восточном Средиземноморье, которые завершились уничтожением в 146 году богатейшего греческого города Коринфа и превращением Греции в римскую провинцию под именем Ахайи. Рим стал хозяином одного из главных мировых очагов древней цивилизации — всего античного Средиземноморья. Начался процесс интенсивного взаимодействия римского и греческого начал, которому предстояло в конечном счете привести к созданию единой синкретической культуры античности, а Римскую державу сделать мировым государством. Пока что было не взаимодействие, а насыщение Рима сокровищами, рабами и привозной роскошью, делавшее труд мелких и средних римских крестьян не конкурентоспособным, непрестижным и, следовательно, во многом бессмысленным — на протяжении II века из деревни ушли и пополнили ряды римских люмпенов 20 процентов крестьян, каждый пятый. Видя, как тает старое римское крестьянство, эта становая сила республики, поднялись на ее защиту лучшие люди из знатных и образованных. Братья Гракхи, Тиберий в 133 году и Гай в 122-м, попытались провести ряд законов, ограничивавших хозяйственное и политическое господство богачей, но оба были убиты в сражениях на улицах Рима. Знать, объединившаяся в своеобразный блок, получивший в Риме название «оптиматов», таким образом, все больше переходила к прямому террору, все более свирепо грабила провинции — в конце века народное собрание вынуждено было принять ряд законов против вымогательства наместников; все более продажно и бездарно вела себя при столкновении с окружавшими Рим пародами — полностью выявив оба эти свои качества, в частности, в 111—105 годах в ходе войны с африканским царьком Югуртой; все более нагло перекладывала тяготы непрерывных войн на плечи италиков. Все это, естественно, вызывало обостряющееся сопротивление, и начиная с рубежа I века Рим погружается в состояние, когда почти постоянно и почти одновременно шли крупные внешние войны (самая тяжелая — против восточного царя Митридата в 89—84 и 74—63 годах), войны междоусобные (так называемая Союзническая война Рима против италийских городов в 91— 88 годах) и гражданские («народной партии» Гая Мария против «аристократической партии» Корнелия Суллы в 83—82 годах), сопровождавшиеся взятием Рима то одной партией, то другой и резней на его улицах; восстания (Сертория в Испании в 80— 72 годах, Спартака в Италии в 74—71 годах). Дальше так государство жить не могло, и после ряда попыток установления режима единоличной власти, способного покончить с войнами, развалом и распрями, о которых было кратко упомянуто выше, Рим перешел в 40-е годы к новому государственному строю, увидеть торжество которого, весь его блеск и все его тени Цицерону суждено не было.
В той или иной связи многие из этих событий в книге упоминаются, а иногда и описываются довольно подробно, хотя связного, единого фона так и не образуют. Важно отметить следующее. Для нас остается незыблемым и очевидным, что в исторической жизни на любом ее этапе люди прежде всего обеспечивают свое выживание и воспроизводство, что они достигают этого трудом, что условия и характер труда, возникающие в процессе труда отношения образуют основу общественного бытия, что политика и торговля, реформы и войны в конечном счете тоже обусловлены интересами выживания, воспроизводства, улучшения условий существования. Книга П. Грималя не рассматривает историческую жизнь римлян в этих ее основах и целиком замкнута в политической сфере. Даже характеристика особенностей римского общественного мировосприятия, римской культуры дана имманентно, вне связи с условиями жизни и труда народа, с его историческим опытом. Подчас это ограничивает смысл описанных в книге исторических явлений. Так, схематизированным и упрощенным предстает движение социальных низов Рима, возглавленное и использованное Клодием. Авантюризм, нравственная нечистоплотность, грубая бесцеремонность Клодия не могут и не должны заслонять объективно обусловленное обострение социальных противоречий и всестороннее ухудшение положения римского плебса, вызвавшие это движение к жизни. Нередко П. Грималь объясняет события, имевшие социально-экономическую или социально-политическую природу, лишь политическими интригами и игрой честолюбий, отводя последним непропорционально большую роль — например, при освещении поведения Антония после Мартовских ид.
Было бы непростительно ограничиться при характеристике книги П. Грималя делением ее особенностей на положительные и отрицательные, на достоинства и недостатки. Главное в ней — постановка всемирно исторического значения политической, культурной и нравственной проблемы, которую можно условно назвать «проблемой Цицерона». П. Грималь предлагает для нее свое решение. Оно заслуживает обсуждения.
Проблема, о которой идет речь, в общем виде может быть сформулирована весьма просто: если одной из важнейших целей государства, социальной группы или личности является выживание и самоутверждение, то в какой мере согласуется реализация этих целей с верностью нравственным нормам, возможно ли их осуществление, говоря словами Маркса, «а la hauteur des principes» — «на уровне высоких принципов». Или еще проще: никакое развитое общество, никакой живущий в нем человек не могут жить без соблюдения нравственных норм: следование этим нормам предполагает, если надо, отказ от успеха и выгод; но никакое развитое общество и никакой живущий в нем человек не могут также не стремиться обеспечить себе успех и выгоды. «Если полагать цель жизни в успехе, — написал однажды Жан-Жак Руссо, — то гораздо естественнее быть подлецом, чем порядочным человеком». Так ли это? Нельзя ли все-таки объединить оба императива? Как? Цицерон одним из первых в Европе всю жизнь пытался их согласовать. Важно посмотреть, каково найденное им — или воплощенное в его судьбе и творчестве — решение. Практическое совмещение реальной политики и нравственной ответственности в сознании и в деятельности политических руководителей — а Цицерон был оратором прежде всего политическим и в определенные моменты руководителем государства — представляет собой одну из самых трудных, самых трагических задач, известных истории. «Добродетель и власть несовместны», — утверждал римский поэт; все дело в том, однако, что длительное время оставаться «несовместны» они тоже не могут.
Нравственное сознание римлян эпохи Цицерона имело особую структуру. Их прадеды еще не относились к себе как к автономным личностям, выделенным из гражданского коллектива, и потому самостоятельно ответственным за моральный смысл своего общественного поведения. Потомки римлян Цицероновой поры, пережившие крушение полисной системы ценностей, духовный опыт позднего стоицизма, протохристианские и около-христианские настроения, уже не сомневались в том, что нравственная ответственность носит личный характер. Цицерон и его современники находятся посредине этого пути. Они уже воспринимают действия государства рефлектированно, как подлежащие нравственной апробации, но критерии такой нравственной апробации носят еще внеличный характер, принадлежат еще той же государственной сфере. В основе таких нравственных критериев лежала верность государства своему внутреннему принципу, своей идеальной норме, то есть прежде всего заветам предков и законам — как созданным людьми, так и данным Риму его богами.
В III веке до н. э. знаменитый полководец этой эпохи Клавдий Марцелл вел войны потому, что это было нужно сначала для расширения владений Рима и укрепления его могущества, потом для спасения римской общины от Ганнибала; обосновывать свои действия чем-либо, кроме практической целесообразности и выгоды государству, ему не приходило в голову. Цицерон развил целую теорию войн, которые лишь в той мере соответствуют величию Рима и подлинно полезны ему, в какой оправданы с точки зрения права и потому справедливы. «Не может быть справедливой никакая война, — утверждал он, — если она ведется не ради возмездия или отражения врагов». Величие Рима и его бесчисленные победы были в глазах Цицерона следствием таланта его руководителей и самоотвержения его народа, но могли принести свои плоды лишь «благодаря благочестию и вере, благодаря той никому больше не свойственной мудрости, что позволила нам понять: всем руководит и всем управляет воля богов; вот этим-то мы и превзошли остальные племена и народы».
Поэтому как никто, кажется, до него и мало кто после него, подчеркивал Цицерон нравственные аспекты общественно-политической деятельности, ее обязательное соответствие законам государства и законам божественным. Обосновывая необходимость предоставления чрезвычайных полномочий Помпею, он говорит об особой божественной благодати, которая должна отличать каждого государственного руководителя, достойного этого имени. О нравственной природе власти говорится в обращенных к Цезарю речах 40-х годов «В защиту Лигария» и «В защиту царя Дейотара». Сочетание верности римской традиции, чувства ответственности перед народом и нравственного достоинства — обязательные черты того верховного правителя Рима, образ которого намечен в диалоге «О государстве» и который на последующие полтора столетия сохранит значение идеала и нормы для первых принцедсов от Августа до Тита. Цицерон бесконечно говорил о торжестве закона и законности, о бесстрастии, неподкупности и непреложности этой главной силы подлинной и свободной республики. Он посвятил специальное сочинение, трактат «Об обязанностях», характеристике высших моральных ценностей римского общества и обратился с этим сочинением к сыну, дабы утвердить и следующие поколения на пути добродетели. Даже римские социальные микромножества представляются Цицерону допустимыми и оправданными лишь в том случае, если в основе личных связей лежит служение государству и гражданская доблесть — об этом идет речь в позднем диалоге «Лелий, или © дружбе». Цицерон — теоретик и защитник нравственной природы государства и государственной деятельности, наверное, самый красноречивый моралист из римских политиков.
И в то же время никто, кажется, из моралистов среди римских политиков до него и мало кто после него не нарушал столь часто принципы морали, которые проповедовал, из честолюбия, ради утверждения своей политической программы, а главное — ради самого принципа политической деятельности, цель которой — победа и успех и которая даже по самым высоким соображениям отсыпаться от этой цели не может. Но между аморальным поведением «во имя высших целей» и аморальным поведением во имя собственных интересов граница очень зыбкая. Цицерон всю жизнь отстаивал принцип согласия сословий, ибо только в единении всех сил государства полагал возможность сохранить республику с ее традициями и ценностями, но во имя осуществления этой программы шел на политические интриги, на сомнительные, а то и просто противозаконные сделки, которые не оставляли и следа от морального содержания самой программы; так было, когда он произносил речи в защиту Фонтея или Гая Рабирия, так выглядит многое в Филиппинах. В книге П. Грималя описан также ряд случаев, когда Цицерон добровольно или вынужденно брался защищать людей, которых ранее сам же разоблачал как насильников, грабителей, подлых интриганов, как в середине 50-х годов, когда после возвращения из изгнания он выступал адвокатом им же некогда заклейменных Габиния и Ватиния. Красноречивый защитник неподкупности судов и судебных ораторов, он систематически нарушал, находя для этого разнообразные и хитроумные способы, старинный Цип-циев закон, запрещавший судебным ораторам получать денежные вознаграждения от подзащитных. Так было, например, в процессе Корнелия Суллы.
Какой же из двух Цицеронов подлинный — защитник высоких духовных норм государственной жизни или хитрый и трусливый интриган? Французские революционеры эпохи Конвента и якобинской диктатуры, русские декабристы видели в Цицероне воплощение исторического и нравственного величия Римской республики. «Ив Цицероне мной не консул — сам он чтим За то, что им спасен от Катилины Рим», — писал Рылеев. В ту же эпоху, однако, нравственный пафос речей и трактатов Цицерона уже начинал восприниматься как далекая от жизни или лицемерная декламация, скрывающая в лучшем случае политическую наивность, а в худшем — обыкновенное корыстолюбие. Подобный взгляд получил подтверждение и развитие в академической историографии Древнего Рима (прежде всего немецкой) и сохранял свою силу вплоть до середины нашего столетия. Перелом произошел в 1930—1950-е годы, когда сначала в коллективной статье многотомной международно авторитетной «Реальной энциклопедии классической древности», а потом в трудах ряда крупных ученых (прежде всего покойного Карла Бюхнера) акценты оказались переставленными, и на первый план снова вышли высокие духовные и нравственные достоинства самого Цицерона и дела, которое он делал, — его противостояние темным погромным силам общества, создание европейской либеральной традиции, неприязненно настороженное отношение к единоличной власти.
Не скрывая, что в некоторых случаях мотивы политического, общественного и даже личного поведения Цицерона были довольно низменны, П. Грималь в целом рассматривает своего героя в духе последней из изложенных концепций, всячески подчеркивая благородство мотивов, которыми в ряде случаев руководствовался Цицерон, его верность своим принципиальным установкам и его умение рассматривать политические вопросы с философских позиций. В начале книги верность великого оратора своим нравственным убеждениям, с одной стороны, и теневые стороны его судебной и политической деятельности — с другой, еще в какой-то мере предстают как две стороны единого противоречивого и сложного явления, имя которому Марк Туллий Цицерон. Но чем дальше развивается рассказ, тем чаще считает автор необходимым найти для своего героя оправдание любой ценой. Если, например, в 66 году в речи «В защиту Клуенция» Цицерон отстаивает интересы людей, которых несколькими годами раньше сам же осуждал, и это неоднократно вызывало порицания у современников и у ученых нового времени, то автор будет упорно искать в деталях процесса поводов оправдать переменчивость оратора. Поводы для оправданий такого рода подчас вполне очевидно искусственны и произвольны: в 60 году, например, Цицерон выпускает сборник своих речей 63 года, как он их называет «консульских». Исторический и литературный контекст не оставляет сомнений, что то был один из шагов, направленных на увековечение Цицероном собственного консульства и продиктованных крайним тщеславием. Автор ради оправдания оратора создает очень сложное, искусственное и, главное, ни на какие источники не опирающееся построение: в издании консульских речей он предлагает видеть попытку укрепить свой авторитет — только и именно ради того, чтобы поставить этот авторитет па службу Помпею, который, по расчетам Цицерона, мог в те годы сыграть значительную роль в объединении разнородных общественных сил и тем содействовать согласию сословий, и, следовательно, усилению римской общины в целом. Таких примеров в книге немало. Каждый из них, взятый сам по себе, может быть более или менее убедительным; благородные мотивы, которые автор книги стремится разглядеть в основе подчас совсем не благородных поступков его героя, — более или менее остроумно найденными. Суть дела от этого не меняется — рядом с теоретическими построениями и декларациями гражданской доблести все равно остаются поступки, им прямо противоречащие.
Есть еще одно в высшей степени существенное обстоятельство, осложняющее положение. Внимательно познакомившись с книгой П. Грималя, читатель убеждается, что Цицерон отнюдь не только провозглашал моральные заповеди в речах и трактатах и нарушал их в практическом поведении — он неоднократно доказывал также на деле, что готов в соответствии с ними жить и действовать. В 80 году до н. э. Римом недолго и единовластно правил диктатор Корнелий Сулла. Его приближенные и в первую очередь всемогущий вольноотпущенник Хрисогон под разными предлогами грабили граждан, убивали каждого, кто стоял на их пути, и никто не решался оказать им сопротивление. Очередной жертвой Хрисогона оказался некий Росций из городка Америи. Все попытки пострадавшего добиться справедливости были тщетны. Ни один из адвокатов Рима не брался за это дело, и только начинавший двадцатишестилетний Цицерон согласился защитить Росция, разоблачил козни всесильного временщика и добился восстановления справедливости. Процесс не принес Цицерону никаких материальных выгод; мало того — после суда он вынужден был бежать из Рима. Ситуация повторилась в 63 году, когда на долю Цицерона-консула выпала обязанность пресечь опасные замыслы заговорщиков — Катилины и его сообщников. Необходимость такого шага была ясна всем, но брать на себя ответственность за казнь римских граждан не решался никто. Цицерон решился. Это опять-таки не принесло ему ничего, кроме преследований, опасностей, нареканий и... славы в потомстве. А ведь то были поступки в его жизни отнюдь не единичные.
Объяснение этим противоречиям можно искать — и обычно ищут — в сфере морали либо в сфере истории. Самым уязвимым оказывается чисто моральный подход. Он состоит в том, что коль скоро личное и политическое поведение Цицерона сплошь да рядом противоречит нравственным суждениям самого оратора, оно, это поведение, заслуживает безоговорочного осуждения. Никакой внутренней связи с содержанием творчества Цицерона оно не имеет и, наоборот, является изменой проповедуемым там принципам. Многие из западных отцов церкви — Иероним, Лактанций, Августин — читали Цицерона постоянно, но никогда не могли простить ему его переменчивость и способность применяться к обстоятельствам. «Мои упреки обращены к твоей жизни, не к твоему духу или красноречию», — писал Петрарка в созданном почти через полторы тысячи лет после смерти оратора риторическом письме, ему адресованном. На трагедию религиозных войн во Франции XVI века поэт Агриппа д’Обипье откликнулся замечательными, до сих пор недостаточно оцененными стихами. «Катоном лучше умереть, чем жить, как Цицерон», — призывал он в одной из поэм. Создателю современной историографии Древнего Рима Теодору Моммзену (1817—1903)
Цицерон был неприятен во всех своих проявлениях, но наиболее язвительные замечания историк отпускает все-таки не в связи с его философией или государственными речами, а в связи с его политическим и личным поведением, называя его «слабохарактерным», «боязливым», «политическим флюгером». Подобные упреки не содержат ответа на коренной вопрос — как совмещались столь низменные черты в облике Цицерона с другими, прямо противоположными, и потому идут мимо проблемы, анахронистичны. В сознании Нового времени высшим критерием нравственного поведения является внутреннее согласие с самим собой, его соответствие самостоятельно добытым личным убеждениям, свобода выбора и ответственность за этот выбор, ответственность за измену этим убеждениям ради внешней необходимости. Критерии эти в эпоху Цицерона даже еще не начинали складываться; классической античности они неведомы. Римлянин I века до н. э. знал обязательства перед государством, перед родом, группой, перед семьей, ее положением и достоянием, и в той мере, в какой поведение его отвечало их интересам, оно заслуживало одобрения. С точки зрения таких норм общественного и государственного интереса поведение Цицерона могло быть предосудительным из-за его непоследовательности, нерешительности, тщеславия, но о морали в собственном, позднейшем смысле слова, о совести говорить не приходилось. В число ценностей, завещанных Европе античной культурой в целом и Цицероном в частности, совесть не входила. «Проблема Цицерона» к ней отношения не имеет, на этом пути она не находит себе решения.
Отношение к такой постановке проблемы в книге, с которой читателю предстоит познакомиться, противоречиво. Антиисторических рассуждений о том, что Цицерон вел себя «не по совести», в ней нет, но в основе столь часто проявляющегося стремления его оправдать, добиться снисхождения или прощения, вполне очевидно, лежит тот же ход мысли, пусть проявляющийся не в прямой, а в косвенной форме. К счастью, этим дело не исчерпывается, и в книге содержится также гораздо более глубокое объяснение общественного поведения Цицерона, основанное не на морали как таковой, а на истории.
Выше мы уже упоминали, что государственный интерес не был для римлянина абстрактной, всеобщей, чисто правовой категорией, а был, напротив того, всегда опосредован интересами той ограниченной, конкретной, на личных отношениях основанной и в этом смысле неотчужденной группы, к которой принадлежал каждый — фамилии, «партии», дружеского кружка, коллегии, местной общины. В трактате «О законах» Цицерон писал, что у римлянина две родины — великая, требующая служения и жертв, воплощенная в римском государстве, и малая — любимая горячо и непосредственно, составляющая плоть и суть повседневной жизни — местная община. Десятью годами позже в трактате «Об обязанностях» он рассказал о связях, объединяющих людей каждой «малой родины»: «Связь между людьми, принадлежащими к одной из той же гражданской общине, особенно крепка, поскольку сограждан объединяет многое: форум, святилища, портики, улицы, законы, права и обязанности, совместно принимаемые решения, участия в выборах, а сверх всего этого еще и привычки, дружеские и родственные связи, дела, предпринимаемые сообща, и выгоды, из них проистекающие». Государственная сфера, поскольку она не была полностью отчуждена от повседневного существования граждан, от их непосредственных интересов, реализовалась в прямых, внятных каждому, очевидно мотивированных формах. Нельзя, например, представить себе в республиканском Риме государственную полицию, разгоняющую сходку граждан, или народное собрание, принимающее за спиной народа антинародные решения. Но в силу той же неотделимости государственной сферы от личных интересов и отношений всякое политическое или даже граждански-правовое действие могло быть успешным, только если оно лично кого-то устраивало, приносило выгоду семье, клану или группе, и любая успешная карьера, а подчас и судебный приговор зависели от нее же.
Противоречие между частным интересом, государственным делом и его моральной санкцией в Риме вообще и в жизни Цицерона в частности во многом объясняется этой двойной соотнесенностью и двойной ответственностью каждого гражданина. То, что нам представляется аморальным своекорыстием и изменой принципам, на самом деле было всего лишь верностью «второй морали», которая, естественно, не могла быть универсальной: то, что устраивало одних, вызывало критику других. Возвращением из изгнания Цицерон был больше всего обязан Помпею. Это создавало между ними определенные отношения, которые в Риме назывались «дружбой» и порождали обязательства, столь же непреложные, сколь обязательства перед законом. Отсюда упоминавшиеся уже речи в защиту Габиния или Ватиния, произнесенные по настоянию Помпея. Того же происхождения многие другие речи и поступки Цицерона. В классическую пору римского государства обе системы обязательств как-то уживались одна с другой (хотя всегда порождали конфликты, недоразумения, взаимные обвинения). В кризисные, предсмертные годы республики конфликт между ними существенно обострился. Обращая внимания на эту сторону дела и раскрывая ее, П. Грималь полностью прав: так называемый аморализм Цицерона рос из общественных условий, из органической, естественной двойственности римских нравственных норм и ценностей, и характеризовал скорее их, чем его.
Так на чем же все-таки основано значение Цицерона для многовековой европейской культуры, для наших дней? Исчерпывается ли его роль сменой «положительного» и «отрицательного» его образов? И если оба они имеют объективное основание в истории, то откуда же взяться еще одному, третьему — тому, что заключает в себе свою особую разгадку «проблемы Цицерона»? И есть ли вообще разгадка?
Центральная проблема античной культуры, античной истории и всей жизни древних Греции и Рима — соотношение идеальной нормы гражданского общежития с реальной общественной практикой. «Я знаю, какое государство основали наши предки, — говорил в римском сенате один из весьма влиятельных его членов, — ив каком государстве живем мы. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями». Сенатор выразил жизненную коллизию, с которой повседневно сталкивался каждый римлянин. Суть античного миропорядка, однако, состояла в том что в его пределах «древность» и «нынешние условия» не только друг другу противостояли, но и друг друга опосредовали, дополняли, друг в друге жили. Основу этой диалектики составлял, как отмечалось, общинные уклад, который с неизбежностью предполагал, с одной стороны, сохранение старинных институтов и ценностей общины и их идеализацию, а с другой — постоянное их разрушение поступательным развитием жизни. По мере углубления кризиса общины противоречие между обоими полюсами обострялось, соединение политической, хозяйственной и любой иной практики с «древностью, которой должно восхищаться» становилось все иллюзорнее, и люди вели себя все менее последовательно, все более лицемерно. В книге П. Грималя читателю предстоит познакомиться со многими из них, и Цицерон, пока он старался жить «как люди», мало чем от них отличался. Скорбел в письмах об унизительной непоследовательности своего поведения — и снова возвращался к конформизму, хитрости и интригам. Но в годы, на которые приходились его деятельность и его творчество, община Рима продолжала существовать — ив своих экономических основах, и в своих политических формах, и в своей идеологии. Кризис — это тоже форма жизни. И пока общинный уклад был жив, он регенерировал заложенные в нем ценности и нормы, возвращал их в реальность, сплетал с противоречившей им практикой, создавая тот тип истории и культуры, который мы вслед за Гегелем называем классическим. Если употреблять это последнее слово не как оценку, а как термин, то оно и означает тип истории, культуры, искусства, при котором противостоящие полюса общественных противоречий остаются в состоянии неустойчивого, динамичного, но длящегося равновесия, а идеал и жизнь неслиянны, но и нераздельны. Зайдите в музей, взгляните на статуи атлетов, изваянные Поликлетом, перечитайте «Энеиду» Вергилия или в «Истории» Фукидида речь Перикла над павшими афинскими воинами, и вы удостоверитесь в классическом характере античной культуры.
В Риме этот тип исторического развития имел реальные жизненные основания, еще сохранявшиеся в эпоху Цицерона. Ограничимся в доказательство одним примером.
Идеальной нормой римского общежития была непритязательность быта, суровая и честная бедность, уравнивавшая членов общины. В государстве, накопившем несметные сокровища, где богачи владели тысячами гектаров, по сути дела, краденой земли и устраивали пиры, на которые свозились диковинные яства со всей земли, эта норма была явной бессмыслицей, а попытки миллионера Цицерона эту норму прославить и утвердить — смесью наивности и лицемерия. Но с того момента, как богатства со всего Средиземноморья обрушились па Рим, сенат упорно принимал законы против роскоши — в 215, 182, 161, 143, 131, 115, 55 годах и еще несколько раз впоследствии. Их повторяемость показывает, что они не исполнялись, но ведь что-то заставляло их систематически принимать. Моралисты, историки, школьные учителя пели хвалу героям древней республики за их бедность, их хижины, их деревянную посуду, земельные наделы в семь югеров (1,7 га). Это выглядело не более чем олеографией. Но, как ныне подсчитано, при выводе колоний размер предоставляемых участков был ориентирован примерно на те же семь югеров, а огромные имения, если земля в них не обрабатывалась, могли быть по закону конфискованы — закон этот не применялся, но его упорно не отменяли. Сенека в I веке н. э. прославлял честную бедность и восхвалял за нее Сципиона, который, удалившись в добровольное изгнание, мылся в темной крохотной баньке, им собственноручно сложенной из камней, — звучало это как назидательная выдумка, но ведь Сенека эту баньку видел своими глазами. Противоестественное богатство Верреса фигурирует и обвинительных речах Цицерона как одна из презумпций обвинения, но речи были рассчитаны на очень широкую аудиторию — по-видимому, и в ее глазах такое богатство, независимо от его происхождения, могло быть предосудительно.
Что же заставляло сенат систематически принимать законы, которые явно противоречили практике жизни и чаще всего не выполнялись? Что заставляло Помпея, когда он в декабре 62 года после своей азиатской кампании высадился в Италии с огромной лично ему преданной армией, отказаться от захвата власти — чего все от него ожидали — и распустить солдат по домам? Из чего исходил «политический флюгер» Цицерон, вступая в борьбу с Хрисогоном, казня сообщников Катилины, выступая — хотя это стоило ему жизни — против монархических замашек юного Октавиана? Откуда шли стимулы такого поведения, если реальная, эмпирическая жизнь их вроде бы отнюдь не порождала? Римляне не знали, что такое совесть в ее позднейшем, христианском или современном смысле слова, но они знали другую форму нравственной ответственности — перед тем идеализованным образом своего государства, тем героическим мифом сурового простого Рима, живущего по законам и заветам предков, потребность в котором, как мы видели, была заложена в идеологической структуре гражданской общины, в культуре греков и римлян, а следовательно, в самой природе классической античности. События и эмпирия жизни — далеко не единственное, что есть в истории. Такой же органической ее частью является отражение всех этих действительных битв в сознании времени — отражение, которое, в свою очередь, воздействует на ход и исход действительных битв.
Где и чем живет возвышенный миф каждого общества, его идеализированное представление о самом себе, о своих ценностях, об обязательной верности им? Трудно ответить на этот вопрос четко и однозначно. Где и чем в феодальном обществе, грубом, жестоком и ленивом, жили рыцарская честь и рыцарская любовь — понятия, которые до сего дня играют для нас едва ли не важнейшую роль в наследии средних веков? Научный критический анализ исторических процессов дает нам бесконечно много; он раскрывает их подлинную структуру — хозяйственную, социальную, политическую, идеологическую, раскрывает их движущие противоречия. Но что-то очень важное остается за его пределами. Общественный миф и общественный идеал формируются и отражаются в самосознании — в искусстве каждого времени, и прежде всего в слове; в преданиях и легендах, которые время по себе оставляет; в том образе, основанном на исторической практике и не исчерпывающемся ею, в котором видят его последующие поколения. Такое знание былых исторических эпох не хуже и не лучше научно-дискурсивного, критико-аналитического их познания — оно другое, и лишь в совокупности их обоих восстанавливается перед нами прошлое во всей его полноте. В этом мире слова и памяти противоречие нормы и эмпирии в его повседневной конкретности перестает существовать, растворяясь, как говорили в старину, в «послании», которое время оставляет потомству.
Цицерон постоянно был связан с историей событий и эмпирии и обречен ее противоречиям, в том числе противоречию нормы и практики. Но чем дальше, тем больше погружался он в ту тональность существования, где человек реализует себя в первую очередь в размышлении и слове, где он ориентируется на образ времени, на его итоги и ценности, передаваемые в эстафете культуры, и тем самым как бы переходил в регистр существования, где эти противоречия упразднялись. В 45 году, за два года до смерти, он написал обо всем этом диалог «Гортензий» — о преимуществе философии перед политическим красноречием. В те же годы, когда он удалился от дел, жил на своих виллах и думал больше об истории, о философии и искусстве, чем о практической политике, возникли другие его поздние произведения, где эта мысль не формулируется, а как бы растворена в ткани повествования — в первую очередь диалоги «Катон Старший, или О старости» и «Лелий, или О Дружбе». В обоих действие отнесено к середине II века — к эпохе, современников которой Цицерон еще застал и которая среди ужасов и конвульсий гражданских войн казалась царством традиционных римских доблестей. В обоих выведены известные государственные деятели той эпохи — Сципион Эмилиан, Катон Цензорий, Лелий Младший. То были вполне реальные люди, знакомые знакомых Цицерона, и в то же время великие тени, уже наполовину растворившиеся в традиции римской славы. В Катоне сплавлены воедино образ уединенного мудреца греческого облика, каким он скорее всего никогда не был, и образ государственного деятеля, каким он действительно был. Точно так же, как соединение документальной исторической реальности и внутренней, соотнесенной с идеалом и нормой, логики развития, строится образ Сципиона в диалоге «О дружбе».
То был итог целой жизни. На всем ее протяжении для творчества Цицерона была характерна тенденция рассматривать реальную действительность на фоне действительности возвышенной и нормативной. Рядом с реальным Римом деловых писем стоял Рим диалога «О государстве»; рядом с практическим судебным красноречием — красноречие нормативное, разбираемое в трактате «Оратор»; рядом с естественной народной речью — художественная речь, которой посвящен «Брут»; рядом с довольно циническим описанием собственного общественно-политического поведения — героизированная самооценка в письме Луцию Лукцею от мая 56 года; рядом с современниками, обрисованными во многих письмах со всем реализмом, — их интеллектуализированные и монументализированные образы, как, папример, Лукулла в диалоге, носящем его имя. Цицерон долго верил в спасительную возможность лавировать между обоими этими рядами. Кончил он убеждением в том, что противоречие между ними снимается не в сфере практики как таковой и не в сфере идеала как такового, а в особом регистре исторической жизни, их объединяющем, но лежащем как бы вне них — в общественно-историческом мифе и в сфере эстетически «доведенной» действительности, этот миф отражающей.
Решение это было не слишком надежным и уж очень неуниверсальным. Практика, противоречия и политическая борьба оставались неотъемлемой частью жизни, уйти от них было невозможно. В ходе гражданской войны между Цезарем и Помпеем и в первые годы после Цицерон нет-нет да и делал им нехотя уступки, а после убийства Цезаря не выдержал, очертя голову бросился в огонь начинавшейся новой гражданской войны и там сгорел.
И тем не менее, если мы две тысячи лет его помним, если мы читаем о нем толстые книги, то не потому ведь, что он хорошо управлял Сицилией, был во время гражданской войны в лагере Помпея или не справился с Антонием. И не потому, что он произносил речи и писал трактаты, а в жизни подчас вел себя не так, как в них было написано или сказано. Все это делали десятки, если не сотни людей, чьи имена навсегда канули в Лету. Помним же мы его потому, что, человек античной культуры, он одним из первых осознал и выразил урок, ею оставленный. Урок состоял в том, что поведение людей в истории определяется, в не меньшей мере чем их потребностями, их общественными идеалами, их представлениями не только о том, что есть, но и о том, что должно быть, заложенными в структуре общества и времени, отличными от его повседневной практики, но особым образом включенным в ткань исторического процесса. Образ республики римлян, ее величественный миф, встающий из речей Цицерона, из его диалогов, писем и стихов, веками вдохновлял борцов за свободу и торжество права. В душе человека, который не вгляделся в этот образ и не пережил его, остается важный пробел. Чтобы его восполнить, надо читать Ливия, читать Вергилия, но прежде всего Цицерона. «Сторонники «реальных взглядов», — писал проницательный современный историк, — всегда стремятся разрушить метафоры истории. Дело это верное и нетрудное, но является ли подлинной реальностью то, что остается в итоге?»
Творчество Цицерона — оратора, в течение долгих лет, по общему признанию, не имевшего себе равных; государственного деятеля, погруженного в яростные схватки, подчас сопряженные со смертельным риском; философа, который то считался глубоким и оригинальным, то навлекал на себя презрительные обвинения в неспособности понять учения великих греческих мыслителей; теоретика красноречия, а тем самым и всей отразившейся в нем великой культуры — подвергалось столь долгому изучению, столь тщательному анализу и толкованию частностей, что даже простой перечень работ, ему посвященных, журнальных и книжных, занял бы не один том. Надеяться внести сюда что-либо подлинно новое, по-видимому, нельзя, но само разнообразие мнений, которые высказывались на протяжении многих веков, значительность и количество исследований, посвященных Цицерону и его творчеству, не только не лишают смысла дальнейшие изыскания, но, напротив, подталкивают к продолжению работы, пробуждают стремление внести хоть какой-то порядок в это путаное многообразие и, если допустят то человеческие силы, попытаться создать синтез всего, открытого в данной области длительными усилиями ученых прошлых поколений и наших дней.
Для подобного синтеза мы располагаем речами оратора, его перепиской, трактатами по философии, по теории и истории красноречия, наконец, стихотворными произведениями — обширнейшим сводом, который, к сожалению, содержит сегодня далеко не все из написанного и опубликованного Цицероном. Утрачены целые книги переписки, многочисленные речи и некоторые трактаты; стихотворные произведения пострадали особенно сильно и дошли до нас в большинстве случаев лишь в отрывках. Путь исследователя, вознамерившегося выяснить по возможности подробно различные стороны личности Цицерона и перипетии его жизни, пролегает через все эти горы разнообразного материала. Здесь неизбежны спорные реконструкции, которые подчас не согласуются с тем, что известно о том времени, а по мере погружения в анализ еще более отдаленных исторических истоков каждого произведения неизбежно нагромождаются новые и новые сомнения, и вскоре исследователь невольно переходит в ту область, где гипотез больше, чем бесспорно засвидетельствованных фактов.
Твердую почву мы чувствуем под ногами, когда имеем дело с речами. Они проходят через всю жизнь Цицерона, и блеск красноречия, изощренность доказательств, гармоническое строение ритмически организованных периодов вполне достойны стать самостоятельным предметом исследования. Но едва закончен анализ формы, становится ясно, что каждая из речей в большей или меньшей мере принадлежит также к событийной истории. Возникшие из вполне конкретных обстоятельств, из определенной судебно-правовой ситуации, они могут быть по-настоящему поняты лишь в связи с условиями, в которых были произнесены, почему и породили, начиная с античности, многочисленные комментарии и толкования. Уже в правление Нерона историк и эрудит Асконий Педиан составил комментарий к речам, содержавший разнообразные сведения о времени и обстоятельствах их произнесения, вплоть до подробностей, порой весьма забавных. Асконий порывал таким образом (и в этом его большая заслуга) со школьной традицией, которая требовала от комментатора сосредоточиваться лишь на анализе языка и стиля оратора. К сожалению, комментарий Аскония дошел до нас не полностью; сохранившиеся отрывки тем более драгоценны, что комментируются в них самые знаменитые из речей Цицерона. При чтении этих отрывков становится ясно, что, какой бы ни была речь, объясняемая Асконием — политической, судебной защитительной или, как в случае с Берресом, судебной обвинительной, — каждая из них представляла собой общественный акт, ибо задача всегда состояла в том, чтобы убедить — судей, граждан, собравшихся перед рострами, или сенаторов в курии. Если это заключение справедливо по отношению к речам, которые комментировал Асконий, не менее справедливо оно и по отношению ко всем остальным. Красноречие никогда не было для Цицерона самоцелью. Время школьной риторики и технического совершенства ради совершенства в его годы еще не пастало — оратора отделяло от него по меньшей мере целое поколение.
Красноречие утратило свою живую плоть и превратилось в некое искусство, довлеющее себе, подобно музыке или лирической поэзии, лишь во второй половине
I века до н. э. в результате победы Октавиана, будущего императора Августа, установившего новую политическую систему, и как результат последовательного разрушения старого порядка — аристократической республики, где каждый (по крайней мере в идеале) стремился прежде всего отдать всего себя, свои способности, таланты и жизнь служению гражданской общине. В созданном Августом новом Риме, которому предстояло стать империей, такой идеал не соответствовал больше условиям политической и общественной жизни. Все, что прежде каждый гражданин, становясь магистратом, полководцем или принимая участие в заседаниях сената, вкладывал в служение государству, отныне символизировалось одним правителем и соединялось в нем, так что личность отдельного человека в большой мере утрачивала свое значение. Образ подлинного римлянина, способного повести воинов в битву и управлять провинцией, разбирающегося в законах и уверенно ведущего судебное разбирательство, гражданина, готового подать точный и разумный совет в любом большом или малом государственном деле, — этот образ, проходящий через многие диалоги Цицерона (такие, например, как «Об ораторе» или «Об обязанностях»), взятый во всей совокупности своих черт, соответствовал отныне лишь одному человеку — тому, кто одержал победу и потому был предназначен править и руководить.
Переворот, связанный с именем Августа, не был, правда, ни насильственным, ни полным. Новый строй старался сохранить былой облик государства. Государь представал лишь как «первый гражданин» (принцепс) и весьма походил на тех «кормчих», о которых мечтал Цицерон в своем диалоге «О государстве». Теоретически правление принцепса покоилось прежде всего на нравственных основаниях. Былые государственные установления сохранялись. Разумеется, их пришлось усовершенствовать, дабы избежать возврата к беспорядкам и распрям, избежать борьбы честолюбий, которая и привела республику к крушению, но по-прежнему заседал сенат, где много и с большей или меньшей свободой рассуждали об общественных делах, по-прежнему созывались народные собрания, даже если они лишь одобряли решения, принятые на вершинах власти, и облекали законными полномочиями кандидатов, названных государем. Главное же, сохранялись суды, где все происходило согласно древним обычаям, «патроны» защищали своих клиентов и чувствовали себя оскорбленными, если им не удавалось добиться победы в затеянном процессе. В этих условиях красноречие, хотя смысл его и стал во многом иным, по-прежнему оставалось высшим и самым чтимым выражением человеческого разума, а вместе с ним и Цицерон оставался наставником, метром, к авторитету которого принято было обращаться. Исчезновение республиканских установлений в том смысле, который был присущ им ранее, не умалило славу Цицерона. Постепенно он становился мифом. Стремление подражать ему во всем далеко не для всех было благотворно и привело в эпоху Квинтилиана к известному омертвению римского красноречия, но зато на века остался связанным с тем же мифологизированным его образом определенный тип культуры, тип гуманизма, которому вскоре предстояло выйти далеко за пределы политико-социального контекста, его породившего, — недаром слово humanitas встречается у Цицерона так часто, а понятие, им обозначаемое, составляло одну из главных тем его раздумий. После того как мы, полностью отдавая себе отчет во всех возможных здесь пробелах и несовершенствах, воссоздадим картину жизни и деятельности Цицерона, мы должны будем вглядеться в то, что стало с мыслью и словом оратора в последующие века. Благодаря Цицерону духовные ценности Рима золотого века перестали принадлежать одной конкретной эпохе. Они стали достоянием человеческого духа в целом, подобно достижениями эллинской культуры, с которой Цицерон сумел их окончательно связать. В его личности и в его творчестве Греция и Рим сплетаются в единую духовную сущность, как две части ранее искусственно разобщенного целого и наподобие того, как сплетаются два разнородных существа в Андрогине Платона.
Талант Цицерона, весь дух, разлитый в его творчестве, формировались и зрели в смутные времена,
Римское общество все сильнее охватывает стремление
Эту жажду военной славы, сгубившую Красса, это вожделение известности и власти испытывали в ту эпоху все. За тридцать лет до Красса Луций Корнелий Сулла взбунтовался против законов Рима, осадил родной город и уничтожил целые толпы сограждан, ради того, чтобы отомстить за отказ назначить его командующим в войне против Митридата. Еще двадцатью годами раньше распри столь же яростные, хотя и менее трагичные по своим последствиям, возникли в ходе войны против Югурты между Гаем Марием, уроженцем Арпина, родины Цицерона, и одним из представителей знаменитой семьи Цецилиев Метеллов — с которых, по мнению Саллюстия, начался закат сената.
На протяжении полустолетия, предшествовавшего концу республики, бесчисленные интриги велись вокруг распределения провинций и командных должностей. Все, что было связано с этими назначениями, обсуждалось в аристократических салонах дам столь же бурно, как в сенате, как в народных собраниях и на форуме. Огромную важность приобрели вопросы процедуры: жеребьевка провинций и распределение их между магистратами, завершившими срок своей магистратуры, в принципе должны были проводиться в сенате, но если решение, здесь принятое, не устраивало того или иного из претендентов или их друзей, кто-либо из трибунов переносил обсуждение в трибунные комиции, где и принимался закон, отменявший решение отцов-сенаторов. Действия их, строго говоря, не были противозаконными, а всего лишь экстраординарными, но именно так раздувались противоречия между сенатом и народом, которые постоянно тлели под поверхностью общественной жизни. Постепенно накапливались раздражение и жажда мести, которым предстояло рано или поздно прорваться насилием. Так и случилось: по завершении консулата Цезаря сенат явно издевательски определил ему смехотворную магистратуру — наблюдение за состоянием дорог на юге Италии. Преданный Цезарю трибун Ватиний предложил закон, по которому тот получал в управление Цизальпинскую Галлию и Иллирик; закон был поставлен на голосование, оно должно было проводиться всенародно, и сенаторы, предвидя неизбежное поражение, сами добавили к предложенным провинциям также Галлию Трансальпийскую. Цезарь таким образом получал в управление не только Галлию Нарбонскую, давно уже замиренную и обращенную в провинцию, но и все бескрайние земли, тянувшиеся от нее на север и на запад, которые теперь предстояло покорить. Так одно из наиболее значительных в истории решений, чреватое самыми далеко идущими последствиями для всего будущего Европы, оказалось принятым в результате весьма сомнительных махинаций сутяг, набивших руку на крючкотворном толковании законов. Цицерон был свидетелем этого правового конфликта, и у нас есть возможность проследить, как менялись чувства его к Цезарю, как смешивались в них уважение к традиционным нормам политической жизни, столь явно нарушенным Цезарем, с восхищением его победами: благодаря им стали подданными империи племена и народы, дотоле угрожавшие ей извне.
Сенат, однако, жаждал реванша. Когда Цезарь, покорив или замирив бесчисленные галльские племена, попытался продлить свои полномочия командующего и по истечении первого консульства тут же получить второе, он встретил сопротивление целой группы сенаторов. Они потребовали, чтобы Цезарь сложил свой империй хотя бы на несколько дней, что давало им возможность под тем или иным предлогом (злоупотребление властью, например) привлечь его к суду, добиться осуждения и положить таким образом конец его политической карьере. В этих условиях Цезарь решил отстаивать свое положение в государстве, пойти на тот же риск, что некогда Сулла, и начал гражданскую войну. Солдаты последовали за ним, стремясь прежде всего отстоять dignitas своего полководца, над которой нависла угроза: Цезарь был их «патроном», то есть защитником их интересов, и они могли ожидать, что в случае победы он удовлетворит все их требования. Если бы Цезарь утратил dignitas, они теряли все надежды. Это положение связано с одной из самых глубоких и своеобразных черт римского общества, которая объясняет также многое в образе мыслей и действий Цицерона.
Dignitas римлянина была не просто и не только формой удовлетворения его честолюбия. Понятие это коренилось в самых глубинах римского общественного уклада, где гражданская община с незапамятных времен строилась по образцу семьи, familia, где отец, paterfamilias, располагал над детьми, женой, рабами, отпущенниками и клиентами непререкаемой властью, осуществлявшейся через посредство домашнего суда. Каждая такая фамилия была частицей города-государства; соответственно их «отцы» в своей совокупности и образовывали гражданскую общину в собственном смысле слова или, точнее, совокупность ее полноправных граждан; они же составляли совет, который окружал сначала царей, а потом консулов. Собрание «отцов» воплощало и обеспечивало политическую целостность города-государства вплоть до VI века до н. э., когда реформа Сервия Туллия подчинила эту структуру, унаследованную от семейно-родовых порядков, иной, созданной ради военных целей и основанной на распределении граждан по имущественным классам. Реформа эта создала государственный строй, просуществовавший очень долго, но она так и не смогла уничтожить исконные навыки общественной жизни и древнее устройство, основанное на семье, на роде, на клиентельно-патронатных отношениях и опиравшееся на нравственную традицию народа. Глава семьи, «патрон», по-прежнему рассматривался как «муж совета»; его слава, основанная на мудрости, силе слова, обаянии личности, на успешном отправлении магистратур, на его победах и триумфах, распространялась на всех членов фамилии, и забота о поддержании и росте этой славы образовывала едва ли не главное содержание их жизни.
До тех пор, пока честолюбивые устремления отдельных фамилий находились в относительном равновесии, сами фамилии правильно чередовались в отправлении почетных магистратур, гражданская община жила спокойно. Соперничество иногда приводило к ссорам, но чаще всего они не слишком нарушали общий порядок. Каждая из бесчисленных войн предоставляла богатые возможности выдвинуться и добиться славы. Иногда доходило даже до того, что в знатных семьях (то есть тех, между которыми распределялись магистратуры) не хватало людей, способных обеспечить командование в столь многих кампаниях. Такое положение сложилось, например, во время Второй войны против Карфагена в конце II века до н. э., когда к тому же Рим жил на последнем напряжении, как бы сдавленный со всех сторон, и народ сплачивался вокруг аристократии, ибо ему важно было почувствовать, что кто-то о нем заботится и его защищает.
В выдвижении этих руководителей из знати, с чьими талантами и силой все связывали надежду на спасение, комплекс представлений об отце семейства сыграл немалую роль.
Когда весь ужас, сопряженный с многолетней войной на территории Италии, остался позади и войны стали вестись все дальше и дальше от городских стен, дела пошли по-другому. Люди, навербованные в легионы, больше не защищали, как значилось в официальной формуле, родные пенаты и могилы предков. Победа теперь интересовала легионеров лишь в той мере, в какой она сулила добычу им самим и славу их командующему, в какой она позволяла им, вернувшись в родной городок, привлекать всеобщее внимание рассказами о подвигах своей молодости, в какой она их обогащала и обещала спокойную, не знающую нужды старость. Римский полководец становился главарем разбойничьей шайки и сохранял это положение не только во время войны, но и в условиях мира. Некогда отношения его с войском определялись pietas, то есть целой совокупностью взаимных моральных обязательств, — вернувшись в гражданское состояние, солдаты должны были, например, поддерживать в народном собрании кандидатов, предложенных их бывшим полководцем, но и бывший воин точно так же, попав в тяжелое материальное положение или став жертвой судебных преследований, мог рассчитывать на покровительство своего прежнего командующего. Весь этот кодекс — неписаный, но неукоснительно соблюдаемый, привел в конце концов к образованию многочисленных, подчас весьма опасных группировок, расстраивавших правильный ход республиканской государственной машины. Бывшие легионеры, сплотившиеся для защиты Цезаря, а позже Октавиана, образовали то ядро, вокруг которого стал складываться новый общественный строй — принципат. И не случайно в титулатуре принцепса почетное место занимали слова Parens — Родитель, или Pater Patriae — Отец Отечества, по-прежнему находившие горячий отклик в душах людей.
Заметим, однако, что Цицерон заслужил то же наименование, хотя никогда не был полководцем. Отцом Отечества его стали называть после победы над Катили-ной в 63 году, и оказался он на вершине почета таким образом не благодаря силе оружия, а лишь благодаря силе слова. Именно красноречие обеспечило ему несметное количество клиентов среди граждан тех городов, интересы которых он защищал в суде. Первыми в атом ряду были общины Сицилии, благодарные оратору за помощь в их борьбе против Верреса, а в дальнейшем, в пору изгнания, благодарность выказали ему и многие другие, признав в нем как бы Отца-покровителя. Цицерон не отличался скромностью, для которой, впрочем, у него не было оснований. Он имел полную возможность по примеру других римлян вступить на путь почестей и славы, но он не хотел добиваться их на войне. По завершении консульства, например, он мог стать наместником Македонии, которая досталась ему по жребию; он обменял этот пост на наместничество в Цизальпинской Галлии, выпавшее его коллеге Гаю Антонию, после чего торжественно, перед лицом народа, отказался и от Цизальпины, настолько ему было важно, как говорит он сам в четвертой речи против Катилины, добиться почестей не в провинции, а в столице. Управление Македонией могло бы, если бы он захотел, принести ему триумф. Он предпочел спасти Рим.
Однажды, правда, Цицерон все-таки попытался добиться триумфа — по завершении его наместничества в Киликии, когда он в начале 49 года под грохот уже начинавшейся гражданской войны появился в Риме. Он был назначен наместником Киликии вопреки своему желанию и одержал там победы, которые, как ему казалось, заслуживали высшей награды. Он стал ее требовать, почти было получил, и лишь обстоятельства сделали триумф невозможным — впрочем, для престарелого консулярия, уже стяжавшего громкую славу, триумф так или иначе стал бы лишь еще одним очередным знаком почета, и у Цицерона не было, в сущности, внутренних оснований требовать, чтобы он еще и как полководец получил то, чего уже добился как оратор. С точки зрения традиционной общественной морали такая смена ценностей была своего рода «моральной революцией». Основой системы ценностей, характерной дотоле для гражданской общины Рима, были воинские таланты и доблести, а ее воплощением — победоносные полководцы. Теперь в ореоле почета представал человек, сделавший карьеру самостоятельно и не на войне, а в области политики, в которой члены его рода ранее не играли никакой роли, человек, сумевший занять первое место в государстве, когда кругом царил мир, и тем самым как бы указавший на никчемность всех других путей к вершинам почета и славы. Вполне очевидно, что столь новая dignitas вызвала вражду и зависть, а столь необычный ее носитель поплатился изгнанием, которого потребовала и на которое согласились все три человека, стоявшие в ту пору у власти — Помпей, Цезарь и Красс. Уничтожить Цицерона окончательно им, однако, не удалось, ибо достоинства, ему присущие, были очевидны, прочны и от него неотделимы. Победоносному полководцу после того, как триумф его миновал, оставалось лишь жить былой славой. Помпей, сумевший добиться триумфа с огромным трудом, а потом, с таким же трудом — и его естественного дополнения — раздачи земель ветеранам, познал все это на собственном горьком опыте. Цицерон же, напротив того, и по завершении своего консульского года остался тем же великим оратором, речи его не стали хуже, и победы, которые они ему приносили, следовали одна за другой; это стало особенно очевидно, например, после смерти Цезаря, когда он вернулся во вновь обретший свободу сенат, стал выступать и очень быстро начал играть в нем главенствующую роль. Примечательно, что и несколькими годами раньше, когда Помпей и сенат почти в полном составе находились на Востоке, победоносный Цезарь, пытаясь поставить свою власть на законную основу, не смог обойтись без Цицерона.
Чем же все-таки были обусловлены престиж и влияние, которыми столь явно пользовался Цицерон? Сказать, что он добился их своим красноречием, значит, еще ничего не сказать. Подлинно красноречив тот, кто умеет убеждать. Почему умел убеждать Цицерон? Потому что умел придавать гармонию словам и звукам? Подобная гармония, красота речи, то изящная, то суровая, разумеется, играли свою роль, но играли ее потому, что выражали нечто иное и большее. Столь постоянный успех мог объясняться лишь тем, что Цицерон воплощал силу, ранее никогда столь ясно не выступавшую, как бы разлитую в общественном сознании римлян и носившую преимущественно нравственный характер, подобно той, что оставалась у победоносного полководца после того, как бывали забыты насилия, им причиненные, и кровь, им пролитая. Авторитет Цицерона зиждился, как нам представляется, на присущих ему умеренности, предусмотрительности и ясности взгляда, на его мужестве и чувстве справедливости, основанном на законе и праве, которые все вместе составляли особого рода мудрость. Он делом доказал, что обладает каждым из этих свойств. Те особенности его поведения во время гражданской войны, например, которые принято рассматривать как нерешительность, объясняются не боязнью действия, а отвращением к насилию — отнюдь не свойственным экстремистам, окружавшим Помпея. В судебных речах, произнесенных им на протяжении жизни, он стремился защищать закон и справедливость — во всяком случае, таково было впечатление, им производимое. Во времена Берреса он пытался бороться против тирании и произвола при управлении провинциями, которые вошли в обычай. Во времена Катилины он сумел обнаружить заговор, и если ликвидировал его не сразу, то это объяснялось лишь осторожностью, без которой вину заговорщиков так и не удалось бы доказать. В эти же трудные дни он в отличие от большинства тех, кто его окружал, а также скорее всего от своего коллеги Гая Антония не стал искать примирения с заговорщиками, обнаружив немалое мужество и презрение к опасности, нависшей над его жизнью.
Таков был облик Цицерона в последние годы его жизни, и именно на нем основывался его нравственный авторитет как оратора и консулярия. Конечно, есть полная возможность увидеть Цицерона и в другом свете, истолковав поведение его в отрицательном смысле. Мы говорим, например, о его мужестве; но можно указать и на тот упадок духа, который охватил его перед вынужденным отъездом в изгнание. Можно отрицать его умеренность, напомнив о казни заговорщиков 63 года и утверждая, что она отнюдь не диктовалась государственной необходимостью. Можно обратить внимание и на его частную жизнь — на его постоянное стремление к обогащению. Позволительно также усомниться в допустимости превозносить судебного защитника за справедливость и верность законам, если он добивался оправдания виновных, защищал Фонтея, при этом обвиняя Верреса. Можно поставить под сомнение и его предусмотрительность, если взглянуть на отношения его с Октавианом: сначала Цицерон пытался использовать молодого честолюбца в своих целях, потом устранить, а в конце концов тот сумел перехитрить его. Говорят сами за себя и отдельные места из писем Цицерона, отдельные суждения его о людях, дальнейшее поведение которых полностью их опровергло. Зрелище этой жизни, так широко распахнутой перед нашими глазами благодаря сохранившимся пусть частично, но все же в достаточном изобилии письмам самого Цицерона и его друзей, допускает самые разные оценки, особенно если рассматривать лишь поверхность событий и факты сами по себе. Но суть человеческой жизни скрыта глубоко под поверхностью событий. Она, эта суть, связана с интеллектуальными, а может быть, и еще сложнее — с духовными основами личности, с теми горизонтами ее бытия, где определяется выбор решений и которые ускользают от взгляда историка-«позитивиста». И первое, что побуждает нас быть крайне осторожными, истолковывая те или иные факты, это уважение и похвалы, которыми так щедро осыпали Цицерона и его современники, и последующие поколения. Разве стали бы они рассматривать его как образец для подражания, если бы он был той незначительной личностью, которую нам подчас изображают? Неужто авторитет его не основан ни на чем, кроме обмана и лжи? А людей, его окружавших, он убеждал лишь потому, что умел красно говорить?
На самом деле, как нам представляется, Цицерон дал ответ на один из самых мучительных вопросов, стоявших перед его эпохой. Вопрос этот возник перед римлянами в начале I века до н. э., когда будущий оратор был еще ребенком и детские годы его протекали в одном из поселений, затерянных среди равнин Лация. К этому времени Рим покорил больше половины земель известного в ту пору мира. На Востоке примерно полувеком ранее Греция была обращена в римскую провинцию Ахайя. В Малой Азии Пергамское царство, переданное в 133 году римлянам по завещанию его последнего монарха Аттала III, нещадно эксплуатировали римские откупщики, выкачивавшие из края его богатства. На периферии земель, образовавших римскую провинцию Азия, зависимые царьки с помощью разных ухищрений старались сохранить свои владения, вступая в союз с новыми хозяевами. На Западе в обеих испанских провинциях, связанных с Италией тем проходом между приморскими Альпами и Пиренеями, который образовывала Нарбонская Галлия, долгое время полыхали грандиозные восстания, но в конце концов были замирены и эти провинции —- теперь они принимали колонии италийцев, опиравшихся на местную племенную аристократию и тем обеспечивавших себе спокойствие и процветание. В Африке карфагенские земли (примерно совпадающие с территорией современного Туниса) также превратились в провинцию, а остальная часть северо-западной Африки (нынешний Магриб) была поделена между союзными Риму царьками. Восстание, поднятое одним из них по имени Югурта, породило было беспокойство в Риме и вызвало политические трудности, отмеченные нами выше, но в описываемые годы было уже почти подавлено. В Италии власть Рима простиралась не только на весь полуостров, Сицилию, и Сардинию, но также на край венетов и Цизальпинскую Галлию, то есть на долину По вплоть до подножия Альп. На восточном побережье Адриатического моря Иллирия обеспечивала связь с Македонией и Ахайей. Таковы были края и земли, подчиненные Риму — imperium Romanum.
Всеми этими территориями, столь различными по языку, по традициям и условиям жизни, разбросанными на бескрайних пространствах, надо было управлять в обстоятельствах подчас весьма сложных и защищать их от внешней угрозы. Наместниками становились магистраты, отслужившие свой срок и получившие продление полномочий в качестве «промагистратов» (проконсулов или пропреторов) на весьма ограниченное время, чаще всего на год. Соответственно они не располагали достаточным временем ни для того, чтобы познакомиться со своей провинцией, ни для того, чтобы население узнало их. Задача наместника состояла в том, чтобы отправлять правосудие, разбираться в спорах между местными общинами, но главное все же заключалось в оказании помощи римским откупщикам, взимавшим с провинциалов налоги — дело, в котором соблазн выжать кое-что и для себя нередко бывал слишком силен. Потому и армия, приданная наместнику и предназначенная для защиты границ и поддержания порядка в провинции, на деле использовалась как средство принуждения должников выплачивать налоги Риму. Существовало несколько способов облегчить наместнику выполнение его задач. Часто он появлялся в провинции, уже зная положение дел, поскольку ранее уже бывал здесь в качестве помощника (чаще всего квестора) прежнего проконсула или пропретора. Случалось и так, что промагистрат возвращался в качестве наместника в ту провинцию, где ранее уже бывал в качестве сенатского легата, имел возможность ознакомиться со страной и завязать необходимые связи. Надо учитывать также, что римские правители обращались не прямо к населению, а к аристократам, стоявшим во главе местных общин. Таким было положение прежде всего в эллинизированных областях, где римляне старательно сохраняли политические структуры, существовавшие до их прихода, дабы иметь дело с людьми, способными представлять край в целом и нести за него ответственность. Той же тактики придерживались они и на Западе, где формы общественной организации, однако, сильно отличались от восточных. Города западных провинций получали от римлян всякого рода поддержку, а часто их и создавала римская администрация: город в ее глазах представлял все племя; здесь провинциалы сколачивали и увеличивали свои состояния, приобретали навыки, облегчавшие им возможность включиться в систему римского государства. Этот последний процесс, правда, окончательно развернулся лишь при империи, когда стал иным весь дух провинциальной жизни.
На практике все эти условия, призванные облегчить наместнику выполнение его задач, складывались далеко не всегда и зависели от случая, приводившего или не приводившего в провинцию людей, здесь уже бывавших, от личных особенностей местных аристократов, по-разному смотревших на сотрудничество с римлянами. Можно ли было оставлять на волю случая все управление империей? В чем вообще был ее смысл, общий исходный принцип, ее оправдывавший? На чем она основывалась? Только ли на праве победителя? Но в этом случае достаточно было измениться соотношению сил, и вся правовая основа оказывалась недействительной. Подобные проблемы начали осознаваться в Риме примерно в середине II века до н. э., когда здесь впервые стали выступать философы, рассуждавшие о природе права и справедливости. Вряд ли знаменитая речь на эту тему, произнесенная Карнеадом в 155 году, вызвала у знатных римлян, его слушавших, муки совести, но она подтвердила и оживила давнее представление о том, что победитель обязан стать покровителем и защитником побежденного, что между ними возникают отношения, основанные на fides. Вместо принуждения вступали в силу обязательства юридического и морального порядка, однако на практике о них слишком часто забывали. С начала I века до н. э. потребность заново поставить и заново решить все вопросы, связанные с управлением империей, ощущалась все более настоятельно. Вопросы эти были отнюдь не только теоретическими. В самой Италии в 91 году до н. э. вспыхнуло грандиозное восстание союзных Риму городов, затянувшееся на целых два года, и когда мятежники утверждали, что Рим — прожорливая волчица, а римляне — просто скопище удачливых разбойников, то они, быть может, были не так уж не правы. Чтобы справиться с подобными обвинениями и со всем, что за ними стояло, нужна была новая концепция римской власти в провинциях, так называемая «романизация», и эту концепцию предстояло создать, обосновать теоретически и сделать приемлемой для покоренных городов, стран и народов. Это новое представление о романизации не могло основываться на воззрениях старой римской аристократии, которая в идеале, разумеется, сохраняла верность политическим, хозяйственным и нравственным традициям, некогда обеспечившим процветание Города, но в реальной жизни переживала все те деформации, о которых мы вкратце рассказали выше. Ощущалась настоятельная потребность в новом мышлении, способном создать новый образ imperium Romanum. Такова была задача, которую поставила перед римлянами их же история. Цицерону суждено было стать одним из первых, кто приступил к ее решению.
Решение это должно было учитывать в качестве исходного по крайней мере одно положение, обусловленное самим составом империи: романизация нового типа могла строиться лишь как синтез римских начал и греческой культуры, способной вобрать в себя также и всю духовную историю Востока. В основу такого синтеза должны были, вполне очевидно, лечь четыре доблести, признанные философами в качестве главных: мудрая предусмотрительность (prudentia), право и справедливость (justitia), умеренность (temperantia) и мужество (fortitudo). Эти четыре доблести, перешедшие от Платона к философам Аристотелевой школы, к эпикурейцам и стоикам, составляли уже на протяжении многих веков и должны были составлять впредь общее нравственное достояние античного мира. Их признавали, на них сходились все цивилизованные люди. Цицерон также принимал их, комментировал, в частности, в своем трактате «Об обязанностях», и наше общее понимание его творчества во многом определяется его отношением к этим исходным доблестям. Воплотить их в жизнь, добиться, чтобы другие сделали то же, значило обеспечить во всем мире мир и господство права, значило положить конец разрушительным распрям, которые в прошлом так часто приводили к гибели города и государства, значило вернуть вчерашним побежденным достоинство и свободу. Такая программа, естественно, привлекала каждого. Ее дополняли некоторые другие положения, вытекавшие одновременно и из римской традиции, и из размышлений философов. К их числу относилась, например, идея о том, что главное в человеке, подлинная его ценность заключены в духовном потенциале личности, в силе мысли. Не менее важным было и другое положение, согласно которому самой природой человек изначально предназначен для сообщества с другими, что мир представляет собой огромную гражданскую общину, все члены которой имеют по отношению друг к другу определенные обязательства, коренящиеся в самом их существе. Все эти идеи мы обнаружим у Цицерона — иногда в ею теоретических размышлениях, чаще в мотивировке его поступков; они ясно ощущаются, например, в том, как он управлял киликийскими городами в пору своего проконсульства.
Таковы, на наш взгляд, общие черты мышления Цицерона и общие условия, определившие как характер самого этого мышления, так и исторические требования, которым оно должно было соответствовать. Для дальнейшего хода истории время было решающим: либо, подорванный гражданскими войнами, Рим рухнет, и мир опять станет ареной разрушительной борьбы племен и народов; либо Рим утвердит свое господство силой и страхом, и тогда оно окажется неустойчивым и кратковременным; либо, наконец, — и именно это решение подсказывала Цицерону его любовь к отчизне — Рим сумеет основать свою империю на духовном единении людей и народов.
Мы видим, таким образом, что творчество Цицерона едино — его политическую деятельность трудно отделить от его философских раздумий и от его словесного искусства. Их единство обусловлено личностью мыслителя, коренится в самых ее глубинах. Он никогда не терял веры в свою родину, всегда любил ее; Рим неизменно образует сердцевину его мысли, и все свои помыслы, даже и самые честолюбивые, он подчиняет заботам о благе общины, о ее торжестве — материальном и духовном. Не случайно даже враг Цицерона Август сказал как-то про него одному из своих внуков: «Что правда, то правда — ученый был человек и горячо любил отечество». Если Цицерон и стремился ко все более высоким магистратурам, то лишь в убеждении, что исполнит их лучше, чем кто-либо другой. В наши дни его редко обвиняют в тщеславии; может быть, здесь сказывается наивная вера во всеобщее равенство — в этот миф, разлитый подобно медленному яду в политической мысли Нового времени. Цицерон стремился реализовать те свои свойства, которых у заурядного человека просто нет. В душе каждого, написал он в конце жизни, живет некая сила, заставляющая стремиться к первенству. Как и его современники, он называл это чувство «величием души» и весьма тонко анализировал его значение, его пределы. Очень трудно, говорил он, найти равновесие между справедливостью, которая требует признавать права другого человека, и страстью быть самому всегда и во всем первым. Вряд ли можно сомневаться, что вопрос этот возник в связи с диктатурой Цезаря и с теми методами, которыми он прокладывал себе путь к ней. Честолюбие, преследующее только личные интересы, по мнению Цицерона, чудовищно и противно подлинной природе человека, его humanitas. Подобное осуждение относилось не только к отдельной личности, но распространялось на ту жажду славы «любой ценой», которая, как мы уже упоминали, была одной из язв века, одной из причин, приведших республику к гибели. Осуждал Цицерон и тех, кто жаждет денег ради денег, жаждет власти, предоставляемой магистратурами, ибо в принципе эти стремления должны были, по его убеждению, быть лишь средством обеспечить право и справедливость, лишь высокой степенью dignitas, а не украшением, не внешним знаком власти. На основе подобных размышлений Цицерон мало-помалу создавал образ человека, который в выполнении своего долга обретает внутреннее спокойствие, обретает уверенность, сообщающую ему достоинство и твердость.
К этим убеждениям, правда, Цицерон пришел только на склоне лет на основе всего пережитого политического опыта. Но тяготел он к этому идеалу всегда и в конце жизни лишь нашел для него соответствующую форму; она была отчасти ориентирована на заповеди стоицизма, а отчасти на тот образ, в котором видели себя великие римляне былых веков. Создавая подобный синтез национальных традиций и эллинистической культуры, Цицерон следовал тем магистральным путем римского духовного развития, который все яснее определялся с начала II века до н. э. и главными вехами которого в области литературы остались для нас «Сатиры» Луцилия и комедии Теренция,— не случайно Цицерон так хорошо знал эти комедии и так охотно их цитировал. Так же развивалось и красноречие; ход его развития Цицерон воссоздал в своем диалоге «Брут»: приводимый здесь список выдающихся ораторов эпохи выражал постепенное становление искусства речи, для которого мысли были важнее слов. Как бы ни возвышался Цицерон благодаря своей собственной гениальной одаренности над своим временем, он не только не нарушал преемственность духовного развития, но, напротив того, обеспечивал ее, содействуя обновлению и новому рождению Города, которому суждено было победоносно справиться с, казалось бы, предсмертным кризисом и просуществовать еще несколько веков. Нам предстоит убедиться, что именно в области духа, а не в области политики, где слишком большую роль играют обстоятельства совсем иного порядка, Цицерон сумел обнаружить принципы и методы, что составляют основу нашей культуры и, по крайней мере хотелось бы надеяться, будут составлять ее на протяжении еще некоторого времени.
Цицерон — не из тех римлян, что родились в Риме; он — римлянин из муниципия и появился на свет в городке по имени Арпин, расположенном примерно в 120 километрах на юго-восток от столицы, в краю вольсков. Этот край он любил. Он всегда говорит о нем с особым чувством и не устает повторять что там его подлинная, природная родина, с которой его связывают невидимые узы. То был край его детства, но в образ Арпина, живший в его душе, вплетались далеко не только детские воспоминания. Здесь, в этом краю, лежали истоки его политических убеждений, в эту землю уходили своими корнями традиции, которые он продолжал и от которых никогда не отказывался. Эти истоки и традиции сыграли очень значительную роль в его творчестве и в его жизни.
Вольски долгое время были врагами римлян. Вплоть до римского завоевания они были самыми неспокойными из всех народностей, живших на холмах и в долинах Центральной Италии, на том склоне Апеннин, что обращен в сторону Тирренского моря. Спустившись с Апеннин и двигаясь по течению Лириса, который берет свое начало далеко в горах, в землях марсов, в окрестностях современного Авеццано, они вышли к Тирренскому морю там, где Лирис впадает в него близ Минтурн. Ныне в верхнем своем течении река эта носит имя Лири, а ниже, к югу от Монте Кассино, называется Гарильяно. Плавно и сонно течет река мимо холмов, на один из которых карабкается крохотный Арпин, ныне носящий имя Арпино, а на другом лежит Изола дель Лири, где находилось семейное владение Цицеронов.
Название «Арпин» появляется в истории во времена Самнитских войн, в 305 году до н. э. Три местных поселения, Сора, Арпин и Цезенния, были в этом году, читаем мы в «Истории» Тита Ливия, отбиты у самнитов, которые перед тем, опираясь на поддержку местных жителей, отвоевали их у римлян. Память об измене Арпина Риму оказалась недолгой. Уже в 303 году жители городка получили римское гражданство sine suffragio, то есть без права принимать участие в выборах должностных лиц и в народном голосовании или быть избранными на одну из римских магистратур. Но все другие преимущества, которыми пользовались римские граждане, распространялись отныне и на них: право владения, право наследования, право женитьбы на дочери римского гражданина и т. д., что и означало с юридической точки зрения включение их в гражданскую общину Рима. В первое время после 303 года Арпин находился па положении префектуры, то есть управлял им префект — уполномоченный римского претора. Своих магистратов граждане не выбирали и находились, следовательно, полностью под властью завоевателей — очевидно, воспоминания об их недавней измене Риму в это время не совсем еще изгладились из памяти. Городок надо было держать в строгости, ибо он составлял один из опорных пунктов римской обороны на реке Лирис, отделявшей римские владения от самнитских земель Кампании. В 188 году до н. э. жители Арпина получают право гражданства cum suffragio; но, несмотря на это, насколько можно судить, городок не сразу стал муниципием и освободился от префектного правления. Не слишком много лет, однако, понадобилось и для получения муниципальных прав: самое позднее в конце II века до н. э. здешние граждане уже самостоятельна обсуждали и принимали, рассказывает сам Цицерон, собственные законы. Как все муниципии, Арпин был точной копией Рима: здесь имелся свой совет декурионов, имелись магистраты, которые носили имя эдилов и составляли коллегию из трех членов, имелось, разумеется, и свое собрание граждан, которое этих эдилов выбирало.
Среди всех этих сменявших друг друга событий арпинцы успели позабыть времена, когда они вместе с другими вольсками под водительством Аттия Туллия с оружием в руках угрожали Риму, тем более что до того дня, когда здесь 3 января 106 года появился на свет Цицерон, прошло не менее четырех веков. Кое-какие следы минувшего сохранились, однако, до того времени, некоторые сохраняются и по сей час. Таков прежде всего укрепленный вал, вплоть до сего дня возвышающийся среди виноградников и фруктовых садов и по-прежнему защищающий крепость, которая давно уже вошла в черту города. Эта стена, огромная, сложенная из громадных неправильной формы камней, той кладкой, которую принято называть «циклопической», долгое время считалась доисторической. В наши дни археологи более или менее согласны в том, что она представляет собой остатки одного из крепостных сооружений, созданных римлянами на рубеже реки Лирис. Развалины таких же стен обнаруживаются и в других поселениях этого района. Глядя на эти стены, жители, без сомнения, ощущали, сколь славен в истории их древний город. Один из проходов в степе имеет стрельчатое завершение, напоминающее пастушескую хижину. Архаический облик подобных сооружений все отчетливее контрастировал с новыми зданиями, которые с начала I века до н. э., а может быть, и поколением раньше, воспроизводя эллинистические архитектурные формы, распространились мало-помалу по всему краю. К сожалению, мы не можем судить о том, насколько архитектура нового стиля задела Арпин, в какой степени и когда именно городок принял свой позднейший облик.
Есть основания полагать, однако, что расположенная на высоких холмах неприступная крепость, какой являлся Арпин, долго сопротивлялась любым новшествам и оставалась верной древним традициям. В пользу такого предположения говорит по крайней мере одно свидетельство, представленное нам Цицероном. В прологе ко второй книге диалога «О законах» он сообщает, что дом их семьи, стоявший на берегу реки, долго еще сохранял облик старинного сельского жилища, подобного легендарной хижине Курия Дентата, где герой-триумфатор жил в достойной бедности и съедал свою скромную трапезу, сидя у очага. До тех пор, пока жив был Марк Туллий Цицерон, дед оратора, все здесь оставалось неизменным. Лишь после его смерти (год которой нам неизвестен) отец Цицерона поспешил придать семейной резиденции хоть немного более привлекательный вид. Нетрудно себе представить, в чем состояли внесенные им перемены: жилые комнаты были увеличены, по фасаду и вокруг двора, куда еще недавно пригоняли скот на водопой, расположились портики; сооружение таких портиков предусматривалось в первую очередь, если сельский хозяин намеревался проводить на своей вилле погожие летние дни и прогуливаться здесь с друзьями. Хозяйственные постройки не были уничтожены, а лишь отодвинуты подальше от дома, и в них поселился управляющий — вилик с семьей. Все это, разумеется, лишь гипотезы, но гипотезы, подтверждаемые обильным материалом из Помпей и из поселений Лация. Новая вилла, перейдя таким образом в разряд «подгородных» (то есть сохранявших городской комфорт), принадлежала новому стилю, основанному на эллинских образцах, который нынешние историки архитектуры называют сулланским.
В своей речи в защиту поэта Архия Цицерон вскоре напомнит, что в эти первые годы I века до н. э. Италия еще больше, нежели Рим, была как бы пропитана греческой культурой. Проникла эта культура и в Арпин; люди старого закала отнеслись к ней с подозрением и неприязнью, как это видно, например, из любимого присловья деда Цицерона: «Наши здешние все равно что рабы-сирийцы, которые нынче идут нарасхват — чем лучше раб знает греческий, тем меньше на что-нибудь годен». Подобные речи было бы естественно слышать от Катона Старшего, но дед оратора жил полувеком позже. Он явно отставал от времени; знание греческого языка стало всеобщим, захватило оно и Арпин. Не исключено, что слова старика представляли собой выпад против какого-нибудь политического противника, слишком, на его вкус, «современного». Так или иначе фраза эта выдает тот упрямый консерватизм, который, как нам предстоит увидеть, уже вступал в противоречие с духом времени.
В Арпине, так же как в Риме и как вплоть до сего дня в итальянских деревнях, семья составляла исходную клеточку общественной жизни, которая зиждилась на родственных, дружеских, деловых или иных связях. Небезынтересно поэтому попытаться восстановить по возможности, что представляла собой в самом широком смысле фамилия Цицеронов. Родовое имя Туллиев встречается в римской истории неоднократно. Его носил римский царь Сервий Туллий и его же — тот уже упомянутый вождь вольсков, что вместе с Кориоланом поднял оружие против Рима. Имя, как видим, было и латинским и вольскским, восходя к источнику, общему для обоих родственных языков. По своему исходному смыслу слово «Туллий» означало бьющий из земли источник или воду, бурлящую среди камней. Значит ли это, что так прозвали семью, чья усадьба стояла возле родника? Что касается прозвания «Цицерон», от латинского cicer — «горох», считается, будто им впервые наградили одного из предков оратора, у которого на лице была бородавка или, по мнению Плутарха, кончик носа был раздвоен как горошина или боб. Прозвание это распространено было не только среди членов рода Туллиев: в середине V века до н. э., например, его носил народный трибун по имени Гай Кальвий. Несмотря на возможность разных гипотез, вероятнее всего, что Туллии — старинный крестьянский род, что у них был надел в горах, на склонах, а может быть, и на берегах той речки, где позже возвышалась усадьба Цицеронов, что род Туллиев рос и креп с течением времени, а когда жители Арпина стали римскими гражданами, какая-то часть его получила и один из знаков нового гражданства — право тройного имени. Произойти это должно было где-то во II веке до н. э.. когда именно, источники не сообщают, и для нас история семьи начинается с того самого ворчливого старика, деда нашего Цицерона, с которым мы уже знакомы и который, по всему судя, родился в конце первой половины II века до н. э. Он женился на некоей Гратидии — из той же семьи, что Гай Марий, будущий победитель Югурты, спасший Рим от нашествия тевтонов и кимвров. У Гратидии был брат, Марк, вскоре поссорившийся со своим шурином. Он был моложе старого Цицерона и отличался от него характером и умом. Насколько старик противился любым новшествам, настолько Гратидий легко и охотно принимал их. Он был знаком с греческой литературой и, если верить Цицерону, не лишен ораторского таланта; его друг Марк Антоний славился красноречием и сыграл большую роль в политической жизни тех лет; нам еще придется встретиться с ним при разборе диалога Цицерона «Об ораторе».
Особенно бурно проявилось различие во взглядах Марка Гратидия и его шурина, когда граждане Арпина стали обсуждать вопрос о введении тайного голосования в народном собрании. То был очень серьезный шаг, поскольку он менял в корне отношения между разными социальными группами в пределах гражданской общины. Тайное голосование «табличками» соответствовало интересам популяров — «народной партии», так как эта процедура наносила ущерб влиянию знати, богачей, старшин родов и фамилий — словом, всех тех, кто диктовал свою волю гражданам, от них зависевшим и отныне получавшим возможность самостоятельно решать, кому отдать свой голос. Туллий резко возражал против подобного новшества и упорствовал в своем несогласии вплоть до конца жизни. Дело кончилось тем, что жители Арпина, по-видимому, последовали все же примеру Рима и приняли новый порядок голосования, который, как все понимали, становился неизбежным.
Марк Гратидий, наверное, подумывал о политической карьере в столице. Для начала он последовал в качество префекта за своим другом Марком Антонием в Киликию — Антоний вел здесь боевые действия против пиратов, в ходе которых в 102 году Гратидий и погиб. Сына его, которого звали тоже Марк Гратидий, усыновила семья арпинских Мариев. Соответственно он стал называться Марком Марием Гратидианом и, по словам Цицерона, играл заметную роль в политической жизни Рима как деятель партии популяров. Ему предстояло умереть под пыткой в руках Катилины, говорившего, что такой смертью Гратидиан должен искупить гибель людей, убитых демагогами.
Итак, до появления на свет Цицерона семья его на протяжении жизни по крайней мере двух поколений принадлежала обоим лагерям, погруженным в яростную борьбу не только в самом Риме, но и в городках Центральной Италии. Здесь сталкивались, с одной стороны, желание сохранить любой ценой, вопреки всему, традиции и былой общественный уклад, неуступчивость по отношению к любому новшеству, к любому ходу мысли, навеянному греческой литературой, с другой — увлечение литературой эллинов; именно в это время в Риме начинает распространяться эпиграмматическая поэзия александрийского образца, ученое красноречие, а вместе с ними — стремление разбить старые жесткие нормы общественной жизни, унаследованные от времен господства аристократии. Борьба между этими двумя жизненными принципами бушевала в Риме, влекла за собой все более трагические последствия, и в маленьком Арпине внимательно следили за ее перипетиями.
Гратидия принесла Марку Туллию Цицерону, деду оратора, двух сыновей — старшего, Марка, отца нашего Цицерона, и младшего, Луция. Луций предпочел жить «в сторону Гратидия». Рассчитывая скорее всего на политическую карьеру в Риме, он вошел в «когорту» Антония, сопровождал своего дядю Марка Гратидия в Киликию, но в отличие от него вернулся оттуда целым и невредимым. На обратном пути, в Афинах и на Родосе, ему довелось слышать, как беседовали с Антонием греческие философы и риторы. Вскоре Луций Цицерон умер, оставив сына, также носившего имя Луций. Цицерон неоднократно проявлял трогательную заботу об этом своем двоюродном брате и в 79 году, отправляясь в длительное путешествие по Востоку, взял его с собой.
Старший сын Марка Туллия Цицерона, хотя обнаруживал тоже семейную склонность к искусству слова, в отличие от младшего брата не ведал никаких соблазнов честолюбия. Семья принадлежала к сословию всадников, что открывало ее членам доступ к римским магистратурам, а дружеских и деловых связей в среде римской аристократии, как мы упоминали, у нее было более чем достаточно. Уже Марк Эмилий Скавр, консул 115 года, всенародно прославлял Туллия, деда оратора, за ту позицию, которую он занял при обсуждении вопроса о тайном голосовании, за яростное сопротивление Гратидию и сожалел, что Туллий не поставил свою энергию на службу римскому сенату. Предпосылки для возвышения арпинских Туллиев были таким образом созданы, но еще одному поколению предстояло миновать, прежде чем они были реализованы. Луций умер молодым, а Марк не чувствовал в себе сил, необходимых для политической карьеры. Он был слаб здоровьем и потому не мог занимать магистратуры, которые требовали участия в походах и в изнурительной борьбе на форуме. Марк предпочел остаться в своем муниципии. Много позже, в 43 году, когда Цезарь был уже убит, а Цицерон выступил как заклятый враг Антония, когда страсти накалились до предела и ненависть дошла до того, что имя престарелого оратора оказалось включенным в проскрипционные списки, его политический противник Квинт Фуфий Кален уверял, будто отец нашего Цицерона был фулоном (так в Риме называли ремесленников, занимавшихся стиркой белья и чисткой одежды) и торговал виноградом и оливками. Это, разумеется, легенда, но она дает возможность заглянуть в семейную усадьбу на берегах Лириса или, может быть, его притока Фибрена и представить себе, как протекала там повседневная жизнь: река была совсем близко, и, воспользовавшись этим обстоятельством, на берегу построили прачечную, а виноградник и оливковая роща позволяли еще увеличить доходность имения. Такого рода побочные промыслы полуремесленного характера были в ту пору весьма распространены. Владельцы участков закладывали на своих землях каменоломни или налаживали производство черепицы. Ничего позорного в этом не было, и лишь ненависть политического врага могла увидеть здесь доказательство низкого социального положения или непорядочности. Ни Цицерон, ни брат его, ни их отец сами, разумеется, белья не стирали.
Как бы там ни было, Марк Цицерон-отец, по всему судя, считал, что, ведя подобную жизнь, закладывает основы карьеры своих сыновей и предоставляет им возможность удовлетворить честолюбие, которого сам был лишен. Доходы от имения позволили ему приобрести дон в Риме, насколько мы знаем, на склонах Эсквилина, в Каренах — районе, который в ту пору считался окраинным; в моду его ввел много позже Меценат, разбивший свои сады на соседней возвышенности. Мы не знаем, когда именно отец Марка и Квинта приобрел этот дом; скорее всего когда обоим юношам пришла пора постоянно посещать дома сенаторов, которым, как мы вскоре увидим, отец доверил их образование. Дом на Эсквилине так и остался лишь временным пристанищем, по-настоящему семья никогда в Рим не переселялась и не покидала родной Арпин. Узы, связывавшие ее со старинным муниципием, были слишком крепки, и порвать их полностью было невозможно. В начале своей карьеры Цицерон обосновался в римском доме в ожидании того времени, когда ему, уже претору, удастся переселиться поближе к центру общественной жизни города, на Палатин, и после того, как это случилось, дом в Каренах перешел к Квинту.
Мать Цицерона, Гельвия, происходила из хорошей старинной арпинской семьи и отличалась, по словам Плутарха, весьма похвальным поведением. Знаем мы о не 1 мало — пожалуй, только то, что она очень экономно вела семейные расходы. Младший ее сын Квинт в письме к вольноотпущеннику Марка Тирону упоминает о заведенном ею обыкновении, которое, должно быть, поразило мальчиков и надолго запомнилось им: если вино из кувшина бывало выпито, то пустой кувшин по требованию Гельвии запечатывали, дабы никто не мог осушить тайком еще один, полный.
В матери этой семьи угадываются черты, которые в ту пору считались обязательными для каждой настоящей матроны, властвующей в доме, верной интересам мужа и родных, внушающей любовь, уважение или страх всем вокруг, — крайняя бережливость и неустанное трудолюбие; они постоянно ощущались в доме и создавали его атмосферу. Много позже Цицерон обнаружит сходные качества у своей жены Теренции, далеко не столь порядливой, однако, и распространявшей бережливость не столько на семейное хозяйство, сколько на деньги, которые она при пособничестве одного из отпущенников припрятала для собственного употребления, что и привело в конце концов к разводу.
У Гельвии была сестра, вышедшая замуж за некоего Гая Визеллия Акулеиона, тоже, по-видимому, выходца из Арпина, хотя прямых свидетельств тому нет. Арпинское его происхождение могло бы явствовать из того, что еще до приобретения римского дома Марк, Квинт и младший Луции учились вместе с детьми своей тетки. Гай Визеллий Акулейон — то есть дядя Цицерона с материнской стороны — пользовался репутацией знатока права, хотя во всех других областях ни познаниями, ни талантами не отличался. Он был из тех, кто всегда оставался верным заветам старины и стоял на стороне деда, а не Гратидия или Цицеронов младшего поколения. Визеллий был весьма близок к оратору Крассу — еще одному персонажу диалога Цицерона «Об ораторе», как мы помним, другим участником описанного в диалоге разговора был Антоний. Выбрав именно их в герои своего произведения, Цицерон воссоздавал давнее окружение своей семьи и вспоминал людей, вызывавших почти полувеком ранее его детское восхищение.
В начале второй книги диалога «Об ораторе» Цицерон вспоминает, как судили некогда в Арпине о нем самом и о его брате Квинте. Арпинцы вспоминали Антония и Красса, двух людей, которых они хорошо знали и которыми восхищались и, опираясь на их пример, уверяли, что теоретическое исследование красноречия — вещь никому не нужная, а дабы занять почетное положение среди сограждан, достаточно практического опыта в судебных делах. Оба мальчика, однако, жадно тянулись к знаниям и не склонны были следовать этим наставлениям. Они смутно чувствовали («как чувствуют дети», пишет Цицерон) всю привлекательность культуры — общей, не преследующей практических целей, и стремились именно к ней. Они восхищались широтой познаний и отца, и дяди Луция. Вопреки тому, что им говорили жители Арпина, они знали и об интересе Антония к беседам греческих ученых, которых он слушал в Афинах, и об удивительной способности Красса говорить по-гречески так, будто то был его родной язык и будто о существовании других он вовсе не слыхивал. Все это шло вразрез с утверждениями упрямых консерваторов, которых, без сомнения, до конца жизни поддерживал дедушка Цицерон.
Таким образом Марк, как бы он пи восхищался отцом и ни любил его, столкнулся с самого начала, если не в своей семье, то, во всяком случае, в родном городе с пресловутой проблемой отцов и детей. В этой борьбе поколений on принял сторону тех, кто отстаивал преимущества самой широкой общей культуры, ибо твердо верил, что разум крепнет,
«Счастливые арпинские годы» раскрыли также перед Цицероном всю важность чувства солидарности, которое связывало людей в муниципии и которое давным-давно было забыто римлянами в Риме. Казалось, дух былого единения граждан продолжал витать над этими холмами. В 54 году в речи в защиту Гнея Планция Цицерон вспомнит о поддержке, которую получил в Арпине он и его брат, когда выдвинули свои кандидатуры на магистратские должности в Риме. Поддержка оказалась горячей и всеобщей. Чувство, которое испытывали при этом граждане Арпина, было, без сомнения, сложным: от будущею магистрата каждый ожидал покровительства, ожидал тех или иных выгод, каждый рассчитывал на его благодарность. Но корыстным интересом дело далеко не исчерпывалось. Было здесь и непосредственное чувство радости от того, что успеха добился наш, арпинский человек, и Цицерон не сомневался, что слава среди жителей маленького города несравненно чище той, за которую боролись римляне в Риме.
Арпинские годы, видимо, с самого начала были озарены для Цицерона отсветами славы. Первые ее лучи коснулись его чуть ли не в младенчестве. Плутарх, сохранивший кое-какие истории о детских годах будущего оратора, рассказывает, например, что мать произвела его на свет, не испытав ни малейшей боли, и что все восприняли это как предвестие славной или, во всяком случае, необычной жизни. Некоторые к тому же слышали от кормилицы младенца, будто ей явился призрак, поведавший, что ее питомец окажет великие услуги народу римлян. Не исключено, что все эти легенды возникли много лет спустя, но, может быть, в них отразилось и то восхищение, которое Цицерон уже очень рано начал вызывать у окружающих. В пользу такого предположения говорит рассказ Плутарха о том, как в школе местного грамматиста товарищи Цицерона шумно восторгались удивительной легкостью, с которой он схватывал и запоминал объяснения учителя. Отцы семейств, наслышанные об исключительных дарованиях чудо-ребенка, толпились вокруг школы, которая, как и всегда в те времена, располагалась не в помещении, а в одном из портиков и была открыта всем взорам. Там-то арпинцы и могли наблюдать весьма удивительное зрелище: их дети окружали Цицерона и шли за ним такой же свитой, какую в мире взрослых составляли простые граждане, когда хотели выразить почтение магистрату или другому выдающемуся гражданину. Отцам, добавляет Плутарх, не слишком нравилось, что дети их столь явно уступали Цицерону в успехах и таланте. Эти первые триумфы, по всему судя, были одним из самых отрадных воспоминаний о счастливых арпинских годах.
Плутарх сохранил для нас и еще одно любопытное свидетельство: с самых детских лет Цицерон страстно любил поэзию и еще ребенком написал небольшое стихотворение под названием «Главк Понтийский». Об этом стихотворении неизвестно ничего, кроме заглавия, но и его достаточно, чтобы высказать кое-какие догадки. Главк — имя нескольких героев греческих легенд. Прилагательное «Понтийский» означает «морской» и позволяет отождествить героя стихотворения с рыбаком из маленького городка Антедона, который случайно попробовал траву бессмертия, обрел дар пророчества и стал морским богом. К этому образу обращались многие поэты, каждый раз, когда хотели ввести в свое произведение морское божество, как в легенде об аргонавтах или в одном из эпизодов «Возвращений» — поэмы о приключениях, пережитых победителями Трои на пути домой. Главк фигурировал также в рассказе о Сцилле: он был влюблен в девушку, носившую это имя, но колдунья Цирцея, которой Главк не оказал должного уважения, примешала ядовитые травы к воде фонтана, где купалась Сцилла, и она превратилась в страшное чудовище, а из боков ее выросли оскаленные, воющие псы по шесть с каждой стороны. Известно, что Сцилла, став чудовищем, наводила ужас на всех, кто пытался проплыть проливом, отделяющим Сицилию от Италии. Несмотря на греческое происхождение легенды, миф о Цирцее связан с Италией и даже с Арпином, ибо в эпоху Цицерона существовало предание, согласно которому колдунья обитала на полуострове Цирцеи (ныне Монте Чирчео) всего в 50 километрах к западу от устья Лириса. Старинная легенда относилась, по-видимому, к местному фольклору, но в то же время вводила слушателя и читателя в сокровищницу эллинистической поэзии, всегда жадно впитывавшей самые разные причудливые предания. Любопытно заметить, что Цицерон, который, по-видимому, сочинил это свое стихотворение, даже не достигнув пятнадцатого года жизни, то есть в 93—92 году, вступил на путь поэзии такого рода раньше специализировавшихся на ней так называемых «новых поэтов», которых позже он же подверг суровой и придирчивой критике. Нет оснований думать, что при всех своих талантах Цицерон в столь раннем возрасте мог встать у истоков нового литературного движения. Скорее до него дошли рассказы о поэте Левии — одном из тех, кто уже с конца II века поставил своей задачей возродить в Риме игривую поэзию, что родилась некогда в Александрии Египетской. Если это так, значит, отзвуки литературной жизни доходили до Арпина, и Цицерон, несмотря на свой юный возраст, внимательно к ним прислушивался.
Такой предстает общественная и духовная атмосфера, которая окружала Цицерона в детстве и до конца сохраняла влияние на его душу и разум. Мы говорили о том, как сказалось это влияние на политической деятельности Цицерона, о его преданности традиционным формам общественной жизни, сложившимся в его родном древнем «маленьком Риме». Неудивительно поэтому, что он стал «патроном» арпинцев, то есть их законным заступником перед судьями и магистратами в Риме и их покровителем в любых других обстоятельствах, шла ли речь об отдельных гражданах или о целых объединениях. Он был «патроном» и многих других муниципиев, с которыми его не связывали никакие личные отношения и которые ему довелось лишь раз или два защищать в суде, но с Арпином дело обстояло совсем иначе: он стал «патроном» города как человек, который из всех его граждан достиг наибольшей славы и сделался, казалось, самым могущественным лицом в государстве.
В расцвете лет и в разгар деятельности Цицерон, насколько можно судить, не слишком часто возвращался в Арпин, разве что отдохнуть на несколько дней. Он привел в порядок отцовскую усадьбу, а в парке установил на свои средства Амальтеум — нагромождение камней, образовывавших во вкусе времени нечто вроде грота, в котором, по преданию, нимфа Амальтея выкармливала грудью младенца-Зевса. Это было в 61 году, когда Цицерон находился в зените своей карьеры. Несмотря на то, что он владел и другими усадьбами и некоторые из них очень любил, Арпин оставался для него прибежищем и опорой. В начале гражданской войны он укрыл там свою жену Теренцию и дочь. Там по крайней мере, убеждал он жену, им не придется испытывать продовольственные трудности, которые угрожали Риму. Он и сам по возвращении из Киликии (где с ним находился его сын Марк) намеревался именно здесь, в Арпине, ожидать посещения Цезаря в случае, если бы тот решил с ним встретиться. И здесь же юному Марку предстояло надеть тогу гражданина, поскольку дело было в марте 49 года, и о проведении церемонии в Риме нечего было и думать. Привыкши мгновенно оценивать выгодные стороны любой ситуации, Цицерон и тут сразу учел, что этот жест польстит жителям городка и обеспечит ему еще большее их расположение. Среди граждан Арпина он испытывал то чувство безопасности, которого ему нередко не хватало в других местах. Он признается в этом несколькими годами позже, когда напишет, что окруженный стенами городок представляется ему самым надежным убежищем. Он, разумеется, не имел в виду, что ему придется выдерживать осаду целых армий, окруживших город, но с полным основанием полагал, что враги его (речь шла о Луции Антонии, брате триумвира) не решатся выступить против города, население которого так предано своему «патрону».
Особый характер отношений Цицерона с Арпипом и его жителями не ускользнул от внимания его противников. По большей части то были римляне из Рима; они не скупились на насмешки над крохотным муниципием в долине Лириса, и изображали его в виде жалкого провинциального захолустья. Они издевательски называли Цицерона «Арпинским тираном» и напоминали, что городок некогда (при вольсках) входил в число врагов Рима. Со времен вольсков прошли века, и в годы Союзнической войны Арпин доказал свою верность Риму, свою принадлежность к римской традиции и культуре. Для насмешек не было никаких оснований. Ни разу в жизни, ни на минуту не чувствовал себя Цицерон чужаком в общественной жизни Рима. Может быть, как раз наоборот: связи с Арпином позволили ему острее ощутить те традиции, которые римляне из Рима все больше и больше забывали.
Цицерон оставил нам довольно впечатляющее описание себя в юности. «В ту пору, — пишет он, — я отличался крайней худобой и изрядной слабостью, шея длинная и тонкая, телосложение из тех, про которые принято говорить, что стоит лишь переутомиться или перенапрячь легкие, так и помереть недолго. Это тем более внушало тревогу близким и любившим меня людям, что я произносил все свои речи равно громким голосом, без повышений и понижений, напрягая до предела грудь и даже все тело». Таким был Цицерон в двадцать лет от роду, когда он осваивал ремесло оратора.
Слабое здоровье Цицерона вряд ли может вызвать удивление. Мы уже знаем, что отцу его пришлось, дабы сохранить жизнь, поселиться в уединении и отказаться от активной деятельности. Мы помним также, что совсем молодым ушел из жизни дядя будущего оратора Луций. Лишь брат его, Квинт, сделавший в дальнейшем блестящую военную карьеру, избежал свойственной этой семье болезненности; на долю Марка она выпала сполна. Он от рождения отличался хрупким телосложением, и это было первое препятствие, которое ему предстояло преодолеть. Заботливым настояниям родных и врачей, убеждавших его отказаться от мечтаний об ораторской деятельности, он противопоставил несгибаемую волю и, по собственному признанию, твердую готовность пойти на любой риск, но не расстаться с мечтой о славе, которая его ожидала. Славы он отведал еще в школе арпинского грамматиста, среди сверстников, и не сомневался, что может рассчитывать лишь на свою одаренность, а не на физические силы, которых у него не было. Он, однако, не сразу понял, что красноречие может быть самоцелью, что это ремесло, которым надо овладеть, и поначалу видел в умении говорить лишь средство сделать государственную карьеру, лишь искусство, необходимое будущему магистрату. Именно это твердили ему друзья его деда и окружавшие его арпинские консерваторы. А пока ему не исполнилось еще и пятнадцати лет, и он больше всего стремился проникнуть в мир греческой литературы.
Такая возможность представилась ему, едва отец надел на него мужскую тогу (скорее всего, как полагалось по традиции, на празднике Либералий — 17 марта 91 года), отвез в Рим и отдал на попечение одному из самых крупных деятелей той эпохи — Квинту Муцию Сцеволе, которого обычно называли Авгуром. Сцеволе в это время было около 80 лет, он уже не выходил, но атрий и вестибюль его дома с раннего утра бывали заполнены целой толпой посетителей, ожидавших вместе со всем Римом, говорит Цицерон, «откровений оракула». Сцевола был правовед, и ответы, которые он давал на вопросы тяжущихся, действительно были чем-то вроде наставлений оракула, которым каждый считал своим долгом следовать. Цицерон и Квинт сидели рядом, старались, как приказал отец, отлучаться возможно реже и не упускали ни одного слова старого авгура. «Многие глубокие суждения Сцеволы, — вспоминал Цицерон в конце жизни, — многие его краткие и меткие замечания хранил я в памяти и старался его мудростью и сам стать ученее».
Цель подобного обучения поначалу состояла в том, чтобы воспитать не оратора, а человека, как выражались в Риме, «закономудрого», то есть хорошо знающего законы, но сверх того, умеющего применять их в конкретных ситуациях и для решения отдельных казусов. Такой человек, вполне очевидно, был весьма полезен своим согражданам, не обладавшим ни его знаниями, ни его талантом, и мог рассчитывать на их голоса при выдвижении своей кандидатуры в пору магистратских выборов. Знание права было одним из тех качеств, которые в Риме вели к dignitas и сообщали человеку auctoritas.
В этот краткий период — в 91 году до н. э. — политическое положение в Риме было относительно спокойным. Девятью годами ранее мятежные трибуны Сатурнин и Главция попытались провести законы, ограничивавшие влияние знати, и один из знаменитейших сенаторов, Квинт Цецилий Метелл Нумидийский (тот самый, которого Марий сменил на посту командующего в Югуртинской войне), предпочел удалиться добровольно в изгнание, дабы не присягать на верность этим законам, противным, по его мнению, интересам государства. После его отъезда в столице начались беспорядки. Сатурнин и Главция были убиты, и Метелл вскоре (в 99 году) возвратился в Рим, подав тем самым пример, о котором, попав в сходные обстоятельства, Цицерон еще вспомнит. После возвращения Метелла в городе установилось было спокойствие, но в тот самый год, когда Цицерон и его брат Квинт начали посещать дом Сцеволы, где они встречались со всеми сколько-нибудь заметными политическими деятелями Рима (равно как, впрочем, и с деятелями ничем не примечательными), произошли события, которым суждено было иметь самые драматические последствия. Все началось с законопроекта о предоставлении рижского гражданства италикам, внесенного трибуном Ливием Друзом. Консул Филипп резко выступил против этого закона, сенат колебался, но большинство склонялось на сторону Друза. В курии развернулся спор между Филиппом и Крассом, который спешно вернулся в столицу 12 сентября, перед самым окончанием Римских игр. Произнося свою полемическую речь, Красс, как значится в источниках, превзошел самого себя. Но, разгоряченный собственным красноречием, истощив в борьбе все силы, он уже к концу заседания почувствовал, что заболевает. Шесть дней спустя он умер от воспаления легких. На Марка и Квинта эта смерть произвела глубочайшее впечатление, и, как рассказывает первый, на протяжении последующих дней они неоднократно ходили в курию, смотрели на ту скамью, где сидел Красс и, поднявшись с которой, он пропел (Цицерон пользуется именно этим выражением) свою «лебединую песнь». Не исключено даже, что оба юноши присутствовали на том историческом заседании, так как молодым людям их возраста разрешалось слушать сенатские прения — правда, стоя поодаль. Несколькими днями позже Друз был убит, и в Риме разразилась гражданская война — ее называют Союзнической или Марсийской, поскольку начали ее и сыграли в ней главную роль горные племена марсов, жившие в глубине Центральной Италии, в тех краях, где находился Арпин. Цицерону в эту пору было семнадцать лет.
В следующем году мы застаем его в армии. В качестве пропреторского легата ею командовал Гней Помпей Страбон — консул будущего 89 года и отец великого Помпея, Гнея Помпея Магна, родившегося в том же году, что и Цицерон (только не в декабре, а в последний день сентября). Молодой Цицерон состоял в «преторианской когорте» или, другими словами, в штабе консула; вместе с ним здесь проходили службу Гней Помпей и Луций Элий Туберон, который некогда был соучеником Цицерона и позже стал его свойственником. Вместе с другими членами «когорты» Марк Туллий присутствовал при встрече консула на нейтральной полосе («между двумя лагерями») с Веттием Скатоном, руководителем восстания. То была весьма необычная встреча, воспоминания о ней Цицерон сохранил на всю жизнь и поделился ими в одной из последних Филиппик: «В разговоре этом царило справедливое и беспристрастное равенство; никакого страха, никаких задних мыслей, никакой, даже самой малой, ненависти». Марсы не стремились уничтожить Рим, они требовали лишь римских гражданских прав наравне со всеми остальными. В сущности, необходимость удовлетворить требования марсов и юридически закрепить единство народов Италии была совершенно очевидна — единство их подготавливалось издавна и исподволь с того времени, когда все они вместе с римлянами вели борьбу против Ганнибала. Благодаря самому своему происхождению Цицерон лучше других понимал, что Союзническая война — не более чем трагическое недоразумение, которому возможно скорее должен быть положен конец. Ведь стали же некогда вольски из долины Лириса полноправными римскими гражданами!
В следующем году Цицерон перешел в армию Суллы, действовавшую в Кампании, где стал свидетелем еще одного происшествия, надолго запавшего ему в память. Шла осада самнитского города Нолы. В соответствии с обыкновением Сулла, стремясь предузнать волю богов, приносил жертвы, стоя перед своей палаткой-преторием. В это мгновение все увидели, как у подножия жертвенника выползла из земли змея. Гаруспик по имени Гай Постумий тут же сказал командующему, чтобы тот устремился на штурм города, который действительно оказался захваченным без всякого труда. Гораздо позже в трактате «О предвидении» Цицерон задастся вопросом: не объясняется ли одержанная победа талантом полководца в значительно большей мере, чем появлением змеи? При этом, однако, он ни слова не говорит о том, чем было ее появление в глазах гаруспика, а по всему судя, и в глазах самого Суллы — что змея, воплощавшая «гений» здешней земли, явилась, дабы передать ее римскому войску. Он думал, по-видимому, о другом — о поэтическом смысле этого эпизода, о его эпическом звучании. Недаром в одном из сочинений Цицерон сопоставляет его с тем местом «Илиады», которое он переложил латинскими стихами (или которые ему предстояло в скором времени переложить) и в котором Гомер рассказывает о пророческом смысле появления девяти птиц и змеи, их пожравшей. У Гомера прорицатель Калхас толкует это событие как указание на то, что война с Троей продлится девять лет, но десятый год станет свидетелем победы греков. И подобно тому, как некогда полуостров Цирцейи казался ребенку Цицерону зачарованным краем, где одни существа загадочно преображались в другие, осада Нолы виделась ему эпизодом эпической поэмы. Несколькими кодами позже поэма, которую Цицерон посвятит Гаю Марию и о которой мы в свое время расскажем, обнаружит с полной очевидностью характерную для него склонность проецировать действительные события в сферу воображаемого, читать реальные жизненные впечатления на языке мифа. Эта склонность проявится позднее в его манере описывать свои собственные поступки горазда ярче, чем то соответствовало их подлинному значению. Цицерон был одновременно и Эннием, и героем его «Летописи». Он принадлежал в собственных глазах миру легенды.
После победы Рима над повстанцами Цицерон расстается с лагерной жизнью. Он ясно понимал, что карьера полководца не для него. Даже если бы ей не препятствовало его хрупкое здоровье, он все равно предпочел бы победы духа победам на поле боя. Когда, уже будучи консулом, он станет защищать Мурену и превозносить его боевые заслуги, противопоставляя военную славу своего клиента учености его противника правоведа Сервия Сульпиция, маловажной и ничтожной в глазах сограждан, то будут лишь уловки судебного защитника, аргументы, подобранные специально для данного случая и никак не соответствовавшие внутренним убеждениям оратора. Вполне возможно — и даже бесспорно, — что в глазах римлян военные подвиги стояли выше познаний юриста; Цицерон выражал здесь общепринятый взгляд и лишь заострял его, вводя в характеристику Сульпиция несколько оскорбительную иронию. Сам же он утверждал, что с отроческих лет в его глазах «Скавр ни в чем не уступает Марию», и это в то время, когда Марий одерживал победу за победой, справлял триумф за триумфом, а Эмилий Скавр (отец того Скавра, который станет в 54 году подзащитным Цицерона) боролся в Риме за то, чтобы отстоять dignitas и auctoritas сенатского сословия! Можно быть уверенным поэтому, что по окончании Союзнической войны Цицерон с радостью вернулся к своим мирным занятиям, к своим мечтам о славе, к своим надеждам в один прекрасный день также сыграть роль в жизни государства.
Но гражданские неурядицы никак не могли улечься. Новые и все большие беды одна за другой обрушивались на Рим и предвещали еще долгую гражданскую войну. Народный трибун Публий Сульпиций Руф, на которого сенат рассчитывал как на своего сторонника, внезапно предложил ряд революционных законов, тут же вызвавших бурные столкновения на форуме. Вопреки мнению сенаторов он предлагал прежде всего запретить консулу Корнелию Сулле продвигаться еще дальше на Восток и продолжать борьбу против Митридата. Руф заключил тайное соглашение с Гаем Марием, который вопреки очевидному желанию сената сам стремился стать во главе военных действий. По настоянию Сульпиция трибуны лишили Суллу командования, дабы передать его Марию. Сулла отказался подчиниться. Произнеся весьма ловко построенную речь (она во многом предвосхищает речь Цезаря в 49 году перед переходом Рубикона), он убедил своих солдат следовать за ним и двинулся на Рим. По дороге он сжигал усадьбы, где засели сторонники Сульпиция, а вступив в столицу, провел ряд законов, отменявших решения трибунов, и объявил врагами республики Гая Мария, его сына, Сульпиция и некоторых других. Облеченный по его собственному настоянию чрезвычайными полномочиями в войне против Митридата, он отправился па Восток, оставив позади Рим, потрясенный событиями, подобных которым история его еще не знала.
Момент был мало подходящим для вступления в политическую борьбу, которая все меньше походила на столкновение мнений и все больше на самый обыкновенный разбой. По всей вероятности, Цицерон находился в Риме, когда Сулла, можно сказать, штурмом взял город. Видения этого времени продолжали преследовать его еще и тогда, когда он в роли консула ожидал, что Катилииа с сообщниками последуют примеру Суллы. Но не менее глубокое впечатление, кажется, произвели на юношу события, в результате которых был обречен на проскрипции Гай Марий. Престарелый консулярий тайно покинул Рим и добрался до Остии, где один из друзей приготовил для него корабль. Однако изменившиеся обстоятельства заставили Мария в очень трудных и опасных условиях искать убежища в Минтурнских топях в дельте Лириса. Плутарх весьма полно, со множеством романтических деталей, рассказывает об этом эпизоде. Цицерон тоже в нескольких речах вспоминает бегство своего соотечественника. В речи в защиту Планция он подробно описывает, как магистраты Минтурн оказали Марию помощь, но умалчивает о том, что сначала эти же магистраты решили убить Мария и лишь позже изменили свое намерение и спасли его. Он ни словом не упоминает об осле, который в момент вступления Мария в дом, где ему надлежало находиться под стражей, с победным ревом бросился к водопою, вместо того чтобы начать есть приготовленное для него сено — что и было воспринято как предзнаменование, заставившее декурионов Минтурн изменить свои первоначальные планы. Не говорит Цицерон и о солдате из варваров (скорее всего кимвре), который пробрался в комнату Мария с намерением убить его, но не решился, услышав сверхъестественный голос и увидев внезапно разлившийся ослепительный свет. Плутарх сообщает, что все эти события были изображены на картинах, написанных по заказу друга Мария — того самого, что нашел для него в Мин-турнах корабль, все-таки доставивший в конце концов полководца в Африку.
Неудивительно, что Цицерон остро ощутил атмосферу эпического предания, которая создалась вокруг этого эпизода. Не только подвиги полководца, но и собственная семейная традиция заставляли его восхищаться Марием.
В следующем году, когда Марий вернулся в Рим и вновь стал во главе республики, Цицерон видел его и слышал его речь к народу, произнесенную, по-видимому, на сходке. Марий говорил о том, какие страдания он вынес, будучи изгнанным с родины, видя свое имущество разграбленным, а сына принужденным разделять его бегство, говорил, что тем не менее никогда не терял самое драгоценное свое достояние — мужество и virtus — ту внутреннюю силу, которая постоянно жила в нем.
Жизнь, исполненная драматических перипетий, воинских подвигов и борьбы на форуме, ознаменованная несколькими триумфами, изгнанием, победным возвращением в Рим и завершившаяся в день январских ид, первых же после его возвращения в столицу, — все это само собой складывалось в поэму. Эту поэму Цицерон написал. Нам неизвестно точно время ее создания, но можно думать, что он сложил ее под непосредственным впечатлением событий — когда ему шел двадцатый год, когда он жил особенно напряженной духовной жизнью и находился под влиянием Архия — поэта, с которым нам вскоре предстоит познакомиться. Как бы то ни было, поэма эта, от которой сохранилось 13 стихов и несколько разрозненных упоминаний, осталась в памяти потомков. В 45 году на нее сошлется внук Мария, когда станет просить Цицерона взять на себя его защиту в суде. Он просил об этом, сообщал Цицерон Аттику, «во имя нашего родства, во имя «Мария», мной написанного, во имя ораторской славы Луция Красса, его прадеда».
Отрывок поэмы, сохранившейся до наших дней, приведен самим Цицероном в трактате «О предвидении». Он содержит рассказ об оракуле, который возвестил Марию «день славы и возвращения»: однажды Марий увидел, как на вершине дерева сражаются орел и змея; притаившаяся в листве змея напала на птицу и ранила ее, но орел сумел схватить змею в когти, нанес ей бесчисленные удары клювом и, наконец, сбросил врага в протекавший рядом ручей; одержав победу, орел расправил крылья, взмыл в небеса и полетел навстречу восходившему солнцу; неожиданно раздавшийся удар грома скрепил пророчество.
Вряд ли можно допустить, что Цицерон просто выдумал эту сцену: в Арпипе частенько показывали «дуб Мария» — тот самый, с которого и взлетел «орел, золотистая птица, Юпитера вестник».
Разрозненные сведения такого рода позволяют составить себе некоторое представление о поэме в целом. Написанная после смерти Мария или, во всяком случае, после его изгнания и возвращения, она должна была начинаться с воспоминаний о прошлом, со сцены знамения, которая была выписана вплоть до мельчайших деталей: змея, тонущая в ручье, символизировала судьбу врагов Мария, тщетно преследовавших маститого консулярия в топях Минтурн. Жизнь героя вряд ли описывалась здесь полностью, от начала до конца. То не была, по всему судя, эпопея в духе Энния, а тщательно разработанный драматический эпизод, иллюстрировавший тему Судьбы, близкий по композиции к сходным эпизодам у Гомера.
Такова, как можно предположить, была поэма о Марии. В ней нашел себе выражение местный патриотизм жителя Арпина, но в гораздо большей мере — восторг перед человеком, который спас Рим, заградив дорогу опустошительному нашествию варваров, восхищение его virtus, силой духа полководца, которого не сломили беды и неудачи. Но можно заметить здесь и другое чувство, которое исподволь начинает просыпаться в молодом поэте: стремление — может быть, неосознанное — сравняться с великими мужами Рима, взглянуть в лицо опасностям, грозящим каждому, кто вступает на путь управления государством. Скорее всего именно в этом источник восторга и вдохновения, одушевлявших автора «Мария», В сущности, поэму эту можно было бы считать всего лишь незрелым произведением юности, но воспоминание о ней осталось у Цицерона надолго. Когда настал его черед изведать изгнание, он вспомнил о Марии и сравнил себя с ним — например, в благодарственной речи к народу, вернувшему его из ссылки. Эта манера характеризовать себя, характеризуя других, типична для Цицерона. Она порождена не тщеславием, а способностью ставить себя на место другого человека и переживать те чувства, которые испытывал он. Цицерон писал свою поэму в двадцатилетием возрасте и не мог тогда предположить, что сходная судьба ждет его самого, но, рассказывая о своем герое, он уже пережил все опасности, с ней связанные. В сущности, эта способность и делает человека поэтом.
Когда отец Цицерона отвез его в Рим и представил старому Муцию Сцеволе, он одновременно поручил его и заботам друга или родственника их семьи Марка Пупия Пизона, который был лишь несколькими годами старше Цицерона, но уже снискал себе славу многообещающего оратора. Отец выбрал Пизона не только из-за его таланта, но, по свидетельству Аскония, также и потому, что тот вел жизнь, достойную нравов предков, и был весьма начитан. Пизон как раз вступал на «дорогу почестей»; ему предстояло стать квестором в 83 году, претором, правда, лишь в 72-м, а консулом в 61-м, после службы в восточной армии Помпея в качестве легата, и двумя годами позже Цицерона, его, если можно так выразиться, ученика. В приписываемой Саллюстию «Инвективе против Цицерона» можно прочесть, будто последний почерпнул свое «неумеренное» красноречие у Пизона, но заплатил за эти уроки целомудрием. Это, разумеется, одна из тех клевет, которыми во все времена награждают друг друга политические противники, но в ней достойно внимания свидетельство о том, что Пизон оказал на Цицерона некоторое влияние в годы ученичества, в начальную пору ораторской деятельности. Примечательно, что в доме Пизона жил и принимал участие в его ученых занятиях философ-перипатетик по имени Стасей — ученики Аристотеля представляли философскую доктрину, которая, по собственному признанию Цицерона, была особенно плодотворна для оратора. Через Стасея и благодаря Пизону Цицерон и познакомился с философией Аристотеля, склонность и уважение к которой он испытывал на протяжении всей жизни.
В те годы, однако, на жизненном пути ему встречались и другие философы, многие из них вызывали его горячий интерес. Первым был эпикуреец Федр, произведший на Цицерона сильное впечатление искусством речи, жизненной умеренностью, очевидной добротой и готовностью всегда прийти на помощь. На какое-то время Цицерон сделался эпикурейцем. Затем настал черед Филона из Лариссы — философа академической школы, который, дабы избежать треволнений, связанных с Митридатовой войной, в 88 году перебрался в Рим. Филон исповедовал учение скептической Академии, то есть философию Карнеада, пытаясь, однако, обнаружить признаки и критерии если не положительных знаний о мире, то по крайней мере вероятностного знания, на основе которого можно было бы строить некоторую деятельность. Он не только не присоединялся к традиционному в платонизме осуждению риторики, но, напротив того, признавал ее пользу и даже формулировал определенные наставления, призванные помочь при подготовке ораторских выступлений, ибо полагал, что философу не пристало оставаться безразличным к положению в государстве и что дело оратора указывать в каждом отдельном случае, какое из обсуждаемых мнений наиболее оправдано, наиболее соответствует нравственному благу и приличию. Сам он говорил не без блеска, и Цицерон, как и в случае с Федром, увлекся не только учением, но и человеком, его проповедовавшим, и перешел из школы Эпикура в лагерь последователей Платона.
Вскоре он познакомился и со стоицизмом. Ввел его в это учение некий Диодот, открывший молодому человеку все тайные соблазны диалектики, которую стоики весьма ценили и рассматривали как отрасль знания, дополняющую ораторское искусство. По причинам, нам точно неизвестным, Диодот близко сошелся с Цицероном и поселился в его доме, где прожил долгие годы вплоть до своей смерти около 60 года. Под старость Диодот ослеп и проводил дни, играя на лире, слушая чтецов, знакомивших его с многочисленными научными сочинениями, и решая задачи по геометрии — и после утраты физического зрения он умственным взором продолжал ясно видеть геометрические фигуры. Умирая, он завещал все свое скудное имущество Цицерону, другой семьи у него, по-видимому, не было.
Среди наставников Цицерона был и еще один стоик, Луций Элий Стилон, в центре внимания которого находилась не столько диалектика, сколько проблемы языка и стиля; Цицерон довольно подробно рассказывает о нем в «Бруте». Занимаясь проблемами латинского словаря, он уделял также много времени прошлому Рима, истории его учреждений и его литературе, проложив тем самым путь, по которому вскоре пошел Варрон, также бывший учеником Стилона. Риторикой как таковой, однако, он серьезно не занимался никогда: она, по-видимому, плохо сочеталась с его убеждениями философа-стоика. Для близких друзей он тем не менее составлял речи и записывал их текст, став таким образом одним из очень немногих римлян, причастных к логографии. Цицерон считал его речи «несерьезными» и, по всему судя, немного почерпнул из его уроков, разве что вкус к ранней римской литературе или, во всяком случае, знакомство с ней.
Так складывалось философское образование Цицерона, включавшее знакомство с самыми разными учениями и школами, на протяжении тех относительно спокойных лет, когда Сулла вел в Азии войну против Митридата, Образование это осуществлялось на греческом языке, и сам Цицерон упражнялся в декламации греческих речей вместе с Пупием Пизоном и неким Квинтом Помпеем, старшим его двумя годами, который позже был прозван Вифинским и о котором мы мало что знаем, кроме того, что в эпоху гражданских войн он присоединился к Помпею и вскоре погиб; у него был сын — позже он обратился к Цицерону за помощью во имя дружбы, соединявшей некогда его отца с оратором. Цицерон объясняет, зачем он и его друзья занимались греческой декламацией: этот язык, утверждал он, обладает значительно большими средствами украшения речи, и оратор приучается воспроизводить подобные украшения по-латыни. Речь здесь идет, по-видимому, о стилистических фигурах, к тому времени уже прочно введенных в обиход греческими риторами, и о калькировании их. Существовала, правда, и другая причина, па которую Цицерон намекает в «Бруте», когда рассказывает о своих ученых занятиях в годы. В 87 году в Риме появился родосец Аполлоний Молон, знаменитый ритор, который был не чужд практического красноречия и выступал у себя на родине с «реальными речами», политическими и судебными. Родосцы отправили его в Рим послом, дабы он рассказал сената о положении, которое складывалось в результате Митридатовых войн. Но Молон не знал латинского языка; в порядке исключения сенаторы разрешили ему обратиться к ним по-гречески и без переводчика. Кажется, то был первый чужеземец, получивший подобную привилегию. Этот эпизод проливает свет на эллинофильские чувства римских сенаторов и на уровень их культуры в начале 1 века до н. э. Соответственно и Цицерон, желая войти в число учеников Молона и воспользоваться его критическими замечаниями, стремился говорить перед ним по-гречески, что, очевидно, и заставляло его столь усиленно заниматься греческой декламацией. Молон вторично прибыл в Рим в качестве посла в 81 году с заданием добиться от римского сената вознаграждения жителям Родоса за помощь, оказанную ими римлянам в ходе все тех же войн с Митридатом. В 77 году, в пору своего путешествия по Востоку, Цицерон разыскал Молона на его родине и с интересом слушал его беседы. Вскоре нам придется остановиться более подробно на этом эпизоде, так благотворно сказавшемся на ораторском искусстве Цицерона.
Еще один человек сыграл в годы учения довольно заметную роль в жизни Цицерона — это поэт Авл Лициний Архий. Архий бьтл уроженцем Антиохии. Еще ребенком он объехал множество городов Азии, Сирии, Сицилии и Великой Греции, демонстрируя свои совершенно необычайные таланты, выступая с декламацией собственных стихов и импровизациями на заданные темы. Около 102 года он приехал в Рим, слава предшествовала ему и открыла двери первых домов города. Он тотчас сочинил эпическую поэму во славу Гая Мария, где воспевал его победу над кимврами, но вскоре сблизился с семьей Лициниев Лукуллов, которые и выхлопотали ему гражданство в Гераклее Луканской (ныне Поликоро на побережье Тарентского залива). Это случилось в 93 году. Четырьмя годами позже, дабы положить конец Союзнической войне, римляне приняли закон Плавтия Папирия, дававший права римского гражданства жителям союзных городов при условии выполнения ими определенных формальностей, которые Архий, насколько можно судить, сумел соблюсти. Закон этот датируется 89 годом, и с того времени Архий стал гражданином Рима. В 62 году против него было возбуждено дело по обвинению в самовольном присвоении прав гражданства. Цицерон взялся защищать его в суде и в речи своей рассказал, сколь многим он как оратор, а ныне и консулярий, обязан Архию и почему он, несмотря на разницу их положения, соглашается выступить в качестве адвоката греческого поэта. «Как бы далеко, — говорил Цицерон,— ни заходили мои воспоминания, как бы ни старался я представить себе самое раннее мое детство, я не могу найти никого, кто бы еще до встречи с Архием приохотил меня к ораторскому искусству». Следует ли отсюда, что Архий был наставником Цицерона в красноречии? Обычно это парадоксальное утверждение принято рассматривать как ораторскую гиперболу и попытку приписать Архию заслуги, которых у него не было. Между тем за этой, пожалуй, слишком пышной фразой вырисовывается и определенная истина.
Прежде всего хронологические указания, содержащиеся в речи, совпадают с тем, что нам известно из других источников. Когда Архий появился в Риме, Цицерону было не больше 13 лет; по-видимому, в эту пору он жил еще в Арпине, но двумя годами позже, надев тогу взрослого человека, он, как мы уже знаем, переселился в Рим, и не видно, почему нельзя считать, что именно тогда он познакомился с Архием. Начинающий автор «Главка-Морехода», естественно, должен был стремиться и услышать, и собственными глазами увидеть прославленного «собрата», который дал бы ему необходимые советы и помог освоить формы поэтического искусства, пользовавшиеся наибольшим успехом у публики. Он мог пойти к Архию точно так же, как вскоре отправился к Молону или пошел слушать Федра, Филона, Стасея и Диодота. Сжигавшее его любопытство ко всему на свете и сблизило его с Архием, слушателем и добрым знакомым которого он стал. Следы этого знакомства можно, кажется, обнаружить и в «Марии», написанном, как мы помним, самое раннее в 86 году.
В самом деле Плутарх сообщает, что «Главк» был написан «тетраметрами», то есть, по-видимому, трохаическими септенариями; ритм этот, характерный для так называемого «квадратного стиха», весьма широко использовался в комических театральных представлениях и в тех озорных стишках, которые распевали солдаты во время триумфов. «Марий» же в отличие от «Главка» написан дактилическим гекзаметром, то есть возвышенным размером, типичным для эпической поэзии. Если вспомнить, что того же Мария воспел и Архий, соблазнительно предположить, что Цицерон задумал написать продолжение поэмы своего друга, а может быть, и вступить в соревнование с ним, создав заключительную часть цикла, посвященного этому герою. Бесспорно, во всяком случае, что «Марий» Цицерона мог быть задуман и написан лишь после 86 года — того года, который отмечен дружбой Цицерона и Архия.
Из похвального слова искусству поэзии в речи в защиту Архия можно извлечь «и другие выводы, более общего характера. Поэзия, утверждает Цицерон, лишь одна из форм прекрасного, созерцание же прекрасного — залог расцвета человеческого духа, путь к подлинному и всестороннему осуществлению humanitas. Положение это было по-настоящему осознано Цицероном лишь в зрелом возрасте, но в душе его, столь широко открытой духовным импульсам, подобные мысли рождались с молодости. Мы уже видели, как восхищался он духовными достоинствами своих наставников, как чутко относился к способности ярко и красиво излагать свое учение. Он ценил их, разумеется, за знания, но еще более — за доброту, преданность истине, обаяние личности. Ему мало услышать слова, он стремится понять человека, который их произносит. Он верит, что гармония речи есть лишь выражение душевного равновесия. Он сразу замечает безмятежность духа эпикурейца Федра, с одобрением вспоминает, как стоик Диодот и в жизни следовал своему учению о том, что единственное благо — нравственное совершенство. Он превозносит постоянную открытость истине Филона и философов академической школы. Особенно ценным ему представляется стремление последователей Платона выйти, подобно их учителю, за пределы чистой логики с ее парадоксами и тупиками, проложить иной путь к истине, увидеть ту ее сторону, что выражает себя в мифе, то есть, другими словами, в поэзии. Наконец, Стасей и перипатетики обладают в его глазах той бесспорной заслугой, что ставят философские учения на службу красноречию и искусству управления государством. Эту способность ценить самые разные учения называют обычно эклектизмом Цицерона; как мы убедились, Цицерон вовсе не хотел стать кладезем разнородных и некритически воспринятых знаний; в учениях своих наставников он стремился найти и усвоить все, что входило в представление об идеальном человеке — им-то он и мечтал стать.
Говоря о друзьях Цицерона — его ровесниках, мы не упомянули Тита Помпония Аттика, которому суждено было сделаться спутником, советчиком, а подчас банкиром и доверенным лицом нашего героя во все дурные и светлые дни его жизни. Аттик, четырьмя годами старше Цицерона, был его другом в том полном и специфическом значении, которое вкладывали в это слово римляне. Он происходил из очень древнего рода, возводившего свою генеалогию к царю Нуме. В отличие от Цицерона, родившегося в Арпине, Аттик был римлянин из Рима. Странным образом, однако, та ветвь Помпониев, к которой принадлежал Аттик, никогда не давала магистратов. Его отец, как и отец Цицерона, предпочел остаться простым всадником, благо весьма изрядное состояние давало ему такую возможность. Аттик по примеру отца также неизменно отказывался занимать государственные должности и опять-таки, подобно отцу, посвятил жизнь ученым занятиям, окружив себя друзьями и греческими отпущенниками, разделявшими его вкусы. Он бывал в доме Муция Сцеволы, слушал, как и Цицерон, наставления старого правоведа, вместе со своим другом посещал занятия Федра. Федр приводил в восхищение и его, но в отличие от Цицерона, всегда открытого любому философскому учению, Аттик твердо выбрал эпикуреизм и на всю жизнь остался ему верен. Выбор этот окончательно укрепил Аттика в его решимости не заниматься государственными делами, поскольку Эпикур советовал свои i ученикам не вмешиваться в политику, по природе своей несовместную с безмятежным спокойствием души. К тому же во время кровавых неурядиц в Риме, о которых у нас уже шла речь, Аттик не раз подвергался опасности как двоюродный брат Сульпиция и друг младшего Мария, содействовавший его побегу. По всем этим причинам он решил покинуть Рим и искать пристанища в Афинах. Так он и поступил скорее всего в 86 году и прибыл в Афины вскоре после захвата города Суллой. Там несколькими годами позже Цицерон встретился с ним, и они возобновили ученые занятия, столь привлекавшие обоих.
Напряженная духовная деятельность Цицерона принесла свои плоды. Он многого добился в практическом красноречии, но решил, кроме того, оформить результаты своих занятий в виде теоретического сочинения, сохранившегося до наших дней лишь отчасти и состоявшего из двух книг под общим заглавием «О расположении материала». Как показывает само это название, речь там шла об искусстве разыскивать материалы, необходимые оратору, и о том, какие приемы в зависимости от темы речи следует применять для придания ей вящей убедительности. Наша задача сейчас состоит не в детальном анализе этого сочинения, а в том, чтобы найти его место в духовной эволюции автора и связать его с тем конкретным моментом этой эволюции, когда усвоенные Цицероном разнообразные учения начинали сходиться в единое целое — в первоначальный очерк его теории красноречия. Введение к первой книге обнаруживает влияние Аристотеля, а в известной мере и Сократа. Цицерон предупреждает здесь об опасностях, что таит в себе искусство красноречия, и говорит о неоценимых услугах, которые оно в то же время оказывает человечеству, затем переходит к техническим приемам, применяемым риторами, и вступает в полемику с одним из них, Гермагором; тот как раз опубликовал свой трактат, и Цицерон характеризует его как на редкость плохо написанный, а ведь кому, как не оратору, добавляет он, должно писать с блеском? Соответственно сам Цицерон всячески пытается оживить стиль своего сочинения риторическими украшениями. В начале II книги он рассказывает известную историю о художнике Зевксисе, который, дабы запечатлеть в своей картине красоту Елены, пригласил нескольких девушек и взял от каждой из них самые прекрасные ее черты. Пример этот понадобился Цицерону, чтобы оправдать свою манеру использовать самые разные источники, сочетать их по собственному свободному разумению и сохранять независимость от однозначных школьных наставлений.
Позже, в трактате «Об ораторе», Цицерон строго отозвался о своем первом опыте как о собрании необработанных выписок из школьных тетрадей. Это чрезмерно — и, может быть, аффектированно — строгое суждение не должно скрыть от нас всю новизну и всю значительность предпринятой попытки: рассмотреть приемы красноречия, вплоть до самых технических, в философской перспективе, свести к единству те два регистра человеческой мысли, которые, начиная с этого времени, Цицерон всегда будет рассматривать как неразрывно связанные и дополняющие друг друга — философию и красноречие.
«О расположении материала» (а может быть, и сочинения, посвященные другим разделам риторики, если они действительно были написаны, что представляется весьма сомнительным) явились далеко не единственным результатом литературных занятий Цицерона в то время, когда он, видя, что творится в общественной жизни Рима, откладывал и откладывал свое вступление на путь политической деятельности. В те же годы он перевел «Экономику» Ксенофонта, несколько диалогов Платона (какие именно, неизвестно, но бесспорно, что в число их входил «Протагор») и, по всей вероятности, «Феномены» Арата, дополненные некоторое время спустя переводом «Предзнаменований».
Цицерон скорее всего рассматривал эти переводы как упражнения в стиле; это, однако, не помешало ему опубликовать их, и, хотя до наших дней они не сохранились, некоторые древние авторы, в первую очередь грамматики, пользовались ими и приводили из них отрывки еще в IV веке н. э. Примечательно, что молодой Цицерон избрал для такого рода упражнений сократические диалоги. Может быть, его привлекал сам жанр, и он уже тогда подумывал о диалогической форме своих будущих трактатов, а может быть, просто стремился овладеть всем богатством латинского языка и научиться пользоваться им с той свободой, которую дает лишь длительная практика в переводе; по его словам, он использовал в этих сочинениях также все, что дали ему упражнения в ораторском искусстве и декламации. Не исключен и еще один мотив: Цицерон отдавал себе отчет в своей чрезмерной склонности к патетике, к гиперболе и хотел с самого начала положить предел этому увлечению, усваивая приемы возможно более чистого и ясного аттического стиля. Этим желанием определялся, наверное, выбор Платона и Ксенофонта; над приданием своему стилю необходимой ясности Цицерон работал и позже, на Родосе.
По правде говоря, в литературном наследии Ксенофонта он мог бы избрать для перевода не только «Экономику», равно как в литературном наследии Платона — не только «Протагора». Соблазнительно предположить, что «Экономика» его привлекла рассказами о заботах, свойственных хозяйке, которая ведет дом и благоразумно ограничивает семейные расходы — они напоминали счастливые арпинские годы. В книге, правда, ничего не говорится об опорожненных и вновь запечатанных кувшинах, игравших такую роль в хозяйстве Гельвии, но зато там идет речь о разного рода сельскохозяйственных орудиях, о съестных припасах, расставленных, как у нее, «по разрядам»; мелькают в книге и описания виноградников и участков, засаженных оливковыми деревьями — основы семейного хозяйства арпинских Цицеронов. В двадцать лет Цицерон еще был полон воспоминаниями детства: в «Экономике», написанной на чистейшем аттическом диалекте, возвеличенной и облагороженной представала сама немудрящая арпинская жизнь.
Что касается «Протагора», то он содержал ответ на вопросы, которые в эти годы Цицерон столь усиленно задавал самому себе: каковы отношения между философией и искусством слова? Не становится ли красноречие опасным для государства, если заниматься им в соответствии с наставлениями софистов? Можно ли вообще научить доблести — этой главной, на взгляд римлян, добродетели vir bonus — «честного мужа»? А то обстоятельство, что диалог Платона завершался очень странно, или, точнее говоря, вовсе не имел заключения, могло лишь привлечь Цицерона, научившегося у Филона и других философов, которых он посещал, рассуждать «in utramque partem», то есть любым заданным образом, переходя от защиты каждого положения к его опровержению.
Перевод «Феноменов» Арата был предпринят потому, что отвечал некоторым особенностям мышления и личности Цицерона. Его привлекла высокая оценка поэзии, прямая связь между нею и ораторским искусством, утверждаемая в диалоге. Поэзия и красноречие представали у Арата как две стороны единого дара, отличающего человека от всех прочих существ и доказывающего его величие. Преисполненный юношеского одушевления, Цицерон отказывается выбирать какую-либо одну из этих сторон — он хочет быть одновременно и оратором, и поэтом, ибо лишь в таком сочетании может он проявить свою humanitas. Не исключено, что Цицерон взялся за перевод поэмы Арата по совету Архия; тесные их отношения в эти годы делают подобное предположение вероятным; но если даже и так, ясно, что Цицерон последовал совету лишь потому, что он совпадал с его собственными желаниями и интересами. Стоицизм Арата был того же толка, что стоицизм Диодота,-так глубоко запавший в душу нашего героя. Если оставить в стороне эпикуреизм, которому Цицерон в те годы отдал пусть весьма скудную, но бесспорную дань, стоицизм был единственным учением, содержавшим, с одной стороны, теорию строения вселенной, а с другой — относительно цельную философскую доктрину, не сводившуюся к одной лишь этике сократовского толка. Арат создавал картину мира, полностью подчиненного воле Зевса, но Зевса философских учений, а не эпических преданий; мир, устроенный таким образом, в общем соответствовал религиозному чувству римлян. Ощущалось, однако, в поэме Арата и нечто большее: существование италийских крестьян, как и других пахарей в любом краю земли, было подчинено ритмическому движению небесной сферы; в Арпине люди следовали этому ритму, как в бесчисленных других городах и селах; моряки устремляли взгляд к небу и по положению созвездий направляли бег корабля — труженики земли и труженики моря глядели на небо так же, как глядел Арат, и именно поэтому поэма была близка их восприятию мира. Всем этим, по-видимому, и объясняется выбор Цицерона. С точки же зрения собственно литературной ему могло казаться, что он обогащает песни латинских муз новыми созвучиями. В его время дидактическая поэзия, уже распространенная среди поэтов александрийской школы, в Риме оставалась еще полностью неизвестной, а как раз в годы молодости Цицерона латинские поэты стали исподволь осваивать жанры, бытовавшие в эллинистической литературе. Написав «Мария», Цицерон овладел жанром повествовательной эпопеи; теперь он брался за работу, открывавшую еще неизведанный путь, обещавшую принести римской словесности и в этой области новые победы, Этим обещаниям суждено было сбыться: «Георгики» Вергилия обнаруживают связь с Цицероновыми переводами из Арата — не только с «Феноменами», но и с «Предзнаменованиями»; а за Вергилием последовали Манилий и Германик, в чьих стихах также слышны отдаленные отзвуки переводной поэзии Цицерона.
Так в неистовом напряжении сил протекала в эти годы жизнь хрупкого болезненного юноши, жадно поглощавшего все созданное человеческим духом в любой области, — юноши, движимого, разумеется, честолюбием, но, кроме того, любовью к прекрасному и стремлением избежать односторонности, не встать слишком рано на какой-либо один прямой, но узкий путь. Он еще был во власти прошлого — в воспоминаниях об Арпине, об острове Фибрене, о дубе Мария, но будущее уже занималось над ним, разливаясь, подобно заре, широко и свободно.
В течение лет, предшествовавших его появлению на форуме, юный Цицерон, как видим, переходил от правоведов к философам, от философов к риторам и поэтам, пытаясь побольше узнать у каждого, подражать каждому, не полагая своей любознательности никаких пределов. Представить себе его повседневное существование в эти годы во всех подробностях мы вряд ли можем. Гораздо позже, однако, в 46 году, когда во времена диктатуры Цезаря он пребывал в состоянии вынужденной праздности, у него вырвалось любопытное признание. Он рассказывает в одном из писем, что обедал у Волумния Евтрапела; за столом находилась Киферида — актриса, вольноотпущенница и подруга хозяина дома; в ее присутствии Цицерон чувствовал себя не слишком ловко, ибо, объясняет он Пету, своему корреспонденту, даже в молодости никогда не предавался удовольствиям такого рода. Судя по этому замечанию, Цицерон не походил на юношей, описанных в комедиях Теренция, был строг и суров; все, что нам известно о его деятельности в эти годы, подтверждает такое впечатление.
В 88 году Сулла отбыл на Восток, и враги его стали сводить счеты с его друзьями, оставшимися в столице.
В эти самые дни умер Муций Сцевола Авгур; Цицерон стал помощником и, как мы бы сегодня сказали, секретарем племянника Авгура Муция Сцеволы, великого понтифика, войдя таким образом в клан высшей аристократии — тех, на кого должна была вскоре обрушиться ярость «революционеров» пз народной партии. Муций Сцевола Авгур был женат на одной из дочерей Лелия, друга Сципиона Эмилиана; Лелия пережила мужа, Цицерон как-то навестил ее и слышал ее беседу с дочерьми. Чистота их речи вызвала его восхищение. Он вообще восхищался Сципионом и его друзьями, их политическими взглядами и поведением, энергией, с которой они противостояли революционным новшествам Гракхов. Его влек к этим людям инстинкт римлянина старого уклада, унаследованный от арпинских предков, постоянный вкус к устойчивости и порядку, но немалую роль играла здесь и своеобразная ностальгия по временам, которые казались ему золотым веком республики, когда жили и действовали Катон Цензорий, оба Сципиона, Луцилий, Теренций, первые подлинные ораторы, когда в городе начало ощущаться и шириться влияние философов. Именно эту традицию Цицерон хотел продолжать, и именно она оказалась теперь под угрозой.
Сулла по собственному выбору назначил двух консулов, которых считал преданными себе и сенату, — Луция Корнелия Цинну и Гнея Октавия. Но едва он отплыл со своей армией из Брундизия, как Цинна вернул в Рим ранее изгнанных популяров. Среди смятения, вызванного этим шагом, в Остии, в порту Рима, высадился Марий. Все происходящее весьма напоминало государственный переворот, и сенат, дабы с ним справиться, попытался набрать войско, но тщетно — армия Мария и Цинны захватила столицу. Тотчас же началась резня, руководители сенатской партии гибнут — подчас при самых чудовищных обстоятельствах: Марк Антоний пытается скрыться в деревне, обнаружен, обвинен и убит, голову его относят Марию; Лутаций Катул, некогда коллега Мария, деливший с ним триумф, кончает с собой, Квинт Муцил Сцевола, великий понтифик, убит на пороге храма Весты. Три года правления Цинны в Риме были годами тирании. Цинна по собственному усмотрению назначал и смещал консулов, пытался решить долговую проблему с помощью мер, которые были выгодны должникам, но разоряли кредиторов. Все это смешивалось с последними раскатами Союзнической войны, поскольку каждая из соперничавших в Риме партий пыталась поднять и привлечь на свою сторону ту или иную часть италиков. Сулла, одержав победу на Востоке, наскоро заключив с Митридатом мир, оказавшийся весьма недолговечным, двигался к берегам Италии, и по мере его приближения солдаты Цинны все чаще отказывались подчиняться приказам. Цицерон в это время с прежней страстью предается своим ученым занятиям. Смолкло красноречие, форум словно онемел, и в наступившей тишине все слышнее раздавался голос будущего соперника и друга Цицерона Квинта Гортензия Гортала. «На протяжении почти трех лет, — пишет Цицерон в «Бруте», — в самом Риме гражданской войны не было, но смерть одних ораторов, бегство или изгнание других привели к тому, что в судах Гортензий стал играть главную роль...»
Квинт Гортензий был восемью годами старше Цицерона. Он начал карьеру судебного защитника в 95 году, выступив в процессе, где представлял интересы жителей провинции Африка. Позже он, как и Цицерон, принимал участие в Союзнической войне, но в отличие от Цицерона не просто состоял в преторской когорте, а воевал как военный трибун; по окончании войны защищал царя Вифинии в судебном процессе, характер и смысл которого нам неизвестны. После этой речи ораторские выступления Гортензия неизменно вызывали всеобщее восхищение, и еще много лет спустя, характеризуя в «Бруте» стиль Гортензия, Цицерон говорит, что он отличался изобилием блестящих мыслей, высказанных в кратких стремительных фразах, хотя «некоторые из них были тоньше и изящнее, чем необходимо, а иногда и не совсем подходили к смыслу речи». Такая манера вызывала немалое раздражение у «старцев», завсегдатаев сената и форума, усматривавших в ней измену gravitas — торжественной важности, обязательной для римского оратора. Молодежь, однако, находила речи Гортензия несравненными. Позже, говорит Цицерон, стиль Гортензия оставался все тем же, но у пожилого оратора он казался уже далеко не столь уместным. К тому же Гортензий, по натуре склонный к праздности, разленился, перестал трудиться и слишком полагался на свой прирожденный талант.
Начав свою деятельность в 95 году, Гортензий занимался ораторским искусством до самой смерти, наступившей в 50 году накануне гражданских войн. Ораторская карьера Цицерона началась одновременно с диктатурой Суллы в 82 году; перестал он выступать как судебный защитник в 51 году еще при республике. Творческие пути обоих ораторов шли параллельно, и Цицерон явно отдавал себе в этом отчет. В тоне, каким он говорит о Гортензии, нет зависти, но явственно ощущается желание подчеркнуть разницу между собой и своим будущим соперником. Так, Цицерон ставит в вину Гортензию неспособность развиваться, осваивать новые мысли, новые приемы красноречия, а подчас и недостаточную проницательность, столь необходимую при решении политических вопросов. Позже Гортензий выступил как защитник Верреса, но и это не помешало установлению между обоими ораторами дружеских отношений. Этой дружбе Цицерон отдал дань в одном из самых значительных своих диалогов, к несчастью, утерянном и лишь с большим трудом восстанавливаемом — в «Гортензии», который содержал побуждение к занятиям философией, или, если воспользоваться названием одного из сочинений Аристотеля, — «Протрептику». Диалог, созданный скорее всего в 45 году, то есть уже после смерти Гортензия, позволяет разглядеть подлинные глубокие и резкие противоречия между Цицероном и его старшим коллегой, которые разделяли их гораздо больше, чем игра самолюбий или частные расхождения в повседневных делах. Гортензий не знал тех научных, философских и литературных приемов, которым был столь предан Цицерон, не только не знал, но и, по всему судя, их презирал. Не случайно в диалоге, носящем его имя, он выступает как противник философии и излагает мнение римлян старой складки, которые отказывались вносить в ораторское искусство диалектику, мораль и метафизику. Цицерон, напротив того, отстаивает благотворное влияние философии на развитие не только человеческого духа, но и человеческого общества. Мы видели, что этот взгляд он защищал уже в работе «О расположении материала»; в «Гортензии», судя по довольно многочисленным сохранившимся отрывкам, он продолжает развивать те же мысли.
Постоянно имея дело с эллинистической культурой, Гортензий, разумеется, не мог полностью игнорировать опыт греческих риторов. Он стремился, однако, заимствовать у них лишь технические приемы ораторского искусства, упорно отказывался вводить в свои речи размышления о коренных проблемах истории и философии и обогащать ими анализ разбираемого дела, отказывался от распространенных, ставших классическими, ораторских формул, — от так называемой топики, связанной с понятиями родины, славы, с другими подобными темами, привлекавшими усиленное внимание философов. В своих рассуждениях и доказательствах он старался придерживаться римской sapientia — практического разума, опирающегося на здравый смысл и привычную аргументацию. С этой точки зрения Гортензий, несмотря на незначительную разницу в возрасте, противостоит Цицерону как человек старой формации. Он, правда, постоянно пытался выглядеть «по-современному», но попытки эти никогда не касались основ его личности, а всегда лишь внешних форм и приемов. Цель Цицерона, напротив того, состояла в плодотворном синтезе философии и риторики — синтезе, которому суждено было открыть новую эру в развитии римского ораторского искусства.
В те годы, когда марианцы стояли у власти, а Сулла только еще двигался к Риму, задача эта пока смутно вырисовывалась в сознании Цицерона. Одно только было ему ясно — хотя подчас лишь инстинктивно: он должен обогнать Гортензия, занять первое место среди римских судебных защитников, и путь к этой цели — в неуклонном овладении культурой. Важно было, полагал Цицерон, когда настанет его черед участвовать «в государственных и частных процессах, с самого начала выступить во всеоружии необходимых знаний, а не пополнять их, как большинство ораторов, тут же, на форуме». Поэтому-то, признается он, все днп и все ночи его посвящены ученым занятиям. Для такого образа жизни были и другие мотивы, о которых юный оратор предпочитал умалчивать.
Умалчивал он, во-первых, скорее всего из осторожности. Его связи с семьей Сцевол делали его подозрительным в глазах марианцев, ибо ясно свидетельствовали о принадлежности к лагерю оптиматов. Позже он описал чувства, владевшие им в этот период, сказав, что был «свидетелем похорон республики». В самом деле, в эти годы была растоптана свобода римского народа, поруганы все ценности, которым он был предан. Римские законы разрешали казнь гражданина только по решению народного собрания — но на форуме валялись трупы сенаторов, да и всадников, не выразивших должного восторга перед новым режимом. Молодой Цицерон глубоко пережил смерть людей, казавшихся ему лучшими из граждан. В трактате «О природе богов» философ-платоник Котта, выразитель взглядов автора, доказывает отсутствие провидения тем, что люди, подобные великому понтифику Сцеволе или консулу Меруле, были убиты или принуждены к самоубийству; на возражение собеседника: ведь после возвращения Суллы злодеи понесли наказание, Котта отвечает, что, наверно, было бы лучше спасти невинных, чем наказывать убийц. Забыв на время о своем восхищении Марием, Цицерон видит в герое из Арпина лишь властителя, которого окружающие умоляли пощадить Лутация Катула и который в ответ упорно твердил: «Пусть умрет».
Когда Сулла вернулся, Цицерон, как и его друзья из сенаторских семей, надеялся, что государственные установления и законы обретут прежнюю силу, а государство вновь станет достоянием граждан. Но восстановление аристократической республики ознаменовалось новыми репрессиями и убийствами, и возвращение Суллы вызвало у Цицерона, по собственному его признанию, лишь чувство скорби «из-за тех злодейств, которыми сопровождалась победа». Времена мести, однако, вскоре миновали, форум вернулся к своей обычной жизни, в судах вновь стали обсуждаться дела, а выступавшие ораторы не рисковали больше жизнью из-за неловко сказанного слова. Цицерону в это время было двадцать пять лет. Он понял, что откладывать начало карьеры дольше нельзя.
Во время господства марианцев, в конце 87-го или начале 86 года, Цицерон познакомился с философом Посидонием, прибывшим в Рим в составе родосского посольства, может быть, одновременно с Аполлонием Молоном. Посидоний был стоиком, как Диодот; он учился у Панеция — некогда друга и спутника Сципиона Эмнлпана. Неизвестно, беседовал ли Посидоний с Цицероном уже в это время, сразу после их знакомства, как беседовал с нашим героем Молон, также выполнявший в эти дни поручение своих сограждан в Риме, и как беседовал тот же Посидоний с Цицероном позже, в 81 году, в пору своего второго пребывания в Риме. Достоверно только, что в какое-то время они сблизились, что Цицерон называл своего собеседника «наш дорогой Посидоний» и долго поддерживал с ним отношения. Оценить размеры и характер влияния, которое родосский философ оказал на римского оратора, мы не в состоянии.
В каких судебных процессах Цицерон выступал после того, как Сулла на свой лад восстановил законность, неизвестно. Бесспорно, что он защищал некоего Публия Квинкция, поскольку речь его на этом процессе сохранилась. Оиа была произнесена в консульство Марка Туллия Декулы и Гнея Корнелия Долабеллы, то есть в 81 году до н. э.; может быть, годом или двумя позже, но, во всяком случае, еще в период диктатуры Суллы. Публий Квинкций выступал ответчиком в тяжбе с неким Секстом Невием. Невий образовал вместе с братом Публия Гаем Квинкцием компанию по эксплуатации земельного владения в Нарбонской Галлии; Гай умер, Публий наследовал его имущество, но при реализации наследства возникли трудности. Невий прибег к разного рода уловкам, чтобы задержать окончательную расплату, и сумел даже добиться преторского эдикта, ставившего Публия Квинкция в положение несостоятельного должника на том основании, что он якобы задолжал Невию крупную сумму денег. Чтобы приостановить действие эдикта, понадобилась интерцессия народного трибуна, но Невий, не дожидаясь ее, продолжал действовать и попытался силой изгнать Квинкция с принадлежавших ему земель в Нарбонской Галлии. Наместник провинции не дал ему осуществить задуманное, тогда он снова переменил тактику и стал теперь уже по суду требовать передачи ему земель Квинкция, по-прежнему утверждая, что тот его должник. К этому и сводилась суть процесса: Цицерону предстояло доказать, что у Невия нет никакого права на владения Публия Квинкция.
Спор носил юридический характер, и Цицерон показал себя в этом процессе знающим защитником, способным уверенно решать правовые вопросы. В своей речи, однако, он сумел выйти далеко за рамки юриспруденции и выступить не только как ученик Муция Сцеволы Авгура, но и как диалектик, прошедший школу Диодота. Он вводит определения терминов, тонко дифференцирует их, запутывает противника серией альтернативных вопросов, вскрывает противоречия в его поведении и несоответствие его утверждений бесспорным фактам, не оставляя тем самым от аргументов обвинителя камня на камне. Цицерон практически использует в этой речи те наставления, которые кратко излагал в сочинении «О расположении материала». Это видно уже в начале речи, где защитник выказывает крайнюю почтительность к судьям и к обвинителю — Квинту Гортензию, обращается к нему с подчеркнутые уважением, сквозь которое и здесь, и во многих других местах явственно проглядывает ирония. Совсем по-другому относится он к истцу и, действуя по-прежнему в соответствии с рецептами трактата «О расположении материала», не упускает ни одного случая представить Невия существом презренным, грубым, бесчестным, не способным вызвать ничего, кроме ненависти, и вдобавок — что считалось в Риме пороком особенно тяжким — жестоким. В одном пункте, однако, Цицерон оказался не в состоянии следовать тому методу, который рекомендовал в своем трактате: изложение дела, пишет он там, должно быть кратким, дабы не утомить внимание слушателей: «Если вы хотите, чтобы люди следили за вашей мыслью, не надо допускать, чтобы внимание их рассеивалось...>> В речи же в защиту Публия Квинкция изложение дела занимает целую треть. Положение оказалось настолько запутанным и сложным, а постоянные переходы пз Рима в Галлию и обратно столь частыми, что адвокат вынужден был без конца останавливаться на деталях, которые в таком количестве не могли не утомить слушателей. Стремясь справиться с этой опасностью, Цицерон все время варьирует длину и ритм фраз, вводит в свое повествование воображаемые диалоги то с противником, то с судьями, взывает к слушателям, заклиная их уделить ему все необходимое внимание. Выступал он вторым; из речи первого защитника судьи уже были знакомы с основными обстоятельствами дела, что позволило Цицерону опустить все же некоторые подробности и сосредоточить усилия прежде всего на создании
Заключительная часть речи принадлежала к тому жанру, который римляне называли miseratio и в котором адвокату полагалось взывать к жалости судей. Здесь также зависимость от наставлений, содержащихся в трактате «О расположении материала», выступает с полной очевидностью. В трактате перечислены шестнадцать видов аргументов, которыми можно воспользоваться, заканчивая судебную речь. В речи в защиту Квинкция мы находим многие из них. Высказывается, например, надежда, что жизнь обвиняемого не будет загублена несправедливым приговором, предрекается, какую горесть или, наоборот, какую радость принесет решение судей друзьям и близким обвиняемого. На протяжении жизни Цицерон много раз прибегал в своих речах к такого рода фигурам. Они, с одной стороны, были уже хорошо разработаны греческими логографами, а с другой — вполне могли выглядеть как выражение чувств, внезапно охвативших адвоката при виде опасности, нависшей над человеком, которому грозит потеря имущества, репутации, гражданских прав или даже жизни. Было вполне естественно, что защитник и другие сторонники обвиняемого прибегали к такого рода приемам, хотя и трудно порой отделаться от некоторого удивления при виде того, как оратор посреди чисто юридического анализа вдруг погружается в рассуждения, с темой никак не связанные. На возбуждение чувства жалости была рассчитана и вся обстановка, в которой появлялся обвиняемый — траурные одежды, весь вид нарочито небрежный, вокруг друзья, столь же удрученные, как и он сам. Поддавались ли судьи, клявшиеся под присягой решать дело по закону, таким попыткам разжалобить их?
Отвечая на этот вопрос, мы сталкиваемся с одной из самых существенных особенностей социальной психологии римлян — с эмоциональными узами, которые связывали воедино членов гражданской общины. Для римлянина община была продолжением «фамилии» — первичной, исходной ячейки римского общества, а это означало, что обязанности граждан по отношению друг к другу регулировались уже знакомой нам pietas, которая оказывалась в известной мере важнее правовых норм. Это архаическое воззрение отразилось в пословице, которую в Риме любили повторять: «Высший закон есть высшее беззаконие». Право играло у римлян огромную роль, но в то же время они остро чувствовали ущербность системы, при которой письменная норма, раз навсегда сформулированное правило препятствуют воспринять каждую ситуацию в ее эмоциональном контексте и во всей ее сложности. Если приговор целиком зависит только от закона, то зачем нужны суд и судья? Достаточно, чтобы претор произнес соответствующий пункт закона и объявил приговор. Сохранился очень древний рассказ, относящийся к эпохе царей и ставший позже народным мифом, который показывает, сколь важным был в глазах римлян такой, человеческий, подход к проблемам закона, вины и наказания. Когда юный Гораций победил Куриациев и тем помог родине одолеть соперников-альбанцев, на пути домой он встретил сестру; она оплакивала смерть одного из побежденных, и Гораций, вне себя от гнева, убил ее. То было преступление, и законы предусматривали за него совершенно определенное наказание. Но стоило ли исходить из законов, если речь шла о победителе, о молодом герое? После всех подвигов, им свершенных, можно лп было предать его казни? По родовому праву первым приговор должен был произнести отец; он отказался осудить сына. Теперь убийце предстояло предстать перед судом народа. Закон был предельно ясен: виновного ожидала казнь «по установлению предков» — его надлежало забить до смерти, а труп обезглавить. Обвиняемый предстал перед народом, и народ не согласился с подобным приговором, вопреки закону оправдав Горация. Отсюда согласно традиции возникло право апелляции к народу, которое на протяжении всей истории существования римской гражданской общины рассматривалось в качестве одной из важнейших гарантий libertas — особой римской свободы, право на которую составляло коренное отличие свободного человека от раба.
Таковы исходные, глубинные черты римской цивилизации, которые объясняют и оправдывают страстный, подчас театральный тон римского судебного красноречия, отличающий его от красноречия политического, от выступлений в сенате или на сходках, которые магистрат созывал в перерывах между собраниями народа, — законодательными или выборными. Выступления в сенате или на сходках в несравненно большей степени апеллировали к логике и использовали аргументы, основанные на фактах, тогда как защитительные речи, имевшие целью отстоять интересы гражданина, обращались в конечном счете не в меньшей степени, чем к разуму людей, заседавших в суде, к их сердцу и чувству и должны были заранее рассеять возражения, способные поколебать доводы защитника. В речи «В защиту Квинкция» Цицерон пошел этим путем.
В Риме, однако, любой судебный процесс оказывался в зависимости от политического положения в городе. Ощущается эта зависимость и в речи «В защиту Квинкция». Публий Квинкций, как мы помним, дабы приостановить действие преторского эдикта, лишавшего его имущества, прибег к интерцессии народного трибуна. Трибуном этим был Марк Юний Брут, отправлявший свою магистратуру в 83 году, то есть до принятия сулланских законов. Между тем один из законов Суллы, так называемый Корнелиев, как раз касался границ трибунской власти и лишал трибуна абсолютного права приостанавливать действие эдикта, вынесенного магистратом (в деле Квинкция — претором); правом этим трибун мог отныне пользоваться для защиты гражданина только при учете всех сопутствующих обстоятельств данного дела. Как признал позже сам же Цицерон в одной из веррин, Корнелиев закон отнимал у трибунов право «приносить вред, но оставлял возможность оказывать помощь». Смысл закона состоял, иначе говоря, в том, что трибун не смел больше вмешиваться в вопросы законодательства, но мог воздействовать на применение данного закона в каждом конкретном случае. Перед нами тот же принцип, который породил право апелляции к народному собранию, то же чувство, что закон или абстрактная норма не должны приводить к принятию бесповоротных решений, что между правом во всей его строгости и человеком должно стоять понятие справедливости. Трибунам теперь предстояло заботиться именно о ней.
Процесс Публия Квинкция развернулся после вступления в силу Корнелиева закона, что позволяло адвокатам Невия представить интерцессию Юнпя Брута (к тому же сильно скомпрометированного сотрудничеством с марианцами) как пример трибунского своеволия, которому как раз и должен был положить конец закон, только чго проведенный диктатором. Цицерон с самого начала ясно видел эту опасность и постарался заранее обезвредить аргументы противников, заявив, будто Брут вмешался не с целью воспрепятствовать законным действиям претора, а единственно ради оказания помощи попавшему в беду гражданину, что вполне соответствовало духу нового закона. Нависшая над Квинкцием угроза в довершение ко всему быть еще и заподозренным в принадлежности к антисулланской оппозиции отпадала сама собой.
Было и еще одно обстоятельство, неблагоприятное для ответчика. В качестве своего «прокуратора» (то есть лица, уполномоченного защищать интересы Квинкция в пору его отсутствия) он избрал некоего Секста Альфена — римского всадника, который на следующий же год оказался в проскрипционных списках Суллы. Дело поэтому могли представить так, будто расхождение Квинкция и Невия касалось не только материальных интересов, но имело и политическую подоплеку, будто Квинкций в глубине души оставался марианцем, тогда как Невий даже и в трудные дни сохранял неколебимую верность Сулле. Цицерон, однако, сумел представить ситуацию в совершенно ином свете, напомнив, что Альфен был родственником Невия, воспитан в его доме и, по всей вероятности, именно там научился ненавидеть аристократов, любых, вплоть до вышедших из гладиаторов. Цицерон замечает также, что эдикт, передающий Невию имущество Квинкция, был принят, по-видимому, претором Корнелием Долабеллой, сулланцем; однако законным основанием принятого решения явился эдикт претора 83 года Бурриена — человека из окружения Мария. В двусмысленном положении, следовательно, оказывались и истец, и ответчик; поэтому никто, заключает Цицерон, не заинтересован в том, чтобы ворошить прошлое, которое лучше поскорее забыть.
Случай этот раскрывает в Цицероне многое. Казалось бы, ею пригласили выступить в качестве защитника в процессе, который касался лишь материальных интересов клиента. Но, согласившись, Цицерон оказался перед лицом ситуации весьма запутанной и тем более острой, что в царившей тогда атмосфере сводить личные счеты было весьма несложно. Сама трудность этого процесса дала возможность Цицерону показать себя знатоком правил риторики и тонким диалектиком, зрелым адвокатом, владевшим искусством прибегать в нужный момент к «общим местам», которые именно благодаря своей всеобщности особенно сильно действовали на судей и слушателей. Надо сказать, что суд был в состоянии оценить все эти качества молодого оратора, поскольку председательствовал в нем правовед Аквилий, в прошлом также один из учеников Муция Сцеволы Авгура. Не менее важно было и то, что Цицерон продемонстрировал иа процессе свою способность видеть политический контекст судебного дела. В силу всех этих обстоятельств речь «В защиту Публия Квинкция» послужила превосходным началом адвокатской карьеры будущего оратора, выставила в ярком свете его таланты и сравняла его с Гортензием, над которым он, кажется, одержал победу, поскольку, как прпнято считать, Квинкций выиграл дело.
Тяжба Публия Квинкция и Невия однажды уже разбиралась в суде до того процесса, в котором выступал Цицерон. При первом разборе дела адвокатом Квинкция был некий Марк Юний Брут, о котором нам известно только, что в пору второго процесса он выполнял государственное поручение и находился вдали от Рима. Цицерон согласился взять на себя защиту Квинкция по просьбе шурина последнего — актера Квинта Росция, что дает нам возможность представить себе более наглядно образ жизни начинающего оратора и дружескую среду, его окружавшую. Росций с давних пор был любимцем римской аристократии, толпившейся вокруг него, как придворные вокруг восточного монарха. Лутаций Катул, победитель кимвров, написал в его честь стихотворение, тут же ставшее знаменитым, а Сулла, презрев скверную репутацию, которая в ту эпоху сопутствовала актерам, даровал Росцию всадническое достоинство д вручил золотое кольцо — официальный знак этого сословия. Красноречие и сценическое искусство считались в Риме весьма близкими друг другу. Росций посещал суды, когда там выступал Гортензий, перенимал и воспроизводил на сцене жесты оратора, всю его, как в ту пору выражались, «стать». С той же целью посещал Росция юный Цицерон, восхищался жестами и позами великого актера, находя их одновременно и в высшей степени выразительными и бесконечно изящными; он часто упоминает Росция в позднем трактате «Об ораторе», приводя его как пример совершенного владения мимикой, столь важной для оратора.
Посещал Цицерон в эти годы и другого театрального человека — поэта и последнего великого римского трагика Акция. Ему было уже около 90 лет, но он полностью сохранил былую ясность мысли. Цицерон любил расспрашивать Акция о выдающихся ораторах прошлого века, и тот несколькими штрихами набрасывал точный и резкий портрет каждого.
В годы сулланской диктатуры Цицерон выступал и в других судебных процессах, о которых мы, однако, мало что знаем. Например, о «женщине из Ареция», в защиту которой Цицерон произнес речь в суде децимвиров, неизвестно почти ничего, кроме того разве, что Сулла лишил жителей Ареция их гражданских прав, а Гай Аврелий Котта, используя это обстоятельство, объявил некую аре-цинку своей рабыней. Дело было запутанным и темным. В ходе его Цицерон выдвинул тезис, согласно которому право гражданства вообще неотчуждаемо; то был явный вызов Сулле, поскольку незаконной объявлялась мера, им принятая. Как ни странно, суд счел тезис Цицерона правильным, и женщина была признана свободнорожденной.
Вскоре Цицерон выступил в процессе, который грозил ему очень многим. Не прошло и года после истории с Публием Квинкцием, как он взял на себя защиту Секста Росция, гражданина маленького умбрийского городка Америи. На этот раз речь шла не о махинациях, а о тяжком преступлении — далеко от дома, в Риме, был убит человек, и родственники его всеми средствами пытались завладеть наследством погибшего, весьма изрядным. Они привлекли на свою сторону вольноотпущенника Суллы, его любимца Хрисогона, тот согласился вмешаться, что сразу придало делу политический характер.
Двоюродные братья Росция, подстроившие убийство, решили внести его имя в проскрипционный список, создав таким образом впечатление, будто убит он был на законных основаниях. Это открывало перед обоими братцами весьма заманчивые перспективы, ибо состояние Росция тем самым не переходило к Сексту Росцию-сыну, а подвергалось вполне законной конфискации и поступало на аукцион, где его можно было приобрести по сходной цене. На самом деле ко времени убийства срок действия проскрипций истек, и, чтобы осуществить задуманное, братья отправились в лагерь Суллы; он вел тогда осаду этрусского города Волатерры, и всемогущий Хрисогон, входивший в свиту диктатора, находился при нем. Хрисогон согласился задним числом внести Секста Росция в роковой список, выговорив себе за это часть наследства. Весть о сделке дошла до Америи, жители возмутились и отправили под Волатерры делегацию, поручив ей напомнить, что Росций-отец активно помогал Сулле, всегда был верен делу аристократии и что поэтому внесение его в проскрипционный список глубоко несправедливо. Хрисогон от имени Суллы принял делегацию и устроил дело так, что она не смогла встретиться с диктатором. Он наговорил америйцам множество хороших слов, пообещал во всем разобраться, но предпринимать, разумеется, ничего не стал. Немного спустя началась реализация наследства, которое и было поделено между убийцами и Хрисогоном. Когда весть об этом дошла до Росция-сына, он, по всему судя, человек простоватый, не склонный к энергичным действиям, понял вдруг, что его обрекают на нищету, и решился наконец что-то предпринять. Он устремляется в Рим, к друзьям своего отца; то были Метеллы, Сервилии, Сципионы — люди из самой высокой аристократии. Росций останавливается в доме Цецилии Метеллы, знатной и богатой матроны, известной своим благочестием и добродетельным образом жизни. Враги Росция, которые, по всей вероятности, рассчитывали каким-либо способом его уничтожить, оказались перед трудноодолимым препятствием. Росций рассказывает свою историю направо и налево, она доходит до Суллы, тот не вмешивается, но предоставляет расследованию идти своим ходом. Тогда оба сообщника придумывают нечто новое: они обвиняют молодого Росция в убийстве отца.
Подлинный — скрытый — смысл процесса, в котором сталкивались, с одной стороны, фаворит диктатора, с другой — высшая аристократия, группировавшаяся вокруг Цецилиев Метеллов, состоял в том, чтобы выяснить, может ли Хрисогон, используя свое положение и влияние на судей, добиться явно несправедливого осуждения Секста Росция. В сущности, здесь решалось, до каких пределов распространяется власть Суллы, и Цицерон полностью отдавал себе в этом отчет. С первых же слов речи он подчеркивает, что согласился выступить защитником Секста Росция по просьбе первых людей государства. Он прибавляет, что эти люди не взялись сами защищать Росция лишь потому, что занимаемое ими положение придало бы их речам более значительный и прямой смысл, чем им бы хотелось, другими словами, всякому стало бы ясно, что за Хрисогоном стоит Сулла. К этой теме Цицерон на протяжении речи возвращается неоднократно. Уже во вступлении он замечает, что у диктатора великое множество забот — не мог же он еще и вникать в детали дела Росция! То был весьма ловкий ход и отнюдь не лишняя предосторожность: возьми на себя открыто защиту Росция кто-либо из Метеллов или Сципионов и произнеси он такие слова, противостояние Суллы и знати выступило бы совершенно явно; Цицерон же по молодости, по отсутствию (по крайней мере, кажущемуся) политического опыта, по тому, что не отправлял еще ни одной магистратуры, мог, в случае необходимости, рассчитывать на прощение. И без того присутствие в толпе слушателей множества значительных государственных людей было явной, хотя и невысказанной, угрозой диктатору. Собрание как бы требовало прекратить сведение бесконечных счетов, положить конец беспорядкам, связанным с сулланским переворотом, а говоря точнее — с незаконным захватом власти Суллой. В условиях диктатуры, которая длилась уже много месяцев и все отчетливей начинала походить на монархию, аристократия стремилась восстановить законность, занять свое традиционное место в государстве.
Речь в защиту Секста Росция была первым выступлением Цицерона перед судом, избранным народом. Молодой оратор постарался продемонстрировать свое красноречие во всем блеске. Он с подчеркнутой скромностью говорит о себе, не скупится на лесть судьям, придает подлинный драматизм изложению фактов, разворачивает сложный психологический анализ личности Секста Росция-сына, его образа жизни, призванный доказать всю невероятность того чудовищного преступления, в котором его обвиняют. Ради придания изложению яркости и убедительности Цицерон заимствует примеры из театрального репертуара — сначала из комедии Цецилия, где описывались жизнь и нравы зажиточных, но вполне обычных римских граждан, затем — из многочисленных трагедий, представлявших на греческой и римской сцене миф об Оресте: фурии, преследующие Ореста, утверждает Цицерон, — лишь символ мучений совести, которые испытывает отцеубийца. Экскурсы такого рода показывают, что перед нами друг актера Росция, молодой поклонник драматурга Акция. Даже если заподозрить оратора в желании блеснуть начитанностью и предстать в глазах судей вполне современным человеком, который может позволить себе в публичном выступлении театральные аллюзии, его обращение к ходячим сюжетам, составлявшим общенародное достояние античной культуры, придавало процессу подлинно человеческое звучание, заставляло каждого вдуматься и вчувствоваться в положение обвиняемого. Здесь, как и неоднократно впоследствии, гуманизм Цицерона проявился в его способности увидеть в неожиданном и преображающем свете самые обычные, самые повседневные обстоятельства.
Много лет спустя, когда Цицерон в «Ораторе» разбирал пройденный им путь, он счел, что речь в защиту Росция несла на себе слишком явный отпечаток молодости оратора. Блестящее, тщательно разработанное рассуждение о муках отцеубийцы, например, показалось ему чрезмерным — шипучим и пенистым, как не до конца перебродившее молодое вино. Он признал, однако, что сами эти недостатки содействовали успеху речи. Когда Цицерон рассказывал, что ждет Росция, если его сочтут виновным, в публике, вспоминает он, послышались крики восхищения. Так в процессе Росция, со всем его сложным политическим подтекстом, рождался или, во всяком случае, утверждался новый вид красноречия — красноречия, создававшего как бы сценическое действие, в котором оратор играл роль протагониста. В фигурах и украшениях речи самих по себе не было ничего особенно нового и ранее неслыханного, но у Цицерона они переставали быть лишь приемом, с помощью которого оратор заставлял себя слушать и стремился поразить присутствующих, понравиться им. Судебное .разбирательство больше не исчерпывалось крючкотворством юристов и краснобайством адвокатов, оно обретало человеческое содержание в самом широком смысле слова. Жизнь входила в него во всех своих проявлениях — в виде поэзии, которая в ту эпоху была основой всякой культуры, и, в частности, в виде поэзии драматической, столь распространенной в Риме, входила через философию — и в ее диалектической форме, обеспечивавшей точность мысли, и в ее нравственном значении, предполагавшем глубокое знание человеческой природы, законов мышления и поведения, и даже в той ее форме, которую тогда называли «физической», придававшей особый смысл природным явлениям — ураганам, ливням, засухе, сжигающей посевы. Так, в конце речи Цицерон сравнивает Суллу с самим Юпитером: никто ведь не ставит в вину богам несчастья и беды, которые причиняют метеоры, наоборот, мы испытываем чувство благодарности за свет, который нам ниспосылают боги, за воздух, которым дышим; точно так же и Сулла, данный государству римлян теми же богами, не заслуживает ничего, кроме благодарности.
Речи на форуме произносились по традиции под открытым, бездонным и бескрайним римским небом. Быть может, поэтому и речь, произнесенная в тот день, обретала размах и значение, дотоле невиданные, и, быть может, поэтому отзвуки ее до сих пор поражают наш слух.
В деле Секста Росция Цицерон добился победы. Клиент его был оправдан, а речь молодого оратора так прославила его имя, что отныне «не встречалось ни единого процесса, в котором его бы не сочли достойным выступить», как писал он сам позже в диалоге «Брут». В эти годы ему поручали защиту обвиняемых во многих процессах, но ни сами речи, ни даже воспоминания о них не сохранились. Правда, в одном месте «Брута» и в другом «Ораторе» упоминается речь «В защиту Титинии Котты» (жены Аврелия Котты?), но упоминания эти остаются не до конца ясными. Современные исследователи творчества Цицерона склонны считать, что имеется в виду какой-то процесс по обвинению в отравлении и использовании магии, но толкование это покоится на весьма зыбких данных. К тому же трудно предположить, что дело касалось жены одного из трех братьев Аврелиев Котта — Гая, Луция или Марка, которых Цицерон хорошо знал и которые представляли в его время эту знаменитую семью. Единственное, что можно утверждать бесспорно на основе двух свидетельств самого Цицерона, заключается в том, что женщина по имени Титиния, в остальном нам неизвестная, была обвиняемой в весьма важном процессе, что обвинителями ее выступили некий Сервий Невий и Скрибоний Курион и что последний на суде после выступления Цицерона окончательно растерялся, не сумел ничего возразить ему и сел на место, заявив, что обвиняемая колдовством лишила его памяти. Главным защитником выступал, по-видимому, один из Аврелиев Котта, а Цицерон говорил последним, оставив себе, как обычно, miseratio (призыв к милосердию) и аргументы скорее эмоционального, чем собственно правового характера. Все это, однако, тоже в высшей степени сомнительно. Цицерон не обнародовал речи, произнесенные в эти годы, а если даже они и были опубликованы, текст их пе сохранился.
Такими и остались в жизни Цицерона эти два года, 80-й и 79-й — два года ораторской деятельности, обеспечившей ему известность и деньги, поскольку судебные выступления в соответствии с обычаем бесплатными, разумеется, не были. Что касается общественного положения, то именно в эти годы Цицерон стал вхож в самые знатные дома Рима. Еще в пору обучения у Сцеволы он завязал отношения с молодыми аристократами, которых (в частности, Аврелиев Котта) встречал позже и на уроках Элия Стплона, а оправдание Секста Росция и осуждение (по крайней мере, моральное) Хрисогона было публичным, прозвучавшим в суде осуждением сулланской тирании; добившись такого исхода процесса, Цицерон оказал немаловажную услугу Цецилиям Метеллам и их политическим союзникам.
Доказательством того, насколько значительной стала общественная роль Цицерона, служит его женитьба. Он женился на некоей Теренции, принадлежавшей к роду того же имени, прославившемуся в эпоху Второй Пунической войны и входившему уже на протяжении нескольких веков в правящую олигархию. У Теренции была сводная сестра Фабия, чье имя опять-таки указывает на связь с одним из самых знаменитых родов Рима; принадлежность семьи к высшей аристократии находит себе дополнительное подтверждение в том, что Фабия была весталкой.
Женившись на Теренции, Цицерон не только вошел в круг знатнейших семей Рима, он взял также за женой значительное приданое, которое, если верить Плутарху, исчислялось суммой в сто тысяч денариев. К деньгам прибавлялось земельное владение в горах (пустошь, пастбища и леса, по всему судя, в окрестностях Тускула) и несколько доходных домов в Риме. Не исключено, что в личном владении Теренции находились еще и некоторые «государственные земли», то есть участки agri publici, издавна принадлежавшие семье на правах оккупации — ей придали более или менее законный вид, уплатив государству некую чисто символическую сумму. Во всяком случае, личное имущество Теренции превосходило личное имущество Цицерона. Когда был заключен брак, нам в точности неизвестно. «Переписка» ничем не может нам в этом смысле помочь, поскольку самые ранние из сохранившихся писем относятся к 68 году, и Теренция в них уже упоминается — впервые именно в этом году — в связи с тем, что она страдает от приступа ревматизма. Историки пытались датировать женитьбу, исходя из возраста детей Цицерона и Теренции, но ничего определенного не удалось достичь и на этом пути. Что же, если нельзя добиться определенности, удовольствуемся вероятностью.
Первый ребенок, родившийся от этого брака, дочь Туллия, в 70 году была еще маленькой. Именно как о дитяти упоминает о ней Цицерон в одной из речей против Верреса. Но тремя годами позже, в декабре 67 года, он пишет, что обручил ее с Гаем Кальпурнием Ппзоном Фруги. К сожалению, этого мало для установления ее возраста и, следовательно, для определения даты, позже которой свадьба с Теренцией не могла состояться. По римскому обычаю девочек обручали очень рано, подчас в возрасте восьми лег, свадьба же происходила чаще всего, когда невесте исполнялось тринадцать, и именно с тринадцатилетнего возраста брак рассматривался как правовое состояние со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эта возрастная граница, однако, была самой ранней, но, разумеется, не единственно возможной.
Бесспорно, что в 79 году Цицерон уехал на Восток, и, может быть, именно это обстоятельство способно пролить некоторый свет на интересующий нас вопрос. Когда родилась Туллия и, следовательно, когда состоялся брак — до отъезда Цицерона или после? День рождения Туллии известен — 5 августа, остается установить год. Если Туллия появилась на свет до поездки, то приходится предположить либо что Теренция оставалась в Риме все то время, пока Цицерон находился в путешествии, из которого, как нам предстоит увидеть, отнюдь не торопился возвращаться, либо что Теренция вместе с новорожденной дочерью ездила с мужем. Оба предположения не слишком вероятны, и естественнее думать, что брак состоялся по возвращении Цицерона в 77 году либо был заключен до 79 года, Теренция путешествовала с мужем, но в этом случае Туллия появилась на свет лишь на третий год супружества, то есть самое раннее в 76 году. Тогда получается, что в декабре 67 года, когда она была обручена с Пизоном, ей было 8 лет, а в пору ее вступления в брак в 63 году — тринадцать. Полное соответствие возраста Туллии римским традициям в обоих случаях исключает возможность видеть здесь простое совпадение.
В 67 году Цицерон рассказывает своему другу Аттику об остроумной выходке своей дочери. Аттик обещал ей какой-то подарок, и девочка требует выполнения обещания, беря отца в свидетели, что такое обещание было ей действительно дано; при этом она называет его «поручителем», то есть пользуется юридическим термином, столь неожиданным в устах ребенка; в конце того же года Туллия сообщила отцу, что она назначает Аттику «предельный срок» для выполнения обещания. Подобные выражения, показывающие, что девочка присутствовала при разговорах взрослых, могли быть употреблены и восьмилетним ребенком, и девочкой лет двенадцати, но лишь в первом случае они звучат по-настоящему забавно. Все это делает наиболее вероятным, что Туллия родилась 5 августа 76 года, после возвращения отца из поездки на Восток, и что брак с Теренцией, следовательно, состоялся годом раньше, то есть в 77 году.
В 78 году, когда умер Сулла, Цицерон, еще неженатый, находился в Афинах. Смерть диктатора была важным событием: даже в своем добровольном уединении Сулла представлял для независимой аристократии значительную потенциальную угрозу, и лишь теперь знать вновь обретала полную свободу действий. В эти дни Антиох Аскалонский, у которого Цицерон брал в ту пору уроки, побуждал его вступить наконец на дорогу почестей, как и подобало молодому оратору, обнаружившему столь яркий талант. По обеим этим причинам Цицерон возвращается в Рим, твердо решившись войти в круг государственных деятелей, с которыми познакомился и которыми так восхищался в отрочестве. Брак с Теренцией был одним из шагов к достижению этой честолюбивой цели.
Мы недоумеваем и испытываем некоторую неловкость при мысли, что такой человек, как Цицерон, мог принести личную жизнь в жертву карьере. Однако серьезных оснований утверждать, что здесь действительно что-либо принесено в жертву, нет. Брак этот просуществовал тридцать два года, и супруги расторгли его по обстоятельствам, предвидеть которые за столько лет было невозможно, которые были вызваны кризисом, оказавшимся для них обоих непреодолимым и последним. Развод Цицерона с Теренцией никак не может характеризовать чувства, с которыми они вступали в брак. Нельзя забывать и о другом. В среде старой римской аристократии брак был составной частью политической жизни и одной из ее форм; он оформлял политические союзы, менял расстановку сил на общественной арене, прокладывал путь к власти молодым людям, которых часто и избирали в зятья с расчетом на их будущее. Семья была слишком важной ячейкой римской общины, чтобы судьбы ее можно было ставить в зависимость от лирических чувств. Кроме того, стыдливость, входившая в число традиционных и особенно чтимых римских добродетелей, требовала, чтобы чувства супругов не выставлялись напоказ, а оставались тайными и как бы подразумевались. Жена живет славой своего мужа, испытывает восхищение перед его гражданской доблестью и теми чертами личности, благодаря которым он играет заметную роль в жизни государства. Она ценит его воинскую доблесть, его влиятельность в сенате, его популярность. Уже в «Амфитрионе» Плавта самая римская римлянка из всех героинь латинского театра Алкмена описала в своем знаменитом монологе идеал женщины, которая скрывает нежность под холодной гордостью и подчиняет всю себя интересам рода.
Создается впечатление, что Теренция была женщиной подобного склада, весьма похожей на Алкмену Плавта. Плутарх подчеркивает, что она отличалась довольно жестким нравом, была по натуре резка, честолюбива и, как признал однажды Цицерон в письме, до нас не дошедшем, с большей охотой вмешивалась в его политические дела, чем позволяла ему вмешиваться в дела дома. При той высочайшей репутации, которой он к этому времени пользовался, Цицерон представлял для такой женщины весьма удачную партию. Мы не знаем, в каком возрасте вступила Теренция в брак, но известно, что она значилась «девицей» и это было первое ее замужество. Первое, но не единственное, поскольку после развода в 47 году она вышла замуж за историка Саллюстия, умершего в 35 году, а затем за Мессалу Корвина. Есть сведения, что она умерла в возрасте 103 лет. По всей вероятности, Теренция была моложе Цицерона лет на 10. Впрочем, все это одни лишь догадки.
После успехов на форуме, привлекших к нему внимание не только граждан, но в первую очередь «старинной знати», Цицерон тем не менее не вступил сразу на путь политической деятельности, а отправился прежде на Восток, то есть в Афины, в другие области Греции и в провинцию Азия. Историки нового времени неоднократно пытались определить, что именно могло заставить молодого честолюбца пробыть так долго вдали от Рима, рисковать тем, что его забудут, предоставить свободу действий соперникам. Причины здесь были, надо полагать, разнообразны, но при этом далеко не все из тех, что предлагали историки, равно важны. Плутарх, например, утверждает, что победа в процессе над Росцием поставила Цицерона в опасное положение и что он счел необходимым уехать из Рима, дабы избежать мести Суллы и его приближенных. Это, конечно, возможно, но подобная осторожность плохо согласуется с тем, что, прекрасно зная все обстоятельства дела, Цицерон все же решился сыграть главную роль в процессе. Показательно также, что Цицерон отнюдь не торопился покинуть Рим и уехал, по всему судя, лишь весной 79 года, то есть через несколько месяцев после процесса; если враги его жаждали мести, у них было более чем достаточно времени для ее осуществления.
В том месте «Брута», на которое мы уже ссылались, Цицерон указывает иную причину. Напряжение голоса при произнесении речей, явное общее истощение становились опасными для жизни. Врачи настаивали, чтобы он вообще отказался от занятий красноречием. Этот совет Цицерон отверг категорически, но решил, по собственному признанию, изменить стиль выступлений, усвоить более сдержанную манеру красноречия, приведя тем самым заботы о здоровье в согласие с честолюбивыми замыслами, и отправился на Восток с целью усвоить там новый стиль судебных речей. Он рассчитывал почерпнуть его на Родосе у Аполлония Молона, с которым встречался еще в Риме. Что можно сказать по поводу подобного объяснения? Представляет ли оно собой, как некоторые утверждали, лишь попытку замаскировать другие мотивы менее почтенного свойства? Разве Цицерон не мог усвоить новые приемы красноречия в Риме? Зачем нужно было ехать за ними в Азию?
Замыслы его и желания предстанут перед нами с большей очевидностью, если мы представим себе состояние Цицерона в первые месяцы 79 года. Уроки греческих философов, выступления греческих риторов, посещавших Рим, открыли перед ним духовный мир Эллады и стран эллинистической культуры. Многое из того, что рассказывали ему родосцы, афиняне, сирийцы, будило его любознательность, требовало более глубокого знакомства. Его путешествие представляло собой нечто подобное той поездке «по большому кругу», которую два века назад так охотно предпринимали молодые английские аристократы с целью ознакомиться с мыслящей континентальной Европой. Постоянная любознательность Цицерона, страсть, с которой он поглощал все новые и новые знания, вполне объясняют стремление молодого оратора побывать в странах, о которых он грезил еще подростком. В будущем ему как магистрату предстояло проводить дни между форумом и курией либо предпринимать лишь те поездки в провинции, от которых нельзя было отказаться. В 79 году он не мог еще добиваться даже первой из магистратур, квестуры: по сулланским законам ее запрещалось отправлять лицам моложе тридцати лет. Цицерону должно было исполниться тридцать в 76 году, именно тогда можно было выставить свою кандидатуру, и присутствие его в Риме становилось необходимым. Два года до той поры оказывались свободными.
Не исключено также, что Цицерон стремился повидать Помпония Аттика, который поселился в Афинах и жил, казалось, вполне счастливо в обществе философов и художников, пользуясь двойным преимуществом положения римлянина в захваченных Суллой Афинах и своего обширного состояния, позволявшего не только оказывать материальную поддержку городу, спешившему устранить следы разрушений, причиненных осадой, но и облегчить денежные дела афинян, расстроенные и запущенные их легкомыслием, небрежностью и недобросовестностью.
Тем временем Помпей Младший, вскоре получивший прозвание Великого, провел, не имея на то никаких законных полномочий,, набор в армию, отдал ее и себя в распоряжение Суллы и на протяжении нескольких лет одерживал победу за победой. Непосредственно перед отъездом Цицерона он разгромил африканскую армию и, казнив отложившегося от Суллы мятежного наместника
Домиция Агенобарба, вернул провинцию в подчинение Риму. Сулла, по-видимому, отнюдь не был в восторге or успехов юного «императора», который, не пройдя еще ни одной магистратуры, уже требовал триумфа. Сначала он отказал — из зависти, но потом вынужден был уступить, и в марте 79 года двадцатишестилетний Помпей отпраздновал триумф. Мы ничего не знаем о чувствах, которые испытал Цицерон, наблюдая события и стремительную карьеру бывшего своего товарища. Скорее всето они должны были вызвать у него и восхищение, и беспокойство — восхищение felicitas Помпея, той постоянной удачей, которую ниспослали ему боги, беспокойство же — явно заметной склонностью молодого полководца пренебрегать законами и утверждать свое положение вопреки им. Позже Цицерон выступил в поддержку закона, присваивавшего Помпею чрезвычайные полномочия на Востоке, но выступил в тот момент, когда вопрос был уже почти решен. До той поры он продолжал отмалчиваться, может быть, из чувства настороженности, которое вызывал в ном этот необычный человек, столь же необходимый, сколь и опасный для государства. В 62 году, когда Помпей возвратился в Италию после победы над Митридатом, Цицерон сделал все, чтобы стать его советником, предупреждать и сдерживать его порывы; триумфатор, как нам предстоит увидеть, относился к этой опеке раздраженно и вскоре постарался от нее избавиться.
Помпей праздновал свой триумф 17 марта 79 года. Через несколько дней, скорее всего в апреле, когда открывался мореходный сезон, Цицерон взошел на корабль, отправлявшийся на Восток. С ним ехали его брат Квинт, с детства разделявший любовь Марка к литературе, но предпочитавший красноречию поэзию, двоюродный брат Луций, уже нам знакомый, и Марк Пупий Пизон, которому была отведена в некотором роде роль наставника. Подробности того, как добрались молодые люди до Афин, неизвестны. Наиболее вероятно, что следовали они традиционным путем — морем из Брундизия в Коринф, а оттуда по суше. Существует предположение, что по пути в Брундизий Цицерон и Пупий Пизон свернули с дороги, дабы посетить Метапонт — оба хотели повидать места, связанные с жизнью Пифагора. Предположение это не лишено оснований, но доказано, разумеется, быть не может. Бесспорно, во всяком случае, лишь, что Цицерон всегда остро чувствовал особую атмосферу городов, зданий, местностей, отмеченных памятью о великих людях. Связь между великим прошлым и сегодняшним днем будила его собственную мысль и помогала откликнуться на те голоса, что доносились из исторического далека. Места и пейзажи, на фоне которых протекала жизнь великого человека, обладали в глазах Цицерона духовным смыслом, и в его описаниях можно расслышать ноты почти романтические.
То не было, правда, чисто платоническое наслаждение, и мысль его обращалась в подобных случаях все же больше к настоящему, чем к прошедшему. В начале V книги «О пределах добра и зла» Цицерон описывает свой разговор с попутчиками (к которым присоединился и Аттик) в рощах афинской Академии. Обращает на себя внимание, что все эти молодые римляне находятся под властью тех же впечатлений, что и сам автор. Квинт взволнован видом акрополя Колоны, где жил его любимый Софокл, Луций в восхищении от мест, где Демосфен укреплял свой голос, стараясь перекрыть шум морских волн, и испытывает чувство восторга при виде могилы Перикла. Цицерон, задумавшись, отходит в сторону и, глядя на экседру, где так часто сиживал Карнеад, воскрешает перед умственным взором облик этого героя Скептической Академии. Аттик, разумеется, избирает местом своих раздумий «сад» Эпикура. Нам нелегко представить себе римлян в столь сентиментальной ситуации, однако здесь они сами расспрашивают друг друга о своих чувствах, и Пизон, выражающий в этой части диалога мнение Цицерона, поясняет, что стремление увидеть достопримечательные места, связанные с людьми, особенно чтимыми, вызвано не пустым любопытством: каждый из юных путников стремится узнать сколь возможно больше о великом человеке, особенно ему близком, дабы принять его за образец поведения и жизни. Рассуждение это важно еще и с той точки зрения, что раскрывает, как рассматривали римляне познание. Для них, да и для очень многих греков оно не предполагало исключительно или даже преимущественно накопление знаний, а состояло в обнаружении образца для подражания. Познание было формой жизни, оно проникало человека целиком и потому не могло исчерпываться лишь содержанием памяти.
Так они жили, Цицерон и его спутники, на протяжении долгих месяцев, осененные воспоминаниями о великих людях, чьи образы господствовали в ту пору в духовной жизни Афин. Они прибыли в столицу Аттики, по всей вероятности, летом 79 года, и там же застала их смерть Суллы в марте 78-го.
Некогда Цицерон с жадностью слушал в Риме лекции Антиоха Аскалонского и, прибыв в Афины, прежде всего отправился разыскивать своего бывшего учителя. Пупий Пизон одобрял его, поскольку сам принадлежал к ученикам Антиоха, стоявшего в те годы во главе Академии и полагавшего вернуть школу к учению ее основателя Платона.
Для Цицерона и Пизона Платон — «Бог», живой источник всякой философии. Они отдают себе отчет, однако, что именно в силу своей глубины и мощи мысль Платона допускает различные пути дальнейшего развития. Сама Академия, разрабатывая некоторые стороны учения Платона, пошла по пути пробабилизма, чтобы не сказать скептицизма, и отрицала вообще возможность научного, то есть основанного на разуме, познания. Эта теория была наиболее последовательно развита Карнеадом в середине
II века до н. э., и в тот период, когда Цицерон слушал Филона из Лариссы, он целиком подпал под ее обаяние. Антиох не был до конца солидарен с этим направлением, которое рассматривал как отклонение от подлинного, изначального платонизма. Он полагал, что обнаружил в мьтсли Платона основы истинного догматизма, и называл свою школу Старой Академией в противоположность Новой Академии Карнеада и Филона. Он доказывал, что к Платону восходят два учения, каждое из которых признает возможность познания, то есть способности человеческого разума воспринимать и перерабатывать данные чувств, объективно и точно отражающих реальность. Одно из этих учений принадлежало Аристотелю, другое — стоикам. Антиох же взялся за разработку доктрины, созданной им самим и соединявшей некоторые элементы изначального платонизма с элементами философии обеих школ, из него вышедших.
Следующий пример поможет понять, что представлял собой подобный синтез. Центральным пунктом любой философии той эпохи было понятие Высшего Блага, Абсолютного Блага, которое составляло завершение и высшую точку бытия. Для стоиков таким Высшим Благом была «честность» — поступок, характеризовавшийся как нравственно «прямой» и «прекрасный» (римляне обозначали его словом honestum, которое по своему полю значений характерным образом связывалось для них с семантическим кругом «славы»). Отсюда следовало, что Мудрец, то есть человек, развивший у себя способность к прямоте поведения, тем самым обретает и совершенное блаженство даже среди всякого рода бед и несчастий. Нищий и больной., он тем не менее с полным основанием вызывает зависть. Напротив того, Аристотель, стоявший ближе к обыденному сознанию, видел, разумеется, в нравственности составную часть Блага, но при этом полагал, что блаженство может быть достигнуто лишь там, где к нравственному совершенству присоединяются блага, даруемые Судьбой: если не красота, то по крайней мере здоровье, состояние, избавляющее от нищеты, и принадлежность к числу граждан города, хорошо устроенного, пользующегося славой и уважением остальных эллинов. Между двумя учениями, таким образом, существовало вполне очевидное различие: для стоиков Мудрец независим от Судьбы и не нуждается ни в каких внешних благах, для перипатетиков же внутреннее совершенство было лишь составной частью и проявлением упорядоченности общественного целого, так что счастье человека зависело не от него одного. Дабы сделать свое учение более приемлемым для обычного человека, руководствующегося простым здравым смыслом, стоики ввели в свое понимание Высшего Блага смягчающие моменты. «Мнимые блага» (здоровье, богатство, слава и т. д.) согласно внесенным уточнениям не блага в собственном смысле слова, но составляют категорию «предпочитаемого» и «приятного» — ими, конечно, желательно обладать, но отсутствие их не должно делать человека несчастным.
Антиох, чья доктрина изложена в V книге «О пределах добра и зла», указывал, что стоики в собственной жизни не способны полностью соответствовать своему определению Высшего Блага, покоящегося на одной лишь нравственности, и для видимости доказательства прибегают к словесным уловкам, называя лишь «предпочитаемым» то, что для всех нормальных людей составляет бесспорно один из видов блага. Отсюда он делал вывод, согласно которому наилучшее учение должно основываться на трудах Аристотеля, поскольку он рассматривает человека в его реальной цельности, в единстве души и тела и тем самым дает ему возможность полностью рос-крыть все задатки и таланты, заложенные природой. Цицерон за Антиохом не последовал, но беседы с ним не прошли для него даром. Они укрепили его в мысли, что стоицизм может быть важен и может играть свою роль не только в тех крайних обстоятельствах, о которых говорили ученики и последователи Зенона.
Антиох, кроме того, познакомил слушателей с течениями послесократической философии, которые, начиная с IV века до н. э., множились с поразительной быстротой. Цицерон научился рассматривать эти философские учения в их единстве и историческом становлении, поскольку Антиох обращал особое внимание на филиацию идей, на переходы, соединяющие одну школу с другой, и цель его во всех случаях состояла в выявлении внутренних, внешне неочевидных связей. Слушатели его приучались видеть общее в самых разных учениях и устанавливать гармонию между ними. Так возник или, во всяком случае, так развился пресловутый эклектизм Цицерона, который никогда не был результатом смешения разнородных философских направлений или торопливых и приблизительных их оценок, а был направлен на обнаружение глубинных связей между ними. Может быть, в этом и состояло наиболее ценное, что воспринял Цицерон от Антиоха, — методу, здесь описанному, он следовал всю жизнь.
Так или иначе, начиная с этого времени, Цицерон поверил вслед за Платоном, в чьих диалогах идеи служат как бы введением в мир мифа, что высшие истины не достигаются одной лишь силой рассудка — поверил и стал искать истину если не в откровении, то на пути обнаружения и толкования символов. Следуя этим путем, он приобщился к Элевсинским мистериям. Может быть, тут сыграла роль просто мода: многие римляне, попадая в Афины, старались стать мистагогами Деметры (тем более что, если период инициации уже завершился, они всегда могли потребовать, чтобы церемонию провели специально для них!). Может быть, некоторый свет на причины, по которым Цицерон приобщился этих таинств, проливает поведение Аттика. Он тоже прошел инициацию в Элевсине, невзирая на свои эпикурейские убеждения, согласно которым человеческая душа никогда и ни в каком случае не может обрести бессмертие. Для эпикурейца богопознание не было проявлением пустого любопытства; оно приучало душу к высшей безмятежности, позволяло созерцать величие и блаженство богов и приготовляло ее тем самым к восхождению на высоты мудрости. Мифы, учили эпикурейцы, нельзя понимать как рассказы о реальных событиях. Так, Деметра никогда не вручала Триптолему семена злаков, дабы он научил людей их выращивать;
она никогда не скиталась по миру при свете факелов в поисках похитителя своей дочери, дочь ее вовсе не разделяет ложе Гадеса в Аиде. Мифы эти, как и некоторые другие, связанные с культом Деметры, содержат истину другого, более духовного порядка. Они показывают, как с познанием земледелия люди оставили бродячую, исполненную насилия жизнь диких пастухов, как перешли к оседлой жизни земледельцев, тем заложив основы государственности и твердых законов. Деметра, таким образом, не просто богиня плодородия; она создала уклад существования, позволяющий людям обретать внутреннее спокойствие и безмятежность, которую эпикурейцы называли атараксией и в которой для них заключалось Высшее Благо.
Для Аттика скорее всего значение Элевсинских мистерий этим и ограничивалось. Цицерон шел дальше и принимал также мистические учения, в них содержавшиеся. Похвальное слово этим мистериям содержится в начале II книги трактата «О законах». Сначала Цицерон говорит здесь о том, как эти таинства открывают путь к счастливой жизни, но затем прибавляет, что они, кроме того, учат нас «и в самой смерти не терять добрую надежду». Цицерон, следовательно, верит в то, что жизнь продолжается и после смерти, выражая, впрочем, не столько твердую уверенность, сколько надежду. Скорее всего здесь продолжено рассуждение, содержащееся в Платоновом «Федоне», где Сократ приводит доводы в пользу бессмертия души; ни один из них, говорит Платон, не убеждает полностью, но в совокупности своей они внушают «добрую надежду». Совпадение формулировок у Цлатона и Цицерона, без сомнения, говорит и о совпадении мысли. Со времени первого пребывания в Афинах определяется известная склонность Цицерона к мистицизму и открытость такого рода влияниям, его способность черпать в них вдохновение для творчества. Он вспомнил об этом источнике своей духовной жизни много лет спустя, работая над «Тускуланскими беседами», но тот же источник можно обнаружить и раньше — в мифе, завершающем трактат «О государстве». Нет ничего удивительного в том, что Цицерон — поэт, столь чуткий к красоте словесного выражения мысли, оратор, умевший словом подчинять себе души слушателей, не остался навсегда во власти скептицизма Новой Академии и сумел выйти за те пределы, где господствует безраздельно разум.
Итак, в марте 78 года, когда умер Сулла, Цицерон находился в Афинах и уже в течение шести месяцев слушал Антиоха. Антиох и призвал его расстаться с отрочеством и вступить на «дорогу почестей». Подобный совет естественно вытекал из философии, которую исповедовал Антиох, верный и в этом случае учению Аристотеля и политическим традициям Афин, где считалось, чго люди выдающихся способностей обязаны служить ими родному городу. Наградой им была слава.
Цицерон, однако, отправился в Рим не сразу и не прямо. Мотивы его разгадать нетрудно: до достижения возраста, позволявшего добиваться квестуры, оставался еще примерно год. Мы не знаем, в это время или раньше Цицерон посетил Спарту. Он не мог противостоять искушению повидать город, который на протяжении веков обладал для римлян странным обаянием и «словно марево в пустыне» постоянно притягивал их взоры. В «Тускуланских беседах» разбросано несколько замечаний, из которых явствует, что Цицерон в Спарте был и выразил восхищение — несколько сдержанное и нигде не переходящее в подлинное одобрение — теми испытаниями, что полагалось проходить юным лакедемонянам. Они должны были молча перенести боль и муки перед алтарем Артемиды и драться друг с другом «кулаками, ногами, ногтями, наконец, зубами, готовые скорее умереть, чем признать себя побежденными». На взгляд Цицерона, все это явно отдавало неумеренным тщеславием и архаическим варварством — неслучайно в связи со спартанскими обычаями он вспоминает о ритуальном убийстве вдов у индусов. В Пелопоннесе он встречался также с коринфянами, жившими в изгнании все семьдесят лет, прошедших со времени разрушения их города. Их не так уж много, замечает Цицерон, душевные раны их зарубцевались, и они мало чем отличаются от других эллинов. Повидав этих стариков изгнанников, постоянно погруженных в мелкие заботы повседневной жизни, Цицерон, по-видимому, еще на пути в Афины посетил развалины их города. «Внезапно вставшие перед моим взором руины Коринфа, — замечает он, — произвели на меня большее впечатление, чем на самих коринфян». Город Коринф был разрушен за 60 лет до того римской армией, и римский полководец допустил его разрушение. Это вызывает у Цицерона нечто вроде угрызений совести. Не один Цицерон, по-видимому, испытывал подобное чувство: несколькими годами позже римский сенат решил восстановить
Коринф и, насколько возможно, вернуть ему былое процветание. Следовательно, не все в Риме были так уж горды победами своего государства, некоторые все же стремились залечить раны, этим государством нанесенные.
Цицерон и его спутники покинули наконец Афины, но и на этот раз направились не в Италию, а еще дальше на Восток: подлинных наставников красноречия можно было встретить не в Афинах, где Цицерон слушал из риторов лишь некоего Деметрия, сирийца родом, о котором, кроме этого, мы ровно ничего не знаем, а в провинции Азии и в первую очередь на Родосе.
Путешественники начали с Малой Азии. В «Речи в защиту Клуенция» содержится упоминание о том, что Цицерон присутствовал на судебном процессе в Милете: женщина, повинная в вытравлении плода с целью передать право наследования родственникам по боковой пинии, была здесь приговорена к смертной казни. Побывал он и в Смирне, где встретился с Публием Рутилием Руфом, жившим в ту пору в этом городе изгнанником вследствие процесса, подстроенного откупщиками, чью алчность он как наместник тщетно пытался обуздать. Осужденный трибуналом, состоявшим из одних всадников, он удалился в ту самую провинцию, которую пытался защитить, и был встречен здесь жителями весьма дружественно. Сулла предложил ему вернуться в Рим, но Рутилий отказался, подчеркивая тем самым свою преданность законности: несмотря на явную несправедливость обвинения, он не захотел облегчить свою участь, опираясь на поддержку человека, которого считал тираном. Решение было им принято явно не без воспоминаний о Сократе. Рутилий был стоиком, и уважение к законам, пусть неправедным, считалось у философов этой школы качеством непреложным.
О беседах молодого Цицерона с Рутилием в Смирне мы кое-что знаем. Рутилий, который некогда был близок с Сципионом Эмилианом, с Лелием, со всеми почти выдающимися людьми его поколения, делился воспоминаниями о своем времени, и одно из этих воспоминаний весьма примечательно. Речь шла об уголовном деле — о резне, случившейся в Сильском лесу, в которой обвинили компанию публиканов, взявших в этих местах на откуп поставки смолы. Откупщиков защищал Лелий, рассказывал Рутилий, говоривший, как всегда, точно и красиво, но тем не менее не сумевший убедить судей.
Заседание созвали наново, Лелий произнес еще одну защитительную речь, но судьи по-прежнему оставались в нерешительности. Тогда Лелий посоветовал своим подзащитным обратиться к Сервию Сульпицию Гальбе и поручить отстаивать их интересы. Гальба был горячим оратором; в тот день он превзошел самого себя, «он говорил так напористо, с такой силой убеждения, что едва он завершал очередную часть своей речи, раздавался гром аплодисментов»; он взывал к жалости, испускал вопли отчаяния — и добился оправдания откупщиков. Несложно понять, по каким причинам Рутилий стал делиться с Цицероном этими воспоминаниями. Цицерон, как мы уже знаем, много размышлял о различных видах ораторского искусства; рассказ Рутилия сводился к тому, что в своей защитительной речи он отказался от всякого пафоса, — и потерпел поражение, живое же и страстное красноречие его соперника оказалось убедительным. Между этими двумя видами красноречия Цицерону предстояло сделать выбор.
Позже в диалоге «О государстве» Цицерон рассказывал, что несколько дней, проведенных им в Смирне, прошли в постоянном общении с Рутилием. В ходе рассказа он, хотя ему было в то время без малого тридцать лет, называет себя adulescentulus: по-видимому, как показывает само это слово, годы, проведенные на Востоке, он считал «годами учения», «годами поисков», когда разум его и дух еще только формировались под самыми разными воздействиями.
На Восток Цицерон приехал в поисках идеального красноречия, соединяющего в себе красоту и истину. В Афинах он слушал главным образом философов, ясно отдавая себе отчет в том, какое значение имела философия для становления мастера красноречия. В «Ораторе» он напишет: «Признаюсь, что если я действительно оратор, то стал им не
История сохранила имена риторов, которых он посетил. То были Дпонисий из Магнесии, Эсхил из Книда, Ксенокл из Адрамита. Каждый из них занимал высокое положение в своем городе, но мы тем не менее знаем о них очень мало и должны опираться на разрозненное свидетельства самого Цицерона. Все эти риторы занимались красноречием, которое принято называть «азианийским». Стиль этот определен в «Бруте». Существует, говорит Цицерон, две разновидности азианийского стиля. В одних случаях для него характерны краткие стремительные фразы, в которых изящество выражения и гармония звуков важнее смысла. В других — главное требование азианизма состоит в том, чтобы слова неслись бурным потоком, но при сохранении изящества и даже некоторой утонченности в их выборе. Гортензий, по словам Цитрона, в молодости умел сочетать эти два регистра азианийского красноречия, чем вызывал восхищение молодежи и иронию или даже раздражение людей более зрелых. В целом Цицерон находит эту манеру речи чрезмерно легкомысленной и мало подходящей для оратора в расцвете лет, выступающего в серьезных процессах: можно предположить, что она, на его взгляд, к тому же плохо сочеталась с серьезной важностью, столь обязательной для римлянина.
Вот так, сопоставляя сухость аттического красноречия с азианийской пышностью, подводя итоги занятиям в Афинах, которые отточили и углубили его мысль, но носили уж очень односторонний, чисто философский характер, Цицерон добрался до последнего пункта своего путешествия — острова Родоса. Жители острова составляли гражданскую общину, которая никогда не знала царской власти и сумела выстоять во время осады города Деметрием Полиоркетом. Родосцы издавна поддерживали с Римом налаженные дипломатические отношения и то спокойно подчинялись политике сената, то позволяли себе пофрондерствовать. Мы уже знакомы с двумя посланцами родосцев — Посидонием и Аполлонием Молоном, которые были отправлены в Рим, в первый раз — дабы развеять подозрения, вызванные слухами о якобы готовившемся сотрудничестве жителей острова с Митридатом, во второй раз — чтобы принять награду за помощь, оказанную ими римлянам во время войны с тем же Мптридатом. В начале 77 года Цицерон прибыл на Родос снова послушать Молона и, по его словам, присутствовал при выступлениях маститого оратора на вполне реальных судебных процессах, читал
У Плутарха сохранился рассказ о первом занятии, на котором Цицерон выступил перед Молоном с речью по-гречески. Наставник выслушал молодого человека молча. Когда тот кончил и все присутствующие, продолжает Плутарх, разразились рукоплесканиями, Молон долго еще хранил молчание и наконец сказал: «Тебя, Цицерон, я хвалю и твоим искусством восхищаюсь, но больно мне за Грецию, когда вижу, как единственные наши преимущества и последняя гордость — образованность и красноречие — по твоей вине тоже уходят к римлянам». Может быть, в этих словах родосца, друга Рима, и содержалась некоторая доля преувеличения и лести, но не подлежит сомнению, что уже в это время поразительный талант Цицерона обнаружился полностью. Сам он считал, правда, что еще далек от совершенства, и был благодарен Молону за замечания, предупреждавшие недостатки. Молон сумел удержать красноречие юного римлянина в пределах хорошего вкуса и избавил его от склонности ко всякого рода излишествам. Это оказало к тому же благотворное влияние на здоровье Цицерона, который, как признает он сам, перестал отныне слишком напрягать голос и избавился от привычки к чрезмерной жестикуляции. В Рим Цицерон вернулся, излечившись от молодости.
В те же месяцы на Родосе находился Посидоний, и Цицерон еще раз присоединился к толпе его слушателей. Эта вторая встреча породила множество научных гипотез, связанных с содержанием так называемого «сна Сципиона» в диалоге «О государстве». Ныне, однако, большинство исследователей от них отказалось, и мало кто верит, будто образ Сципиона в этом диалоге внушен Посидонием, будто именно он сформировал основные стоические воззрения Цицерона и посвятил его в тайные учения о жизни в Аиде и о посмертном бытии душ. Для столь глубокого воздействия, впрочем, просто не могло хватить времени, поскольку встречи Посидония с Цицероном продолжались всего несколько недель; да и, кроме того, у Цицерона существовало множество других возможностей познакомиться с основными течениями современной ему философии. Пребывание в Афинах и шесть месяцев, проведенные с Антиохом Аскалонским, бесспорно дали ему много больше. Другое дело, что разговоры с Посидонием утвердили оратора в его взглядах на философию Платона, избавив его от рационалистического оптимизма правоверных стоиков, поскольку сегодня можно считать установленным, что в своем учении о душе Посидоний выдвигал на первый план роль иррациональных ее элементов. Подобные мысли имели для юного римлянина весьма существенное значение. Он понимал все яснее и яснее, что невозможно убедить никого и ни в чем с помощью одних лишь логических доказательств, что людей связует не только разум, но также самые разнообразные чувства и ощущения. Воззрение это складывалось у него издавна на основе поэтического творчества и, пусть кратковременного, опыта ораторских выступлений на форуме. Постоянная работа Цицерона над собой обнаруживала, высвобождала самые разные его задатки и склонности. В ближайшие годы им предстояло развернуться во всей полноте.
На основе сведений, содержащихся в сочинениях Цицерона, можно примерно установить дату его приезда из Азии. Между возвращением в столицу и квестурой, сообщает он, протек год. Поскольку нам известно, что Цицерон приступил к исполнению обязанностей квестора 5 декабря 76 года и что выборы обычно происходили в начале предшествующего лета, можно заключить, что он вернулся в Рим в конце весны 77 года. Пребывание в Греции, следовательно, длилось два полных года. Отречение Суллы от власти, а затем, несколько месяцев спустя, его смерть не принесли государству спокойствия, и возвращения к жизненному укладу, основанному на законности и праве, явно не произошло. Один из консулов 78 года, Марк Эмилий Лепид, который на первых порах, казалось, встал на сторону знати и сулланского режима, неожиданно предпринял попытку добиться личной власти. Он выступил на защиту жертв сулланского террора и наново разжег гражданские неурядицы, которые и без того бушевали в республике уже почти двадцать лет и давали о себе знать даже во время диктатуры Суллы. Лепид столкнулся, однако, с сопротивлением другого консула, Квинта Лутация Катула, сохранившего верность сенатской партии. Распря вскоре переросла в вооруженную схватку.
Сенат объявил Лепида врагом государства и направил против новоявленного марианца Помпея с ветеранами, готовыми следовать за своим молодым вождем куда угодно. Лепид укрепился в Этрурии, сумел привлечь на свою сторону местное население, ненавидевшее ветеранов Суллы, которые недавно получили земли в этих краях. Помпей двинулся в Цизальпинскую Галлию, стремясь зайти Лепиду в тыл. С противоположной стороны на Этрурию шли войска из Рима под командованием Лутация Катула. Лепид оказался принужденным бороться на два фронта, быстро понял бессмысленность сопротивления и в поисках спасения попытался добраться морем до Сардинии. Власть его таяла на глазах, от горя и отчаяния он заболел и умер в конце лета 77 года. Эпилог этой драмы, таким образом, разворачивался на глазах Цицерона. Самым поучительным в ней было то, что для подавления движения Лепида Помпей получил чрезвычайные полномочия. Складывалось отчетливое впечатление, что следовавшие один за другим политические кризисы принимали все более революционный характер, и подавить борьбу честолюбий обычные магистраты оказывались уже не в состоянии.
Восстание Лепида привело к новым опустошениям в Италии, и в какой-то момент казалось, что и Рим будет снова захвачен силой оружия. Разгром Лепида избавил граждан от этого страха. Однако мир в государстве никак не водворялся. Борьба между марианцами и сулланскими магистратами продолжалась в Испании, где как раз в то же лето 77 года достигло высшего расцвета своеобразное римское царство, созданное Серторием, всадником, происходившим из городка Нурсии в италийской области Умбрии. В 83 году марианцы назначили его наместником Ближней Испании, откуда проконсул-сулланец его изгнал. К весне 81 года Серторий добрался до Тингитанской Мавритании в районе современного Танжера и основал там собственное небольшое царство. Уже в следующем году, однако, Серторий вернулся в Испанию, высадился в Бело (неподалеку от современного Альхесираса) и мало-помалу распространил свою власть на большую часть полуострова. Цецилий Метелл Пий, посланный против него сенатом в 79 году, не смог с ним справиться и двумя годами позже. После того, как удалось подавить восстание Лепида, сенат направил против Сертория все того же Помпея. Даже не заезжая в Рим, Помпей тотчас двинулся за Пиренеи и начал беспощадную войну на истребление, которая закончилась лишь со смертью Сертория, убитого одним из приближенных в начале 72 года. Еще год понадобился Помпею на замирение испанских провинций, и в 71 году он наконец после шестилетнего отсутствия появился в Риме. Именно в это время Цицерон начинал свою политическую карьеру. Цель, которую он перед собой ставил, была ясна: отстаивать законы, хранить государственные установления, призванные как в мирное, так и в военное время обеспечивать спокойствие Риму и его союзникам.
Характеризуя в «Бруте» свою деятельность в 77— 76 годах, Цицерон упоминает, что выступал в ту пору в процессах, «ставших знаменитыми». К сожалению, он их не называет, и историки испытывают немалые затруднения, стараясь определить более точно, что это за процессы. Не исключено, что речь «В защиту актера Росция», значительные фрагменты которой сохранились до наших дней, была произнесена на одном из процессов этой поры, но такая ее датировка признается далеко не всеми биографами Цицерона; она тем не менее весьма вероятна, как на то указывают некоторые детали, уже привлекавшие внимание историков. Примечательна, например, фраза, где Цицерон говорит о своей adulescentia и противопоставляет собственную молодость солидному возрасту двух других лиц, тут же названных им по имени. Мы уже говорили, что немного раньше он называл себя adulescentulus и что подобное слово неприложимо к человеку, занимавшему уже хотя бы одну магистратуру. Есть и еще одна подробность, реже вызывавшая интерес, хотя она приводит к сходным заключениям: в тяжбе речь идет о земельном владении, которое в момент передачи его Росцию было обесценено, но затем за три года восстановилось в прежней стоимости и даже превзошло ее. Если стоимость владения так упала, утверждает Цицерон, то лишь потому, что в окрестностях происходили сильные волнения. Владение находилось в Этрурии, и под «волнениями», следовательно, подразумевается мятеж Лепида 78 года; если волнения улеглись тремя годами позже, значит, речь была произнесена в 76 году — именно к этому году Цицерон и относит свои выступления в процессах, «ставших знаменитыми».
Смысл процесса состоял в следующем. У некоего Гая Фанния Хэреа был раб по имени Панург, который отличался актерскими способностями; хозяин отвел его к Росцию, чтобы тот наставил раба в своем искусстве. Панург стал актером — известным и хорошо оплачиваемым. Тогда Фанний и Росций решили нажиться на таланте Панурга и делить между собой прибыль от его выступлений. Однако при обстоятельствах, не совсем ясных, но скорее всего случайных, Панург был убит каким-то Флавием, жителем города Тарквиниев. Оба компаньона предъявили ему иск, требуя возмещения ущерба, причиненного им смертью Панурга. По-видимому, в итоге Фанний должен был получить сто тысяч сестерциев, а Росций — земельное владение, о котором мы упоминали выше. Насколько можно судить, непосредственное содержание процесса было связано с иском Фанния, считавшего, что Росций должен выплатить ему дополнительно еще и ту часть стоимости земли, которая превышала сто тысяч сестерциев. Сколько-нибудь определенно, однако, о процессе судить трудно — уж слишком много в сохранившемся тексте лакун.
Независимо от конкретного содержания тяжбы сама личность Росция, выступавшего как ответчик, делала процесс «знаменитым». Как уже говорилось, Цицерон познакомился с Росцием еще до отъезда в Азию; вполне естественно поэтому, что после возвращения молодого человека в Рим великий актер обратился к нему с просьбой защищать его интересы в тяжбе с Фаннием.
Вернувшись с Востока и готовясь к борьбе за квестуру, Цицерон скрепил свой союз с римской знатью, женившись на Теренции. Есть основания думать, что в это время он сближается и со вторым сословием — всадниками. Так, во всяком случае, можно заключить из одной фразы в речи против Верреса, произнесенной в 70 году, где он упоминает о своей близости со многими откупщиками и о судебных процессах, в которых выступал их адвокатом. Связи эти, заявляет Цицерон, «длительны». Значит, процессы, в которых он защищал интересы людей этого сословия, относились к 70-м годам, а по крайней мере некоторые из них — и ко времени, предшествовавшему квестуре, то есть к 77—76 годам. На этом основании принято заключать, что в 70-е годы Цицерон много выступал как судебный защитник в гражданских процессах, что в этот период он начинает зарабатывать большие деньги, а главное, создает себе опору в самых различных социальных слоях. Он предстает перед нами, однако, не как человек той или иной партии, не как очередная фигура в их политической игре; гораздо точнее будет сказать, что он объединял интересы трех социальных групп — богачей, людей, примыкавших к консервативной традиции и муниципальной знати. Подобным положением он был обязан своему таланту, происхождению, услугам, оказанным людям разных общественных слоев, а отныне и семейным связям. Цицерон полностью отдавал себе в этом отчет. В речи против Пизона, например, сравнивая себя со своим противником, аристократом, сделавшим карьеру лишь благодаря происхождению, он говорил: «Все мои магистратуры мне дал народ Рима — не за семью и не за предков, не за роскошный образ жизни или родовитость, о которой все знают, но которая в делах никак не проявляется, а лишь за то, каков я есть, и за заслуги, которые у всех на виду». В этих словах сквозит известное тщеславие, но заключена в них чистая правда: Цицерон был избран «среди первых» в квесторы на компциях 76 года именно как личность, как таковой; при этом сыграло свою роль не только положение, которого он до бился на форуме, а и популярность его среди граждан самых разных слоев, равно видевших в нем своего человека.
О чувствах, которые испытывал Цицерон в тот решающий момент своей карьеры, он рассказал на II сессии процесса против Верреса в пятой речи «О казнях». По его словам, он принял квестуру, как священную миссию, которой должен был пожертвовать всем; «стоял один, окруженный общим вниманием, как бы на сцене театра, где зрителями было все человечество!». Даже если сделать скидку на столь обычное в адвокатской речи преувеличение, вряд ли можно сомневаться, что эта первая магистратура оставила в душе Цицерона глубокий след. Он вступал в мир, о котором мечтал так долго; ему предстояло принять участие в управлении государством, располагать властью, пока еще ограниченной, но за которой в перспективе вырисовывалась и власть гораздо более значительная. Прежде всего он думал об обязанностях, которые магистратура на него возлагала — о невозможности впредь, подобно простым смертным, стремиться к любым жизненным благам, о необходимости жертвовать всем ради интересов государства. Эту преданность долгу Цицерон и впоследствии провозглашал и отстаивал при отправлении всех магистратур и особенно блистательно в пору наместничества в Киликии накануне гражданской войны. В основе такой линии поведения можно различить самые разные мотивы: безусловную честность, стремление в любых условиях действовать по праву и справедливости — свойство, порожденное скорее всего провинциальной и муниципальной традицией Арпина, где, как в Риме древнейшей поры, право считалось одной из самых высоких ценностей; ответственность перед собственной dignitas, то есть ясное сознание того, что может себе позволить и от чего обязан воздерживаться римский магистрат. Вот когда сказались наставления философов; в число главных добродетелей они неизменно помещали temperantia — самообладание, которое воспрещало не только «мудрецу», но и любому порядочному человеку неумеренно пользоваться властью. Гораздо позже, в трактате «Об обязанностях», Цицерон рассматривал эту «четвертую добродетель» как составную часть decus — пристойности, но подлинное ее значение он понял уже тогда, в свой квесторский год. Удовлетворение, пусть несколько тщеславное, которое он испытывал от положения квестора, укрепляло его в стремлении двигаться дальше, достичь всего, что предвещало это первое звание.
До пребывания на Востоке Цицерон немного поездил по Италии. Он бывал в Кампании, жил в Капуе, как раз когда там создавалась столь недолго просуществовавшая колония Брута, то есть в 83 году, и по дороге в Грецию посетил Сибарис; до Сицилии, правда, где ему суждено было в течение целого года выполнять свои обязанности магистрата, он, кажется, так и не добрался. Во время путешествия на Восток Цицерон познакомился с разными сторонами эллинского мира — и с его славным историческим прошлым, и с повседневной жизнью полисов, былая слава которых не могла полностью заслонить мелочность и нищету нынешнего существования. С чем-то сходным ему предстояло столкнуться в Сицилии. И здесь тоже земля изобиловала историческими воспоминаниями. Города потеряли счет сосредоточенным в них сокровищам греческого искусства — храмам, статуям, дворцам царей и тиранов; в частных домах громоздились драгоценности — чеканные канделябры, золотые и серебряные сосуды, столовые приборы, созданные утонченным вкусом, дабы еще более приманчивыми сделать блюда сиракузской кухни — в письме, дважды процитированном Цицероном, о них с осуждением вспоминал Платон.
Сицилия была древнейшей провинцией империи, первым краем за пределами Италийского полуострова, где управлять стали римские магистраты. Римское преобладание в Сицилии начало ощущаться с конца Первой Пунической войны, когда карфагенян удалось полностью изгнать с острова, римляне заняли западную его часть, а остальные земли разделили между греческими городами, располагавшимися по побережью. Вокруг Сиракуз сложилось отдельное царство, которым правил царь Гиерон II. На первых порах он выступил против римлян, затем перешел на их сторону и оказал значительную помощь в борьбе с Карфагеном; не поколебалась его верность Риму и с началом Второй Пунической войны. В 216 году Гиерон II умер, внук его Гиероним, рассчитывая на победу карфагенян, перекинулся к ним, но вскоре стал жертвой заговора и был убит. Заговорщики уничтожили царскую тиранию. Город, однако, не смог обрести политическое равновесие и погрузился в анархию. Римляне вскоре оправились от поражений, понесенных в начале войны, начали сопротивляться Ганнибалу все более решительно и, перейдя на Сицилии в наступление, осадили Сиракузы. Осада длилась с 214 по 211 год и была очень трудной, в первую очередь, как говорят, благодаря изобретениям Архимеда, который придумал боевые машины, мешавшие нападающим взять город.. Но Архимед был убит римским воином, принявшим его за одного из рядовых участников обороны, и горько оплакан римским командующим Марком Клавдием Марцеллом; в ходе жестоких боев силы карфагенян, расположенные в западной части острова, таяли, пока предательство одного из ливийских вождей на службе карфагенян, выдавшего римлянам Агригент, не положило конец войне; Тит Ливий сохранил для нас имя этого вождя — Муттинес. Агригент был последним значительным укреплением пунийцев на Сицилии; за короткое время вся территория острова оказалась занята римлянами и обращена в провинцию. На заключительном этапе кампанию вел консул Марк Валерий Левин, сменивший Марцелла, и все труды по организации провинции выпали на его долю. Имя Марцелла, однако, сицилийцы продолжали чтить и в дальнейшем, а жители Сиракуз объявили его вторым основателем своего города. То был не только внешний знак уважения. В греческих городах основатель, подлинный или мифический, имел свой культ и рассматривался если не как бог, то, во всяком случае, как герой в специфически эллинском смысле слова. В то же время сиракузяне вполне на римский лад признали себя клиентами Марцелла и его потомков, что как бы освящало правовую и моральную их зависимость от победителя города. Безоговорочное подчинение побежденного победителю заменялось зависимостью клиента от патрона, которая воспроизводила модель отношений между отцом и членами семьи в Риме древнейшей поры.
История подчинения Сицилии Риму во многом объясняет отношение к сицилийцам и римского сената, и Цицерона. С одной стороны, Сиракузы рассматривались как главный город острова и его историческая столица: здесь было царство Гиерона, римляне считали себя его преемниками, а провинцию — расширенным Сиракузским царством. С другой стороны, жители острова как клиенты римского полководца имели право рассчитывать на покровительство управляющих островом римских магистратов. Создавая провинцию, подчеркивает Цицерон, Левин сохранил в большинстве городов их прежние законы на том основании, что после перехода Муттинеса на сторону римлян большинство сицилийских городов сдались победителям по доброй воле. Лишь шесть городов пришлось брать силой, но и здесь земельные их владения, первоначально конфискованные и обращенные в ager publicus, то есть в собственность римского народа, были им вскоре возвращены. Цицерон отмечает также, что налоги, взимавшиеся в виде поставок зерна, продолжал и после завоевания регулироваться законом, принятым в свое время Гиероном. Римский народ выступал, следовательно, как подлинный преемник царя, а магистрат, управляющий провинцией в ранге претора или пропретора, жил, подобно ему, в Сиракузах и видел свою главную задачу в том, чтобы проводить в жизнь Гиеронов закон о поставках зерна, соблюдать законность, поддерживать порядок и охранять независимость городов.
Кроме того, со времен самое позднее Второй Пунической войны сицилийцы и римляне уверовали в свое родство. Жители города Сегеста (в глубине острова, на юго-запад от Палермо) припомнили, что их поселение основал троянский герой Эней. Храм родительницы его Афродиты-Венеры возвышался над морем неподалеку от Сегеста на горе Эрике в тех местах, где у Эгатских островов еще во время первой войны с Карфагеном консул Дуиллий впервые одержал победу над пунийским флотом, и в 217 году, в самые тяжелые времена Второй Пунической войны, римляне ввели культ этой богини у себя в столице. Наконец, Сентурип, лежавший на равнине, что тянулась от подножия Этны на запад, считал себя «родным» Ланувию — городу, как бы вышедшему из эпической легенды, древней столице Лация, где любознательным показывали могилу Энея. В доказательство родства обоих городов там же, в Ланувии, демонстрировали надпись на дорийском диалекте, которая датируется началом II века до н. э. и содержит упоминание о посольстве, отправленном гражданами Сентурипа к гражданам Ланувия. Отношения между Сицилией и Римом определились в результате покорения острова, но опирались они на связи сакрального характера, восходившие к незапамятным временам.
В ходе Первой Пунической войны Гиерон II оказал Риму значительную помощь поставками зерна. Зерно сицилийцы производили в изобилии, оно составляло основное богатство острова — недаром здесь так распространен был культ Деметры и дочери ее Коры. Смысл упоминавшегося выше Гиеронова закона состоял в том, чтобы определять, какая часть урожая должна поставляться в виде налога, а какая продаваться — в основном тем же римлянам; в Сицилию назначались также два квестора, которые состояли при преторе и следили за выполнением закона. Обязанности Цицерона, отправленного в Лилибей (возле нынешней Марсалы, у подножия горы Эрике), соответственно состояли в том, чтобы взимать десятинный налог, устанавливать цену, по которой римское государство покупало зерно у поставщиков в дополнение к десятине, обеспечивать его хранение, а йотом и перевозку — короче, от деловитости и бдительности квестора в значительной мере зависело снабжение Рима хлебом. В речи «В защиту Планция» Цицерон рассказывает, как он отправил в город особенно значительное количество зерна, когда в нем ощущалась нехватка, и тем сумел снизить в Риме цены на хлеб.
Сицилийское зерно и в самом деле имело для Рима исключительное значение как в мирные годы, так и во время войны, и главная заслуга Левина, первого наместника Сицилии, состояла как раз в том, что он обеспечил бесперебойное поступление его в столицу. От труда сицилийских землепашцев зависело, быть Риму сытым пли голодным: когда в 210 году воюющие армии карфагенян и римлян полностью опустошили остров, сенату не осталось ничего другого, как просить о продаже зерна царя Египта Птолемея. Неудивительно поэтому, что в своем отчете сенату за тот год Левин хоть и ставил себе в заслугу освобождение острова от карфагенян, но все же главным своим делом считал возвращение домой тех сицилийцев, которые долгое время принуждены были жить в изгнании и которые ныне получили возможность приступить к возделыванию новых земель, дотоле целинных и бросовых. Со времен Левина римские наместники неизменно проводили на острове ту же политику покровительства земледельцам и поощрения производства зерна.
В этих условиях Сицилия па протяжении более шестидесяти лет жила в мире и процветала. Множились ее торговые связи с эллинским Востоком, куда сицилийцы вывозили хлеб, получая в обмен от греческих полисов (главным образом с Родоса) вино и рабов, Сиракузы по-прежнему оставались частью эллинского мира, с которым их связывала не только торговля, но и культура. На острове развивалась своя грекоязычная литература. Здесь Феокрит воспроизвел в прекрасных стихах, и тем прославил, простые песни сицилийских пастухов, а Тимей из Тавромения (ныне Таормина) создавал свою «Историю», в которой едва ли не первым из греков упомянул Рим. Цицерон дважды цитирует Тимея в «Бруте»; перед отъездом на Сицилию он, по-видимому, прочел сочинение сиракузского историка, пользовавшееся с середины III века широкой популярностью. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что именно по книге Тимея он знакомился с историей сицилийских полисов и в первую очередь Сиракуз — историей, весьма занимательной для каждого, кто интересуется политикой.
Об особом интересе Цицерона к истории Сицилии говорит ряд мест в его речах и трактатах. В верринах он рассказывает, как посещал храм Афины в Сиракузах, где видел изображения «царей и тиранов Сицилии». Мы знаем, как любил Цицерон создавать живые образы известных исторических деятелей, дабы сохранить и сделать более яркой память о них. В трактате «О государстве» также приведено свидетельство Тимея о тираническом правлении Дионисия Старшего, где сказано, что Сиракузы — «самый большой из греческих городов и самый прекрасный из них». Однако ни величественная цитадель города, ни его гавани, тянущиеся по берегам осененного Акрополем залива, ни портики, храмы и стены так и не стали городом — подлинной гражданской общиной, ибо ничто здесь не принадлежало гражданам, но сами они были собственностью одного человека. Позже, около 55 года, Цицерон познакомился с сочинением сиракузского историка Филиста, где много и подробно рассказывалось о Дионисии, и с тех пор, говоря о тиранах и тирании, неоднократно приводил в качестве примера этого правителя. В более ранних сочинениях, в частности, в речах против Верреса, Цицерон часто упоминает имя еще одного властителя Сиракуз, неизменно сопровождая его, напротив того, хвалебными эпитетами и положительными оценками — имя Гиерона II. Гиерон «весьма любим своими подданными»; он — мудрый правитель, распространивший в своем царстве искусство земледелия, а знаменитый закон его — «благой закон»; римляне поступили правильно, сохранив его в силе. Цицерон нигде не называет Гиерона тираном и рассматривает его в ряду «хороших царей» наравне с первым из них — Киром. Титул царя, которым Цицерон постоянно пользуется, говоря о Гиероне, звучит почти сакрально: ведь не случайно, прибавляет Цицерон, царь — одно из обозначений Юпитера Сильнейшего и Величайшего. Любопытно отметить, что Гиерон назван Зевсом Спасителем и в сохранившейся сицилийской надписи, выбитой на одном маленьком алтаре. В Сицилии Цицерон вообще впервые познакомился с эллинистической монархией и не без некоторого удивления и даже смущения обнаружил, что монархия может быть хорошим государственным устройством. Позже в диалоге «О государстве», упоминая в хвалебных тонах о «добрых царях» и о Гиероне, он все же оговорится: монархический строй не может быть одобрен, ибо он отдает всецело в распоряжение одного человека то, что по природе своей является общим достоянием граждан — res publica. В речах против Верреса это ограничение еще четко не формулируется: в деятельности Гиерона все, с чем Цицерон познакомился в Сицилии, кажется ему заслуживающим одобрения.
Нередко всплывал в сознании Цицерона образ и другого великого сицилийца — Архимеда, в котором он видел и ценил прежде всего астронома, а не создателя боевых машин. Он знал сконструированную Архимедом модель небесной сферы, может быть, видел ее в Риме, а, судя по одному месту в трактате «О государстве», по-видимому, даже пользовался ею при переводе «Феноменов» Арата. Приехав в Сиракузы, Цицерон стал разыскивать гробницу великого естествоиспытателя. В одном из отступлений в V книге «Тускуланских бесед» он подробно рассказывает, как ему удалось обнаружить ее в предместье города. Тон рассказа выдает, насколько дорого автору это воспоминание молодости. До начала поисков Цицерон долго выяснял, как выглядит гробница, узнал, что она украшена сферой и цилиндром, напоминавшими о задаче, решенной Архимедом и состоявшей в том, чтобы вписать цилиндр в сферу. В один прекрасный день, сопровождаемый несколькими членами городского управления, Цицерон вышел из города через Агригентские ворота и вознамерился было осматривать все гробницы по обеим сторонам дороги подряд, как вдруг взгляд его остановился на верхушке памятника, торчавшей над колючими придорожными кустами: небольшую колонну венчали изображения цилиндра и сферы! По его просьбе были вызваны рабочие; садовыми ножами они срезали скрывавшие могилу кусты и ветви, пока на камне, изъеденном временем (со смерти Архимеда прошло сто тридцать семь лет), не предстала стихотворная эпитафия, которая неопровержимо доказывала, что под обнаруженным памятником действительно покоился прах великого физика и математика. Так, заключает Цицерон, «самый славный город Греции, а некогда и самый ученый, навсегда остался бы в неведении гробницы, скрывавшей останки глубокомысленнейшего из его граждан, если бы ее не отыскал человек из Арпина». «Человек из Арпина», обозначивший себя столь скромным образом, не без удовольствия преподал этот урок гражданам Сиракуз, которые, на его взгляд, утратили немалую часть своей былой учености. Может быть, в этот момент вспомнились ему и слова, недавно сказанные Молоном: последняя гордость Греции — образованность и любовь к искусствам — казалось, в самом деле уходила к римлянам.
Мир в провинции и процветание ее жителей были нарушены двумя восстаниями, которые подняли, правда, не сами сицилийцы (по крайней мере, не именитые граждане, стоявшие во главе городов), а рабы и, кажется, примкнувшие к ним свободнорожденные, жившие работой по найму. Первое восстание началось в 135 году (или, может быть, чуть ранее) под руководством раба-сирийца родом из Апамеи по имени Евн. Оно было подавлено лишь к 132 году после подлинной войны, которую пришлось вести против мятежников консулу Публию Рупилию. Тридцатью годами позже, в 103 году, разразилось новое восстание, руководимое неким Сальвием, рабом италийского происхождения, стяжавшим известность как прорицатель; он принял царское имя Трифона и сам возложил на себя царскую диадему. Почти одновременно вспыхнул и другой очаг гражданской войны, разожженный сицилийцем по имени Атенион в землях, принадлежавших городу Сегесту. Лишь консулу 101 года Манию Аквилию удалось замирить этот край после того, как он победил Атениона в бою один на один, в ходе которого раб нанес ему глубокую рану в голову. Однако и после этого долго еще приходилось подавлять то тут, то гам возникавшие центры сопротивления римлянам. В интересах безопасности Маний Аквилий счел нужным на будущее запретить рабам владеть каким бы то ни было оружием.
Относительно причин этих восстаний мнения историков расходятся. Античные авторы возлагали ответственность за них на крупных землевладельцев, которые, по их словам, допускали скопление в горах множества рабов, пасших их стада. Мнение это, как представляется, подлежит уточнению. Вполне возможно, что рабы, которые использовались в качестве пастухов и вели полукочевой образ жизни, действительно сыграли роль зачинщиков восстания. Недаром римские магистраты в Сицилии неоднократно старались ограничить земли, занятые под пастбища, и всячески поощрять земледелие. Меры эти, однако, не устраняли опасность, связанную со значительным ростом общего числа рабов на острове, особенно во второй половине II века. То были в основном выходцы с Востока, обычно свободнорожденные, захваченные пиратами в Малой Азии и проданные в рабство, люди, постоянно испытывавшие отчаяние и ярость из-за столь внезапного изменения своей судьбы. Большая их часть прошла в юности подготовку к военной службе и составляла постоянную угрозу для городов, где они отныне принуждены были жить. По всем указанным причинам Сицилия в ту пору, когда Цицерон прибыл на остров, представляла собой для квестора весьма нелегкую провинцию. Сицилийцы, правда, не дали втянуть себя в Союзническою войну, что весьма показательно: в отличие от марсов и других народностей Италии они, по-видимому, не чувствовали себя угнетенными Римом и не требовали свободы, которой, в сущности, никогда и не знали. Ни о каком «национальном» движении здесь не возникало и речи. Опасность исходила с другой стороны — от вынужденных жить на острове чужеземцев, находившихся в зависимом положении, вечно принуждаемых к подчинению и потому вечно готовых взбунтоваться при первом удобном случае пли надежде на успех. Взоры этих мужчин и женщин постоянно были обращены на Восток. Там была их родина, там обитали их боги.
В 75 году обозначились новые опасности. Митридат возобновил военные действия против римлян; Серторий, основавший к тому времени свое испанское царство, заключил с ним союз, и все больше пиратов бороздили Средиземное море, как бы связывая воедино оба фронта, на которых приходилось сражаться римлянам Сицилия, расположенная на полпути между Эгеей и Испанией, приобретала в этих условиях важное стратегическое значение. Восстание рабов, спровоцированное агентами царя и поддержанное эмиссарами Сертория, представляло для римлян значительную опасность. Прошло целых два года после квестуры Цицерона, а Веррес, бывший здесь пропретором с 73 по 71 год, еще ставил себе в особую заслугу, что сумел противостоять проискам Сертория и Митридата и сохранить мир в провинции. Даже если Цицерон был прав, характеризуя в верринах эти слова как явное преувеличение, угроза все же существовала, и вполне реальная.
Как квестор Цицерон не располагал военной силой, она находилась в подчинении претора, Секста Педуцея. Цицерон не должен был поэтому непосредственно заниматься укреплением обороноспособности острова; задачей его было примирить сицилийцев с господством римлян, сплотить всех для отпора врагу, а это зависело от того, какую налоговую политику вел квестор. После восстаний рабов в конце предыдущего века наместники, управлявшие островом, далеко не всегда проявляли заботу о благополучии провинциалов. Так, консул 101 года и проконсул острова Маний Аквилий был по завершении наместничества (99 г.) обвинен сицилийцами во взяточничестве и вымогательстве, и спасла его от осуждения только находчивость адвоката, которым был не кто иной, как Марк Антоний. Судьи явно склонялись к осудительному приговору, и тогда Антоний театральным жестом обнажил голову обвиняемого и указал на шрам, оставленный мечом Атениона во время поединка, принесшего победу Риму. Аквилий был оправдан, но память о его злоупотреблениях сохранялась долго. Почему, спрашивал Цицерон, эта несчастная провинция, отличающаяся особой верностью Риму, должна постоянно терпеть самых дурных наместников? И дальше в своей речи он намекал на Марка Эмилия Лепида, пропретора 81 года, прославившегося вымогательствами, и на Марка Антония Кретика, который буквально разорил прибрежные города Сицилии. Этим дурным правителям — добавим от себя — можно бы, правда, противопоставить Клавдия Марцелла, который уже в силу принадлежности к семье покорителя острова выступал как патрон сицилийцев, или оставившего по себе добрую славу Секста Педуцея, но так илп иначе задача Цицерона состояла в том, чтобы по возможности быстрее залечить раны, оставленные продажными магистратами. Сделать это надо было и в интересах самой провинции, и в интересах Рима, для которого Сицилия, как видим, была очень важна с экономической точки зрения, а главное, чтобы показать пример вес м жителям империи — и союзникам, и подданным. После взятия Сиракуз и превращения Сицилии в провинцию в империю влились еще многие другие земли — в Африке и в Галлии, в Испании и на Востоке, и когда Цицерон говорил, что чувствует себя так, будто находится в театре, где в роли зрителя выступает весь род людской, это было не таким уж преувеличением. В данном случае тоже речь шла о репутации Рима и, следовательно, о безопасности империи в целом. Цицерон понимал, что обеспечить ее единство одной только силой невозможно и что «оружие должно уступить тоге», как сформулирует он позже одно из самых своих глубоких убеждений.
Из источников видно, как вступал Цицерон в дружеские отношения со знатными гражданами сицилийских городов, посещал их дома, восхищался накопленными произведениями искусства, оказывал поддержку в конфликтах с римской администрацией. Об этом говорят прежде всего многочисленные упоминания о его квестуре, рассеянные в речах против Верреса. Подтверждение сказанному мы находим у Плутарха, который писал, что «Цицерон был избран квестором и получил назначение в Сицилию в то время, когда в Риме не хватало хлеба. На острове он на первых порах возбудил неприязнь жителей, заставляя их поставлять в Рим зерно, но очень скоро они увидели, что новый квестор неподкупно честен, справедлив и благожелателен, и стали питать к нему уважение, каким дотоле не пользовался ни один магистрат...». Эта оценка, может быть, слишком обща, но характер деятельности Цицерона в Лилибее она отражает совершенно точно. В одной из веррин, озаглавленной «О зерне», например, он рассказал, как, выплачивая сицилийским землевладельцам деньги за «продажное зерно», квесторские писцы всякий раз один процент суммы брали себе; Цицерон категорически запретил этот незаконный налог. Даже в мелочах он старался действовать в строгом соответствии с законом или, говоря попросту, был всегда честен.
В 74 году, завершив свою магистратуру, Цицерон вернулся с Сицилии в твердой уверенности, что заслуги его признаны всеми и что в Городе только и будет разговоров, что о нем: идея «театра», как видим, все еще его занимала. Когда он уезжал, сицилийцы воздали ему небывалые почести, придуманные специально для такого случая, и это еще больше укрепляло его надежды. Но увы... Проезжая Путеолы, он встретил в уличной толпе кого-то из своих знакомых; тот спросил Цицерона, давно ли он из Рима и какие новости в столице; наш герой был потрясен. «Я только что из моей провинции», — ответил он довольно холодно, на что собеседник заметил: «Ах, да, конечно, ты же возвращаешься из Африки! Как я мог забыть!» Раздраженный еще больше, Цицерон презрительно поправил: «Да нет, с Сицилии». И тут из толпы вынырнул другой знакомец, из тех, что всегда все про всех знают, и сказал, обращаясь к собеседнику Цицерона: «Разве не помнишь, он же был квестором в Сиракузах». Это окончательно добило Цицерона, «и я, — прибавляет он, — поспешил смешаться с толпой, кишевшей на улицах городка. Им ведь было не до того, они торопились пить воды».
Современные историки часто приводят это место из речи «В защиту Планция»; одни — чтобы подчеркнуть тщеславие оратора, другие — чтобы воздать должное его способности к самоиронии. Не стоит упускать из виду, однако, что речь была составлена двадцатью годами позже описанных в ней происшествий и что на протяжении протекших лет Цицерону приходилось занимать несравненно более значительные должности, чем квестура, притом при драматических обстоятельствах, в которых под угрозой находилось само существование республики. Не забудем также, что приведенный рассказ включен в речь с целью вызвать у судей улыбку, создать между ними и защитником своего рода эмоциональную близость. Поэтому остается бесспорным, что, несмотря на все тщеславие молодого магистрата, над которым после стольких лет нетрудно было посмеяться, несмотря на тон остроумной и изящной болтовни, которого Цицерон придерживается в своем рассказе, тогда, в 74 году, при завершении квестуры он был убежден в великой государственной важности — не своей особы, а своего положения. Пo-прежнему преданный высоким идеалам, разумеется, отклонявшимся от действительности, он продолжал считать священным все, относящееся до majestas populu Romani — величия римского народа.
Об отношении Цицерона ко всему происходящему мы могли бы судить по речи, произнесенной при отъезде из Лилибея по завершении квестуры, но речь эта утрачена, от нее остался лишь ничтожный фрагмент, ничего, по существу, не объясняющий. Показателен, однако, сам факт такой речи. Произнося ее, Цицерон сообразовывался скорее с греческим, чем с римским, обычаем — представлять по завершении магистратуры отчет о проведенной деятельности. Речь была обращена, по-видимому, к сицилийцам, произнесена, однако, по-латыни, а не по-гречески, хотя оратор свободно владел греческим языком, но для римского магистрата, находящегося еще при исполнении служебных обязанностей, пользование латинским языком было обязательным.
На время квестуры в Сицилии Цицерон, естественно, должен был прервать адвокатскую деятельность. Впрочем, однажды ему и здесь пришлось выступить с судебной речью перед трибуналом претора. Довольно большая компания молодых римлян из хороших семей обвинялась в нарушении воинской дисциплины и в трусости, проявленной во время боя. Каким-то образом эти молодые люди оказались в Сиракузах. Плутарх, единственный рассказавший об этом эпизоде, сообщает, что Цицерон добился их оправдания. Почему над юношами нависло столь тяжелое обвинение? Почему судил их претор Сицилии? В тот год на острове царил мир. Может быть, речь шла о войсках, направлявшихся на борьбу с пиратами, и обвиняемые нарушили дисциплину во время пребывания в одном из портов острова? Ответа на эти вопросы нет. Ограничимся констатацией: Цицерон принял поручение (по-видимому, возложенное на него родителями юных аристократов), выступил с защитительной речью, которая возымела свое действие, и это еще более укрепило его положение на Сицилии, а также обеспечило благодарность людей, оказавшихся ему весьма полезными несколькими годами позже, когда он стал добиваться эдилитета.
Цицерон вернулся в Рим квесторием. Это открывало ему путь в курию, и мы благодаря счастливой случайности располагаем документом, подтверждающим его вступление в сенаторское сословие: сравнительно недавно обнаружена надпись с греческим текстом сенатского постановления, посвященного тяжбе между жрецами бога Амфиарая и римскими откупщиками; среди сенаторов, которым поручено составление надписи, фигурирует и имя Цицерона; документ датирован 14 октября 73 года.
По возвращении Цицерон вновь занялся адвокатской деятельностью и почти тотчас же дал втянуть себя в процесс, который должен был иметь для него весьма существенные последствия. Поначалу речь шла о самом заурядном происшествии, случившемся вне Рима и имевшем к политической жизни столицы отдаленное отношение. В один прекрасный день Цицерона в его римском доме посетили граждане муниципия Алетри, маленького городка в земле герников, в шестнадцати примерно милях от Арпина. Они просили его как соотечественника или почти соотечественника взять на себя защиту некоего Скамандра, обвиненного в соучастии в попытке отравления. То был отпущенник гражданина их города Гая Фабриция, и декурионы Алетри ручались в том, что он невиновен. Отказать Цицерон не мог: согласно традиции и согласно закону о претуре, изданному Суллой, через пять лет после квестуры можно было домогаться эдилитета, который теперь стал обязательной ступенью па пути к консулату, а для того чтобы бороться за этот следующий этап политической карьеры, важно было обеспечить себе предельно широкую поддержку, добиться сочувствия самых разных людей. Цицерон начал знакомиться с документами дела. Неизвестно, представлял ли он его себе с самого начала во всех деталях. По-видимому, люди, его информировавшие, предпочли не привлекать внимание адвоката к некоторым обстоятельствам. Только так можно понять — или, если угодно, оправдать — Цицерона, который позже, в 66 году, когда то же дело вновь, хотя и в другом виде, возникло перед римским судом, в корне изменил свою позицию и выступил с речью, известной под именем «В защиту Клуенция», защищая человека, который в 74 году обвинял Скамандра.
Если бы он уже в 74 году знал обстоятельства дела полностью столь же хорошо, как узнал их впоследствии, вот какая картина развернулась бы перед его глазами.
Эта история началась не в Алетри, а в Ларине, более крупном городе, лежащем на адриатическом склоне Апеннин, примерно на высоте Арпина. Там, в Ларине, проживал некий Оппианик, женившийся пять раз. Последней женой его стала Сассия, которая была ранее замужем и имела от первого брака сына по имени Авл Клуенций Габит. После того как в 88 году ее муж, отец Клуенция, скончался, Сассия вышла сначала за собственного зятя, то есть бывшего мужа своей дочери Клуенции, а потом — за Оппианика. С помощью яда Оппианик сумел устранить большинство членов этой сложной и многочисленной семьи. Последним, кто оставался в живых и мог претендовать на свою долю наследства, был Авл Клуенций Габит, сын Сассии. Чтобы избавиться и от него, Оппианик прибег к своему обычному средству. Клуенций, человек весьма слабого здоровья, держал при себе врача по имени Клеофант, а у врача был помощник — раб Диоген. Оппианик поостерегся прямо обратиться к Диогену с предложением дать Клуенцию яд и начал переговоры с одним из своих друзей из Ларина, Гаем Фабрицием, человеком сомнительного поведения, к тому же постоянно испытывавшим острую нужду в деньгах. У Фабриция был отпущенник Скамандр, судя по имени, совпадающему с названием реки, омывающей холм, на котором стоит Троя, — фригийский грек. Скамандру и поручили договориться с Диогеном.
С этого дело и началось. Диоген притворно дал согласие, но рассказал все своему хозяину Клеофанту. Клуенция предупредили, и он обратился за советом к сенатору Марку Бебию. Решено было устроить злодеям ловушку. По совету Марка Бебия, который предвидел, какая, правовая ситуация сложится в результате, Клуенций купил Диогена, что исключало возможность допрашивать его в ходе следствия. Между Диогеном и Скаманд-ром устроили свидание, во время которого последний должен был вручить Диогену яд и денежное вознаграждение за соучастие. В момент передачи внезапно появились свидетели — декурионы Ларина, — и Скамандр оказался пойманным с поличным. Клуенций подает на Скамандра в суд. В качестве обвинителя был приглашен некто Публий Каннутий, о котором Цицерон лестно отзывается в «Бруте»; Цицерон, со своей стороны, по просьбе алетрийцев взял на себя защиту. Речь его не сохранилась. Некоторые признаки указывают на то, что определенная ее часть представляла собой altercatio, то есть полемику между защитником и обвинителем. Так или иначе, но Скамандр был осужден. Немедленно вслед за тем Клуенций возбуждает дело против патрона Скамандра Гая Фабриция, которому также выносится обвинительный приговор. Лишь теперь Клуенций получает долгожданную возможность выступить с обвинением подлинного инициатора всей интриги — Оппианика, своего отчима! Суд в том же составе, связанный, по словам Цицерона, ранее им же вынесенными решениями, вынужден осудить и Оппианика. Сложигшаяся ситуация позволила защитнику Оппианика обвинить председателя суда Юния Брута в получении взятки, а вскоре то же обвинение было предъявлено и другим членам суда. Возник громкий скандал, специально подстроенный адвокатом Оппианика народным трибуном Луцием Квинкцием, которого Цицерон позже в речи «В защиту Клуенция» характеризует как демагога и врага сената. Замысел Квинкция состоял в том, чтобы довести дело до отмены сулланского закона о правосудии, согласно которому членами суда могли быть только лица сенаторского сословия. Тот же конфликт, как нам предстоит увидеть, лежал в основе процесса Верреса. Юний Брут не смог оправдаться, что и положило конец его политической карьере. Цицерон вел себя активно лишь на первой стадии разбирательства, но, по-видимому, раскаивался и в этом, по крайней мере, если судить по некоторым местам из позднейшей речи «В защиту Клуенция», где он дает краткий обзор всей истории вопроса в целом. Речь свою в защиту Скамандра он публиковать не стал, и когда несколько лет спустя ему пришлось выступать в повторном деле Клуенция, был этому очень рад. В речи на повторном процессе он формулирует свое понимание роли адвоката (в частности, в связи с обвинениями по его адресу в том, будто он берется защищать заведомых преступников) :
«Глубоко заблуждается тот, кто считает, что наши судебные речи являются точным выражением наших личных убеждений; ведь все эти речи — отражение обстоятельств данного судебного дела и условий времени, а не взглядов самих людей и притом защитников. Ведь если бы дела могли сами говорить за себя, никто не стал бы приглашать оратора; но нас приглашают для того, чтобы мы излагали не свои собственные воззрения, а то, чего требуют само дело и интересы стороны».
Здесь обозначена очень важная проблема: может ли адвокат выступать против своих убеждений и совести? Цицерон отвечает, что не выносит приговор, а только оказывает помощь клиенту. Поэтому истина, которую он отстаивает, носит относительный, частный характер, ибо отражает лишь одну сторону, один аспект дела. Задача адвоката противной стороны состоит в том, чтобы представить контрдоводы, и лишь судья сможет сделать обоснованный выбор. Уверенность в справедливости такой позиции Цицерон черпал в учении Академии и, точнее, Филона из Лариссы. Здесь снова философия приходила па помощь красноречию, указывала на допустимость и даже необходимость рассуждать с противоположных точек зрения, рассматривать все «за» и «против» и предоставлять слушателю (в данном случае — судье) свободу выбора.
Не прошло еще и года после истории со Скамандром, как Цицерон принял участие в другом процессе, где защищал некоего Гая Мустия, римского всадника и откупщика, который в случае осуждения рисковал потерять все свое состояние. Это был тот самый Гай Мустий, который в 74 году вступил в конфликт с Верресом, в ту пору городским претором, в связи с подрядом на общественные работы и тогда воочию узнал, какими методами сколачивал Веррес свое богатство. В 70 году, когда произносились веррины, Мустий уже умер, так что воспользоваться его свидетельскими показаниями Цицерон не мог.
В 72 году возник еще один процесс, в котором оказался замешанным Веррес — процесс Стения пз города Термы в Сицилии; Цицерон защищал его перед коллегией народных трибунов в Риме. Стений был знатным сицилийцем, сыгравшим значительную роль в 82 году, когда Помпей, ведя борьбу против марианцев и действуя от имени Суллы, оккупировал остров. После победы Суллы Стений выступил в качестве своего рода добровольной искупительной жертвы, взяв на себя одного всю ответственность за помощь, оказанную Сицилией Марию. Поведение его произвело столь сильное впечатление на победителя, что он отпустил сицилийцам их вину. В своем доме Стений собрал множество произведений искусства, статуй, картин, рельефов, изделий из серебра, часть которых приобрел в Азии во время путешествия, предпринятого в юности. Веррес, прекрасно обо всем осведомленный. во время своих объездов острова неоднократно останавливался в Термах в доме Стения и разного рода хитростями добился, что тот подарил ему лучшие образцы своей коллекции. Этого, однако, ему показалось мало. В Термах находилось несколько бронзовых статуй, которые карфагеняне захватили когда-то в Гимере при разрушении города и перевезли в Карфаген. После захвата Карфагена Сципион Эмилиан вернул их в Сицилию и отдал жителям Терм, которые выступали как наследники исчезнувшего с лица земли Гимера. Статуи эти были лучшим украшением города. Веррес возгорелся желанием завладеть имп. Дело поступило на рассмотрение сената Терм. При обсуждении его Стений, человек красноречивый и пользовавшийся большим влиянием на сограждан, энергично убеждал сенат не уступать поползновениям пропретора. Разъяренный Веррес начал с того, что отказался оставаться в доме Стения, всячески чернил его гостеприимство и перебрался к некоему Агатину, заклятому врагу Стения. Он попросил Агатина выдвинуть против Стения любое обвинение, пообещав, что, когда дело дойдет до его трибунала, он рассмотрит его благоприятно для истца. Агатин немедленно обвинил Стения в подделке городских документов, и Веррес тут же назначил разбор дела на следующий день в девятом часу утра, несмотря на протесты Стения, тщетно доказывавшего, что обвинения такого рода подлежат рассмотрению перед магистратами Терм, а не перед трибуналом пропретора. Ясно понимая, что все это — интрига, единственная цель которой погубить его, Стений ночью бежал, несмотря на неблагоприятную погоду (дело было в конце октября), переправился через пролив и добрался до Рима. Веррес провел процесс в отсутствии ответчика и заочно вынес Стению обвинительный приговор. Тотчас же явился другой обвинитель и стал доказывать, что Стений повинен в государственной измене. Веррес принял и этот донос и назначил разбирательство на календы декабря.
В Риме у Стения было много друзей. Он сумел вызвать сочувствие, консулы доложили о деле сенату, который принял было постановление, осуждающее пропретора, по стараниями отца Верреса, присутствовавшего на заседании, дело стало затягиваться. Верресу был направлен официальный запрос, отец, со своей стороны, убеждал его не упорствовать в своих замыслах, ибо угроза осуждения сенатом вырисовывалась вполне отчетливо. Но Веррес стоял на своем. Поскольку обвинитель не явился в суд, Веррес сам заочно вынес Стению смертный приговор. Народные трибуны приняли постановление, запрещавшее пребывание в Риме провинциалам, приговоренным у себя на родине к смертной казни. Цицерон вмешался, произнес речь в защиту Стения и добился от тех же трибунов дополнительного постановления, согласно которому запрет не распространялся на Стения, поскольку приговор ему был вынесен в его отсутствие и, следовательно, незаконно. Позже, после отъезда Верреса, про обвинительный приговор Стению все, разумеется, забыли.
В эту пору, как нам известно, Цицерон вел еще одно судебное дело — процесс, возбужденный Марком Туллием, состоявшийся, по всему судя, в 71 году и проходивший в две сессии. Марк Туллий, о котором нам не известно ничего, кроме имени, требовал возместить ему ущерб, понесенный в результате насилия над его рабами и нарушения границ его владения в Туриях на юге Италии. Человек по имени Публий Фабий, ранее приобретший землю по соседству, занял без всякого на то права часть имения Марка Туллия, а когда последний подал протест и потребовал судебного разбирательства, люди Фабия, не дожидаясь решения суда, захватили спорный участок и перерезали находившихся там людей. Дело рассматривалось в суде reciperatorum, специализированном на ведении дел, связанных с убытками и доходами.
Адвокатом Фабия выступал тот самый Луций Квинкций, который в пору процесса Скамандра и Оппианика был народным трибуном и сумел скомпрометировать в общественном мнении состав суда под председательством Юния Брута. Цицерон выступил против него очень резко, по всей вероятности, не только из-за обстоятельств дела: новоиспеченный сенатор был рад случаю выставить в смешном свете Квинкция — оратора шумных плебейских сходок, где политики-популяры подстрекали граждан выступать против отцов города.
Первая сессия была целиком посвящена обсуждению формулировок, в которых претор представлял дело. Речь Цицерона на этой сессии не сохранилась, неизвестно даже, была ли она опубликована. Другая речь, произнесенная в ходе второй сессии, известна нам по фрагментам, обнаруженным в двух разных палимпсестах. Принято считать, что Цицерон выиграл дело, но приходится пригнать, что речь «В защиту Туллия» представляет собой классический образец чисто юридического красноречия и скучна до невыносимости.
Вполне возможно, что и дело Луция Варена, о котором упоминает Квинтилиан, относится к этому же периоду — между возвращением с Сицилии и процессом Верреса. Речь здесь шла о преступлении, совершенном землевладельцем Луцием Вареном, который вооружил рабов и заставил их перебить всех членов своей собственной семьи. Цицерон выступал в качестве защитника, но не смог воспрепятствовать вынесению обвинительного приговора.
Если процесс Варена действительно относится к тому же времени, что дело, о котором Цицерон говорил в речи «В защиту Туллия», то сходство событий в обоих случаях ясно показывает, каково было положение в Италии во второй половине 70-х годов. В 73 году начинается восстание рабов, возглавленное фракийским пастухом по имени Спартак. Инициаторами восстания стали кампанские гладиаторы, к которым вскоре присоединились сбежавшиеся отовсюду рабы и в первую очередь пастухи, водившие стада по пастбищам Бруттия, Лукании и Апулии. Восстание распространилось на всю Южную Италию; армии, посланные сенатом, были разгромлены. Победы Спартака следовали одна за другой на протяжении двух лет вплоть до 71 года, когда претор предыдущего года Марк Лициний Красс развернул против рабов самую настоящую боевую кампанию по всем правилам военного искусства и наконец в марте месяце одержал решающую победу. Спартак в этом сражении сам подставил себя мечам римлян. Остатки его армии рассеялись, а отдельные уцелевшие отряды метались по всей Южной Италии. Один из таких отрядов столкнулся в Этрурии с армией Помпея, возвращавшегося из Испании после победы над Серторием. Помпей уничтожил отряд полностью, и на этом основании впоследствии, к крайнему раздражению Красса, похвалялся, будто именно он, Помпей, положил конец войне с рабами. Поскольку победы в Испании были одержаны над ополчениями Сертория, набранными из местных племен, Помпей получил триумф, Красс же — только овацию, так как в кампании, им проведенной, противниками были рабы, и она тем самым пе могла рассматриваться как «подлинная война». Помпей снова опередил других на пути славы и почестей.
Война с рабами, беспорядки, вызванные ею в Италии, и давали возможность землевладельцам вооружать зависимых от них людей и под предлогом самозащиты нападать с оружием в руках на своих недругов. Именно такая картина встает, в частности, из аргументов Луция Квинкция, защищавшего ответчика в описанном нами выше процессе Марка Туллия,
Во время консульских выборов на 70 год сенат одобрил выдвижение кандидатур Помпея и Красса, хотя ни тот, ни другой не обладали всеми данными, которые требовались по закону. Помня о недавних событиях, о вооруженных столкновениях и нависших над республикой грозных опасностях, отцы-сенаторы не решались ставить преграды на пути честолюбивых победителей, стоявших во главе огромных армий. Снова, в который раз, «оружие» одерживало верх над «тогой». Сенат мало-помалу утрачивал авторитет, возвращенный было реформами Суллы. Едва став консулом, Помпей провел закон о восстановлении былых, досулланских полномочий народных трибунов. Затем консулы возродили институт цензуры, и цензоры тут же стали принимать меры против сенаторов, изобличенных во взятках и продажности, — шестьдесят четыре человека оказались вычеркнутыми из списков. Цензоры удвоили также число римских граждан, отнеся к ним людей, переселившихся из муниципиев. Право италиков на римское гражданство впервые стало реализовываться по-настоящему, несравненно полнее, чем раньше. Наконец, все громче раздавались требования положить предел сенатской монополии в судах. На удовлетворении их настаивали сторонники «народной партии», а необходимость реформы подтверждалась многочисленными неприглядными историями, вроде той, что произошла с трибуналом Юния Брута. Соответствующая реформа была проведена осенью 70 года после процесса и осуждения Верреса.
На первых порах могло показаться — и не без некоторых оснований, — что Цицерон не поощрял стремления открыть доступ в суды кому-либо, кроме сенаторов. Во всяком случае, он не оказал никакой поддержки тем, кто разоблачал и преследовал Юния Брута. Вскоре, однако. снова уступив просьбам сицилийцев, он согласился принять участие в процессе, который неизбежно должен был привести к антисенатской судебной реформе.
Веррес, чье имя стало нарицательным при обозначении продажного, жестокого и хищного римского наместника был выходцем из сенаторской семьи (мы видели, что отец его заседал в курии в 72 году). Двенадцатью годами старше Цицерона, он уже в 84 году занимал квесторскую должность, входил в штат марианского консула Гнея Папирия Карбона и сопровождал его в отведенную ему провинцию Цизальпинскую Галлию. В 83 году, после возвращения Суллы, Веррес бежал из армии, прихватив с собой воинскую кассу с шестьюстами тысячами сестерциев, и вскоре перешел в лагерь сулланцев. Когда у него потребовали отчета, он сообщил, что хранил деньги в Аримине, а все знали, что в ходе гражданской войны Аримин был взят, разграблен, так что исчезновение денег объяснилось легко и правдоподобно. Сулла не допустил Верреса в свое ближайшее окружение, и некоторое время он прожил в Беневенте, скупая имущество людей, погибших в проскрипциях, и тем существенно увеличил свое состояние. В 79 году он сумел добиться от пропретора Киликии Гнея Корнелия Долабеллы, чтобы тот взял его с собой в качестве легата. Так ему удалось совершить за государственный счет путешествие по Востоку, где он постоянно вымогал у жителей деньги, захватывал картины и статуи. Правда, когда Веррес ограбил святилище Аполлона на Делосе, бог наслал на святотатца бурю, корабль его выбросило на берег, и Долабелла распорядился возвратить статуи на место. Зато однажды Верресу удалось добиться даже отставки одного из декурионов города Сикиона, отказавшегося ссудить ему деньги. Обо всем этом Цицерон рассказал на процессе Верреса в речи «О городской претуре»; путешествие про-преторского легата по Азии предстает здесь как подлинный грабительский набег, ясно предвещавший то, что несколькими годами позже произойдет на Сицилии. Перечисление городов Азии и островов Эгейского моря, их громких исторических имен и их великих богов-покровителей производило особое впечатление, представляло преступления Верреса как кощунственное посягательство на интересы всей империи.
Веррес вернулся в Рим в 75 году, как раз вовремя, чтобы уступить в борьбу за претуру, которой и добился — вцрочем, если верить Цицерону, ценой подкупа избирателей. В качестве городского претора он вел себя, как всегда, бесчестно, особенно изощряясь в процессах о наследовании. Для них он выработал как бы особое право, которым руководствовался один и которое в городе окрестили jus verrinum — в латинском языке тут возникала игра слов, так как это сочетание означало одновременно и «Верресово право» и «свиное месиво». Цицерон пользуется этой игрой слов с явным удовольствием, хотя и не претендует на авторство. Будучи городским претором, Веррес демонстративно показывался всюду вместе со своей наложницей Хелидоной (Ласточкой); к ней обращались истцы и ответчики, и Хелидона вершила по собственному усмотрению магистратские дела своего возлюбленного.
По завершении претуры Веррес в качестве пропретора был направлен в Сицилию. Хотя нормальный срок подобной промагистратуры равнялся одному году, Веррес пробыл в провинции три. В 72 году пропретор Квинт Аррий, назначенный ему на смену, не смог отправиться на остров, так как вел (и притом весьма неудачно) боевые действия против восставших рабов. В 71 году сенат продлил пребывание Верреса в Сиракузах, боясь, что рабы под командованием Спартака переправятся в Сицилию, где получат передышку и наберут подкрепления. Воспоминания о двух войнах с рабами все еще были живы. Сенаторы прекрасно знали о злоупотреблениях Верреса: процесс Стения и речь на нем Цицерона достаточно их обо всем осведомили. До поры до времени Верреса выручали, по-видимому, два обстоятельства. Во-первых, необходимо было обеспечить оборону Сицилии. С основаниями или без них Веррес слыл способным или, во всяком случае, весьма энергичным командиром, незаменимым в критических обстоятельствах; отзывать в момент опасности руководителя войск, охранявших на острове порядок, казалось явно нецелесообразным: новому наместнику понадобилось бы слишком много времени, дабы сориентироваться в обстановке. Другой мотив состоял в том, что сенаторы, которые из солидарности со своим коллегой, отцом Верреса, так и не нашли времени завершить подготовку сенатского постановления по делу Стения, отнюдь не стремились поскорее вернуть пропретора в Рим. Пока он занимал официальное положение, действия его не подлежали судебному разбирательству, но как только он становился частным лицом, подобное разбирательство делалось неизбежным. В конце концов Веррес отбыл с Сицилии в начале января 70 года, высадился на побережье Лукании в порту Велии и оттуда посуху направился в Рим. Несколькими месяцами позже Цицерон побывал в Велии и собственными глазами видел пышно разукрашенный корабль, доставивший на италийскую землю Верреса со всем награбленным добром.
Веррес еще не добрался до Рима, он еще даже не покинул остров, как все сицилийские общины за исключением двух, Мессины и Сиракуз, отправили гонцов к Цицерону с просьбой выступить от их имени с обвинением едва сложившего свои полномочия пропретора: обвинение предполагало возмещение сумм, полученных наместником путем вымогательства. Почему сицилийцы обратились именно к Цицерону? Прежде всего потому, очевидно, что он был наравне с Гортензием самым знаменитым оратором Рима. На Гортензия рассчитывать им не приходилось, так как возбужденное сицилийцами обвинение болезненно задевало интересы сенаторов, Гортензий же был известен как человек сенатской партии; в дальнейшем он действительно взял на себя защиту Верреса. Цицерон на протяжении предшествовавших лет ни разу не выступал как популяр, но связи его с «отцами» были несравненно менее тесны, чем у Гортензия. Кроме того, он, как мы отмечали, оставил по себе на Сицилии добрую память честностью, справедливостью, простотой и любезностью обращения. Почти в каждом городе у него были друзья среди декурионов, он останавливался в их домах; к тому же, как всем было известно, Цицерон питал горячую симпатию к эллинской культуре. По всем этим причинам сицилийцы и остановили на нем свой выбор.
Но почему Цицерон согласился выступить обвинителем в процессе такого рода? В тридцать семь лет от роду он был далеко не новичком ни на форуме, ни в политике и прекрасно знал, что роль обвинителя по традиции отводилась молодым людям. Некоторые из своих мотивов Цицерон характеризует в конце речи «Против Квинта Цецилия о назначении обвинителя», о которой нам вскоре предстоит говорить более подробно. Раз существует закон о вымогательстве, говорил он в этой речи, было бы нелепо не прибегнуть к нему для защиты интересов провинциалов, учитывая моральные обязательства римлян по отношению к союзникам, положившимся на их fides. Поручать же такого рода дела неопытным юнцам — значит одной рукой отнимать у союзников то, что дает им другая.
Указывалось, что Цицерон мог согласиться и из тщеславия — ему не могло не льстить внимание граждан славного края с богатым историческим прошлым. Такое предположение не лишено оснований: далеко не каждый человек в Риме был способен предстать защитником культуры эллинов; в былые времена в этой роли выступали Сципионы,. Клавдий Марцелл и другие люди того же уровня, так что выходец из Арпина должен был испытывать немалое удовольствие, вписывая свое имя в подобный перечень. Высказывались и другие предположения. Некоторые исследователи видели даже в Цицероне своего рода подставное лицо, использованное Ломпеем с целью окончательно подорвать доверие к сенатским судам. В подтверждение приводили обещание Помпея заменить во время своего консульства (то есть именно в 70 году) судебный закон Суллы другим, по которому состав суда существенно расширялся. Никаких прямых доказательств подобного сговора между Цицероном и Помпеем нет. С таким же успехом можно предположить, что Цицерон хотел использовать процесс для некоторого оживления политической жизни, которую господство правящей клики делало скучной и монотонной, преследуя тем самым свой идеал concordia ordinum, то есть гармонии интересов всех общественных сил, несущих ответственность за судьбы государства — сенаторов, всадников и видных граждан в целом.
Итак, в начале января 70 года претору был передан официальный документ — акт, содержащий обвинение Верреса. Веррес избрал в качестве защитника Гортензия, который тотчас же использовал первую свою уловку: выдвинул в качестве соперника Цицерона другого обвинителя, Квинта Цецилия Нигра, который годом раньше был у Верреса квестором. Кому следовало доверить обвинение — Цецилию, человеку явно подставному, или Цицерону? Вопрос был передан в суд; так возник первый процесс, известный под названием дивинации (divinatio): суду предстояло divinare, «предсказать», кто из двух кандидатов лучше справится с поручением. В середине января конкуренты встретились перед тем же трибуналом, которому в дальнейшем предстояло разбирать дело по существу. Речь Цицерона «Против Квинта Цецилия о назначении обвинителя» сохранилась; она была краткой и убедительной — обвинителем судьи утвердили его.
Борьба по процедурным вопросам, однако, на этом не кончилась. В соответствии с законом мятежного трибуна Сервилия Главция процессы о вымогательстве должны были рассматриваться в две сессии, то есть обсуждаться два раза одним и тем же составом суда с определенным интервалом, длительность которого могла быть различной, однако приговор выносился лишь по завершении второй сессии. Сложность этой процедуры была на руку Берресу и его покровителям. Магистраты 70 года и, в частности, председательствовавший в суде претор Маний Ацилий Глабрион. не питали к Берресу никаких симпатий, и перетянуть их на свою сторону ему было бы нелегко. Все надежды обвиняемый возлагал как раз на следующий год, на который в летних комициях уже были избраны оба консула: Квинт Цецилий Метелл и тот же Квинт Гортензий Гортал, и один, и другой — полные решимости избежать осуждения Верреса, поскольку оно нанесло бы ущерб интересам сената. К тому же председательствовать в суде в следующем году предстояло не Ацилию Глабриону, а претору Марку Цецилию Метеллу — брату новоизбранного консула, столь твердо стоявшего на стороне обвиняемого. Если бы сторонникам Верреса удалось оттянуть судебное разбирательство до первых месяцев 69 года, он, без всякого сомнения, был бы оправдан.
План этот складывался во всех своих деталях в начале 70 года; успех его во многом зависел от исхода консульских выборов, которые приходились на июль и результат которых предсказать весной было трудно. Поэтому Веррес и его друзья придумали, как затянуть Дело. Едва Цицерона утвердили обвинителем, он в соответствии с законом потребовал предоставить ему время для сбора доказательств и поиска свидетелей. Он запросил 110 дней, рассчитав, что суд начнется еще до июльских комиций, где к тому же должна была обсуждаться и его собственная кандидатура в эдилы. Пока длился процесс, он, по закону, не имел права предпринимать некоторые шаги, необходимые для избрания, да и мысли его, как признает он сам, не тем были заняты. Друзья Верреса постарались сорвать все эти планы. Они обвинили в вымогательстве наместника Македонии, только что вернувшегося в Рим после отправления своей магистратуры, имя его не сохранилось; новый процесс должен был рассматриваться в том же трибунале, что и дело Верреса, а поскольку обвинитель наместника Македонии потребовал на проведение расследования 108 дней, то процесс Верреса откладывался именно на этот срок и мог, следовательно, начаться лишь после выборов. Цицерон лишался возможности полностью отдаться борьбе за эдилитет, а суду предстояло заниматься Берресом уже после того, как окончательно определятся магистраты будущего года. Маневр удался: выборы состоялись, принесли ожидаемые результаты, в том числе и избрание Цицерона в эдилы. Первая сессия суда над Берресом оказалась отложенной и началась лишь 5 августа 70 года в восьмом часу дня — примерно в два часа пополудни по современному счету.
Однако и Цицерон на протяжении месяцев, прошедших с января, не терял времени даром. Он начал с того, что собрал все данные об имущественном положении Верреса, которые можно было получить, не выезжая из Рима, и обнаружил, в частности, в документах откупных компаний сведения об операциях, которые Веррес успел провести после возвращения с Сицилии. Это дало Цицерону законное основание потребовать, чтобы ему были предъявлены счетные книги Верреса и его отца. В книгах не обнаружилось ни малейшего следа приобретения тех произведений искусства, которыми, как всем было известно, обладал Веррес. Цицерон запросил также у публиканов, на откупе у которых находились взимавшиеся с Сицилии налоги, сведения о таможенных сборах — отчетов за время наместничества Верреса среди документов не было, они исчезли. Тогда Цицерон провел обыск у некоего Вибия, стоявшего во главе этой откупной компании в 71 году; он знал, что руководители таких обществ обычно оставляли у себя копии официальных отчетов. Из копий явствовало, что и по возвращении из Сиракуз Веррес продолжал вывозить товары и ценности, не внося таможенный сбор. Весьма примечательной оказалась сама номенклатура товаров: четыреста амфор меда, неопределенное, но, по всему судя, весьма значительное количество тканей мальтийского производства, пятьдесят обеденных лож и множество канделябров. Теперь обвинитель легко мог доказать, что Веррес занимался незаконными торговыми операциями — не для личного же потребления предназначалось все это несметное количество товаров!
Собрав в Риме все материалы, какие можно было собрать, Цицерон в сопровождении своего двоюродного брата Луция отправился на Сицилию. Шестнадцатью годами позже, в речи «В защиту Скавра», Цицерон упомянул об этой поездке, которая надолго осталась у него в памяти: «Я побывал в землях Агригента, несмотря на суровую зиму, объездил там все горы и долы. Славная своим плодородием Леонтинская равнина одна дала мне весь необходимый для процесса материал. Я входил в хижины землепашцев, я говорил с людьми, и они отвечали мне, не снимая рук с рукоятей плуга...» На Сицилии редко бывают настоящие холода; очевидно, дело было в конце января или в начале февраля, когда на Агригент обрушиваются западные ветры, несущие снеговые тучи.
В речи на второй сессии «Об урожае» содержится выдержанное в мрачных тонах описание положения, в котором Цицерон застал деревни самого плодородного района Сицилии — долины на запад от Этны: «Земли Эрбиты, земли Энны, Моргентины, Ассоры, Имахары, Агириона были почти сплошь пустынны. Не видно было не только лошадей и повозок, некогда здесь столь частых, нельзя было отыскать даже самих владельцев вилл». Перечисленные города находятся в долине рек, ныне называемых Диттайно и Симето; Цицерон, по-видимому, побывал в них в ходе того же путешествия, но уже весной. Именно там скорее всего беседовал он с крестьянами, занятыми весенней пахотой. Но больше всего данных ему, естественно, удалось собрать в городах. Он принципиально не останавливался в домах сицилийцев, поручивших ему выступить обвинителем Верреса, дабы избежать подозрений в сговоре, и ночевал в домах друзей, которые со времен квестуры остались у него везде. Сицилией теперь правил преемник Верреса, пропретор Луций Цецилий Метелл — брат (родной или двоюродный) Квинта и Марка Метеллов, уже избранных первый в консулы, а второй в преторы на следующий, 69 год. Луций Цецилий был настроен враждебно к миссии Цицерона, но тот сумел вопреки всему добиться во многих общинах официальной поддержки сената. В некоторых городах при встрече ему устраивали даже театрализованные церемонии. Так было, например, в Энне, откуда Веррес похитил статую Победы. Навстречу Цицерону вышли жрецы Цереры, в священных головных повязках, с ритуальными зелеными ветвями в руках, за ними следовала толпа граждан, которые, дабы пуще разжалобить римского гостя, оглашали окрестности рыданиями и стонами. Нечто подобное произошло и при въезде в Гераклею на южном побережье острова, на полпути между Селинунтом и Агригентом: когда Цицерон уже в ночной тьме приближался к городу, одна из знатных гераклеянок вышла ему навстречу в сопровождении всех женщин из местной аристократии и бросилась к его ногам. То была мать юноши, которого Веррес подверг мучительной казни и которая требовала отмщения.
Одна из задач, стоявших перед Цицероном, состояла в сборе данных для опровержения доводов защитников Верреса — их нетрудно было предвидеть заранее, В Сиракузах, в зале заседаний местного сената, стояла статуя Верреса; и в этом зале сенат принял постановление, воздававшее продажному наместнику хвалу. Было очевидно, что Гортензий не упустит такой возможности и станет на этом основании доказывать, будто далеко не все были недовольны пропретором. Цицерон принялся выяснять обстоятельства, при которых приняты были оба постановления — об установке статуи и о принесении благодарности. Он узнал, что официальной благодарности Веррес добивался весьма долго, а граждане Сиракуз так же долго избегали ее приносить и в конце концов приняли соответствующее постановление совсем недавно — по прямому приказу нового наместника! Принимали его сенаторы явно нехотя и сформулировали так, что в нем было больше издевательства, чем подлинного выражения благодарности. По приглашению главного магистрата Сиракуз Цицерон в сопровождении своего двоюродного брата Луция явился в местный сенат и обратился к собравшимся по-гречески с просьбой помочь ему в выполнении его миссии. Сенаторы предъявили ему ведомости, которые вели тайно и в которых были зарегистрированы все ценности, похищенные у города Берресом. Показали они и протокольные записи тех заседаний, в ходе которых декретировали пресловутую благодарность; в них были отражены все отказы, умолчания и содержался сам двусмысленный текст, где пропретору выражалась благодарность за действия, которых он заведомо никогда не совершал. Цицерон и Луций ознакомились с представленными материалами и удалились. Оставшись одни, сенаторы аннулировали благодарность Верресу и постановили принять содержание Луция на государственный счет. Но, чтобы постановление приобрело законную силу, его должна была скрепить подпись претора. В дело тотчас же вмешался Публий Цезетий — один из двух квесторов Верреса, который задержался на острове для передачи дел следующему составу администрации, — и внес официальный протест против решения сенаторов-сиракузян. Метелла предупредили, и он прервал заседание, воспрепятствовав тем самым тому, чтобы декрет получил законную силу. Решение это, рассказывает Цицерон, вызвало протесты сенаторов; народ стал собираться на улицах и площадях, дело шло к восстанию, и ему же пришлось с невероятными усилиями спасать от самосуда квестора, побудившего Метелла наложить запрет.
Позже Цицерон с гордостью признавался, что собирал материал с необычайной энергией, позволившей ему завершить дело за пятьдесят дней. Гордился он также и тем, что не попался ни в одну из ловушек, расставленных противником, — особенно на обратном пути. К сожалению, он говорит о поджидавших его опасностях весьма глухо, намеками, которые не всегда удается разгадать. Можно понять только, что из Вибоны Валентийской на побережье Бруттия и до Велии ему пришлось плыть на маленьком суденышке по морю, кишевшему пиратами и беглыми рабами, оставшимися в здешних местах со времен восстания Спартака и ныне искавшими возможность бежать из Италии. Цицерон намекает, что Веррес, по всей вероятности, подкупил кого-нибудь из них, поручив убить своего обвинителя. Так ли обстояло дело в действительности? Точных данных для ответа на этот вопрос нет.
Как бы то ни было, Цицерон появился в Риме до истечения срока, отведенного ему на сбор материалов. Обвинитель, следовательно, был на месте, готовый явиться в суд но первому вызову, и ничто не мешало процессу состояться. Расчет противников сорвать суд из-за задержки обвинителя не оправдался.
Процесс наместника Македонии, предшествовавший процессу Верреса, прошел, по всему судя, в июне и в начале июля. 6 июля начались Игры в честь Аполлона, на время которых деятельность судов прекращалась. Затем наступили выборы. До созыва народного собрания, однако, Цицерон успел представить свои соображения по составу суда; правом этим обладали обе стороны, и обвинение, и защита. Он уверял впоследствии, что именно тщательность и неподкупность, с которыми он выбирал судей и которые обеспечили абсолютное преобладание в составе суда людей суровых и честных, принесли ему победу на выборах курульных эдилов, где он собрал намного больше голосов, чем его соперник, несмотря на то, что Веррес, стараясь воспрепятствовать его избранию, не жалел денег на подкуп избирателей.
5 августа процесс начался. План защитников Верреса состоял в том, чтобы добиться возвращения дела после первой сессии на доследование и тем отсрочить начало второй. Отсрочка эта была решающей: весь конец августа занимали Игры, которые, по обету, проводил Помпей в честь своей победы в Испании, всю первую половину сентября — Римские игры, самые длительные из всех, что проводились в Риме, на конец октября намечались Игры, посвященные победам Суллы, и, наконец, па ноябрь — с четвертого числа по семнадцатое — Плебейские игры. В октябре, правда, оставалось двадцать пять дней свободных, но ни у кого не вызывало сомнения, что при таком скоплении празднеств оттянуть процесс будет легче легкого. Добиться осуждения Верреса можно было лишь, представив уже на первой сессии убийственные доказательства его вины, чтобы он сам отказался от продолжения разбирательства.
Цицерону это удалось. Он выступил с краткой речью (она известна сейчас под названием «Первая сессия против Верреса») и представил суду свидетелей, которые давно уже находились в Риме, ожидая возможности дать показания. Сторонники Верреса самыми разными способами оказывали на них усиленное давление, но свидетели не поддавались. На протяжении восьми дней перед трибуналом сменялись люди, прибывшие ради этого суда из Азии, из Греции, большинство — из Сицилии. Их свидетельства были ошеломляющими. На собравшуюся толпу они произвели такое впечатление, толпа пришла в такую ярость, что председатель суда был даже вынужден прекратить заседание. Опасаясь еще худших волнений и потеряв всякую надежду убедить судей, Веррес и Гортензий решили отказаться от явки обвиняемого на вторую сессию. Откладывать ее до следующего года не имело теперь никакого смысла. Скандал мог разрастись до непредсказуемых размеров — общественное мнение и без того было раздражено до предела маневрами сенаторов при рассмотрении дел о вымогательстве. Не случайно Помпей во время своего консульства, еще до описываемых событий вынес проект закона о судебной реформе, по которому судьи должны были вербоваться не только из сенаторов, но также из всадников и из так называемых эрарных трибунов — имущественного, класса, следовавшего непосредственно за всадниками (так, по крайней мере, принято толковать этот термин). Веррес, разумеется, считался с возможностью поражения на процессе и заранее принял меры предосторожности — припрятал часть своего состояния, воспользовался кораблем, предоставленным ему жителями Мессины (Цицерон видел этот корабль в порту Велии на пути в Рим) и отбыл в Марсель, где и зажил жизнью миллионера в изгнании.
Отъезд обвиняемого, который тем самым косвенно признавал себя виновным, не мог остановить ход разбирательства. Теперь предстояло установить размеры ущерба, нанесенного Берресом. Предлагались самые разные цифры — сто миллионов сестерциев, потом сорок миллионов, договорились, кажется (если верить Плутарху), на трех миллионах. Враги Цицерона уверяли, будто его согласие признать столь малую цифру было соответствующие образом оплачено. Обвинение это основано не столько на истине, сколько, как кажется, на слухах, враждебных оратору. Сицилийцы, со своей стороны, дабы вознаградить Цицерона, отправили ему несколько обозов с продовольствием — это позволило новоиспеченному эдилу обеспечить продуктами городские рынки, следовательно, снизить цены и соответственно умножить свою популярность.
Цицерон решил опубликовать речи, которые он столь тщательно готовил для второй сессии, но которые ему так и не довелось произнести в суде. Речи эти составляют вторую часть веррин; они сохранились до наших дней и уже со времен Римской империи изучаются в школах как образец классического красноречия. Сюда входят пять обвинительных заключений, каждое из которых отражает определенную сторону преступной деятельности Верреса: нарушения законов, Допущенные им при отправлении городской претуры; такие же нарушения в пору сицилийской претуры; третья речь целиком посвящена махинациям Верреса и его агентов в связи с поставками в Рим зерна; в четвертой перечисляются хищения произведений искусства у городов и частных лиц; наконец, в последней речи Цицерон с подлинным пафосом рассказывает о жестокостях, совершенных Берресом во время наместничества, о заливших кровью весь остров незаконных казнях и пытках.
Почему Цицерон опубликовал эти речи? Во-первых, по-видимому, из тщеславия — автор хорошо понимал литературную ценность своих увлекательных, тщательно отделанных текстов, где юридические аргументы перебиваются отступлениями, самостоятельными рассказами, живописными описаниями, которые, бесспорно, делают честь таланту оратора. Но весьма вероятно, что публикация речей диктовалась и политическими соображениями. До тех пор Цицерон, как мы видели, опирался на аристократию или, во всяком случае, на определенную ее часть и отнюдь не стремился выглядеть революционером, «популяром». Об этом он прямо говорит сам в начале первой речи второй сессии «О городской претуре»: осуждение Верреса явится лучшим доказательством достоинств сенатской юрисдикции, покажет, что она способна обеспечить порядок, торжество справедливости и права> уважение к законам- Насколько искренни были подобные заявления? Мы склонны считать их искренними, ибо в речи они сопровождаются одной существенной оговоркой: всего этого удастся достичь, говорит Цицерон, только если обвинению предоставить возможность перед каждым процессом отводить после тщательного изучения кандидатуры некоторых судей с тем, чтобы исключить сговор клик и тайные сделки, — вроде тех, что позволяли себе Метеллы. Потому-то и приходится думать, что публикация полного текста веррин имела своей целью успокоить общественное мнение и приглушить распри, угрожавшие спокойствию государства: возражать против уже осуществленной судебной реформы было слишком поздно, но Цицерон надеялся ограничить размах принятых мер и не допустить, чтобы сенаторы, как было после реформы Гракхов, оказались полностью исключенными из состава суда. Показывая в верринах, что среди сенаторов тоже есть хорошие судьи, Цицерон шел прежним путем — все так же стремился добиться согласия сословий.
Публикация веррин, исход процесса и победа над Гортензием сделали Цицерона первым оратором Рима. Он стал эдилом, но добился и несравненно большего — славы.
После поспешного бегства Верреса, после публикации пяти речей второй сессии Цицерон выглядел победителем. Он преодолел на пути к высшим почестям еще один важный рубеж. Плутарх рассказал, как в эту пору протекала его повседневная жизнь — то в римском доме, унаследованном от отца, то на семейной вилле в Арпине, на собственной вилле в Помпеях, на мызе в окрестностях Неаполя. Владения эти, прибавляет Плутарх, были невелики, и в целом Цицерон вел весьма скромный образ жизни. Однако в основе его состояния, по словам того же биографа, лежало приданое Теренции, а мы уже говорили, что оно было изрядным. К этому нужно прибавить поступавшие Цицерону проценты с наследства, оставленного человеком, имя которого не сохранилось, и оцениваемого в девяносто тысяч динариев. По старинному Цинциеву закону ораторам запрещалось получать вознаграждение за защиту клиентов в суде. Цицерон, во всяком случае внешне, старался вести себя в соответствии с этим законом. Тот же Плутарх сообщает., что в Риме дивились упорству, с каким он отказывался от гонораров и от подарков своих подзащитных. Скорее всего именно тем же объясняется его поведение во время процесса Верреса, когда он передал римским властям продовольствие., бесплатно предоставленное ему сицилийцами. Сохранял ли он ту же щепетильность и в последующие годы, неясно. Существовало множество способов обходить Цинциев закон, главный из которых состоял в том, чтобы оформить гонорар в виде займа, предоставленного клиентом защитнику под незначительные проценты. Именно этим способом воспользовался Цицерон в 62 году при покупке дома Красса на Палатине. Он занял необходимую сумму у Корнелия Суллы и добился его оправдания в суде. Так, во всяком случае, излагает эту историю Валерий Максим, в какой-то мере, вероятно, опираясь на надежные источники, а в какой-то — на враждебные Цицерону слухи, распространявшиеся по городу и увековеченные, например, в «Инвективе» Саллюстия и в соответствующих главах «Римской истории» Диона Кассия.
Как ни скромно было состояние Цицерона сравнительно с теми, какими располагали римские аристократы в последние десятилетия республики, оно позволяло ему вести жизнь «разумную и достойную», в постоянном общении с филологами, его окружавшими, — греками и римлянами. Слово «филолог», употребленное в данном случае Плутархом, служило общим обозначением «интеллектуалов» — пишущей братии, жадно интересовавшейся языковыми реалиями (как Варрон, например) или историей литературы, любителей и ценителей старинного языка, риторов и философов, вроде верного Диодота. Возникающий из описаний Плутарха образ представляется вполне правдоподобным — он соответствует тому, что мы знаем о годах учения Цицерона, о сжигавшей его жажде знаний. Образ этот разумно корректирует также распространенное представление о Цицероне как о человеке, всецело занятом политикой, погруженном в интриги, постоянно рассчитывающем, какую выгоду может принести ему дружба с тем или иным значительным лицом, с рядовым плебеем или даже с отпущенником, если он обладает хоть некоторым влиянием. Именно такого рода наставления содержатся в знаменитом письме, которое в июле 65 года брат нашего героя Квинт написал Цицерону, дабы объяснить, как ему надлежит добиваться консульства на следующий год. Это письмо, известное под названием «Краткое пособие для претендентов на выборные должности» — «Commentariolum petitionis», содержит любопытный очерк политических нравов Рима конца республики. При чтении его становится очевидно, как важны были личные связи для достижения успеха на пути к почетным должностям и званиям, что, впрочем, подтверждается и рядом других свидетельств. Прежде всего свидетельством Плутарха: «Цицерон считал недопустимым, что ремесленники, пользующиеся бездушными орудиями и снастями, твердо знают их название, употребление и надлежащее место, а государственный муж, которому для успешного исполнения своего долга необходимы помощь и служба живых людей, иной раз легкомысленно пренебрегает знакомством с согражданами». По уверению Плутарха, так формулировал эту мысль сам Цицерон. Следуя ей, можно было пойти и еще дальше, — выяснять, где человек живет, где находится его вилла, у каких он бывает друзей, какими окружен соседями, собирать такого рода сведения по всей Италии. Эта манера была свойственна всем римлянам, но теперь, когда число граждан выросло неизмеримо, в столице от нее постепенно отказывались, и сохранилась она лишь в арпинском захолустье, где, наверное, Цицерон ее и усвоил вместе с другими чертами «муниципального мышления», столь характерного для него в молодости. В отличие от римлян из Рима он, вероятно, мало пользовался услугами своего «номенклатора» — раба или отпущенника, чья обязанность состояла в том, чтобы знать всех граждан по именам и в случае необходимости подсказывать хозяину имя собеседника.
В «Кратком пособии» говорится, что первые люди государства обычно довольно скупы на выражение дружеской приязни и что поэтому вполне достаточно обратиться к встречному крестьянину со словами «друг мой», дабы навсегда обеспечить себе его преданность. Подобные размышления раскрывали особенности общественной жизни Рима накануне консульства Цицерона, но восходили они к весьма отдаленному историческому прошлому и характеризовали римскую политическую систему в целом. То было «общество знати», которое основывалось на взаимной поддержке и благодарности. Здесь не было (или почти не было) общих идеи, теоретических воззрений на то, что полезно государству или что ему вредно. Соответственно не было партий в собственном смысле слова, то есть групп, исповедующих определенную идеологию, а было бесконечное разнообразие частных интересов, в силу которых люди поддерживали того или иного лидера, стараясь оказать ему услугу в расчете на то, что он из благодарности, в свою очередь, поможет им. Табличка для голосования была одним из средств обеспечить себе благодарность избранного магистрата. Способность оратора отстоять интересы своего клиента в суде точно так же побуждала людей оказывать ему поддержку на выборах, где за него голосовали не только сами подзащитные, но и все, кто рассчитывал рано или поздно воспользоваться его талантом.
Именно такими побуждениями были движимы участники комиций, избравших Цицерона в эдилы. По тем же причинам граждане избирали его в преторы на 66 год и в консулы на 63-й. Избрание, однако, зависело и от многих частных обстоятельств. Они могли оказаться весьма полезными, но могли и помешать достижению желанной цели. В данном случае неясно было прежде всего, хватит ли у Цицерона просто физических сил, чтобы сделать все необходимое для успеха его честолюбивых замыслов. После пребывания в Греции здоровье его улучшилось, но все же требовало постоянных забот. Он мало ел, ограничиваясь лишь одной настоящей трапезой в конце дня, часто принимал ванны, делал массаж и совершал прогулки, продолжительность которых устанавливали врачи. Эти меры, помимо всего прочего, помогли ему преодолеть препятствия, возникавшие в течение столь долгих лет на его пути оратора и политического деятеля.
В государстве шла напряженная борьба вокруг проблем внутренней политики. Их было много: восстановление полномочий народных трибунов, передача судов в ведение всадников, порядок назначения наместников провинций, введение наказаний за предвыборные махинации, возвращение цензорам права вносить имена граждан в списки сословий или исключать из них, правила раздачи зерна и многое другое. Но, как ни остро стояли все эти вопросы, как пи сталкивались при их решении интересы знати, откупщиков и народных вожаков, забыть об опасностях, которые то и дело угрожали государству извне, не было дано никому. На жизнь и деятельность нашего героя они редко оказывали прямое влияние, ибо он меньше всего стремился проявить себя на поле браня, по на характер жизни в столице они воздействовали сильно, и поскольку Цицерон постоянно размышлял о деятельности государственных институтов, о преодолении разлада между ними, внешние опасности не могли оставить его равнодушным. Становилось все более ясно, что любая военная победа усиливала честолюбивые стремления полководца-победителя и могла толкнуть его к нарушению законов. Не так давно все убедились в этом на примере Суллы, теперь, в 70 году, над массой граждан уже возвышались двое — Красс и Помпей. В доме одного и другого каждое утро толпились люди, пришедшие на поклон и стремившиеся прослыть друзьями. Но, по свидетельству Плутарха, не меньшим почетом пользовался и Цицерон, которому сам Помпей неоднократно выказывал особое уважение. Зачем Помпею оказался нужен Цицерон? Зачем полководец добивался союза с оратором и жаждал его услуг? Как понять столь странное поведение? Тут нужно учитывать следующее: римская военная машина, несокрушимая, когда была умело запущена на полный ход, останавливалась и разваливалась в руках бездарного или надменного командующего; но точно так же ее лишали силы распри политических клик. Помпеем владело гордое сознание, что он водрузил орлы римских легионов на границах Вселенной. На западе, в Испании, на юге, в Африке, он в самом деле достиг границ тогдашнего обитаемого мира. Теперь он рвался на Восток, повторить подвиги Александра, с которым его нередко сравнивали. Но для этого сенат или народное собрание должны были вручить ему командование с неограниченными полномочиями. Вот для этого-то ему и был необходим союз с Цицероном, ибо аристократы, особенно из самых закоснелых, так и не могли до конца примириться с Помпеем, с его «чрезвычайными» победами, с триумфами полководца, едва достигшего сенаторского возраста. Его слава, само его существование казались вызовом республиканскому укладу.
Несмотря па исчезновение с политической арены Сертория, на массовое истребление рабов из армии Спартака, мир все же никак не воцарялся в мире. Пираты бороздили Средиземное море, перехватывали караваны судов с продовольствием, забирали в рабство матросов, высаживались в самых неожиданных местах, грабили дома и селения, похищали жителей, требовали выкуп за каждого сколько-нибудь значительного человека, остальных убивали. Не менее опасен был Митридат. Мир, который он некогда заключил с Суллой, дал ему возможность подготовиться к новой войне, и в 74 году он перешел в наступление. Возглавить боевые действия против Понта сенат поручил обоим консулам того же, 74 года, двум аристократам — Авлу Аврелию Котте и Луцию Лицинию Лукуллу, который не так давно был квестором Суллы. Очень скоро стало ясно, что на самом деле войной руководит один Лукулл. Он одержал подряд несколько побед, обратил царя в бегство, захватил его сокровища и казну. Отчаявшись вернуть себе прежний блеск и владения, Митридат приказал перерезать всех женщин своего гарема. Поступок этот потряс Лукулла — только теперь он по-настоящему понял, какая пропасть отделяла римлянина от варвара. Примечательно, что война, по-видимому, вообще внушала Лукуллу ужас. Не однажды пытался он спасти от разрушения взятые приступом города, но каждый раз вынужден был уступать собственным солдатам, для которых грабеж и обогащение составляли единственную цель войны. Лукулл с упорством и энергией продолжал кампанию — и оплакивал беды, которые она за собой влекла. Говорят, он разрыдался на развалинах Амиса точно так же. как некогда Сципион Эмилиан на развалинах Карфагена. Амис был колонией Афин, и уже по одной этой причине разрушение города представлялось Лукуллу чудовищным преступлением. Воспитанный в духе эллинской культуры, слушавший, как и Цицерон, Филона из Лариссы и Антиоха Аскалонского, он завидовал Сулле, сумевшему в свое время воспрепятствовать разграблению захваченных приступом Афин. Вступив в Амис, Лукулл постарался восстановить здания, сгоревшие во время штурма, и взял под свое покровительство «интеллигентов», которых война заставила искать здесь убежища. Так, он подарил своему приближенному Мурене пленного грамматика Тиранниона, которого тот немедленно отпустил на волю; позже Тираннион поселился в Риме, стал близким человеком Цезарю, Аттику, Цицерону.
Фигура Лукулла весьма показательна для описываемой эпохи. В ней нашли себе отражение самые разные силы, раздиравшие государство в годы особенно бурной его экспансии, когда Цицерон так рьяно старался сохранить в Риме согласие сословий. Война против Митридата первоначально была навязана Риму царем, приказавшим вырезать всех италиков, населявших восточные провинции. Но когда провинциалы и союзники были отомщены и избавлены от угрозы новых нашествий, возник соблазн продолжать наступление и расширить сферу римского влияния на Востоке. Здесь тоже Рим постепенно представал как единственная сила, способная защитить от варваров эти глубоко эллинизированные края, города, гордые своей культурой, своеобразное их содружество, которое установилось со времен Александра и побед его преемников
Союз Рима с этими царствами и включение их полисов в состав империи влекли за собой и отрицательные последствия, в которых кое-кто из римлян полностью отдавал себе отчет. Под правлением Верреса и некоторых его предшественников сицилийцы уже познали, во что могла превратиться власть римлян. Мы помним, что Цицерон восставал во имя справедливости против хищнической эксплуатации покоренных территорий — восставал, правда, не столько по общим моральным соображениям, сколько с целью успокоить провинциалов и в конечном счете добиться сплочения империи. Законность и справедливость являлись, на его взгляд, прежде всего аргументами, средством убедить. Нравственное Благо было лишь иным обозначением Пользы.
Тех же принципов придерживался и Лукулл, проводя свою политику в Азии, куда вернулся после победоносных походов в 70 году. Он застал край в катастрофическом состоянии. Сообщества откупщиков и преторы, действовавшие больше как ростовщики, чем как магистраты, истощили его ресурсы до предела. Лукулл запретил ростовщикам конфисковывать в счет погашения долга больше одной четверти доходов должника и установил предельный рост ссуды — 1 процент в месяц. Мало-помалу провинция стала обретать былое благополучие. Но Лукулл не хотел ограничивать свою деятельность отведенной ему территорией. Ясно представляя себе, как тесно Митридат связан с царем Армении Тиграном, он напал на последнего и поначалу добился успехов. Но солдаты, как некогда в армии Александра Македонского, отказались двигаться все дальше и дальше на Восток. В Риме общественное мнение также склонялось на сторону противников полководца. Сыграли свою роль откупщики, которых Лукулл лишил скандальных прибылей, да и вожаки народной партии были весьма не прочь отнять командование у одного из самых славных представителей знати, к тому же в прошлом — квестора Суллы. Враги приготовили Лукуллу и преемника, единственного способного состязаться с ним в славе — Гнея Помпея. Он, разумеется, тоже сражался в свое время в рядах сторонников Суллы, но сумел вовремя отдалиться от диктатора и в конце концов оказался даже как бы его противником.
В 67 году враги Лукулла добились для Помпея чрезвычайного командования в войне против пиратов, тем самым обеспечив ему в будущем триумф. Назначение было подготовлено народным трибуном Авлом Габинием, который выступил с законопроектом, предлагавшим вручить «консулярию» (без дальнейших уточнений) чрезвычайные полномочия по борьбе с пиратами. Законопроект предусматривал сохранение за таким командующим полномочий в течение трех лет и распространение их не только на все Средиземноморье, но также на прибрежную полосу глубиной до 50 миль; «консулярию» предоставлялось право самому избирать легатов, поручать им под общим его руководством командовать отдельными частями и подразделениями; на расходы он получал шесть тысяч аттических талантов Когда Габиний представил проект сенату, он вызвал почти всеобщее сопротивление Цицерон, впрочем, хранил молчание, и над причинами его стоит поразмыслить Мы помним, что отношения Цицерона с Помпеем были довольно дружескими — последний навестил оратора в его доме, а это считалось в Риме если не признаком политического союза, то, во всяком случае, признаком высокого уважения Удачливый соперник Гортензия не разделял политических предрассудков наиболее консервативных сторонников аристократии, но не хотел также оказаться в рядах популяров Подобная позиция и обуславливала его молчание — он ждал решения трибунных комиций, на рассмотрение которых должен был поступить проект Габиния и которые должны были определить, станет ли проект законом. В том тексте, который Габиний представил комициям, Помпей уже назывался по имени, а полномочия его расширялись еще больше. Отцам-сенаторам важно было любой ценой избежать разрыва с народным собранием, чреватого революционной ситуацией, подобной той, что сложилась во времена Гракхов. Они не стали больше возражать, и закон прошел. Открыто за проект Габиния выступил лишь один молодой сенатор квесторского ранга — Гай Юлий Цезарь. Он был моложе Цицерона на пять лет и, хотя происходил из патрицианской семьи, состоял в родстве с Марием и Цинной: тетка его Юлия вышла замуж за Мария, а сам Цезарь женился на дочери Цинны Корнелии. Эти связи показались Сулле подозрительными — он попытался принудить Цезаря к разводу, тот пошел на крайний риск и отказался последовать совету диктатора. Знатные друзья Цезаря, имевшие на Суллу большое влияние, добились прощения для непокорного, но отныне он оказался в стане противников режима. Стремясь избежать столкновения, которое стало бы для него роковым, Цезарь в 81 году уехал в Азию и вошел в штат наместника провинции Минуция Терма. Здесь он неоднократно проявлял военный талант, в частности, в Киликии и при осаде Митилены. В 78 году после смерти Суллы Цезарь вновь появился в Риме; имя его уже было настолько известно, что он мог рассчитывать на быструю и беспрепятственную политическую карьеру в лагере популярор, куда он и вернулся, стараясь, впрочем, держаться в стороне от заговоров и интриг. В 69 году Цезаря выбрали квестором на следующий, 68 год и отправили в Дальнюю (то есть Южную) Испанию. Через год он вернулся и занял свое место в курии. Сидя неподалеку от Цицерона, он слушал в одном из заседаний, как Габиний представлял свой законопроект. Верный избранной им линии поведения, Цезарь поддержал представленный текст, стремясь расшатать традиционные политические структуры, давно устаревшие и противоречившие успешному решению стоявших перед государством задач. Рассчитывал ли он уже в это время создать прецедент, которым когда-нибудь сможет воспользоваться? Вряд ли. Если бы он смотрел так далеко, то не стал бы, наверное, содействовать возвышению человека, которому менее чем через двадцать лет предстояло начать против него гражданскую войну. По-видимому, Цезарь, как и Цицерон, считал, что величие и безопасность государства требовали политики более смелой и решительной, которая открывала бы пути человеку, способному обеспечить победу, вместо того чтобы снова и снова поручать ведение войны полководцам, чье единственное достоинство — принадлежность к сенатскому сословию и, следовательно, возможность продвигаться по служебной лестнице давно проторенными путями. Габиний, в сущности, возрождал ради войны с пиратами тот закон, который тридцатью пятью годами раньше народное собрание приняло ради войны с Югуртой, поручив завершение ее Гаю Марию. Такое решение Цезарь мог поддерживать открыто. Цицерону, чувствовавшему настроение сената, оставалось лишь питать надежду на то, что закон пройдет в народном собрании.
Войну с пиратами Помпей завершил за одно лето, по другая опасность — Митридат — беспокоила Рим по-прежнему. Последние кампании Лукулла были неудачны; посланные ему на смену проконсулы Марций Рекс и Ацилий Глабрион не сумели выправить положение. Приходилось снова обращаться к Помпею. Была повторена та же процедура, что прошла с успехом предыдущей весной: в январе 66 года народный трибун Гай Мацилий Крисп выступил с проектом распространить полномочия, врученные Помпею по закону Габиния, на новые провинции и на ведение войны против Митридата. Цицерон, который только что с шумным успехом был избран претором, намного опередив по числу голосов своих соперников, на этот раз молчать не захотел. С ростр, перед народом, он произнес первую свою политическую речь, вскоре опубликованную под названием «О предоставлении империя Гнею Помпею» или, в соответствии с другой версией, заслуживающей меньше доверия, — «В защиту Манилиева закона». Почему Цицерон решил прервать молчание?
Существует множество объяснений этого шага. Наиболее неблагоприятные для Цицерона содержатся у же в «Истории» Диона Кассия — автора, вообще враждебного нашему герою. Дион прежде всего утверждает, будто Цицерон лишь следовал за Цезарем; Цезарь же, по его мнению, считал, что закон все равно пройдет, что, поддержав закон, он укрепит свое положение среди популяров и получит возможность в дальнейшем добиваться подобных же почестей и что Помпей, сосредоточив в своих руках такую огромную власть, возгордится и тем восстановит народ против себя. Цицерон же, по утверждению Диона Кассия, стремился занять господствующее положение в государстве и, предвидя одобрение закона, выступил в его защиту с единственной целью показать знати и народу, что силы, которые он поддерживает, всегда побеждают. В связи с этим историк обвиняет Цицерона в двуличии и в том, что в зависимости от обстоятельств он выступает то за аристократию, то за популяров. Объяснения такого рода явно навеяны политическим опытом несравненно более позднего времени. Анализ речи, произнесенной Цицероном, позволяет предложить другое объяснение, полнее учитывающее всю сложность ситуации.
Молодой оратор начинает речь уверенно, несмотря на то, что впервые выступает с ростр, ибо только что одержал победу на выборах и стал претором. Он говорит, что Помпей — полководец, который уже много раз делом доказал, чего он стоит, магистрат, которому тот же народ только что выразил свое восхищение и доверие. В таком выступлении самом по себе не было ничего необычного, поскольку каждый магистрат обладал правом непосредственного обращения к народу. Правда, чаще всего законопроекты такого рода рассматривались предварительно в сенате, но то было лишь обыкновение, в принципе же утверждало законы собрание граждан, воплощавшее majestas — величие римского народа. Изложение Цицерона отличалось простотой и ясностью плана — даже люди, не привыкшие размышлять на подобные темы, могли сразу понять, в чем состоит дело. Речь идет, говорит Цицерон, «о славе римского народа, в особенности о славе воинской, завещанной вам предками». Речь идет далее о спасении дружественных и союзных городских общин, о сохранении доходов, поступающих из восточных провинций, без которых Рим не сможет отстоять то высокое положение, которого своими деяниями добились его предки. Речь идет, наконец, о том, чтобы смыть с имени Рима пятно, которое останется на нем навсегда, если преступления Митридата и далее пребудут безнаказанны. С ловкостью оратора и с подлинным проникновением в психологию своего народа Цицерон соединяет воедино доводы, особенно сильно действующие на римлян, взывает к таким постоянным их чувствам, как любовь к славе, верность обязательствам, жажда обогащения, — последнее было в их глазах лишь справедливым воздаянием за славу и верность.
Воскрешая далее в общих чертах историю войны с Митридатом, Цицерон остерегается бросить малейшую тень на заслуги Лукулла. Напротив того, он их подчеркивает, восхваляет полководца-аристократа и приписывает его поражение одним лишь превратностям Фортуны, замечая тут же, что переговоры, которые начал с Митридатом Серторий и которые поставили под угрозу целостность Римской империи, — результат интриг марианцев. В войне, в которой Помпею предлагается поручить командование, заинтересованы, как явствует из всего сказанного, не популяры и не сенаторы, а весь Рим, Рим как единое целое. Что же остается от утверждения Диона Кассия, будто Цицерон «вел двойную игру»? Не естественнее ли считать, что он стремился объединить граждан предельно простой идеей — идеей укрепления и величия не плебса, не того или иного социального класса, а всего Рима, римского государства в его целостности.
Неоднократно высказывалась гипотеза, что, защищая закон Манилия, Цицерон, сам происходивший из сословия всадников, выражал интересы всадников и откупщиков, которые, по мнению тех же исследователей, получали львиную долю доходов от провинций. Система государственных откупов, засвидетельствованная со времени Второй Пунической войны, была частью более широкой системы римского управления провинциями. Изначально откупа не были достоянием какого-либо определенного «класса», а были доступны людям любого общественного положения, способным приобрести свою долю в откупной компании или, как она иногда называется, компании публиканов. Конечно, участники компании постепенно обогащались и добивались всаднического ценза, но никакой юридической связи между положением всадника и членством в откупной компании не существовало. Правда, между откупщиками и наместниками провинций нередко возникали конфликты, поскольку первые стремились извлечь возможно больше выгод, обирая и притесняя провинциалов, тогда как последние по самому смыслу своей должности старались ограничить аппетиты публиканов. Мы помним, как Лукулл пытался решить эту проблему и как его действия вызвали сопротивление всадников, приведя к объединению их с популярами с целью добиться отзыва Лукулла. То был чисто тактический союз, в котором такому демагогу, как Луций Квинкций, на время оказалось по пути с «деловыми людьми», пострадавшими от действий Лукулла во время его проконсульства в Азии в 70 году. Но все эти распри между финансовой администрацией и наместниками провинций, убеждал Цицерон своих слушателей, все злоупотребления, обнаруженные ю тут, то там, легко обуздать мерами местными и частными, никаких чрезвычайных шагов они не требуют, и помышления о них должны отступить теперь перед высшими интересами Рима. Сплотить же вокруг себя всех римлян в, состоянии только один человек — Помпей. Лишь он способен на то, чего достигали своими талантами полководцы былых времен, — спасти республику.
Таков был общий смысл речи Цицерона, обращенной к гражданам Рима, в которой он убеждал их еще раз предоставить Помпею чрезвычайные полномочия. Сопротивление нескольких сенаторов, из самых непримиримых противников Помпея, таких, как Лутаций Катул или Гортензий, не смогло ничему помешать. Закон был поставлен на голосование, утвержден, и Помпей отправился на Восток, где принял командование от только что назначенного наместником Ацилия Глабриона и, главное, от Лукулла. Последний вернулся в Рим и сумел — не без трудностей — в том же, 66 году добиться триумфа. Обогатившись еще более за счет сокровищ, награбленных в царских резиденциях Митридата, Лукулл после триумфа удалился в свои Квиринальские сады и предался ученым занятиям, которые любил больше всего на свете. Он окружил себя философами, выписанными из Греции, писателями и поэтами и ни разу не подумал попрекнуть Цицерона его речами, прославлявшими Помпея.
Время между эдилитетом и претурой, то есть между 69 и 66 годами, Цицерон провел весьма деятельно. В качестве эдила он должен был устроить игры, которые на тот год приходились трижды — игры в честь Цереры, Либера и Либеры в апреле, в честь Флоры в начале мая и так называемые Римские игры в начале сентября. Он отпраздновал их по возможности с блеском, насколько позволяло его состояние (как признается он в одном месте трактата «Об обязанностях»), то есть без великолепия, доступного лишь обладателям несметных богатств, но в то же время учитывая, что жители Рима не прощают тех, кто проявляет в подобных случаях чрезмерную бережливость: нравиться толпе было обязательно для каждого, кто посвятил себя политике. Пространный пассаж, где Цицерон размышляет о значении, которое имели для него игры, содержится в пятой речи второй сессии процесса Верреса («О казнях»), Церера, Либер и Либера, пишет он, по преимуществу плебейские божества; Флора — богиня изобилия, ее ежегодно пробуждает к жизни Весна, «мать всего народа римлян, обеспечивающая его выживание и умножение»; наконец, Римские игры славят Юпитера и два других божества капитолийской триады, Минерву и Юнону, снова и снова благодарят их за благосклонность к римлянам. Эти строки, объясняющие, сколь высоким религиозным значением обладает деятельность эдила, написаны в то самое время, когда Цицерон занимал эту магистратуру. Пламенным религиозным чувством они не отличаются, но показывают, как понимал Цицерон характер магистратской деятельности. Перед нами как бы очерк «гражданской теологии», из которого явствует, какое место занимала религия в жизни римского государства. Цицерон не слишком верит в то, что боги, живущие в заоблачных высях, готовы осыпать Рим благодеяниями, но он отдает себе отчет в том, что сакральные обряды и в первую очередь игры, сводящие воедино бесчисленные толпы охваченных единым чувством граждан, укрепляют нравственные и духовные узы, связывающие воедино всех римлян. Недаром понтифик Котта в третьей книге трактата «О природе богов» красноречиво заявляет, что до конца останется верен религиозным воззрениям предков и приложит все силы, дабы в Риме соблюдались церемонии и обряды, сохранялись исконные верования. Их действенная сила явствует из блистательной судьбы Рима, пишет Цицерон, «города, который никогда не смог бы стать столь великим, если бы не пользовался особой благосклонностью богов».
Таковы были в те годы взгляды Цицерона; он считал себя посредником между гражданской общиной и миром богов, а также, во всяком случае на время магистратуры, хранителем Фортуны Рима. Можно, конечно, сказать, что такая оценка своей роли — лишь проявление тщеславия, в действительности же совсем другие магистраты ведали религиозной жизнью города, и роль эдила была более скромной, так как заключалась главным образом в организации народных развлечений. Что ответить на это? Цицерон, бесспорно, рассматривал себя как подлинного служителя богов, а не как специалиста по развлечениям, но дело здесь не сводилось к одному только тщеславию. Он знал, что политическое бытие Рима определяется в конечном счете чувствами, общественными инстинктами, эмоциями граждан и во многом зависит поэтому от тех особых убеждений и верований, которые объединяли словом religiones, означавшим совокупность религиозных представлений народа. Они преисполняли души страхом перед гневом богов, но они же внушали и надежду, веру в священную нерушимость клятв и незыблемость принятых обязательств, в могущество обрядов — словом, во все те ценности общественной жизни, которые в конечном счете
Верность Цицерона принципам справедливости и милосердия, столь ярко сказавшаяся в речах против Верреса, особенно на второй сессии, оказалась под сомнением, когда начался суд над Марком Фонтеем, пропретором Нарбонской Галлии. Он тоже обвинялся в вымогательстве, и процесс на первый взгляд имел тот же смысл, что процесс Верреса, но... на этот раз Цицерон выступал в роли обвинителя пострадавших! Значит ли это, что он допускал существование двух моралей, одной — если речь шла о сицилийцах, другой — когда дело касалось галлов?
Процесс Фонтея состоялся, насколько можно судить, в 69 году, сразу после вступления в действие нового закона о судах. Как и процесс Верреса, он должен был проходить в две сессии, но сохранилась лишь часть той речи, что Цицерон произнес в ходе второй.
Марк Фонтей, почти ровесник Цицерона, родом из Тускула, входил сначала в число марианцев и пытался продвигаться по служебной лестнице с их помощью, но позже перешел на сторону Суллы, служил в Дальней Испании, а затем в Македонии, неизменно проявляя деятельную энергию и военные способности. Претором он стал, по-видимому, в 77 году, а в 76—74-м управлял Нарбонской Галлией, как раз в то время, когда Помпей вел в Испании войну против Сертория. В провинции, вверенной Фонтею, вот-вот готово было вспыхнуть восстание, и тогда проходы в южной Галлии, соединявшие Италию с Испанией, оказались бы перекрытыми, а коммуникации Помпея и его коллеги Метелла перерезанными. В обязанности Фоитея входило поддержание спокойствия в тылах действовавшей в Исиании армии, и роль, ему отведенная, была в этих условиях стратегически ключевой. Уже одно это отражало принципиальную разницу между положением Фонтея в Галлии и Верреса в Сицилии. К тому же Фонтей имел дело с воинственно настроенными племенами, а не с сицилийцами — людьми полисной цивилизации, знавшими, что такое коллективная нравственная ответственность, признававшими моральные нормы, внятные всем людям, достойным этого имени, Фонтей, как представляется, обращался очень сурово с местными галльскими племенами, обитавшими между Пиренеями и холмами современного Руэрга, и, напротив того, весьма благосклонно относился к римским городам, вроде Тулузы или Нарбона, и к городам свободным, таким, как Марсель. В защитительной речи Цицерона есть аргумент, на котором стоит остановиться. Оратор дает как бы поименный перечень наиболее видных сенаторов и комментирует его; люди, способные к военному командованию, замечает он как бы мимоходом, в курии не слишком многочисленны; что это? — ловкий ход адвоката, дающего понять судьям, что необходимо оправдать его подзащитного, поскольку он принадлежит к этой редкой и столь важной для государства категории? Не только. Совсем недавно завершился ряд восточных кампаний, в которых бездарные командующие сменяли один другого, но так и не сумели добиться победы. Рим, усыпленный долгим миром, казалось, в самом деле растерял своих полководцев, которым не было числа вплоть до конца предыдущего века. Бесконечные судебные преследования способных государственных деятелей, вызывавших своими успехами ненависть и зависть политических противников, истощили в конце концов человеческие ресурсы правящего класса. Тут и кроется одна из причин, почему Цицерон согласился участвовать в этом процессе. Он взялся защищать человека, который на деле доказал, будь то в боях с фракийцами, вольсками или аллоброгами, сколь нужен он Риму. Фонтей оказал государству реальные услуги, и на их фоне незаконная раздача винных откупов и реквизиции зерна или денег, необходимых для снабжения действующей армии, или выплаты жалованья солдатам казались пустяками. Фонтей — не Веррес. В заключительной несохранившейся части речи Цицерон стремился это доказать. Удалось ли ему убедить судей, вынесли ли они Фонтею оправдательный приговор, сведений у нас нет.
Процесс Фонтея не носил политического характера, но обладал тем не менее определенным государственным содержанием. Процесс же Цецины, в котором Цицерон выступал скорее всего в 69-м или, может быть, в следующем году, был чисто гражданским. В результате многочисленных передач состояния от одного наследника к другому создалось положение, при котором право на владение оспаривали Цецина и некий Эбуций, действовавший ранее как доверенное лицо Цезенции, жены Цецины, ко времени процесса скончавшейся. Дело было очень запутанное, и разбор его велся на основе правовых норм, нам теперь далёко не всегда понятных. Спор касался, в частности, истолкования выражений, встречавшихся в преторском эдикте, который был основополагающим документом дела. Выступая перед членами суда в третьей и последней сессии, Цицерон блеснул изощренностью диалектики и показал, что владеет всеми тонкостями юриспруденции.
Речь в защиту «малого человека» Деция Матриния, претендовавшего на должность писца при эдиле, принято относить к 67 году. Писцы составляли коллегию, пополнявшую свои ряды путем кооптации. Цензоры отнесли Матриния, до тех пор принадлежавшего к сословию всадников к эрарным трибунам, то есть к разряду граждан, более низкому, чем всадники, и следовавшему непосредственно за ними. Обстоятельство это смущало писцов, они колебались, не решаясь принять Матриния в свою ассоциацию. Цицерон, кажется, сумел рассеять их сомнения — если, конечно, эдил Матриний, упоминаемый в одном из писем Цицерона Целию от 50 года, то же лицо, что истец в процессе 67 года. Что заставило Цицерона выступить с защитой человека, не обладавшего ни значительным состоянием, ни властью? Точных сведений нет, но не из Арпина ли родом герой процесса?
В 66 году, будучи претором, Цицерон взял на себя защиту Фавста Суллы, сына диктатора, которого один из трибунов (имя его не сохранилось) собирался обвинить в незаконном обогащении; предлогом трибун выставил следующее обстоятельство: Фавст Сулла получил наследство от отца и, значит, стал хозяином богатств, приобретенных явно незаконным путем. Дело до суда не дошло, и речь свою Цицерон произнес на сходке граждан, доказавши, что суд и не должен принимать его к рассмотрению. Подоплека же дела, вполне очевидно, была политической. Цицерон считал, что не должно воскрешать в памяти годы диктатуры. То, что в законодательстве Суллы подлежало изменению — суды, например, — давно уже было изменено, и продолжать нападки на диктатуру значило лишь создавать благоприятную атмосферу для нескольких смутьянов, замысливших использовать в своих интересах настроения народа К тому же нападки эти подрывали авторитет людей, сотрудничавших с Суллоы, в толе числе и талого явно этого не заслуживающего человека, как Помпей. Поддержка смутьянов могла привести лишь к разжиганию давней розни между крайне консервативными деятелями сената и вождями партии, которая некогда называлась марианской. Заметим, между прочим, что именно путем поддержки смутьянов пошел Цезарь в 64 году: он сумел после отправления эдилитета сделаться председателем суда по разбору дела о разбое и осудил двух подручных Суллы — Луция Лусция и Луция Беллиена, Что касается Цицерона, то он исходил из необходимости поддержать законопроект Манилия, поручавший Помпею вести войну против Митридата, а в этих условиях начинать процесс против сына Суллы было явно неразумно — он раздражил бы сенаторов, а вожакам народной партии дал бы возможность скомпрометировать Помпея.
В эти годы Цицерону пришлось противостоять опасностям, надвигавшимся на него с разных сторон. Он понимал, что через два года, в 64 году, предстоит ему выдвинуть свою кандидатуру в консулы и, естественно, потребуется поддержка не только сенаторов, но в первую очередь народа, Он был первым человеком в роде, претендовавшим на место консула, был, другими словами, «новым человеком» и не мог, как многие другие кандидаты, рассчитывать, что имя его само по себе послужит лучшей рекомендацией. Голосование по законопроекту Манилия показало, насколько популярен Помпей; Цицерон выступил в поддержку закона и как трезвый политик постарался воспользоваться этим обстоятельством в своих интересах. Любое посягательство на Помпея, любой ущерб, нанесенный популярности полководца, без сомнения, отразились бы на положении Цицерона. Это объясняет не только отношение оратора к Фавству Сулле, но и действия его в еще одном любопытном эпизоде в конце декабря 66 года, в последние дни его претуры.
Десятого декабря 66 года, когда трибунские полномочия Манилия уже истекали, ему было предъявлено обвинение в мздоимстве, исходившее, по-видимому, от сенаторов, которые не могли простить трибуну той роли, которую он сыграл в присвоении Помпею чрезвычайных полномочий. Обвинение было представлено в суд; в суде в качестве претора председательствовал Цицерон. Было это в предпоследний день его магистратуры, двадцать восьмого декабря, Цицерон назначил первое слушание дела на следующий же день, что вызвало бурные протесты друзей Манилия, поскольку по старинному обычаю обвиняемому предоставлялось десять дней, для подготовки защиты. Протесты были так сильны, что Цицерону пришлось по настоянию трибунов прервать заседание; на стихийно возникшей сходке он обратился к протестовавшим с импровизированной речью. Объяснил причину своего решения: ему оставалось быть претором всего один день, он не хотел откладывать дело на то время, когда уже не сможет им заниматься; Цицерон прибавил, что намеревался выступить в защиту Манилия. Слова его, говорит Плутарх, успокоили толпу. Тогда (по словам того же Плутарха) Цицерон тотчас же, не дав гражданам разойтись, произнес речь «против олигархов». От речи не сохранилось ни строчки, но, по всему судя, цель оратора состояла в том, чтобы отмежеваться от сенаторов, занимавших крайне консервативные позиции (Гортензий, Лутаций Катул и др.) и еще раньше выступавших против Манилиева закона. В своей речи Цицерон усиленно подчеркивал, что держится среднего пути и ставит интересы государства выше интересов той или иной партии. Такая позиция могла, конечно, обеспечить ему самую широкую поддержку на выборах, но тем не менее было бы несправедливо сводить все его действия к мелким расчетам.
В год своей претуры Цицерон произнес также речь в защиту Авла Клуенция Габита. Участников этого дела мы уже встречали на процессе незадачливого клиента Цицерона по имени Скамандр. На этот раз Цицерон занял противоположную позицию — он защищал человека, против которого выступал на прошлом процессе. Клуенций не был больше жертвой попытки отравления; напротив того, по уверениям обвинителей, он сам пытался отравить, и не одного, а многих. Почему Цицерон взялся за этот процесс? Ведь всего несколькими годами раньше он защищал тех людей, которые ныне стали его противниками. Может быть, именно в этом обстоятельстве и заключен ответ на поставленный вопрос. Второй суд давал Цицерону возможность в косвенной форме указать на достоинства вступившего в силу закона о судах и противопоставить его закону Суллы, в соответствии с которым составлен был в прошлом процессе трибунал под председательством Юния Брута, так скандально обнаруживший свою продажность. Политический подтекст процесса уловить трудно, но все же, как кажется, возможно. Тут важно то место в речи на процессе, где Цицерон подчеркивает, насколько изменилась ситуация с введением нового закона, насколько очистилась атмосфера, когда в судах стали заседать не одни лишь сенаторы, а и представители других сословий, так что отпали былые поводы для недоверия и неприязни. Суд оправдал Клуенция. Не исключено, что в этом мало привлекательном деле, где члены враждебных и неразрывно связанных семей боролись друг против друга, Клуенций вовсе не был невинно оклеветан.
Так думал, наверное, и Цицерон, поскольку позже сам похвалялся, как ловко сумел «пустить пыль в глаза» судьям.
Как видим, исполнение преторских обязанностей не мешало Цицерону принимать участие в многочисленных судебных делах — и далеко не все из них нам известны. Он чувствует себя на форуме господином, берется защищать людей, невиновность которых далеко не очевидна, и, по-видимому, с удовольствием виртуозно пользуется методом доказательств in utramque partem, которому некогда научился у Филона из Лариссы и владение которым считал одним из непременных условий успешной деятельности судебного защитника. Публика восхищалась его искусством, как восхищалась талантливым гистрионом или гладиатором, умеющим ловко наносить удары и не менее ловко увертываться от них.
Из речей, произнесенных в годы, отделявшие претуру Цицерона от его консулата, нам известны еще две — «В защиту Гая Орхивия» и «В защиту Квинта Муция Орестина». Первая (произнесенная, по-видимому, в 65 году) была чем-то вроде жеста солидарности по отношению к бывшему коллеге, который в предшествующем году отправлял обязанности претора совместно с Цицероном. Не исключено, что он помог Цицерону в процессе Фавста Суллы. Теперь Гая Орхивия обвиняли в мздоимстве; Цицерон добился его оправдания и тем навсегда снискал его признательность. Об Орхивии нам известно немного, но нет сомнения, что «друзей», на которых можно рассчитывать, у Цицерона было немало. Их голоса на предстоящих выборах — еще один шаг, приближавший его к вожделенному консульству. Гай Орхивий и его «друзья» упоминаются в «Кратком наставлении», которое мы цитировали ранее. Имя Орхивия фигурирует там наряду с именами трех других лиц — Квинта Галлия, Гая Корнелия, Гая Фундания, которые, как пишет Квинт, также обратились к Цицерону в трудную минуту и «доверили ему защиту своих интересов».
В процессе Фундания, судя по нескольким сохранившимся отрывкам из речи Цицерона, рассматривалось дело, связанное с подкупом избирателей; Цицерон воспользовался этим процессом, чтобы высмеять претензии аристократов, возводивших свою генеалогию к бесконечной древности, подобно жителям Аркадии, «рожденным, когда еще и луны не было». Отсюда делался вывод, что «новые люди», то есть подобные самому Цицерону, имели не меньшее право на магистратуры, чем знать.
В процессе Квинта Галлия дело шло о подкупе. В речи своей Цицерон говорил о непостоянстве толпы, о ловкости ораторов, выступающих на сходках, упоминал Луция Сергия Катилину, друга Галлия, который поддерживал Катилину в его борьбе за консулат летом 65 года. Так впервые прозвучало в устах Цицерона имя человека, которому предстояло стать злейшим его врагом. Возможно, однако, что они встречались и значительно ранее, если правда, что Катилина в молодости служил, как и Цицерон, в преторской когорте Гнея Помпея Страбона. Если учесть, что Катилина стал претором в 68 году, то есть двумя годами раньше Цицерона, он был, видимо, и старше его. Катилина участвовал в гражданской войне сначала в войсках Страбона, а после его смерти на стороне Суллы, преодолев искушение стать марианцем. Политические взгляды привели Катилину в лагерь победителей, он сделался убийцей, одним из тех, кому Сулла поручал устранение своих противников, и предавался этому занятию с яростью и страстью. Еще в самом начале похода, которому суждено было завершиться у Коллинских ворот Рима победой Суллы, Катилина убил собственного брата и, чтобы избежать суда, внес его имя в проскрипционные списки, прибегнув к маневру, уже известному нам по делу Росция из Америи. По приказу диктатора Катилина подверг пытке Марка Мария Гратидиана из Арпина. Гратидиан умер под пыткой. Сам же Гратидиан несколькими годами ранее принудил к самоубийству Квинта Лутация Катула, бывшего мужа своей сестры. Во время проскрипций Катилина подстроил также убийство Квинта Цецилия, мужа своей сестры. Такого рода преступления позволили ему скопить немалые богатства, особенно привлекавшие этого выходца из разорившейся аристократической семьи.
Алчность Катилины подогревалась постоянной жаждой все новых и новых удовольствий. Он любил окружать себя юношами, которые принимали участие в его оргиях. В 73 году Катилине предъявили обвинение: он соблазнил весталку Фабию, сестру Теренции, то есть невестку Цицерона. Дело получило огласку, было передано в суд, и спас Катилину лишь консул 78 года Квинт Лутаций Катул; в жертву манам его отца Катилина принес в свое время Мария Гратидиана. После претуры Катилина получил в управление провинцию Африку, где проявил самые черные стороны своей натуры. Он грабил жителей так, что они не вытерпели и послали делегацию с жалобой в сенат. В 66 году наместник вернулся в Рим и был привлечен к суду по обвинению в вымогательстве. Обвинителем выступил Публий Клодий — человек, с которым нам вскоре предстоит познакомиться; в ту пору он едва вышел из юношеского возраста. Цицерон предложил взять на себя защиту Катилины. Катилина, насколько можно судить, отклонил предложение, либо потому, что не хотел быть обязанным человеку, который будет конкурировать с ним на консульских выборах, либо потому, что не придавал серьезного значения обвинению и не видел надобности в защите. Почему, однако, Цицерон предложил помощь человеку, чья вина не вызывала сомнений? Было ли то данью воспоминаниям о совместной военной службе? Иди Цицерон стремился заранее обезоружить самого сильного конкурента? А, может быть, не хотел бередить старые раны, надеялся установить мирную атмосферу, в которой растаяли бы воспоминания о гражданских распрях, разлагавших жизнь государства? Предлагая помощь Катилине, Цицерон не отступал от своих принципов, в соответствии с которыми он несколькими месяцами ранее согласился защищать Фавста Суллу. Очень часто предъявляемый Цицерону упрек в непостоянстве, как видим, не столь уж обоснован, если более внимательно вглядеться в многообразие политической жизни тех трудных лет, когда главная задача состояла в устранении социальных конфликтов, всего, что могло повлечь за собой новую гражданскую войну. Цезарь выбрал, по-видимому, противоположную линию. Мы знаем, как он нападал на бывших сотрудников Суллы, и еще узнаем, как помогал он сторонникам Красса подрывать авторитет сената. В дальнейшем путям Цезаря и Цицерона суждено расходиться все дальше и дальше. Цезарь сосредоточит все усилия, чтобы сломать правовую систему государства, Цицерон будет бороться за уважение к законам и за возрождение мира в общине. Именно это стремление заставляло Цицерона совершать поступки, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми.
До нас не дошел текст речи, которую Цицерон произнес в защиту Гая Корнелия, народного трибуна 67 года и последнего из четырех «клиентов», о которых писал Квинт в своем «Кратком наставлении». На протяжении всего года своего трибунства Корнелий вел упорную борьбу с сенатом, подробности которой нам известны из Аскониева комментария к «Речи в защиту Корнелия», к счастью, сохранившегося. Чтобы воспрепятствовать прохождению проектов Корнелия, выражавших интересы его клики, сенат использовал верного нобилитету трибуна Публия Сервилия Глобула. По завершении магистратуры в 66 году Корнелий был обвинен по закону de majestate, то есть об оскорблении величия римского народа, но обвинитель в суд не явился (не исключено, что его подкупили). На следующий год обвинение предъявили снова. Цицерон взял на себя защиту и выступил против тех, кого Асконий называет «первыми людьми государства». То были члены все той же группы — Квинт Гортензий, Лутаций Катул, Квинт Цецилий Метелл Пий, Марк Лукулл и Маний Лепид. Эти «олигархи» ставили в вину Корнелию, что он игнорировал интерцессию Глобула и, вопреки ей, прочел с ростр текст своего законопроекта.
Асконий восхищается ловкостью, с какой Цицерон сумел польстить противостоявшим ему влиятельным сенаторам, в то же время не дав им возможности, пользуясь своим авторитетом, выступить против обвиняемого. Неожиданно Цицерону помог сам Глобул, он высказался в пользу Корнелия, сыграло роль и то, что клиент Цицерона был некогда квестором Помпея. При подсчете голосов перед вынесением приговора оказалось, что все всадники и эрарные трибуны голосовали за оправдание Корнелия, на его сторону стали также сенаторы, не входившие прямо в число «первых людей государства». Исход процесса наглядно показывает, насколько оправданной была политика Цицерона, направленная на создание и сплочение в государстве «третьей силы».
Деятельность Цицерона, связанная с решением поставленной им перед собой общей политической задачи, приносила успех. Далеко не столь удачны были попытки оратора обеспечить на будущее благосклонность своих подзащитных. Так, Квинт Муций Орестин, которого Цицерон защищал от обвинения в краже, проявил в ходе избирательных комиций самую черную неблагодарность и на одной из сходок заявил, что бывший его защитник «консулата не достоин». В своей предвыборной речи «В беленой тоге» Цицерон горько упрекал Орестина в неблагодарности. Это, разумеется, всего лишь частный эпизод, и оценить его по-настоящему мы не в состоянии, поскольку речь «В защиту Квинта Муция Орестина» утрачена, но подобные штрихи дают возможность представить, что приходилось переживать Цицерону в те тяжкие для Рима годы.
В год претуры Цицерона, то есть в 66 году до н. э., в Риме возник настоящий заговор; в случае успеха он грозил возвращением сулланских порядков. Душой заговора был Марк Лициний Красс, соперник Помпея; воспользовавшись отсутствием последнего в Риме, он хотел захватить власть, стать диктатором; вторым после себя лицом он замышлял сделать Юлия Цезаря и с этой целью собирался убить обоих консулов при их вступлении в должность 1 января 65 года. Вслед за тем Цезарю надлежало присоединить к империи Египет, а одному из руководителей заговора, впоследствии пламенному цезарианцу Публию Ситтию, переправиться в Африку и соединить старую провинцию того же названия с мелкими нумидийскими царствами под властью Красса. В случае удачи Помпей, прикованный к восточному театру военных действий, оказался бы жертвой собственных побед, а Красс встал бы во главе империи. Империя, правда, получалась несколько лоскутной, но Красс не обладал способностью рассчитывать свои планы на сколько-нибудь отдаленное будущее. Благодаря неизмеримым богатствам он был окружен людьми, зависевшими от него материально, разоренными, задолжавшими ему немалые суммы. Одним из таких был Цезарь. Заговор не составлял слишком большой тайны, и, насколько можно судить по имеющимся сведениям, Цезарь не собирался принимать в нем участия. 1 января ничего не произошло. 5 февраля по новой договоренности надлежало начать действовать, Цезарю было поручено подать сигнал к восстанию, он этого не сделал, и заговор распался. Участником его был и Катилина. Находясь под следствием по обвинению в вымогательстве, он не смог выставить свою кандидатуру на консульских выборах 65 года и, не желая дожидаться выборов следующего года, решил добиться своей цели, вступив в заговор Красса.
Такая обстановка сохранялась и летом 64 года, когда началась избирательная кампания по выдвижению кандидатов в консулы на 63 год. Цицерон достиг требуемого законом возраста и представил свою кандидатуру. Ему противостояли кандидаты, выдвинутые обеими конкурирующими партиями. От «олигархов» собирались баллотироваться два вполне порядочных, хотя и жестковатых человека — Публий Сульпиций Гальба и Квинт Корнифиций, а также третий, Гай Лициний Сацердот, которому Асконий дает сдержанную двусмысленную характеристику: «Ни в какой подлости замечен не был». Этого нельзя сказать о четвертом кандидате, выдвинутом знатью, Луции Кассии Лонгине — он выглядел слабым и малоподвижным, но под вялой внешностью скрывал натуру бесчестную и злобную. Партия популяров выдвигала Катилину и Гая Антония Гибриду. Первый нам уже достаточно известен, второй был немногим лучше. Он тоже составил себе состояние во время проскрипций и тоже не упускал случая грабить провинциалов, когда к тому представлялась возможность. Несмотря на дурную репутацию обоих, Красс щедро оплачивал их избирательную кампанию — настолько щедро, что сенаторы возмутились и возник вопрос об усилении наказания за подкуп избирателей. Был составлен соответствующий сенатус-консульт, но трибун Квинт Муций Орестин, тот самый, которого не так давно защищал Цицерон, наложил на законопроект вето. Тогда Цицерон в беленой тоге, которую носили кандидаты, поднялся с места и при всем сенате обрушился на Орестина с пламенной импровизированной речью. Отрывки из нее сохранились в «Комментарии» Аскония. Оратор говорил о прошлом Катилины и Антония, весьма прозрачно намекал на январский заговор 65 года, на скандал, запятнавший его собственную невестку весталку Фабию, на ужасную гибель Мария Гратидиана. В ярком дневном свете предстали все махинации, на которых основано было выдвижение кандидатур. До сих пор о них знали только сенаторы, отныне они стали известны всем гражданам. 29 июля 64 года значительным большинством из тридцати пяти центурий выбранным оказался Цицерон — новый человек, за которым не стояла никакая партия. Коллегой его со значительным разрывом в числе голосов стал Антоний, лишь ненамного опередивший Катилину,
Цицерон открыто стоял над схваткой олигархов и популяров, и эта тактика — или принципиальная позиция — принесла ему успех, на который он рассчитывал. Цицерон занял положение арбитра, сторонника умеренной части сената, защитника старинных государственных установлений, свободного, однако, от консерватизма. Скрепя сердце, олигархам пришлось пойти на союз с ним, так как их кандидатов комиции отклонили. Подлинными противниками Цицерона как консула были другие — популяры и все те, кто стремился подорвать устройство государства и его установления.
Дошедшая до наших дней переписка Цицерона открывается письмом оратора к Аттику, датированным концом ноября 68 года. С этого времени мы гораздо лучше осведомлены о семейной жизни, о делах и занятиях, о повседневном существовании нашего героя. Аттик находится в Афинах, и Цицерон поручает ему доставить в Тускул, где оратор отстраивает свою новую виллу, приобретенные им статуи, некогда, как говорят, принадлежавшие Сулле. Брат Цицерона Квинт женится на Помпонии, сестре Аттика, и, как выясняется, семейные отношения складываются не слишком удачно. Помпония на пять-шесть лет старше своего мужа, Цицерон и Аттик стараются наладить их отношения, что иногда удается, но, к сожалению, ненадолго. После одного из примирений Помпония, как мы узнаем, ждет ребенка — будущего племянника Цицерона Квинта. Узнаем мы из писем и о появлении на свет в июле 65 года сына Цицерона и Теренции, маленького Марка, а также о том, что в это самое время Цицерон собирается защищать Катилину, дабы, как пишет он, расположить его в свою пользу перед избирательной кампанией. Подобное признание вызвало возмущение некоторых историков, видевших здесь лишь вульгарный предвыборный маневр. Дело, однако, обстоит совсем по-другому. Признания такого рода драгоценны, они дают нам возможность проникнуть в явные и скрытые намерения римлянина той эпохи, в его тайные мысли, в хитрости, на которые должен был пускаться кандидат. Свидетельства «Переписки», относящейся к весне 64 года; незадолго до комиций, состоявшихся в июле, особенно важны и интересны, поскольку совпадают с данными «Краткого наставления», составляя вместе законченную — циничную, как полагают некоторые, — характеристику избирательной кампании.
В письме Аттику, где Цицерон сообщает о рождении маленького Марка, он просит друга приехать в Рим, поддержать его кандидатуру на консульских выборах. Ему хотелось бы, чтобы Аттик был в Риме уже в январе, за полгода до выборов. Несколькими годами ранее в связи с преторскими выборами Аттик предлагал Цицерону свою помощь, но тогда оратор отклонил предложение, сочтя, что по такому поводу не стоит предпринимать столь долгое путешествие. Теперь, напротив, он сам просит Аттика приехать. Положение сложилось совсем иное. В успехе на преторских выборах сомневаться не приходилось. Добиться того же результата на консульских комициях гораздо сложнее; начали сказываться многие обстоятельства, несхожие между собой, но равно важные.
Прежде всего кандидат должен был импонировать избирателям как человек, вызывать у них симпатию. Между тем, сообщает Цицерон Аттику, некоторые аристократы из числа близких друзей его адресата настроены весьма враждебно. Цицерон рассчитывает, что Аттик обратит их внимание на ум, образованность, обаяние кандидата, в известном смысле поручится за него и заставит таким образом своих друзей отказаться от предубеждения. На необходимость такого хода «Краткое наставление» указывает совершенно ясно. Подобная тактика обличает живучесть муниципального мышления. Однако и этого мало. Необходимо сделать так, чтобы каждое сословие поверило в то, что человек, который в течение года будет руководить всеми сферами римской политической жизни, готов осуществить и намерения именно этого сословия. Сенаторы жаждали укрепления своего авторитета, богачи — мира и порядка, народная масса — хлеба и зрелищ. На протяжении долгих лет Цицерон старался внушить каждому, что именно он способен осуществить его ожидания, оратор упорно и осторожно шел к своей цели, не раздражал никого, стремился проникнуть в тайные стремления каждого сословия и общины в целом, снова и снова доказывал, что он один в состоянии их удовлетворить. Тут требовались, конечно, ловкость, умение лавировать. Мы, однако, пытались показать, что при всем том в политической позиции Цицерона между 70 и 64 годами видны и некоторые постоянные принципы — бесспорная любовь к отечеству, желание сохранить верность основным римским ценностям, реализм политического мышления. Философ в политике, Цицерон тем не менее ясно сознавал, что любой общественный идеал выражается в поступках, в поведении людей со всеми их недостатками и слабостями. И, став консулом, Цицерон сумел воплотить в жизнь свое постоянное стремление сохранить величие Рима, сохранить преемственность его исторического развития.
После выборов новых консулов, происходивших обычно в конце июля, консулы текущего года продолжали обеспечивать бесперебойный ход государственной машины, но роль их становилась с каждым днем все менее и менее значительной. Всеобщее внимание сосредоточивалось на консулах будущего года. Им предстояло вступить в должность лишь с 1 января, но сразу же с момента избрания они активно включались в политическую борьбу, хитросплетения которой вырисовывались уже с лета.
В 64 году были консулами и, следовательно, с января покидали магистратуру два аристократа — Луций Юлий Цезарь, сын консула 90 года, и Гай Марций Фигул, один из предков которого отличился в борьбе с царем Персеем в годы Третьей Македонской войны. Более значительную личность представлял собою первый. Дальний родственник Гая Юлия Цезаря — их деды были двоюродными братьями, — он без всяких трудностей добился консулата, лучшим кандидатом на который Цицерон считал его еще с 65 года. В своей деятельности Луций Юлий Цезарь старался держаться в русле старинные установлений, ограничил подкуп и злоупотребления во время предвыборной борьбы и убедил сенаторов принять сенатусконсульт, запрещавший Компитальные игры. Игры эти слыли новейшим изобретением, и устраивали их так называемые коллегии — сообщества религиозного характера, отправлявшие культ Ларов перекрестка и состоявшие из мелкого городского люда, который весьма ловко использовали в своих интересах демагоги из партии популяров. Компитальные игры (другими словами, «Игры перекрестков») давали демагогам возможность прикинуть, на какие силы они могут рассчитывать. По предложению Луция Юлия Цезаря сенат запретил эти празднества, угрожавшие общественному порядку, но успеха не достиг — коллегии сыграли в дальнейшем важну:> роль в обесценении учреждений Римской республики. Консул такого политического направления, естественно, вызывал симпатию Цицерона, который, как мы видели, не слишком доверял экстремистам из популяров.
Луций Юлий Цезарь находился в свойстве с Антонием Гибридой, вторым консулом 63 года, то есть с коллегой Цицерона: сестра его Юлия была замужем за Марком Антонием Кретиком, шурином Гибриды. Такого рода родственные связи делали Гибриду человеком аристократического лагеря. Какую позицию должен был тут занять Цицерон? Следовать, несмотря на свое скромное происхождение, за коллегой или, напротив того, подчеркивать свое от него отличие? Но не возникал ли тогда соблазн сблизиться с популярами? С самого начала своей магистратской деятельности Цицерон объявил, что намерен быть «популярным», то есть «народным» консулом. Но каким политическим содержанием собирался он наполнить эти слова?
Мы не располагаем сколько-нибудь подробным и связным рассказом о консульстве Цицерона. Ни Плутарх, ни Дион Кассий не отличаются должной точностью, и нам приходится восстанавливать события того года по речам Цицерона и по разрозненным сведениям, встречающимся в его письмах и других сочинениях. Хорошая хронологическая канва содержится в начале речи «Против Пизона»; Цицерон говорит: «В январские календы я избавил сенат и всех добропорядочных граждан от страха перед аграрным законом и от подкупов, столь распространенных и вызывавших всеобщее возмущение... В деле Гая Рабирия, обвиненного в государственной измене, я отстоял от злобных нападок сенатское решение, принятое за сорок лет до моего консульства... Я сумел сделать так, что люди честные и заслуженные, но с расстроенным состоянием, а это могло заставить их, сделавшись магистратами, пойти на меры, опасные для государства, люди эти оказались вычеркнутыми из списка граждан, могущих быть избранными; я навлек их ненависть на себя, по не на сенат. Мой коллега Гай Антоний желал стать наместником провинции и ради этого затевал политические интриги. Терпением и снисходительностью я заставил его умерить свои вожделения... Я принудил Казилину... покинуть Город... В последние месяцы своего консульства я сумел выбить из рук заговорщиков ножи, приставленные к горлу каждого гражданина...»
Вот какой итог своего консульства подводит Цицерон в 55 году. Если представить события, им перечисленные, в хронологическом порядке, получится следующее: кампания против аграрного закона, в пользу которого была задумана операция широкого масштаба по закупке голосов простонародья; процесс Гая Рабирия; речь против сыновей лиц, фигурировавших в проскрипционных списках Суллы; обмен провинциями с Гаем Антонием и, наконец, затяжная борьба против Катилины и его клики.
Хотя к исполнению своих обязанностей новые консулы должны были приступить лишь с 1 января 63 года, уже летом 64 года стало ясно, что наступает пора жестоких политических битв. На выборах трибунов победили популяры. Публий Сервилий Рулл и Тит Лабиен тотчас возобновили свои происки, стремясь вызвать новые неурядицы и, используя свое положение, преследовать сенаторов. Рулл вскоре представил проект аграрпого закона, Лабиен выступил обвинителем Гая Рабирия.
Выбранному большим числом голосов Цицерону полагалось осуществлять консульскую власть в нечетные месяцы, в течение которых он имел право появляться всюду в сопровождении ликторов, несших перед ним фасцы; в четные месяцы этой привилегией пользовался его коллега Антоний. Следовательно, в январе 63 года Цицерону предстояло стать во главе государства. Между тем коллегия трибунов в лице Сервилия Рулла представила проект аграрного закона сразу же по вступлении в должность, то есть 10 декабря. Законопроект должен был поступить на голосование в комиции в первых числах января. На долю Цицерона выпало бороться за отклонение законопроекта народным собранием.
Во второй речи «Против аграрного закона» Цицерон рассказывает, как создавался его текст. Трибуны приступили к подготовке проекта сразу же после избрания, в июле; они собирались тайно и результаты своей работы держали в величайшем секрете. Цицерон обратился к трибунам с просьбой ознакомить его с основными положениями проекта — несмотря на все предосторожности, слухи разошлись по городу, и было ясно, что готовится нечто важное. Цицерон обещал — весьма может быть, что вполне искренне, — поддержать закон, если сочтет его полезным для государства. Именно тогда он и пообещал стать «народным консулом», то есть не отвергать заранее меры, сулившие на деле облегчить положение беднейших граждан.
Новоизбранные трибуны не поверили Цицерону и пе раскрыли тайну. Им важно было показать, что они ни в чем не идут даже на самые малые уступки. Рулл и внешностью своей всячески подчеркивал, что он «человек из народа» — появлялся всюду в поношенной одежде, растрепанным и небритым, говорил с простонародным выговором. По всему судя, считал Цицерон, Рулл стремился возродить старою распрю между трибунами и консулами, вернуть худшие времена, предшествовавшие сулланской диктатуре.
День вступления трибунов в должность приближался, и 4 декабря, накануне ид, Рулл собрал сходку. Речь, которую он произнес, была, по словам Цицерона, настолько невнятной, что никто не мог понять, чего он, собственно, добивается. Лишь самые проницательные из слушателей сумели догадаться, что речь идет об аграрном законе. Наконец 10 декабря текст закона официально выставили на всеобщее обозрение, и Цицерон вместе с другими гражданами смог ознакомиться с его статьями. Тогда консул понял, что должен выступить против предлагаемого закона. В первый же день он произнес в сенате речь, указав на опасности, которые таил в себе закон.
Проект Рулла представлял собою очередное звено в долгой цепи аграрных законов, в которой даже законы Гракхов были далеко не первыми. Цель проекта Рулла, как и актов, ему предшествовавших, состояла в том, чтобы наделить участками безземельных граждан; для этого Рулл предлагал создать ряд колоний непосредственно в Италии. Меры, им предложенные, отличались большой сложностью и могли напугать сенаторов. Например, для проведения реформы предлагалось создать коллегию из десяти членов-децемвиров; причем избирать их не всеми тридцатью пятью трибами, на которые делились римские граждане, а лишь семнадцатью, избранными по жребию. Войти в число децемвиров мог только человек, в момент избрания находившийся в Риме (что делало невозможным избрание Помпея). Хотя избирать децемвиров должна была плебейская разновидность народного собрания — трибутные комиции в узком составе, — эти десять человек наделялись империем с полномочиями одновременно религиозными и военными, что приравнивало их к преторам. А раз так, то выборы их подлежали утверждению на основе древнего куриатного закона, дававшего магистратам империй и право ауспиций. Децемвиры, таким образом, приравнивались к высшим магистратам. Они выбирались сроком на пять лет и тем самым конкурировали с обычными магистратами. Главным полем их деятельности становилась Италия, на территории которой их решения не подлежали обжалованию, к тому же они получали право продавать принадлежавшие республике земли во всех провинциях с обязательным поступлением вырученных сумм в казну и расходованием их только на приобретение земельных участков в Италии. Такого рода полномочия, весьма опасные своей неопределенностью, могли повлечь за собой распространение власти Рима на новые земли, чего некоторые круги в Риме добивались издавна, хотя, впрочем, опасались осуществить свои желания на практике. Тут, в частности, вставала такая острая проблема, как проблема Египта, значение которой в ближайшие годы еще более возросло.
Законопроект содержал статью, которая особенно болезненно задевала интересы сенаторов. Она предусматривала разделение так называемых земель римского народа (ager publicus) на территории, которая принадлежала Капуе, и в плодородной долине Стеллы на северо-западе Кампании на равные участки по десять югеров (около двух с половиной гектаров). Занятие этих земель и тем более их эксплуатация порождали сложные правовые проблемы, которым так и не нашлось решения с тех времен, когда владения Капуи были конфискованы в наказание за измену города римлянам во время Второй Пунической войны. Юридически земли принадлежали римскому народу, и цензоры отдавали их в аренду, но на самом деле их захватили .многочисленные выходцы из старых римских семей, извлекавшие из этих весьма плодородных земель все новые и новые прибыли. Сложилось определенное положение де-факто, и до сих пор его предпочитали не касаться. Даже во времена Гракхов раздачи земель не коснулись этих краев. Стало быть, в случае принятия закона, предложенного Руллом, исполнение такого пункта грозило римской аристократии весьма существенными переменами в хозяйственной и социальном сфере. Главную опасность, однако, таила сама коллегия децемвиров: они получали право свободно распоряжаться казной, вполне могли вскоре превратиться в диктаторов и лишить сенат всякого значения. В проекте Рулла легко различались контуры переворота, подрывавшего самые основы политического устройства и власти. Так что Цицерону не стоило большого труда убедить сенаторов отвергнуть законопроект Рулла.
На следующий день Цицерон выступил перед народом. То была вторая речь об аграрном законе, самая подробная, чрезвычайно умело построенная и стоившая консулу многих трудов — ведь ему приходилось убеждать народ по собственной воле отказаться от закона, о котором многие так долго мечтали. Впрочем, проект все равно не мог пройти: противники его договорились с одним из народных трибунов, Луцием Цецилием, тот обещал наложить вето и тем не допустить передачи текста закона на голосование в народное собрание. Тем не менее было немаловажно доказать народу, что закон никуда не годится. Консул стремился избавить государство от конфликтов, подобных тем, что возникали за восемьдесят лет до того в связи с аграрными законами Гракхов. Беспримерная задача стояла перед Цицероном — силой слова добиться всеобщего согласия, хотя бы один-единственный раз изгнать насилие, господствовавшее в политической жизни города. После долгих лет гражданских неурядиц и распрей нечто подобное казалось неосуществимым, но Цицерон достиг цели — три речи, произнесенные перед народом после речи в сенате, убедили граждан. После первой речи трибуны ополчились на консула и стали выступать с речами, которые грозили подорвать не только популярность оратора, но и весь ход государственного механизма. Цицерон отвечал кратким выступлением на сходке, из которого ясно видно, насколько живы были в политической жизни Рима воспоминания о сулланской диктатуре. Сторонники законопроекта, стремясь лишить консула народного доверия, не придумали ничего лучшего, как объяснить его противодействие желанием защитить спекулянтов, обогатившихся, скупая имущество проскрибированных. Нетрудно было опровергнуть подобные обвинения и показать, что предлагаемый закон как раз и гарантирует неприкосновенность состояний, добытых таким путем. Свою победу Цицерон закрепил последней, четвертой речью (третьей из обращенных к народу), о которой, кроме самого факта ее существования, мы не знаем решительно ничего. Законопроект Рулла не поступил в народное собрание, а главное — не вызвал народных волнений.
Историки наших дней в большинстве своем судят весьма сурово об этом первом шаге Цицерона-консула. Они не признают, что Цицерон расстроил планы популяров, реализация которых принесла бы государству несравненно больше волнений и распрей, чем пользы. Они подчеркивают, что за Руллом, по всей вероятности, стояли подлинные авторы проекта, люди гораздо большего ума и масштаба — Красс и Цезарь; они объединились, чтобы противостоять Помпею, чье влияние после победоносного возвращения с Востока грозило стать всеподавляющим. С этой точки зрения самым важным в законопроекте становился пункт, исключавший Помпея из числа децемвиров, — ему не оставляли ничего, кроме воспоминаний о былой боевой славе. Допустим, все это так. Но, защищая интересы Помпея, Цицерон стремился предупредить опасный для государства конфликт. Что касается раздачи земель, дело гораздо больше походило на выпад против аристократии, чем на меру, подлинно полезную народу, поскольку для достижения целей, провозглашенных Руллом, пришлось бы распределять дополнительно еще очень значительное количество земель. Так или иначе, проект аграрного закона был на какое-то время оставлен. Он возродился в консульство Цезаря улучшенным, освобожденным от самых одиозных положений, пригодным к практической реализации.
Еще одна угроза миру в государстве исходила от другого народного трибуна, Тита Лабиена, который, как мы уже упоминали, с самого начала своего трибуната выступил с обвинением против старого Гая Рабирия. Однако в перечне своих речей, произнесенных во время консульства, Цицерон до речи в защиту Рабирия помещает еще одну — «В защиту Отона»; в «Против Пизона», подводя итог своей деятельности, он эту речь не упоминает. Кое-что мы узнаем о ней от Плутарха. Цицерон говорил о некоторых привилегиях, которые предоставлял всадникам закон 67 года, проведенный Росцием Отоном, — за всадниками закреплялись в цирке четырнадцать рядов, расположенных непосредственно вслед за сенаторскими. Насколько можно судить, до консульства Цицерона такая мера не вызывала общественных протестов. В этом году, однако, когда Росций Отон в один прекрасный день появился в цирке, народ встретил его криками и бранью, а всадники — рукоплесканиями. Возникла перебранка, и пришлось сообщить о случившемся консулу. Он собрал народ у храма Беллоны и обратился к нему с речью, в которой защищал Отона и его закон. Цицерон говорил так убедительно, люди столь глубоко уверовали в справедливость всаднических привилегий, что конец речи потонул в громе рукоплесканий, представление возобновилось и продолжалось до конца в полном спокойствии.
Точную дату инцидента, в ходе которого Цицерону удалось в буквальном смысле установить согласие сословий, определить трудно. Естественно предположить, что он приходится на один из месяцев, в которые устраивались общественные игры. Первыми в годовом календаре были Мегалезийские игры, они приходились на апрель. В апреле Цицерон не располагал фасцами, из чего следует, что он не был в цирке, и народ призвал его не потому, что он отвечал за порядок, а потому, что из двух консулов он был более красноречивым. Во всяком случае, эпизод показывает, что выступление против аграрного закона не уменьшило популярности Цицерона. Отметим также, что речь Цицерона была направлена на защиту привилегии всадников, сословия, к которому принадлежал сам оратор.
Неизвестна нам также и точная дата речи, которую Цицерон произнес в защиту своего друга Гая Кальпурния Пизона, консула 67 года, обвиненного Цезарем в том, что, будучи наместником Нарбонской Галлии, он незаконно предал казни одного галла. Речь не сохранилась. Известно лишь, что Пизон был оправдан.
Речь «В защиту Гая Рабирия», напротив того, дошла до нас полностью. Мы уже упоминали об обвинении, выдвинутом против Гая Рабирия трибуном Титом Лабиеном, по всей вероятности, сразу же по вступлении последнего в должность. Процедура, однако, затянулась, и процесс начался много позже, в мае или в июне. Гай Рабирий был всадник, в ту пору уже весьма пожилой. Обвинение состояло в том, что тридцать семь лет назад, в 100 году до н. э., он якобы своими собственными руками убил мятежного трибуна Луция Апулея Сатурнина. После отречения Суллы Рабирий оказался как бы главой самой крайней аристократической реакции, и популяры неоднократно пытались добиться его осуждения, используя то один, то другой повод. Рабирий действовал по повелению сената, на основе так называемого чрезвычайного сенатусконсульта, который вводил в городе военное положение, отменял на время право апелляции к народу и разрешал убийство без суда и следствия лиц, объявленных «врагами государства». Популяры считали, что сенат не имеет права прибегать к такого рода законам. Процесс Рабирия должен был проходить в народном собрании; осуждение обвиняемого давало возможность лишить сенат грозного оружия, благодаря которому он в начале века с успехом противостоял атакам популяров. Древние историки придерживались мнения, что весь процесс был инсценирован Цезарем, и, хотя не все детали ясны, складывается впечатление, что разыгрывалась некая трагикомедия с заранее определенными фабулой и развязкой.
Тит Лабиен предъявил Рабирию обвинение, которое называлось perduellio и означало государственную измену. Обвинение основывалось на том, что Сатурнин как народный трибун являлся лицом, сакрально неприкосновенным, и, кроме того, получил от консула, то есть от самого Гая Мария, fides publica, означавшую, что среди волнений, которыми был ознаменован конец 100 года, Сатурнину гарантируется жизнь. Perduellio представлял собой в высшей степени архаичную процедуру, восходившую согласно легенде к истории юного Горация — победителя альбанских Куриациев и убийцы собственной сестры. Обвиняемый представал перед двумя судьями, назначенными специально для разбора данного дела. Закон, в сущности, лишал судей возможности вынести оправдательный приговор. После их «решения» осужденного передавали в руки ликтора для совершения казни «по обычаю предков» — после жестокого избиения осужденному отрубали голову топором. К описываемому времени эта архаическая дикость вызывала у римлян глубокое отвращение, и очень похоже, что никто, в том числе и сам Лабиен, не верил в возможность подобного исхода.
Первым актом процесса было назначение дуумвиров. Претор Цецилий Метелл Целер тянул жребий, выпавший на Цезаря и его двоюродного брата Луция Юлия Цезаря. Трудно поверить, что выбор был случаен. Как и предполагалось, Рабирий, осужденный дуумвирами, апеллировал к народу, и по-настоящему процесс начался лишь на этой стадии. Защитниками Рабирия выступали Гортензий и Цицерон. Первый произнес краткую речь, текст которой нам неизвестен, в ней он главным образом излагал факты. Цицерон взял на себя задачу дать фактам политическое и государственно-правовое толкование. Если полагаться на рассказ Диона Кассия, народное собрание (в данном случае — центуриатные комиции) ему убедить не удалось, оно склонялось к осуждению обвиняемого, но тут Квинт Цецилий Метеллл Целер, бывший не только претором, но и авгуром, приказал спустить вымпел, которому полагалось реять над Яникулом в течение всего времени, пока длились на Марсовом поле центуриатпые комиции. По закону, как только вымпел скрылся из глаз, собрание должно прекратиться. Тем и кончился процесс Рабирия. Есть все основания думать, что Метелл Целер вошел в сговор с Цезарем: подозрение вызывает сам выбор дуумвиров, тот факт, что дело предстояло решать изобретателю всей интриги Юлию Цезарю и его двоюродному брату; а поскольку их связи с аристократией были известны всем и каждому, создавалось определенное равновесие между сенаторами и популярами, и сенаторы могли не слишком беспокоиться за исход процесса. Кроме того, благополучное ею окончание лишний раз подтверждало репутацию Цезаря, как человека милосердного и гуманного, которую он усиленно создавал вокруг своего имени и которую годом позже укрепил еще больше благодаря позиции, занятой в деле Катилины. Трудно допустить, что Цицерон не понимал все это; он ясно различал скрытые стороны процесса, потому согласился выступить защитником Рабирия и сумел раскрыть политическую сторону дела. Цицерон предчувствовал, что Риму в ближайшее время предстоит пережить один из кризисов, которые в прошлом не раз заливали кровью его дома и улицы; Цицерон не хотел, чтобы в подобных условиях сенат оказался лишенным самого грозного, на крайний случай приберегаемого оружия — сенатусконсульта о чрезвычайных полномочиях, который в свое время позволил Марию спасти республику, поставленную на край гибели Сатурнииом.
Предчувствия Цицерона подтвердились во время augurium salutis — церемонии, которую в том году совершал авгур Аппий Клавдий; смысл церемонии состоял в том, чтобы определить, суждено ли государству процветание также и в наступающем году. Augurium salutis должен был указать, благосклонно ли примут боги моления о благополучии Рима, которые к ним возносились. Обряд разрешалось совершать, только если в государстве царил мир. В 63 году наступил такой момент, когда Помпей, добившись победы в Сирии, остановился в Антиохии, чтобы дать короткую передышку себе и своим солдатам перед началом Иудейской кампании. Аппий Клавдий, таким образом, имел возможность провести положенные обряды и предузнать волю богов, но знамения оказались неблагоприятны. Зловещие птицы показались на небе в том месте, где им не полагалось быть; отсюда следовало, что государство ждут волнения и беды. Как обычно в подобных случаях, дурные предзнаменования, раз начавшись, следовали одно за другим: в безоблачном небе сверкали молнии, то и дело возникали землетрясения, людям показывались привидения, а небо на западе внезапно охватывало пламя. Все говорило о том, что наступающий год будет полон зловещих событий. Теперь нам еще более понятно, почему Цицерон столь упорно отстаивал свою политическую линию, не хотел отнимать у сената его последнее оружие и поставил себе целью защитить мир в государстве, полагаясь прежде всего на силу своего слова. В речи в защиту Рабирия есть одно характерное место: слушатели криками протеста прерывают оратора, он же яростно продолжает доказывать, что убийство Сатурнина было оправдано государственной необходимостью; крики постепенно смолкают. Цицерон не сомневался, что раз он борется за мир между сословиями, большинство граждан его поддержит.
Было мгновение, когда казалось, мир между сословиями поколебался. Один из трибунов внес предложение вернуть сыновьям римлян, погибших в сулланских проскрипциях, политические права, которых их в те годы лишили. В интересах государства Цицерон выступил против предложения, о чем рассказал сам в цитированной выше речи «Против Пизона». Вряд ли стоило вновь разжигать былые страсти, давать потомкам проскрибированных возможность требовать на законном основании наследства, которого их некогда лишили. Взгляд Цицерона кажется несправедливым, но мы поймем его правоту, если вспомним трудности, пережитые греческими городами; здесь веками непрестанно изгоняли граждан, непрестанно возвращали изгнанных, и теперь жители городов этих не в силах были ни восстановить старые порядки, ни по-настоящему забыть их.
Можно предполагать, что трибун выступил с проектом закона о сыновьях проскрибированных самое позднее в июне, с расчетом, что, если текст закона будет одобрен, результаты могут повлиять на выборы в июле.
На протяжении всей первой половины года вплоть до выборов не обнаруживается ни малейшего следа участия Антония, другого консула, в государственных делах. Наши знания, разумеется, могут быть весьма неполными, но если бы Антоний оказывал своему коллеге какое-то противодействие, то сведения об этом, весьма вероятно, сохранились бы, тем более что в речи «В беленой тоге»
Цицерон, как мы отмечали, не слишком стеснялся в выражениях по адресу соперника. Можно поэтому с высокой степенью вероятности предполагать, что между консулами установилось определенное согласие. По крайней мере Цицерон, начиная со второй речи об аграрном законе, уверял, что положение именно таково. Утверждения его иногда вызывали недоверие, быть может, потому, что заключенный консулами союз принял официальную форму позже, скорее всего к июлю месяцу, когда в политической жизни Рима всегда происходили наиболее важные события. Скорей всего, однако, сценарий, разработанный обоими консулами, был задуман в двух эпизодах: в первом предполагался обмен обещаниями, во втором, через шесть месяцев, — их выполнение.
Гай Антоний давно уже разорился и стремился любой ценой добиться проконсульского наместничества в провинции, что позволило бы ему поправить свои дела. По старинному Семпрониеву закону, провинции, в которые надлежало отправиться консулам по завершении магистратуры, определялись по жребию перед консульскими выборами. В 64 году в качестве проконсульских были определены Цизальпинская Галлия и Македония. При второй жеребьевке, которая на этот раз проводилась почему-то после выборов, Цицерону досталась Македония, Антонию — Цизальпина, что его решительно не устраивало; в давно замиренной спокойной провинции он не надеялся чем-либо разжиться. Кроме того, Цизальпина находилась сравнительно недалеко от Рима, и всякое не слишком законное действие наместника было бы тотчас обнаружено. Македония, напротив того, располагалась у границы и постоянно подвергалась набегам фракийцев. И военные действия в этой провинции, и взимание налогов сулили немалую прибыль. Гаю Антонию уже виделись лихие набеги, вроде тех, что устраивал он со своим кавалерийским отрядом в Греции во времена Суллы. Цицерон учел все обстоятельства и обещал коллеге обменяться провинциями, то есть отдать Антонию Македонию, а самому взять Цизальпинскую Галлию, хотя на самом деле ему больше всего хотелось избежать отъезда из Рима, даже всего на один год.
Договор с Антонием сулил много выгод хотя бы уже потому, что позволял разрушить союз, который, как подозревал Цицерон, связывал его коллегу с Катилиной. Было широко известно, что Катилина издавна стремился захватить власть, а после его участия в мятеже Красса не осталось сомнения в том, что он будет пытаться осуществить свои замыслы не только законными путями. Официальный обмен провинциями состоялся, насколько можно судить, до консульских выборов 63 года и тем самым до распределения провинций на 62 год. Хронологическая канва, которую мы выше пытались составить, заставляет отнести обмен к периоду после речи о сыновьях проскрибированных и, наиболее вероятно, после процесса Рабирия. Как только обмен был официально зарегистрирован, Цицерон созвал сходку, где публично отказался от своей провинции, заявив, что он не стремится управлять в 62 году Цизальпинской Галлией. В толпе раздались протестующие возгласы. Цицерон в речи «Против Пизона» намекает на то, что народ отвергал приносимую им жертву, но очень может быть, что протесты имели другую причину.
Цицерон во второй раз отказывался от наместничества. Ему полагалось бы уже после претуры покинуть Рим и выполнять пропреторские обязанности в какой-либо части империи. Но он уклонился, ибо понимал, что, уезжая из Рима, рискует во многом утратить свою популярность. Через несколько дней после отказа от консульской провинции в речи «В защиту Мурены», находясь, по всей вероятности, еще под впечатлением только что совершенного шага, он сказал: «Запомни, что друзья становятся менее преданными, если человек пренебрегает службой в провинции». Провинциальное наместничество считалось необходимым для нормальной жизни империи и защиты ее границ. Неписаный моральный кодекс регулировал отношения между магистратом и гражданами, отказ от наместничества был его нарушением. Почетные должности рассматривались как дар и благодеяние народа избранному им магистрату, в благодарность за которые последний должен не жалеть ни времени, ни состояния на службе общине. Игры, устраиваемые для народа эдилом, например, входили в подобный обмен, а наместничество в провинции, военное командование, посольства давала другая сторона, то есть народ. Так что не совсем понятно, почему Цицерон систематически уклонялся от провинциального наместничества — управление Киликией двенадцатью годами позже было ему просто навязано. Объяснялось ли это нежеланием даже на время оставить адвокатскую деятельность и, если угодно, отказаться от доходов, которые она приносила? Или здоровье, требовавшее постоянных забот и жесткого режима, не позволяло ему вести суровую лагерную жизнь и совершать утомительные поездки по провинциальным городам и вести бесконечные заседания, что составляло одну из главных обязанностей наместника? Может быть, определенную роль здесь играли и семейные дела — как мы знаем, в 65 году появился на свет маленький Марк, а несколько месяцев спустя скончался отец Цицерона; в какой-то степени могли повлиять на Цицерона и требования Теренции не покидать семью.
В конце 65 года, вскоре после завершения претуры, Цицерон испытал было желание уехать из Рима — летом, когда, по его словам, жизнь на форуме затихает. Он намеревался испросить у Гая Кальпурния Пизона (тою самого, которого ему предстояло защищать в суде в 63 году), в ту пору наместника Нарбонской Галлии, какое-либо официальное поручение, которое дало бы повод отправиться в те края. Он говорил сам, что стремился попасть в Нарбонскую Галлию, поскольку эта провинция «имеет немалый вес во время выборов». Такая поездка могла бы задержать Цицерона в Галлии на три-четыре месяца, с сентября до конца декабря. Но по каким-то причинам поездка не состоялась, и Цицерон продолжал жить в Риме. Он знал, что именно здесь, в Городе, принимаются политические решения, которые оказывают влияние на жизнь всей империи, именно здесь задумывались интриги и заговоры, угрожавшие строю. Красс, Цезарь, еще кое-кто (Катилина, а может быть, и Гай Антоний) слыли противниками сената и не скрывали, что готовы произвести государственный переворот или даже начать гражданскую войну. Помпей был далеко, на восточном театре военных действий; официальные пророчества о судьбах государства предвещали тяготы и беды. Перед лицом надвигающегося и все более вероятного кризиса Цицерон справедливо полагал, что его присутствие в Риме помешает осуществлению заговоров и поддержит не слишком устойчивое равновесие в государстве. Обмениваясь провинциями с Гаем Антонием, а затем торжественно всенародно отказываясь от Цизальпины, он не только задабривал своего коллегу, но и обретал уверенность, что сможет остаться в Городе по истечении срока консульства. В связи со всей этой историей Цизальпинская Галлия оказалась в центре всеобщего внимания, и в конце концов ее перевели в число преторских провинций, то есть таких, которые преторы 63 года должны были разыгрывать между собой па следующий, 62 год. Договорившись с Гаем Антонием, Цицерон сумел устроить так, что Цизальпина (хоть и по жребию!) выпала Метеллу Целеру, претору, который «спас» Рабирия и инсценировал его процесс. В одном из писем от января 62 года, адресованном тому же Метеллу, Цицерон напоминает о роли, сыгранной им при распределении провинций. Скорей всего Метелл, Цезарь и Цицерон заранее договорились о сохранении жизни Рабирию, хотя далеко расходились в принципиальном решении проблем, лежавших в основе процесса. Это показывает наглядно, насколько сложны были политические интриги в Риме той поры, в какие различные политические группы могли входить одни и те же лица. Ни одному из руководителей римского государства тех лет нельзя раз и навсегда дать однозначную политическую характеристику — аристократ Цезарь сохранил в деле Рабирия позицию, которой придерживался всегда, позицию народной партии, а «новый человек» Цицерон выступил на защиту Рабирия и предстал почти как противник популяров. В день жеребьевки пропреторских провинций на 62 год Цицерон произнес в сенате речь, настолько превознеся достоинства своего новоиспеченного друга Метелла Целера, что здесь явно угадывалось желание принизить репутацию остальных преторов.
Вот в каких условиях шла подготовка к консульским выборам следующего года. Кандидатами выдвинули Децима Юния Силана, Луция Лициния Мурену, Сервия Сульпиция Руфа и Луция Сергия Катилину. К подлинной аристократии принадлежал лишь один из них — Децим Юний Силан. Сульпиций Руф был правовед, Цицерон изображает его, подчас несколько карикатурно, человеком неуживчивым и суровым, знатоком судебной практики, пользующимся уважением, но не имеющим других заслуг, кроме глубокого знания права. Лициний Мурена происходил из Ланувия, из семьи среднего положения и достатка, много лет служил в армии, ведшей войну против Митридата, в которой принимал участие также его отец. Лициний был легатом у Лукулла, претором в Риме в 65 году, а в 64-м — пропретором Нарбонской провинции, где, как пишет Цицерон, проявил себя справедливым и деятельным наместником и, в частности, помог римским дельцам взыскать деньги даже по тем векселям, которые они считали безнадежными. По связи с Лукуллом Мурену в известной мере можно тоже считать ставленником «аристократической партии» или хотя бы партии сторонников порядка.
Самым шумным и самым опасным из кандидатов был бесспорно Луций Сергий Катилина; теперь все взгляды обратились на него, так как он вел свою кампанию особенно агрессивно и нагло. В речи «В защиту Мурены», произнесенной несколько месяцев спустя, Цицерон набросал портрет Катилины тех дней — окруженного «хором юнцов, продвигаемого профессиональными доносчиками и грабителями», сопровождаемого крестьянами, стекшимися в столицу из Арреция и Фезул. Своими речами Катилина возбуждал б бедняках ненависть к богатым, чем очень беспокоил сенат, который, однако, не решился принять какие-либо меры против кандидата, осмелившегося заявлять, что «у государства два тела, одно тщедушное, с неразумной головой, другое могучее, но без головы. Если последнее сумеет заслужить благодарность Катилины, то обретет голову и сохранит ее до тех нор, пока Катилина будет жив». Катон пригрозил, что привлечет Катилину к судебной ответственности, тот отвечал, что «если кто-либо предаст огню его достояние, то разгоревшийся пожар будет погашен не водой, а развалинами Рима».
Точная дата выборов нам неизвестна. Некоторые историки считают, что они состоялись в обычное время — в конце июля. Другие — что в том году выборы были отложены и состоялись в сентябре. Бесспорно лишь, что они были после триумфа Лукулла, так как каждый кандидат рассчитывал на голоса тысячи шестисот солдат, прибывших в Рим для участия в триумфе, хотя они, естественно, отдали их Мурене в память совместной службы. Еще до народного собрания Цицерон провел новый закон против интриг и подкупа при выборах; закон предусматривал более жесткие наказания лицам, признанным виновными, а также и судьям, если они, будучи официально избраны, отказались без уважительной причины участвовать в разбирательстве. Мера эта, направленная против Катилины и его друзей, обернулась в конечном счете против Мурены. Чтобы показать всем, что выборы могли сопровождаться насилием, Цицерон появился в день комиций на Марсовом поле в панцире под тогой. Жест этот, как признавал он в речи «В защиту Мурены», был чисто символическим, ибо убийца ударил бы его не в грудь, а в горло или в голову. Избиратели отдали голоса Силану и Мурене. Верховная власть снова не далась Катилине в руки, и он решил захватить ее силой. Собрав друзей, он изложил им свой план. К Катилине присоединились два участника заговора 65 года — Публий Корнелий Сулла и Публий Автроний Пет, а также Луции Кассий Лонгин, незадачливый соперник Цицерона на консульских выборах; Гай Корнелий Цетег, человек грубый, наглый, нетерпеливый, постоянный сторонник самых дерзких и рискованных решений; Луций Кальпурний Бестия, только что избранный трибуном, который при своем вступлении в должность предложил напасть на Цицерона, подав тем самым сигнал к началу мятежа; наконец, в число заговорщиков входил Публий Корнелий Лентул Сура. Он был старше других заговорщиков, состоял квестором при Сулле, когда, как многие подозревали, присвоил казенные деньги, и был исключен из состава сената после консулата 71 года за безнравственный образ жизни; Сура, кроме того, находился одно время под обвинением в противозаконных происках, от которого сумел избавиться, подкупив судей. В 63 году он стал претором во второй раз — обычный прием тех, кто, будучи на время исключен из сената, после претуры получал возможность туда вернуться. Еще одно обстоятельство сулило Лентулу надежду на успех: предсказание, которое приписывали Кумской сивилле — трем Корнелиям предстояло властвовать в Риме. Поскольку Корнелий Цинна и Корнелий Сулла уже были в начале века полновластными хозяевами Города, Корнелий Лентул твердо рассчитывал стать третьим.
Одни аристократы явно не сумели бы успешно совершить государственный переворот. Поэтому Катилина постарался набрать настоящую армию из числа зажиточных граждан италийских городов, особенно из Этрурии, где ветераны Суллы, размещенные на землях, которые им роздал диктатор, оказались совершенно неспособными их возделывать, закладывали свои участки и теперь, запутавшись в долгах, находились в самом жалком положении. Были у Катилины сторонники и в Кротоне, Террацине и в Пиценской области. Он рассчитывал, что они смогут навербовать ему солдат из люден, которым уже не осталось никакой надежды, кроме грабежа и гражданской войны. Все они вспоминали Суллу и полагали, что всякий переворот обогащает тех, кто его задумал, и тех, кто его осуществил. Катилина рассчитывал получить подкрепления даже из Африки, где находился в это время Публий Ситтий, участник его первого заговора. Стратегический план, рассчитанный на то, что восстание, начатое в Италии, будет поддержано в провинциях, не отличался ни новизной, ни оригинальностью. Недавние примеры показывали, что стратегия такого рода чаще всего вела к поражению. Сулле, правда, она обеспечила успех, но только благодаря победоносной армии, которая сопровождала его на обратном пути с Востока. Катилина такой армией не располагал. Более того, Помпей должен был вот-вот вернуться, и было ясно, что победитель Митридата не оставит Катилине никакой свободы действий. Последнее обстоятельство не останавливало Катилину, а заставляло его спешить.
Заговор Катилины нельзя назвать значительным политическим или социальным движением, подобным тому, которое возглавлял Спартак и которое переросло в подлинную войну рабов с Римом. Просто несколько недовольных, озлобленных и разоренных граждан пытались захватить магистратуры, дабы выжимать прибыли в свою пользу. Руководили заговором аристократы, армия состояла преимущественно из муниципальной знати, и в рядах заговорщиков сохранялось то же социальное расслоение, что и в римском государстве в целом. От Катилины и его сообщников нечего было ожидать реформ ни в административной области, ни в деле обороны империи.
После поражения в народном собрании Катилина решил, что настало время действовать. Гонцы его отправились каждый в ту область Италии, которая ему была назначена. В конце сентября произошло событие, внешне ничем не примечательное, но имевшее далеко идущие последствия. Один из заговорщиков, Квинт Курий, в ответ на упреки своей любовницы, некой Фульвии, в недостаточной щедрости стал говорить, что скоро оба они станут богачами, и в конце концов рассказал все о планах Катилины и его сообщников. Перепуганная Фульвия побежала к консулу. Консульскую власть в этом месяце осуществлял Цицерон. Он внимательно выслушал Фульвию и 23 сентября поставил сенат в известность обо всем, что узнал от Фульвии. Отцы-сенаторы, однако, не придали значения рассказу консула и разошлись, не приняв никакого решения. Достоверность дела не вызывает сомнений, ибо подтверждается пассажем ив жизнеописания императора Августа, составленного Светонием: именно в день заседания сената будущий создатель империи появился на свет. Впоследствии многие придавали особый смысл такому странному совпадению,
В «Катилине» Саллюстия излагается несколько иная версия событий. Саллюстий утверждает, что Цицерон был в курсе планов Катилины уже с лета 64 года и долгие месяцы выжидал, прежде чем начать действовать. В рассказе Саллюстия, как и у Светония, источником разоблачений является Фульвия, но рассказала она якобы обо всем, что узнала, не консулу, а разным лицам. Рассказ Фульвии стал достоянием городской молвы, встревожил общественное мнение, и именно поэтому граждане выбрали в консулы Цицерона. Саллюстии прибавляет, что на протяжении всего 63 года Катилина вел глухую борьбу против Цицерона, то и дело расставлял ему ловушки, так что в конце концов консул стал выходить из дому только в сопровождении переодетых телохранителей. Историк сообщает также, хоть и не без сомнений, что Катилина связал своих приверженцев страшной клятвой и что клялись они, передавая по кругу чашу с вином, смешанным с человеческой кровью.
Этот рассказ, по-видимому, восходит к легендам, которые вскоре сложились вокруг заговора. Саллюстий — враг Цицерона, старается принизить его роль, утверждая, будто выборы оратора в консулы явились результатом сложившихся обстоятельств, намекает, что на протяжении нескольких месяцев Цицерон колебался, не решался действовать, Между тем Катилина готовил восстание. Его посланцы уже формировали армию, которой предстояло совершить переворот. Слухи об этом ползли по городу, вызывая все большую тревогу граждан. Цицерон не чувствовал за собой реальных сил: сенат все глубже погружался в бездеятельность. На протяжении октября консул был лишен доступа к ведению текущих дел, их вел на основе очередности Антоний. Что же мог сделать Цицерон? Верный договору, заключенному между консулами, Антоний не содействовал заговору, но и не предпринимал ничего, чтобы его подавить. Если бы даже Цицерон решил действовать, сенаторы все равно бы его не поддержали. Однако вскоре наступил момент, когда медлить больше стало невозможно. В ночь с 20 на 21 октября к Цицерону явился Красс и еще двое сенаторов из высшей знати — Марк Клавдий Марцелл и Метелл Сципион. Красс вручил оратору связку писем, которую вечером кто-то подбросил к нему в дом. Красс прочел лишь письмо, адресованное прямо ему; в письме Крассу советовали немедленно уехать из Рима, так как в городе готовится резня и погром. На следующее утро Цицерон созвал сенат, до начала заседания роздал письма, переданные Крассом, в запечатанном виде тем, кому они предназначались, и потребовал прочитать их вслух. Во всех письмах содержалось одно и то же предупреждение. Сенаторы наконец поняли, насколько серьезно положение, и приняли постановление начать расследование. На следующий день состоялось еще одно заседание, где были доложены известия, поступившие из Этрурии, о том, что начавшееся во Фьезоле восстание распространяется и принимает все более опасные размеры. Не исключено, что сведения эти исходили от Цезаря, который сам, однако, на заседание не явился. Таким образом, замыслы Катилины несомненно натолкнулись на сопротивление Красса и, по всей вероятности, — Цезаря. Политическое положение в Риме снова предстает перед нами во всей своей противоречивости и сложности. Как и в деле Рабирия, вожаки народной партии предпочитают добиваться своих целен в рамках закона и избегают кровопролития. Отвращение к кровавым распрям в общине и страх перед ними коренились глубоко в психологии римляи и, в частности, объясняют многое в событиях, которые мы описываем.
На заседании 22 октября Цицерон произнес речь и убедил сенаторов принять решение о вручении ему чрезвычайных полномочий и права использовать все доступные средства, включая применение оружия, для защиты республики. Поначалу консул решил, что, стянув войска и приведя их в боевую готовность, заставит заговорщиков отказаться от своих замыслов. У ворот Рима ждали очереди отпраздновать триумф два проконсула, Квинт Марций Рекс и Квинт Метелл Кретик, со своими отборными солдатами. Цицерон отправил первого в Апулию, второго в Этрурию, а обоим преторам, находившимся при исполнении своих обязанностей — Цецилию Метеллу Целеру (благодаря Цицерону он получил назначение наместником Цизальпинской Галлии на следующий год) и Квинту Помпею Руфу (о котором мало что известно) дал приказ: первому провести набор войска в Пиценской области, а второму — отправиться в Капую и помешать посланцам Катилины сформировать войско из гладиаторов, которых в этом городе по-прежнему было очень много.
В Риме Луций Эмилий Павел (брат Лепида, будущего триумвира) выступил с официальным обвинением Катилины в насилии, что при данных обстоятельствах было актом, юридически вполне обоснованным. В своем ответе, исполненном наглости и презрения к законам, Катилина заявил, что готов остаться под домашним арестом либо в доме консула, либо в доме претора Метелла Целера, а поскольку оба от такого предложения отказались, Катилина перебрался в дом одного из своих сообщников, формально проявив готовность внять предъявленному обвинению, а по сути дела сохранив полную свободу действий. В этом-то доме, хозяином которого был Марк Порций Лека, в ночь с 6 на 7 ноября Катилина созвал совещание своих сторонников. Он объявил, что решил уехать в Этрурию и принять командование армией, которую тем временем собрал в Средней Италии Гай Манлий — бывший центурион Суллы и участник заговора, руководивший подготовкой его в тех краях. Катилина прибавил, однако, что не покинет Рим, пока в нем остается в живых консул Цицерон. Два человека — всадник Гай Корнелий и сенатор Луций Варгунтей (в источниках, впрочем, приводятся и другие имена) вызвались покончить с Цицероном. На заре следующего дня, 8 ноября, они, замешавшись в толпу клиентов, пришедших приветствовать консула, должны были явиться в дом Цицерона и убить его. Присутствовавший на совещании Курий поспешил предупредить консула, и, когда убийцы подошли к дому, двери оказались запертыми.
Дольше медлить было нельзя. В Храме Юпитера Статора (буквально: «Остановителя») собралось заседание сената. Выбор места не случаен. Согласно легенде храм был освящен Ромулом во время войны с сабинянами и их царем Титом Татием в ознаменование того памятного мгновения, когда Юпитер вмешался в ход сражения и
Сенаторы наконец убедились, что заговор не был выдумкой консула пли искусно проведенной провокацией. Катилина пытался отвечать. Отказавшись от былого наглого тона, он напомнил сенаторам о своем происхождении, о традициях «отчей» республики, которые требовали, чтобы аристократы всегда служили народу. По какому праву у патриция Катилины требует отчета какой-то Цицерон, человек из Арпина, переселенец (inquilinus — слово, которым обозначали в Риме людей, не имевших в юроде собственного жилья), личность, случайно замешавшаяся в ряды правителей республики? Сенаторы не поддались, однако, такого рода доводам, и Катилина, сопровождаемый злобными выкриками, покинул храм, угрожая «погасить под развалинами государства тот костер, на котором его пытаются сжечь». Весьма возможно, правда, что эта фраза, которая, судя по источникам, была произнесена совсем в другом случае, вложена Саллюстием в уста Катилины лишь ради драматического эффекта. Двадцатью годами позже описанных событий, когда Саллюстий составлял свой рассказ, эпизод уже окутался драматическими светотенями, что давало возможность историкам и поэтам проявить свой талант, а заодно и исказить ход событий.
Итак, Катилина покинул Рим. Из попытки захватить власть в столице ничего не вышло. Оставался лагерь Манлия, куда он и направился в надежде вскоре вернуться во главе победоносной армии в столицу, где его союзники собирались к тому времени поднять восстание против консулов и государственной власти. Желая скрыть спои подлинные намерения, Катилина писал друзьям и даже принцепсу сената Лутацию Катулу, что отправляется в Массилию в добровольное изгнание, гонимый клеветой, возведенной на него врагами; что единственная его вина — защита бедных граждан, чьи интересы он пытался отстоять в борьбе с безжалостными кредиторами. Сходные письма писал проконсулу Марцию Рексу и Манлий. Но, невзирая на миролюбивые слова, Катилина готовился к войне. Вместо того чтобы отправиться по Аврелиевой дороге, которая вела вдоль морского берега в Массилию, он двинулся к Аррецию, где соединился с другим своим сторонником Гаем Фламинием, а отсюда, возложив на себя знаки императорского достоинства, пошел на Фьезоле. Оповещенные об этом сенаторы объявили Катилину «врагом римского народа», предложив в то же время прощение тем его союзникам, которые сложат оружие до установленного дня. Однако никто из сторонников Катилины не покинул его лагерь.
9 ноября Цицерон обратился с речью к народу (так называемая Вторая Катилинария), где изложил весь ход событий, раскрыл подлинные намерения заговорщиков и показал, что республика располагает силами, которые не оставляют Катилине никаких шансов на успех. В те дни консул еще питал надежду, что в самом Риме удастся избежать насилия: «Я буду поступать так, квириты, чтобы — если только это окажется возможным — даже бесчестный человек не понес кары за свое преступление в стенах этого города». Следовательно, главная трудность состояла в том, что друзья Катилины остались в столице, не последовали за своим вождем. Враги вне города (то есть армия Манлия) должны были встретиться на поле боя с консульской армией под командованием Гая Антония, действовавшего по прямому распоряжению сената, Цицерон же оставался полновластным хозяином в Городе. Но что мог он сделать, если существовали законы, запрещавшие казнить гражданина без приговора суда, избранного народом? Решение сената о введении чрезвычайного положения временно как бы упраздняло эти законы, гарантировавшие lihertas, но, как мы видели в связи с делом Росция, правовой характер и границы применения чрезвычайных законов могли быть оспорены. Наверное, все-таки не стоит приписывать нерешительность Цицерона и его сомнения в том, применять ли чрезвычайное законодательство, лишь трусости. Гораздо больше оснований видеть здесь обычное его уважение к нормам общинного общежития, обычное его стремление избегать всего, что могло бы поставить под угрозу согласие граждан.
Конец ноября прошел в напряженном ожидании. Заговорщики продолжали готовить мятеж. Консул неотрывно следил за ними. Неожиданно Катон, потомок старого Катона Цензория, отвлек от них общее внимание, предприняв шаг, чреватый опасными последствиями. Катон выступил против одного из консулов, только что избранных комициями па будущий год, Луция Лициния Мурены, обвинив его в противозаконных предвыборных махинациях. Цицерон согласился защищать Мурену. По-видимому, он рад был оказать услугу соратнику Лукулла. К тому же, если Мурену осудят и, следовательно, отрешат от консульства, следующий год начнется при одном-единственном консуле — Снлане, а когда в городе нет спокойствия и извне угрожает армия мятежников, такое положение таит в себе немалые опасности. Суд внял доводам Цицерона и оправдал Мурену.
Кроме Цицерона, защитниками Мурены выступали Гортензий — от имени сената, и Красс — в роли представителя народной партии. Речь Цицерона на этом процессе дошла до пас в редакции 60 года, вероятно, пе-сколько отличной от первоначальной. Цицерон оказался в плену противоречий. Мурену обвиняли по Туллиеву закону, автором которого был сам Цицерон, получалось так, будто он выступает против самого себя. Катон — суровый и последовательный сторонник стоической философии, пользовался в сенате непререкаемым моральным авторитетом. Другой обвинитель, соперник Мурены на выборах, Сульпиций, тоже слыл безупречно порядочным человеком. Вступая в борьбу с такими противниками, Цицерон рисковал восстановить против себя значительную часть сената именно в тот момент, когда больше всего нуждался в единодушной поддержке в курии. Он решил построить свою речь так, чтобы разделить обвинителей, создать особый образ каждого из них, несхожий с образом другого. Катона он изобразил более стоическим стоиком, чем самые знаменитые последователи этого направления в прошлом веке, что выглядело несколько комично. Говоря о Сульпиции, Цицерон с деланным добродушием изображает его таким- же, как он сам, юристом-практиком, из тех, что, конечно, приносят гражданам пользу, но не идут ни в какое сравнение с воинами и полководцами. Мурена, как все знали, принадлежал к числу последних; он явно должен был выиграть процесс.
Марк Туллий Цицерон. Флоренция. Mузей Уффици.
Гай Марий, полководец и семь раз консул, родственник Цицерона. Ватиканский музей. Рим.
Луций Корнелий Сулла Фелнкс, полководец. диктатор.
Национальный музей, Неаполь.
Гней Помпей. Изображение на монете.
Гней Помпей Великий — полководец, трижды консул. Голова статуи, к подножию которой 15 марта 44 г. до н. э. упал убитый Цезарь.
I
Гай Юлий Цезарь. Изображение на монете.
Гай Юлий Цезарь, диктатор. Прижизненных портретов не сохранилось. Настоящий бюст (музей г. Пизы, Италия) считается самым точным из позднейших изображений.
Марк Порций Катон Младший (Утический) - «последний республиканец»
Марк Юний Брут, убийца Цезаря. Изображение на монете.
Гай Юлий Цезарь. Бюст эпохи Возрождения (школа Донателло), Лувр, Париж.
Марк Антоний, триумвир. Мюнхен. Глиптотека
Юноша Октавиан (Гос. Эрмитаж). Таким должен был впервые увидеть будущего императора Цицерон.
Основатель Римской империи Октавиан Август. Так называемый Август из Примапорты. Ватиканский музей, Рим.
Карнеад
Платон
Эпикур.
Зенон
Демосфен. Знаменитый афинский оратор IV в. до н. э.
Квинт Гортензий Гортал, оратор, друг Цицерона и противник его в судебных процессах. Мрамор. Рим, вилла Альбани.
Вергилий. Рим. Латеранский музей
Марк Туллий Цицерон. Капитолийский музей. Рим.
Ватиканский палимпсест. (кодекс 5757). Основной текст — Цицерон. «О государстве», кн. 1, 27
Статуя оратора. Флоренция. Археологический музей.
Тем временем Цицерон получил от своих осведомителей сведения, что заговорщики назначили на 16 декабря выступление в Риме, предполагая начать его с поджогов и резни. Бесспорные, осязаемые доказательства надвигавшейся катастрофы стали жизненно необходимы. Помогла Цицерону неосторожность самих заговорщиков. В Риме уже несколько дней находились посланцы галльского племени аллоброгов, прибывшие в столицу, чтобы, как они объясняли, подать жалобу на бывшего наместника Луция Мурену, которого только что оправдал суд. Лентул, руководивший действиями заговорщиков в столице, поручил отпущеннику по имени Публпй Умброп вступить в сношения с аллоброгами. Свидание состоялось в доме Деция Брута рядом с форумом. Заговорщики просили галлов выступить за них, обещая взамен простить им долги. Подумав и все взвесив, аллоброги решили выдать заговорщиков консулу. Цицерон устроил ловушку: аллоброги получили от заговорщиков письменный договор и 3 декабря двинулись в обратный путь; договор они везли с собой; у Мульвиева моста через Тибр, где находился северный выезд из Рима, они были арестованы отрядом солдат под командованием двух преторов. Наконец Цицерон держал в руках неопровержимое доказательство существования заговора. Он немедленно отдает приказ об аресте лиц, чьими подписями скреплены конфискованные документы, проводит обыски в их домах и созывает заседание сената в храме Согласия у подножия Капитолийского холма.
Саллюстий ярко описывает противоречивые чувства, владевшие консулом: радость от того, что удалось раскрыть заговор и избавить родину от грозившей опасности, и в то же время растерянность и смятение — ведь неизвестно, как поступать с арестованными, входящими в число первых граждан государства. Зато теперь ничто уже не могло помешать сонату до конца расследовать дело; гнев народа обрушился на заговорщиков. Прежде городской плебс был довольно благосклонен к Катилине, ибо видел в нем защитника своих интересов; поняв же, что переворот грозит новыми страданиями и бедами, простонародье резко изменило отношение к заговорщикам и настроилось враждебно. Цицерона превозносили до небес. Он обратился к народу с новой, третьей, речью против Катилины: вечереет, сказал он, скоро опустится ночь, и в последний раз придется гражданам принимать всякие предосторожности, запирать двери домов, обходить дозором улицы и переулки. В Город, спасенный благодаря бдительности консула, возвратятся спокойствие и мир. В заключительной части речи господствует религиозное настроение. Вот уже нисколько лет одно за другим следуют недобрые предзнаменования, молния ударила в Капитолий и поразила статую Волчицы; по распоряжению гаруспиков начали возводить новую, большую статую Юпитера, обращенную на восток, то есть в сторону форума, работы велись до сих пор без настоящей энергии, но не случайно закончены они именно сегодня. Цицерон видит тут благоприятное знамение, предвестие окончания бед. Лишь теперь становится ясным смысл божественной воли, изъявленной во время гаданий о спасении Города, — боги имели в виду заговор Катилины, и отныне предуказания их могут почитаться исполненными.
В наше время многие склонны рассматривать цицероновские пассажи такого рода как чистую дань риторике и народным суевериям. Наверное, все-таки такой взгляд неверен. Выражения религиозной преданности Юпитеру сплетаются здесь с другими чувствами, которые глубоко коренились в душе римлянина, и Цицерон разделял их с любым из своих сограждан: после того, как сделано все, что в человеческих силах, следует положиться на заступничество Юпитера, который, как убежден был каждый, всегда готов защищать свой Город.
Вечером 3 декабря римские матроны собрались в доме Цицерона на праздничную церемонию в честь Доброй Богини. Мужчины на такие церемонии не допускались, и Цицерону пришлось уйти из дома. В ночной темноте шагал он по улице, раздумывая о том, как развернутся дальше события и что надо делать, как вдруг его догнала Теренция и рассказала о чудесном знамении, явленном богами: когда жертвы Доброй Богине полностью сгорели на огне жертвенника и покрылись остывшей золой, над ними внезапно взметнулся язык пламени. Весталки (среди которых была и сводная сестра Теренции Фабия) истолковали знамение так, что сама Богиня в ответ на обращенные к ней мольбы о благополучии Рима изъявляла Цицерону свою волю, побуждала продолжать борьбу с заговорщиками, и тогда яркий свет озарит путь, по которому в спокойствии и славе будет шествовать государство римлян. В таких примерно выражениях рассказывает Плутарх об этом примечательном эпизоде. Квинт Цицерон и философ-неопифагореец Нигидий Фигул говорили Цицерону то же самое, и уверенность обоих окончательно убедила консула.
4 декабря в сенате продолжалось следствие. Были выслушаны показания Луция Тарквиния, арестованного на пути к лагерю Катилины. Ему обещали полное прощение, и он подробно рассказал о планах заговорщиков, прибавив, что Красс поручил ему убедить Катилину начать действовать возможно скорее. Заявление это удивило всех, ибо двумя месяцами ранее Красс сам выступил с разоблачением заговора. Сенаторы решили, что Тарквиний лжет, и распорядились заключить его в тюрьму. Кто мог толкнуть Тарквиния на то, чтобы назвать Красса? Показания Тарквиния не давали ответа на такой вопрос, и догадки были самые разные. Нашлись люди, которые утверждали, будто наговор исходит от Цицерона. Обвинение весьма маловероятное — ведь консул отказался вписать в список заговорщиков даже имя Цезаря, на чем настаивали бывший подзащитный Цицерона Гай Кальпурний Пизон и Квинт Лутации Катул. Цезарь, во всяком случае на этот раз, не вступал в сговор с Катилиной. Тем не менее подозрения такого рода, основанные скорее всего на его поведении в 65 году, все-таки тяготели над Цезарем; когда он вышел из храма Согласия, где шло заседание, римские всадники, несшие в полном вооружении охрану здания, окружили его и, обнажив мечи, грозили с ним расправиться. Тучи сгущались, пахло грозой, и затянувшемуся делу пора было положить конец.
Развязка наступила на следующий день, 5 декабря, в декабрьские ноны. Цицерон снова созвал сенат и спросил, какова будет судьба арестованных заговорщиков. Консул следующего года Силан высказался за смертную казнь. Некоторые сенаторы присоединились к его мнению. Дошла очередь до Цезаря; он произнес пространную речь, основное содержание которой Саллюстий излагает так: Цезарь обратил внимание сенаторов на то, сколь опасны и ошибочны бывают решения, принятые в гневе; напомнил, что законы государства и нравственные его традиции вменяют в обязанность сенаторам прежде всего искать милосердных решений; есть много способов, кроме смертной казни, воспрепятствовать заговорщикам нанести ущерб государству. Слова Цезаря произвели впечатление на многих сенаторов. Однако вслед за ним слово взял Катон, проявивший себя сторонником самых суровых мер и противником всякой жалости. Доводы Катона убедили собрание. В тот же вечер Цицерон распорядился привести приговор в исполнение. Самые видные сенаторы сопровождали приговоренных до Туллпанума — мрачной государственной тюрьмы у подножия Капитолийской крепости, там их и предали смерти.
После того как был задушен последний, Цицерон вышел к хранившей молчание толпе и объявил, что друзья Катнлнны «отжили», vixerunt. В ответ послышались крики восторга, сама собой образовалась процессия, длинная, при свете факелов она пересекла форум и сопровождала консула до самого его дома в Каренах.
Мятеж нельзя было считать до конца подавленным, поскольку Этрурия оставалась во власти Катилины и его армии. Вскоре тем двум легионам, которыми здесь располагали повстанцы, пришлось перейти к обороне. Войска Гая Антония и Квинта Метелла Целера окружили их и принудили дать решительное сражение у Пистойи. Видя, что поражение неизбежно и ему не остается ничего, кроме смерти, Катилина врезался в гущу боя и подставил грудь под мечи врагов. Сражение у Пистойи происходило в конце января, в те самые дни, когда Цицерону надлежало сложить с себя консульские полномочия. Когда он, завершив магистратуру, вознамерился обратиться к народу с речью, содержавшей отчет о его правлении, Метелл Непот, брат Метелла Целера, легат Помпея, а с 10 декабря 63 года — народный трибун, использовав свое право вето, запретил Цицерону выступать. В ходе декабрьских заседаний сената Цицерона, напротив того, осыпали похвалами, сенаторы присвоили ему звание «отца отечества» и постановили совершить молебствие в его честь, дабы возблагодарить богов, сподобивших консула спасти государство.
Вот так кончилось консульство Цицерона, навсегда оставившее в его душе противоречивые чувства радости, тревоги и сожаления — ему все же не удалось, подавив заговор вооруженной силой, сохранить при этом строгую законность и избежать казни заговорщиков в Городе. Но ведь сенат не пошел за Цезарем, ведь все твердили одно и то же — и коллеги в курии, и Теренция, ненавидевшая Катилину, который опозорил ее сестру Фабию, и знамения, ниспосланные богами. Что же оставалось ему делать? Не исключено, что в глубине души он опасался дальнейшего развития событий, боялся, как бы пример Катилины не толкнул многих на тот же путь, и потому решил раз навсегда преподать жестокий урок. Цицерон хотя и долго противился смертному приговору, но все же наконец согласился с теми, кто на нем настаивал.
Казнь заговорщиков в декабрьские ноны не изменили положения: опасность, нависшая над республикой, по-прежнему рождала страх и смятение. Войска, посланные консулом и сенатом, одержали победу над Катилиной, но ни одна из проблем не была решена. Главная на первый взгляд состояла в противоположности между стремлениями крупных личностей, обуреваемых честолюбием, и традициями республики, требовавшими, чтобы каждый гражданин, как ни велики услуги, оказанные им государству, и слава, им завоеванная, возвратился на свое обычное место, вновь стал частным человеком, удовлетворившись престижем, который отныне окружал его имя в сенате и dignitas в глазах народа. Желание облегчить участь бедняков, их долговое бремя, положить предел хищничеству ростовщиков, о котором говорил Катилина, а вслед за ним в письме Марцию Рексу и Манлий, было не более чем предлогом. Существовала возможность решить эти проблемы без насилия — в прошлом уже принимались кое-какие меры, а некоторые предложения можно было обсудить в дальнейшем. Заговорщики без труда привлекли в свою армию ветеранов Суллы, потому что воины отвыкли от крестьянской жизни и оказались неспособны возделывать полученные земли. Если крестьянин утратил вкус и умение работать на земле, он никогда к ней не вернется, тем более привыкши жить войной и исчислять свое богатство деньгами, а не мерами зерна. Тут не могли помочь ни вывод колоний, ни аграрные законы. К тому же поджигатели гражданских войн были выходцами не из муниципальной среды и не из разоренного крестьянства. Политика государства, как всегда, делалась в Риме и, отказываясь от промагистратур, Цицерон показал, что хорошо это понимает.
Шел последний месяц консульства Цицерона, и тут начались выступления против него. Метелл Непот, вступив 10 декабря в должность народного трибуна, тотчас внес проект закона, требовавшего вернуть Помпея в Рим, поручить ему обеспечить порядок и одновременно обвинил Цицерона в казни без суда римских граждан. План Непота состоял в том, чтобы возможно скорее вернуть в Италию Помпея с армией — тогда Помпей поступит как Сулла — захватит верховную власть. Цицерон защищался от обвинений трибуна сначала в сенате в ходе январских заседаний, затем на одной из сходок, созванных вскоре Метеллом Непотом. Мы располагаем несколькими отрывками из речи на сходке. По ним видно, что Цицерон, как и следовало ожидать, говорил о решении сената, о долге консула выполнять его решения, о тайной подоплеке выступлений Непота, то есть о стремлении подорвать доверие к сенаторам. Последние быстро поняли, какая угроза нависла над ними, и поручили двум трибунам, Катону и Минуцию Терму, наложить вето на передачу законопроекта Метелла Непота на обсуждение народного собрания. На форуме начались стычки, и уже 3 января сенаторы подтвердили свое решение предоставить консулу чрезвычайные полномочия для принятия мер, которые он сочтет необходимыми ради спасения государства.
В эти же дни с предложением, лестным для Помпея, выступил и Цезарь. Вступив 1 января в должность претора, он предложил в надписи о восстановлении Капитолийского храма воздать благодарность Помпею, а не Лутацию Катулу, которому восстановление храма было поручено, но который слишком медленно выполнял поручение и до сих пор не довел дело до конца. Цезарь таил злобу против Катула после того, как, состязаясь с Цезарем в борьбе за должность верховного понтифика и вынужденный уступить сопернику, тот принялся повсюду говорить о своем удачливом сопернике с величайшим презрением, называл его «мальчишкой», а при опросе мнений сенаторов о судьбе участников заговора Катилины гневно на него обрушился. В отместку Цезарь и в самом деле позволил себе мальчишескую выходку, которая, впрочем, не имела серьезных последствий. Когда Катул, исполненный негодования, поспешно явился на форум отстаивать свои права, Цезарь начал с того, что воспользовался своим положением претора и лишил Катула слова, а затем снял свое предложение и преспокойно отправился домой. Возмущенные выходками Цезаря и Метелла Непота, сенаторы отрешили обоих от магистратур. Метелл принял их решение всерьез, уехал из Рима и отправился в армию Помпея; Цезарь же остался в столице и вскоре добился восстановления в должности.
Три человека руководили в тот год политической жизнью Рима: Красс, который благодаря своим несметным богатствам покупал все и всех; Цезарь, пользовавшийся симпатиями римской толпы по многим причинам и, в частности, потому, что добивался смягчения приговора сторонникам Катилины; и Помпей, который вот-вот должен был вернуться с Востока, и многое в столице делалось с расчетом на то, как будет он действовать по возвращении. Когда все ожидали появления Помпея в Италии, Красс, забрав семью и все, что мог увезти из имущества, покинул Рим и отправился в Македонию. Трудно сказать, действительно ли он опасался Помпея или, как полагает Плутарх, своим показным страхом хотел бросить тень на полководца. Цезарь, дабы укрепить свое положение в сенате, добился опровержения обвинений в том, будто он участвовал в заговоре Катилины. Воспользовавшись правом претора, он заключил клеветников в тюрьму, от Цицерона же вытребовал свидетельство о том, что по доброй воле предоставил в распоряжение консула сведения о заговоре.
О состоянии духа Цицерона в первые недели после разгрома заговора можно судить по трем письмам, сохранившимся в его «Переписке». Первое — от Метелла Целера, в котором он выражает возмущение тем, как в начале января обошлись с его братом Непотом, и ответственность за случившееся с братом возлагает на Цицерона. По-видимому, кто-то представил Целеру события в ложном свете. Цицерон поспешил ответить письмом, относящимся к концу января или к началу февраля. Он напоминает, что инцидент вызван нападками на него, Цицерона, что, став трибуном, Непот неоднократно говорил о своем намерении любой ценой погубить консула. Восстановив истину и вернув себе доброе расположение Целера, Цицерон занялся Помпеем. Споры в сенате вокруг предложения Непота показали, что Помпей не пользовался больше симпатиями сенаторов, которые не могли простить полководцу, что в обход их решений он добился командования на Востоке, где и прославился. Скрепя сердце они смирились с тем, что Цицерон во время своего консульства декретировал десятидневные благодарственные молебствия богам в честь победителя Митридата, но теперь ясно давали понять, что сенат и без помощи Помпея сумеет сохранить порядок в столице.
На следующий же день после победы над Непотом, в декабрьские ноны, Цицерон отправил Помпею письмо «размером с целую книгу», где подробно рассказал о борьбе против заговорщиков. Письмо вызвало неудовольствие Помпея, который счел, что Цицерон преувеличивает значение своих действий и тем преуменьшает его роль. Письмо Цицерона не сохранилось, но один из схоластов утверждает, что оно было «тщеславно и заносчиво» и Цицерон «ставил себя выше великих покрытых славой полководцев». В действительности в основе расхождений лежала отнюдь не игра честолюбий или, хуже, тщеславие, а старинный спор (отзвуки которого мы слышали в речи в защиту Мурены) между славой воинской и той, что приносят мирные подвиги. В описываемых обстоятельствах спор приобретал новое и еще большее значение. Мы достаточно хорошо осведомлены о теоретических воззрениях и политической программе Цицерона и понимаем, что убеждение в значительности собственных заслуг, как бы сильно оно ни было, никогда не сводилось у него к мелочному тщеславию. Он искренно верил, что нашел новый, дотоле неизвестный способ решать проблемы, которые возникли из-за соперничества политических деятелей и то и дело нарушали нормальный ход жизни государства. Гражданской войны, которую Цицерон считал самой страшной угрозой Риму, можно было, по его мнению, избежать с помощью мирных средств: главное из них — «согласие сословий», именно оно дает возможность законно избранным магистратам беспрепятственно пользоваться всей полнотой власти на благо государству. Вряд ли Помпей мог понять и сам ход мысли Цицерона, и неожиданное, с его точки зрения, поведение человека, который еще так недавно помог ему получить верховное командование в войне с Митридатом, а теперь, казалось, стал его соперником. В довольно холодном письме Помпей подтвердил получение длинного трактата Цицерона, на что последний ответил краткой запиской, приведенной в «Переписке»: полунамеками, но достаточно ясно Цицерон объясняет сдержанность Помпея влиянием Метелла Непота (уехавшего, как мы помним, в восточную армию), который изобразил полководцу действия консула в ложном свете. Мы можем представить себе, что именно говорил Метелл Помпею: слишком близкая и выставляемая напоказ дружба с человеком, виновным в казни без суда римских граждан, может бросить тень на победоносного полководца и отразиться на его положении; народ восторженно приветствовал консула, потому что его действия избавили граждан от опасности, тяготевшей над ними в течение нескольких месяцев, но это продлится недолго; после бегства Красса Помпей становится вождем народной партии, и вовсе ни к чему компрометировать себя близостью с Цицероном, чье политическое положение, как только улягутся первые восторги, окажется весьма зыбким. Если Помпей в самом деле внял подобным доводам, ему очень скоро пришлось убедиться, как дорого обходится неблагодарность по отношению к Цицерону. В письме, датированном апрелем 62 года, Цицерон предлагал Помпею настоящий союз и характеризовал политическую программу, на которой он мог быть основан: «По приезде ты узнаешь, сколько в моем поведении благоразумия и силы духа, так что ты, далеко превосходящий Африканского, легко согласишься объединиться со мной, немногим уступающим Лелию и в государственной деятельности, и в дружбе». Цицерон имеет в виду годы, предшествовавшие гражданским войнам, когда Эмилиан, младший из Сципионов Африканских, главенствовал и государстве, а друг его Лелий помогал ему мудрыми советами и философскими познаниями.
Тем временем срок консульства Цицерона истек, и оратор вернулся к обычной жизни. Сознавая, какую роль играет отныне в Риме, он оставил свой старый дом в Каренах брату и приобрел новый на Палатине. Дом принадлежал прежде Крассу. Цицерону он обошелся в три с половиной миллиона сестерциев — сумма очень значительная; таких денег у Цицерона не было, пришлось взять взаймы у Публия Корнелия Суллы, которого оратору предстояло в скором времени защищать от обвинения в участии в заговоре Катилины. Новый дом находился в самом славном квартале Рима, над форумом, так что клиентам, приходившим по утрам приветствовать консулярия, ничего не стоило подняться с форума, а по завершении церемонии приветствий снова туда вернуться. Символический смысл дома — наглядного свидетельства успехов оратора, его восхождения на вершину римского общества — был настолько очевиден, что после изгнания Цицерона Публий Клодий тотчас же постарался захватить дом, тем более что он стоял на участке, принадлежавшем роду Клавдиев. Стремительность, с которой новоиспеченный плебей Клодий бросился изгонять Цицерона с Палатина, позволяет понять, как упорно старая римская знать продолжала считать консула 63 года выскочкой и как важно для нее было подчеркивать дистанцию между ним и собой.
В начале наступившего 62 года, как и следовало ожидать, многие под предлогом наказания участников заговора Катилины стали сводить счеты с личными врагами. Ряд видных граждан обвинили в нарушении закона о насилии: Порция Леку, в чьем доме Катилина провел последний военный совет перед отъездом из Рима, Гая Корнелия, всадника, который пытался убить Цицерона, Луция Варгунтея и Публия Автрония Пета. Некоторые обращались к Цицерону с просьбой выступить в суде в качестве защитника; все просьбы такого рода Цицерон систематически отклонял. Он даже выступил свидетелем против Автрония Пета, который был его коллегой по квестуре в 75 году; позже, в 65 году, Пет стал вместе с Публием Суллой консулом, но, как мы уже говорили, отрешен вместе с коллегой от магистратуры за подкупы и интриги в ходе предвыборной кампании. Однако, свидетельствуя против Автрония, приговоренного к изгнанию, Цицерон в то же время согласился защищать Публия Суллу, который, хоть и не принимал прямого участия в заговоре, весьма благосклонно относился к некоторым его участникам. Из речи Цицерона в защиту Суллы можно видеть, что факты, на которых основывалось обвинение, были весьма шатки — фактов, в сущности, не нашлось, все строилось на вероятности и допущениям. Сейчас трудно решить, согласился ли Цицерон защищать Суллу (вторым защитником был Гортензий) потому, что считал его правым, или потому, что Сулла дал ему взаймы два миллиона сестерциев, что позволило Цицерону приобрести дом на Палатине. Заметим также, что Сулла принадлежал в сенате к партии умеренных, то есть к числу тех, чью поддержку Цицерон стремился завоевать именно теперь, когда популяры все настойчивее обвиняли его в казни заговорщиков без суда. Обвинение Цицерону прозвучало и на процессе Суллы, его выдвинул Луций Манлий Торкват, сын Торквата, консула 65 года. Молодой Торкват не был, однако, популяром, а, напротив, происходил из высшей аристократии. Цицерона он обвинил в тиранических замашках и в том, что в Риме он остается «в сущности человеком посторонним». Как видим, Торкват повторял оскорбительные нападки, которые патриции позволяли себе и ранее по отношению к «человеку из Арпина». Выступление Торквата имело, по-видимому, целью дополнить еще одним пунктом список прегрешений, которые ставились Цицерону в вину. Такие обвинения не предъявлялись суду, но содействовали созданию общественного мнения, враждебного Цицерону.
Оратор, в свою очередь, изыскивает поддержку где только можно. Коллега его по консульству Гай Антоний, сыгравший, как мы знаем, в том достопамятном году довольно двусмысленную роль, после разгрома Катилины управлял Македонией в качестве проконсула, куда отбыл весной 62 года. Летом и в начале осени до Рима стали доходить весьма нелестные отзывы о деятельности наместника. Цицерон счел своим долгом защитить Гая Антония в сенате и не допустить его отзыва. Действовал ли Цицерон в силу моральных обязательств, которые в принципе всегда существовали между магистратами-коллегами, или по другим, не столь благовидным мотивам? Ряд писем, написанных между концом 62-го и январем 61 года заставляет предположить, что двух консуляриев связывала тайная договоренность. По-видимому, Цицерон оказал Антонию помощь в получении Македонского наместничества в обмен на обещание поделиться прибылями, которые это наместничество принесет. Упомянутые письма отличаются крайне раздраженным тоном, Цицерон не упускает повода напомнить адресату об оказанных ему услугах. Раздражение вызвано болтливостью Антония, твердившего всем и каждому, что значительная часть денег, которые он взыскивает с македонян, предназначена Цицерону и что оратор прислал в провинцию своего отпущенника с поручением следить за распределением доходов. В письме к Аттику Цицерон описывает ситуацию, выражает возмущение и просит друга съездить к Антонию и выяснить на месте, что происходит. Из писем бесспорно следует лишь одно: Цицерон рассчитывал, что бывший коллега даст ему взаймы денег для покрытия долга, образовавшегося в связи с покупкой палатинского дома, а Антоний отнюдь не торопился предоставить заем. Дает ли это основания обвинять Цицерона в бесчестности? В Риме принято было брать у друзей в долг. Разве не мог Антоний входить в число друзей Цицерона? Во всяком случае, он многий был обязан бывшему коллеге, и если не испытывал благодарности, то, без сомнения, нарушал обычай и неписаные правила поведения, принятые в Риме. Не исключено также, что отпущенника, который, по словам наместника, держал себя нагло, в самом деле послал Цицерон, но, может быть, оратор просто хотел поторопить Антония с выполнением взятых обязательств; Антоний же воспользовался приездом отпущенника и разгласил договоренность, которой следовало остаться частным делом. Огласка меняла характер договоренности, вместо выполнения долга чести получался сговор разбойников, дележ награбленного. Аттик, который сам ожидал от Антония некоторых услуг, сумел, по-видимому, уладить дело, поскольку Цицерон остался «другом» Антония и двумя годами позже не без риска для своей репутации вернул ему какую-то сумму, очевидно, возвращая долг, то есть деньги, которые Антоний ссудил ему «из благодарности».
В том же, 62 году, кажется, в начале лета и, во всяком случае, до возвращения Помпея с Востока, Цицерон произнес речь «В защиту поэта Архия» — речь, образующую как бы светлую паузу среди интриг и нападок, теснивших оратора со всех сторон. Мы уже знакомы с поэтом Архием и знаем, какое влияние он оказал на Цицерона в юности. Чувство благодарности к старому учителю и явилось причиной того, что Цицерон при всем достоинстве консулярия согласился выступить защитником Архия. Возможно также, что оратор хотел оказать услугу Лукуллу — Архий дружил с ним па протяжении многих лет. Однако главное то, что Архий в глазах Цицерона — глашатай славы и бессмертия, а истинную славу и истинное бессмертие может дать только поэзия. Архий обещал воспеть в греческих стихах консульство Цицерона; и было только справедливо, что консулярии послужил поэту своим красноречием, для развития которого тот так много сделал. Речь Цицерона изобилует лирическими признаниями. О годах и чувствах своей молодости, о своей любви к славе — той, конечно, что достигается служением государству, но в еще большей мере благодаря поэтам, писателям, мыслителям, увековечивающим человека для потомства. Сразу же во вступлении к речи обозначаются мысли, которые много лет спустя были развиты в «Тускуланских беседах»: жажда славы, терзающая наши души, доказывает, что в каждом человеке заложена тяга к бессмертию; память, которую мы по себе оставляем, нам небезразлична, и даже после смерти никто не может остаться равнодушным к славе, которая и тогда «коснется какой-то части нашего существа». В творчестве Цицерона между речью «В защиту Архия» и «Тускуланскими беседами» важное место занимает сон Сципиона, завершающий диалог «О государстве». Он доказывает, что Цицерона постоянно преследовала мысль о жизни после смерти, которая дается в удел тому, чья деятельность на земле была особенно значительной и славной. Разумеется, Архий выиграл дело — тем более что председательствовал в суде Квинт Цицерон, в ту пору претор.
В конце 62 года Помпей наконец высадился в Брундизии. Он помирился с Цицероном. Так по крайней мере рассказывает Цицерон в письме к Аттику от 1 января 61 года. Покоритель Востока, несмотря на всю свою славу, находился в это время в странной политической изоляции. Из Македонии вернулся Красс, который сильно опасался появления Помпея в Италии, теперь же обрел прежнюю уверенность. Еще на Востоке доходили до Помпея слухи о поведении его жены Муции, не раз изменявшей погруженному в воинские труды мужу; по возвращении в Рим Помпей расстался с Муцией, не пожелав даже выслушать ее оправдания; это сразу восстановило против полководца весь клан Метеллов, из которого Муция была родом. Попытка Помпея жениться на дочери или племяннице Катона оказалась безуспешной. Катон от союза отказался. Помпей не настаивал; распустив армию, он стал ждать постановления сената о его триумфе. В последующие месяцы он постарался найти людей, на которых мог опереться, но Цицерона в их числе не было.
В декабре 62 года, в то самое время, когда Помпей возвращался в Италию, в Риме разразился скандал, который имел далеко идущие последствия. Цицерон рассказывает о нем Аттику как-то мимоходом, среди других столичных новостей в письме от 1 января, о котором мы упоминали выше. В начале месяца в доме Цезаря, в ту пору претора, женщины совершали обряды в честь Доброй Богини. Праздник нарушило появление тайно проникшего в дом мужчины, переодетого арфисткой. Ему удалось ускользнуть неузнанным, но никто не сомневался, что то был Публий Клодий, возлюбленный жены Цезаря Помпеи. Авантюрная выходка молодого аристократа превратилась вскоре в событие государственного масштаба.
Публия Клодия хорошо знали в городе. Он принадлежал к роду Клавдиев, но изменил имя и стал называться в соответствии с народным произношением Клодием; отказался он от патрицианского имени явно для того, чтобы завоевать симпатии плебса. Клодий родился около 90 года, сражался на Востоке в армии Лукулла, своего шурина, но проявил неповиновение и убедил солдат не следовать за полководцем дальше на Восток. Лукулла сменил Марций Рекс, женатый на другой сестре Клодия, последний вошел в окружение нового командующего и стал во главе приданной армии эскадры; был захвачен пиратами, освободившись, отправился в Антиохию, принадлежавшую тогда к царству селевкидов, начал сеять в городе смуту, вербуя граждан в якобы затеянный им поход против арабов. В городе началось восстание, и Клодий едва не погиб. Вернувшись в Рим, он выступил в 66 году с обвинением Катилины во взяточничестве, но был заподозрен в преступном сговоре, ибо явно намеренно построил обвинение так, что Катилина легко мог его опровергнуть. Позже Клодий появился в Цизальпинской Галлии при Луции Мурене, где, если верить Цицерону, занимался разного рода вымогательствами. Неуживчивый, вечно затевающий ссоры и распри, он, как все полагали, должен был принять участие в заговоре Катилины. Существовали подозрения, что он действительно вошел в число заговорщиков, но Плутарх уверяет, что, напротив того, Клодий оставался верным сторонником Цицерона и входил в вооруженный отряд, охранявший консула Таков был Публий Клодий Пульхр, вожак толпы и прирожденный смутьян. Он годился для достижения определенных политических целей, но положиться на него до конца было невозможно, в частности, и потому, что вряд ли свойственны были ему какие-либо политические убеждения. Клодий отличался наглостью и постоянным стремлением к насилию, отчего и сделался вскоре самым худшим и самым опасным из врагов Цицерона.
Судя по всему, поначалу старались приглушить общее возмущение, вызванное святотатственным появлением Клодия в доме Цезаря, или, во всяком случае, уменьшить значение происшедшего. Никто, казалось, не отнесся серьезно к нарушению обряда. Но нашлись в сенате люди, решившие воспользоваться этой историей и устранить из общественной жизни юнца, казавшегося слишком опасным. Преторий Квинт Корнифиций, один из тех, кому в 63 году было доверено держать у себя под домашним арестом участников заговора Катилины, доложил в сенате о происшествии. Сенат запросил понтификов и весталок, и те объявили, что совершено настоящее святотатство. В качестве великого понтифика должен был высказать свое мнение и Цезарь, что ставило его в довольно двусмысленное положенне. Он нашел выход — расстался с женой, не придавая гласности причину. Впоследствии на суде Цезаря спросили, почему он развелся с женой и знал ли о ее отношениях с Клодием; он ответил ставшей крылатой фразой: «Жена Цезаря выше подозрений». Между тем дело, начатое Корнифицием, шло своим ходом. Опираясь на решение высших жреческих коллегий, сенаторы поручили консулу (в этом месяце консульские обязанности выполнял Марк Пупий Пизон Кальпурниан) внести проект постановления о судебном расследовании обвинений, выдвинутых против Клодия. Пизон, человек весьма умеренный, постарался сделать так, чтобы проект был отклонен.Но совсем не к тому стремились второй консул Мессалла, а главное — Катон. В конце концов всем видным гражданам Рима пришлось высказаться по делу Клодия. На многочисленных сходках тотчас всплыли и другие проблемы и противоречия политической жизни столицы. В письме Аттику от 25 января Цицерон рассказывает, что именно на сходках стала для него проясняться подлинная позиция Помпея. Казалось, Помпей оставался другом Цицерона и последовательным сторонником сената, и все же угадывалось нечто совсем другое. Цицерон не объясняет, о чем речь, но рассчитывает вскоре узнать все точнее. Помпей, по-видимому, начинал сближаться с Цезарем и Крассом; намечался союз, который впоследствии в течение нескольких лет определял политическую жизнь Рима — Первый триумвират.
На одной из сходок, где обсуждалось дело Клодия, пришлось выступить и Крассу с оценкой консульства Цицерона. Если верить Цицерону, Красс восхвалял его до небес, что заставило и Помпея, присутствовавшего на сходке, отнестись более благосклонно к действиям Цицерона в последние месяцы 63 года. Выступил на сходке и сам Цицерон с речью, которая, как он пишет Аттику, вызвала восторг народа. Он говорил о восстановлении уважения к сенату, о согласии между сенаторами и всадниками, о поддержке, которую вся Италия оказала его политике (этот пункт был особенно важен, ибо показывал, что события и страсти времен Союзнической войны изгладились из памяти народа), о победе над заговорщиками и о ее столь желанных следствиях — снижении цен и общем спокойствии. На какой-то момент Цицерону показалось, что он сумел сплотить вокруг себя добропорядочных граждан и что он пользуется симпатиями плебса, благодарного за все, что консул для него сделал. Иллюзия, с которой ему пришлось очень скоро расстаться.
Вокруг проекта Пизона Кальпурниана продолжались бурные споры. Сторонники Клодия — золотая молодежь, участвовавшая в заговоре Катилины или ему сочувствовавшая, собиралась на форуме, произносились гневные речи с требованием отклонить проект. Сенаторы пригрозили, что высший орган республики прекратит свою деятельность, если голосование по законопроекту окажется сорванным. Дело Клодия превращалось в открытое столкновение между добропорядочными гражданами, boni, и остальными жителями Рима. Город раскололся на противостоящие одна другой партии, такого положения Цицерон опасался больше всего. После множества интриг и распрей в мае началось слушание дела в суде; члены суда не были назначены претором, как предполагалось консульским законопроектом, а определены по жребию. Так что Клодий и его сторонники с помощью разного рода уловок провели в состав суда столько своих людей, что они составили большинство. Однако был Момент, когда казалось, что Клодий будет осужден. Он утверждал, что в тот день, когда, по словам обвинителей, его видели в доме Цезаря, был далеко от Рима, в Интерамне. Такое алиби могло решить дело, но Цицерон, вызванный в качестве свидетеля, заявил, что за несколько часов до происшествия Клодий,приветствовал его в доме на Палатине. Казалось, у обвиняемого не осталось выхода. Но наступила ночь, суд был прерван, возобновились переговоры и встречи, кому-то дали еще денег, кому-то пообещали благосклонность некоторых дам, и в результате из пятидесяти шести судей, составлявших трибунал, только двадцать пять проголосовали за осуждение и тридцать один за оправдание обвиняемого. Клодий до конца дней не простил Цицерону его показаний и питал к нему самую лютую ненависть.
Историки не раз задавались вопросом о причинах, по которым Цицерон выступил с этим свидетельством. До той поры Клодий считался его другом, и нет оснований думать, что консулярий его ненавидел. Полагали, что Цицерон не смог справиться со своим тщеславием и рассчитывал еще больше прославиться, если Клодия осудят за великое святотатство на основе его показаний. Косвенным подтверждением такого мнения могло бы служить происшествие, о котором рассказал он сам. Когда Цицерон появился в суде, друзья Клодия подняли шум, стали осыпать его оскорблениями и угрозами. Судьи поднялись со своих мест, готовые защищать оратора даже с риском для собственной жизни. Все это, конечно, льстило честолюбию Цицерона. Существовали, однако, и другие причины. Древние авторы полагали, как свидетельствует Плутарх, что Теренция испытывала ревность к прекрасной Клодии, сестре обвиняемого (кстати говоря, послужившей, по-видимому, прототипом воспетой Катуллом Лесбии). Она жила на Палатине и, по слухам, надеялась женить на себе знаменитого оратора. Довольно странное предположение, если учесть, что Клодия была замужем за Метеллом Целером, да и Цицерон вряд ли дал бы втянуть себя в скандальный брак, предполагающий предварительный двойной развод. Говорили также, будто уже знакомая нам весталка Фабия настаивала, чтобы Клодий понес суровое наказание за святотатство, ведь именно коллегия весталок устраивала празднество Доброй Богини и отвечала за сопровождавшие его обряды. Главной причиной все же (которая, конечно, не исключает и некоторых других) было желание нанести удар молодым смутьянам, которые толпились вокруг Клодия, как недавно то. пились вокруг Катилины. Рим действительно наполняла буйная молодежь, она стремилась к выгодным и почетным должностям, а еще больше — к развлечениям и удовольствиям. Цицерон ясно видел, какую опасность представляли эти молодые люди для государства, и понимал, что оправдание Клодия означало поражение «добропорядочных граждан», на которых оратор больше всего рассчитывал в деле оздоровления политической жизни Рима. Все это Цицерон изложил в письме к Аттику, написанном в начале лета 61 года. В письме он рассказывает, как на следующий день после скандального решения суда обратился в сенате к Клодию, заявив, что, несмотря ни на что, союз добропорядочных граждан существует и рано или поздно восторжествуют нравственность и долг. Клодий, однако, ничуть не смутился и отвечал, что Цицерон ведет себя как «самодержец», гех. Разговор перешел в перепалку, противники осыпали друг друга оскорблениями. Громкие протесты сенаторов заставили Клодия замолчать, но злоба и ненависть его к Цицерону стали еще сильнее.
Весьма вероятно, что Цицерон недооценил, сколь сильную поддержку сумел обеспечить себе Клодий не только среди золотой молодежи, но и среди практических политиков. В письме упоминается некто, кого Цицерон называет «лысым Наннейцем», человек этот якобы в ночь накануне вынесения приговора раздавал деньги судьям. Кто имеется в виду? Скорей всего Красс. Нанней был римский всадник, чье имя связано с неурядицами восьмидесятых годов; говоря о «лысом Наннейце», Цицерон мог намекать на несметные богатства, которые Красс стяжал во время Сулланских проскрипций. Если эта догадка верна, значит, Красс, на людях всегда отзывавшийся о Цицероне самым лестным образом, втайне добивался союза с Клодием и его сторонниками, которые могли оказать ему вооруженную поддержку во время начавшихся вскоре стычек на форуме и на Марсовом поле. Так образовалась третья вершина будущего триумвирата.
Самые большие выгоды предстояло извлечь из этого союза Цезарю; он тем временем отбыл свою претуру, но не отправился сразу в выпавшую ему по жребию Дальнюю Испанию, а остался в Риме, чтобы дождаться исхода процесса Клодия. Задержкой воспользовались кредиторы, которым Цезарь, как говорили, задолжал 25 миллионов сестерциев (вспомним, что дом на Палатине, приобретенный Цицероном, стоил три с половиной миллиона); кредиторы наседали столь решительно, что Цезарю пришлось занять требуемую сумму у Красса. Это обстоятельство связало их между собой крепче любой политической договоренности, отныне Красс был жизненно заинтересован в успешной карьере Юлия Цезаря.
Квинт Цицерон по завершении претуры получил в управление провинцию Азию, где оставался целых три года. Он предлагал Аттику отправиться с ним в качестве легата, но тот отказался. В июльском письме, о котором у нас шла речь выше, Цицерон выражает сожаление, что Квинт, оскорбленный отказом, говорил об Аттике резко и несправедливо. Ссора тем более огорчала Цицерона, что Квинт не ладил с женой, которая, как уже говорилось, была сестрой Аттика. Цицерон опасался, что мир в семье будет нарушен и это отразится на его отношениях с Аттиком. Оратор ищет оправданий брату, говорит о крайней чувствительности его натуры, нередко проявляющейся во вспышках раздражения. Аттика Цицерон полностью одобряет; из этого письма мы можем судить о настроении нашего героя — ведь ему изо дня в день приходилось поддерживать равновесие между жизнью общественной и семейной. Аттик участвовал и в той, и в другой. Как истый римлянин, он оказывал другу поддержку в его политических начинаниях. Это доказывает его поведение в течение двух предшествующих лет, которые Аттия провел в Риме, кажется, с единственной целью — помогать Цицерону. Еще значительнее, однако, его роль как спутника досугов оратора, его доверенного лица, в какой-то мере и наставника в делах, касавшихся совести и морали. Как и Цицерон, Аттик избегал брать на себя выполнение каких-либо государственных поручений в провинциях. Но только по другим мотивам: он старался следовать учению Эпикура, который советовал не принимать участия в политике, ибо она — источник страстей и бед, враг безмятежности, которая одна открывает путь к Высшему Благу. Цицерон избрал другую жизненную философию, завещанную Аристотелем, равно как и стоиками, в соответствии с которой самое прекрасное, что может выпасть на долю человека, — это труд на благо отчизны. Дружба с Аттиком была как бы противовесом политическим увлечениям Цицерона, и он высоко ценил советы осторожного друга, который столь проницательно разгадывал ход политических интриг, не раз подсказывал решения, в дальнейшем оправдывавшие себя как наилучшие; особенно ценил Цицерон очарование дружеских разговоров, когда можно высказываться абсолютно откровенно.
В начале 61 года Аттик уехал из Рима и проводил время в своем поместье Бутрот в Эпире или в поездках по восточным провинциям. Цицерон пишет ему осторожно, умалчивая о некоторых событиях, называя общих знакомых выдуманными именами, так как не уверен, что письма дойдут до адресата и что посланец, которому они доверены, не разгласит их содержание. Несмотря на умолчания, переписка с Аттиком все же полно и живо раскрывает перед нами политическую жизнь тех лет, воззрения и впечатления Цицерона, когда он чувствует, как его влияние, столь значительное в последние недели консульства и в первое время после него, постепенно сокращается и исчезает, уступая место влиянию тех, кто на глазах забирает все больше и больше власти.
Главная задача состояла в сохранении согласия, которое в дни заговора Катилины установилось между сенатом и всадниками. Согласие это подвергалось многим испытаниям. Несколько сенаторов «ультра» (по-видимому, поддержанные Катоном) потребовали расследования, утверждая, что судьи были подкуплены Клодием. Всадники усмотрели в этом покушение на честь своего сословия. Когда сенат принимал постановление о расследовании, Цицерона в курии не было. На одном из следующих заседаний он постарался уладить дело, однако, как сам признается в письме, неловко казалось выглядеть защитником взяточников. Вскоре отношения между сенаторами и всадниками обострились еще более — речь шла об откупах налогов в провинции Азии. Откупщики, заключившие сделку, вскоре обнаружили, что приняли к выплате явно завышенную цифру, и реальные сборы никогда ее не достигнут. Они обратились в сенат с просьбой пересмотреть условия контракта. Сенаторы, вдохновляемые все тем же Катоном, отказались удовлетворить просьбу. Хотя Цицерон и назвал требование всадников «подлым» (turpis), он тем не менее поддержал его в сенате, отчасти чтобы предотвратить конфликт между сословиями, которого так опасался, отчасти, может быть, потому, что всадников поддержал Красс. Обсуждение шло 1 и 2 декабря, но не завершилось еще и 5 декабря, когда, во вторую годовщину разгрома заговора Катилины, Цицерон пишет Аттику письмо с изложением событий: он, Цицерон, выступил с пространной речью, есть основания надеяться, что сенат согласится с его доводами, желанное согласие сословий удастся сохранить. Вскоре выяснилось, что надежды Цицерона были напрасны. Катон занял непримиримую позицию и сумел убедить сенат. Только через два года, в 59 году, когда консулом стал Цезарь, сенаторы удовлетворили просьбу всадников.
Цицерон не скрывает от Аттика опасений, которые вызывает у него складывающееся в государстве положение. Все более сгущаются над оратором тучи, и он все усиленнее принимает меры, стараясь сохранить достигнутое положение. Много выступает в сенате и на сходках граждан, создает ряд сочинений, прославляя себя самого и свое консульство. Первой в этом ряду была написанная по-гречески история консульства Цицерона, о которой он сообщает Аттику в письме от 15 марта 60 года. В том же письме мы встречаем сведения о латинском повествовании на ту же тему, которое вот-вот будет окончено; наконец, начата работа над латинской поэмой в трех песнях, посвященной все тем же событиям. Можно только подивиться изобилию сочинений, единственная цель которых — прославить их автора. Попытаемся, однако, проникнуть в мотивы поведения Цицерона, и тогда мы поймем, что, может быть, далеко пе все объясняется одним лишь тщеславием. Прежде всего: первое сочинение в этом роде написал Аттик по-гречески, оно называлось «Commentarius consulatus» и прославляло консульство Цицерона. Название, как видим, то же, что знаменитых «Записок» Цезаря о Галльской войне. Слово это обозначало рассказ, лишенный стилистических красот, содержащий простое и точное изложение событий. Благодаря Аттика за сочинение, Цицерон с удовлетворением отмечает именно эти его особенности. Свое же сочинение Цицерон строил по контрасту с «Записками» Аттика, тщательно отделывая его и украшая всеми возможными фигурами Аристотелевой риторики. Один экземпляр он посылает на Родос своему наставнику и другу Посидонию с несколько лицемерными просьбами прислать критические замечания. Как некогда в сходных обстоятельствах Молон, соотечественник Посидония, тот пишет в ответ, что труд Цицерона великолепен и что сам он не смог бы создать ничего, более совершенного. Ссылаясь на отзыв Посидония, Цицерон обращается к Аттику, зная, что тот связан с греческими книготорговцами, и просит содействовать широкому распространению книги в Афинах и других греческих городах. Почему это так важно? Дабы осветить лучами славы подвиги автора. Объяснение становится более понятным, если вспомнить, что первым произведением римской историографии было сочинение Фабия Пиктора, также написанное по-гречески и также предназначенное ознакомить греков с римскими делами. Фабий Пиктор жил очень давно, но традиция сохранялась. Через восемьдесят лет после Фабия Пиктора по-гречески и для греков написал историю Рима Полибий. По-гречески же написал «Историю» и Лукулл, сознательно уснастив изложение ошибками и варваризмами, дабы всякий видел, что книга писана римлянином. Ко времени Августа относятся «Римские древности» Дионисия Галикарнасского. Итак, мы видим, что в Греции существовал большой слой читателей, интересовавшихся событиями в Риме. «Мемуар» («Нуротпета», называет его Цицерон), написанный по-гречески, никого бы не удивил, если бы героем его не был сам автор. Здесь в самом деле авторское тщеславие выступает на первый план: Цицерон хочет доказать всем и в первую очередь самому себе, что пишет по-гречески столь же совершенно, как по-латыни. Посидоний не счел нужным его разочаровывать. У Аттика же не было причин для подобной сдержанности, и, судя по его ответу, небольшая книжка Цицерона действительно оказалась достойной репутации автора.
Латинские «Записки» также входили в определенную традицию, представленную, начиная со времен Суллы, рядом сочинений. В их число входили «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря, о которых мы упоминала выше и которые также представляли собой апологию автора. Можно, конечно, сказать, что события, описанные Цезарем, несопоставимо важнее для истории Рима, чем заговор Катилины и его ликвидация. Это так, но в свете всего пережитого римлянами на протяжении предшествующего полустолетия весьма немаловажно, что в критический момент удалось найти мирное решение социального конфликта и избежать гражданской войны. Рассказ о консульстве приобретал тем самым значение примера, становился уроком политической мудрости.
Относительно поэмы в трех песнях «О своем консульстве» Цицерон сообщает Аттику, что цель сочинения — «не упустить ни одной возможности воздать себе хвалу». Слова эти многими рассматривались как образчик бесстыдного самовосхваления. Сторонники подобного взгляда не дочитывают фразу до конца — Цицерон прибавляет, что считает свою поэму не панегириком, а историческим сочинением. «О своем консульстве» встраивается тогда в совсем иную традицию — традицию римской эпопеи, представленную, а в глазах Цицерона и прославленную творчеством Энния. С просьбой написать именно такую поэму Цицерон обращался к Архию. Архий в любом случае мог написать ее только по-гречески, но он от поручения уклонился. И тогда Цицерон вспомнил о собственных стихотворных опытах тех времен, когда работал над «Марием», и, воспользовавшись досугом, который предоставляли обязанности сенатора и спад судебной деятельности (на протяжении последних трех лет не засвидетельствован, насколько мы можем судить, ни один значительный процесс), предался стихотворчеству.
Что известно о поэме, в основной своей части утраченной? Из первой книги — всего лишь упоминание об огне, воспылавшем внезапно на алтаре, когда Теренция приносила жертву, что, как мы говорили, повлияло на решение, принятое консулом. В трактате «О предвидении» приведен довольно длинный отрывок из II песни — пророчество музы Урании; в нем упоминаются знамения, отметившие первые месяцы 63 года, которые грозили государству бедами и беззаконием. Упоминается там и обет соорудить Юпитеру статую, обращенную к Востоку, дабы искупить проступки, наказанные в свое время ударом грома, обрушившимся на Капитолийскую Волчицу. Обет был принесен за много лет до того, исполнил же его Цицерон, так что именно он и никто другой сумел смирить гнев богов. В конце своей речи Урания побуждает Цицерона теперь, когда отечество спасено, вернуться к занятиям философией и вновь начать посещать Академию и Ликей.
Из III песни сохранилось лишь обращение к Цицерону музы Каллиопы, которая убеждает его и во время консульства идти прежней дорогой, на которую вступил он в пору юности, — дорогой гражданской доблести и чести. Прибавим, что стих, выражавший политическое кредо Цицерона и ставший пословицей, также содержался в этой поэме (хотя и неизвестно, в какой именно ее части): «Да смирится меч перед тогой, да будет уважение граждан большей наградой, чем боевые лавры». Мир и спокойствие всегда выше насилия.
Общий план поэмы установить трудно. Изложение, по-видимому, нарушало хронологию, раз в первой же песне упоминаются события начала декабря 63 года. Возврат к началу событий содержался и в речи Урании. Прием этот Цицерон использовал еще в «Марии». В соответствии с канонами исторической эпопеи Энниева толка, автор, сохраняя хронологическую последовательность лишь в самых общих чертах, стремится разнообразить ход изложения; переплетение земных событий с предсказаниями, вложенными в уста богов, как бы предвещало Катулла и его длинную поэму «Свадьба Фетиды и Пелея». Можно пожалеть, что Цицерон ввел в поэму стих, за который его впоследствии так часто упрекали: «Блажен Рим, родившийся заново во время моего консульства». Мы, однако, не знаем контекста, в котором этот стих фигурировал; возможно, то был намек на звание «отца отечества», присвоенного консулу в первом опьянении победой. А, может быть, имелось в виду обновление Рима в связи с завершением гражданских войн и началом нового периода процветания и мира. Именно таков был смысл Столетних игр, отпразднованных через сорок лет при Августе, но речь о них шла уже при Цицероне. Воспевал же Вергилий в IV эклоге обновление Рима под консульством Азиния Поллиона. Как видим, Цицерон и здесь входит в традицию, одновременно политическую и религиозную, и если бы он не был сам автором поэмы, наверное, никому не пришло бы в голову ставить ему в вину строки вроде приведенной выше.
Предсказание Урании, содержащееся во II песне этой маленькой эпопеи, интересно тем, что в нем раскрывается отношение Цицерона к пророчествам и официальным жреческим гаданиям. Муза повторяет учение Арата, изложенное им в «Феноменах», почти слово в слово: Зевс — душа мира, дух его разлит по вселенной, он ведает движением планет, молний и громов, всего, что рассекает небесный свод, в силу чего все эти «феномены», связанные воедино волею верховного божества, обретают смысл прорицаний. Стоическое учение о гаданиях оказывается весьма уместным в поэме, ибо в ней Цицерон выступает как консул, то есть хранитель и исполнитель традиционных обрядов общины — «философская» религия и религия «политическая» удивительным образом сопрягаются.
Есть, однако, основания полагать, что все это — лишь дань поэтической фантазии, а подлинная мысль поэмы совсем в другом. В это время Цицерон переводил заключительную часть «Предзнаменований» Арата, которую вскоре послал Аттику. В первой книге трактата «О предвидении», написанного много лет спустя, стоическую концепцию излагает брат автора Квинт, сам же Цицерон во второй книге приводит доводы Карнеада, отрицавшего в принципе возможность проникнуть в волю богов. Что это — выражение скептических убеждений или еще одно риторическое упражнение?
Если правда, что пламя, само собой воспылавшее на жертвеннике, сыграло такую роль в судьбе Цицерона и произвело на него столь сильное впечатление, не естественно ли предположить, что автор поэмы испытывал одновременно и влияние рационалистической аргументации Карнеада и неодолимую инстинктивную преданность верованиям предков? Если так, то именно Квинт в диалоге «О предвидении» выражает народные верования, значение которых Цицерон как политик без сомнения признавал и отнюдь не считал всего лишь заблуждениями и выдумками. В произведениях же, посвященных своему консульству, он хочет выглядеть прежде всего государственным человеком.
В греческой и латинских Commentarii, малой эпопее, Цицерон изображает себя таким, каким, по его убеждению, ему следует остаться в истории. В прошлом люди не столь талантливые предоставляли это другим. Цицерон же настолько был убежден в своей литературной одаренности, что верил в возможность для себя стать и создателем поэмы, и ее героем.
В том же, 60 году Цицерон собирает свои «Консульские речи», которые сравнивает с «Филиппиками» Демосфена, поскольку они посвящены важным политическим вопросам и тем отличаются от судебных речей, полных частностей и мелких уловок. С политическими речами мы уже знакомы. Одни из них сохранились, как, например, первая и вторая речи об аграрном законе, «В защиту Рабирия», четыре Катилинарии; другие — речь в защиту Отонова закона, речь о сыновьях проскрибированных, наконец, речь, посвященная отказу от провинциального наместничества — утрачены. Все вместе они составляли сборник, и каждый документ возвеличивал политику консула. Цицерон, однако, рассчитывал на большее: он стремился предстать перед гражданами обладателем новой auctoritas, чем несравненно усиливалось бы его влияние. Тщеславие? Весьма вероятно. Но также и еще один шаг по избранному пути — он хотел стать верховным судьей политической жизни Рима, гарантом единства республики. Главная задача, которую Цицерон перед собой ставил, заключалась в том, чтобы примирить Помпея с сенатом. Для этого он использовал всю свою популярность, которую завоевал речами и которую стяжали ему «Записки» и поэма. Теперь достаточно сказать слово на сходке или в сенате, и обсуждаемый законопроект будет принят или отвергнут. И люди, стоящие во главе государства, конечно, это понимают.
28 и 29 сентября 61 года Помпей праздновал триумф, в котором сенаторы не решились ему отказать, хотя согласились с явной неохотой. Во время триумфа Помпей ехал на колеснице, запряженной белыми лошадьми, которая считалась колесницей Солнца; он был облачен в тунику, некогда принадлежавшую Александру Великому. Цицерон сказал как-то, что после побед Помпея над землями империи никогда не заходит солнце; теперь победоносный полководец окружал себя символами, подтверждавшими слова оратора. С незапамятных времен древние полководцы стремились придать своим завоеваниям божественный смысл — сыновьями Солнца величали себя фараоны, Александр короновался в Фивах как сын Гора. Помпей поднимался на Капитолий в божественном ореоле; сравнительно с ним претензии Цицерона на литературную славу выглядели более чем умеренными.
Триумф показал, как далеко простиралось честолюбие Помпея, и чем большим блеском он себя окружал, тем больше раздражал сенаторов; они не желали допускать, чтобы в лучах чьей-либо славы еще ярче выступило все их ничтожество. И потому затянули до предела утверждение распоряжений Помпея, заключенных им на Востоке договоров, а также раздачу земельных участков его ветеранам. Против Помпея выступали крайние консерваторы во главе с Катоном, Красс и консул Метелл Целер. В начале 60 года Цицерон вынужден признать провал своих политических планов: между сенатом и всадниками вновь обозначился острый конфликт, а сенатское сословие на глазах утрачивало свое влияние. Угроза нависла и над самим Цицероном: Публий Клодий не скрывал, что по завершении квестуры будет добиваться не эдилитета, как следовало патрицию, а народного трибуната. Для этого полагалось, чтобы кто-либо из граждан плебейского рода усыновил его и акт усыновления утверждался народным голосованием. Трибун Гай Геренний внес соответствующее предложение, а консул Метелл Целер согласился передать его в комиции. Целер был шурином Клодия и поступил так ради своей жены Клодии; интересы государства явно играли тут меньшую роль, чем интересы семьи. Пока что Цицерон еще относится к происходящему довольно иронически и не обнаруживает признаков беспокойства. Трибуны накладывают вето на предложение Геренния и Целера. Клодий пе сдается, он объявляет всем и каждому, что будет добиваться трибуната. Цицерон стремится расстроить планы Клодия, он почти ежедневно выступает на сходках и в сенате, преследуя противника своими сарказмами. Он напоминает о скандале на празднествах в честь Доброй Богини, а в частных разговорах позволяет себе намеки на двусмысленные отношения Клодия с сестрой. Понимая, что действует не самым благородным образом, он объясняет в письмах Аттику, что ненавидит Клодию, считает ее интриганкой, превратившей в сущий ад жизнь собственного мужа. Ненависть Клодия к нашему герою все росла, но пока что это не слишком беспокоило Цицерона. Вскоре оратору пришлось убедиться, как сильно он ошибался. Размеры опасности стали ясны тогда, когда Клодий сделался союзником и доверенным лицом Цезаря.
В 61 и 60 годах Цезарь управлял Дальней Испанией, где за восемь лет до того проходил квестуру. Здесь он предпринял несколько военных экспедиций, в ходе которых приобретал воинский опыт, разрабатывал свои тактические приемы, в частности, тактику взаимодействия сухопутных сил и флота; все это несколькими годами спустя очень ему пригодилось. В июле 60 года Цезарь появился в Риме — срок его наместничества еще не истек, но он во что бы то ни стало хотел выставить свою кандидатуру в консулы будущего года, а это по традиции делалось лишь на июльских комициях. Еще до появления Цезаря в Городе распространились слухи о его победах в Испании; воинская слава будущего кандидата не могла пока равняться со славой Помпея, но была вполне достаточной для победы на выборах. «Попутный ветер наполняет паруса Цезаря», — писал Цицерон Аттику в середине июня. Общие ожидания оправдались — Цезаря выбрали консулом следующего года вместе с одним из крайне консервативных сенаторов, другом Катона, Луцием Кальпурнием Бибулом. Во время пребывания в столице Цезарь заключил с Помпеем и Крассом союз, который мы привыкли называть Первым триумвиратом и который представлял собой, по сути дела, негласную договоренность между тремя людьми, пользовавшимися в Городе наибольшим влиянием.
После выборов Цицерон в письмах все чаще размышляет о том, как пойдет политическая жизнь Рима с января 59 года. В одном из писем Аттику он сообщает, что уже в конце декабря ясно наметилась перспектива аграрных законопроектов. Цицерон колеблется, не знает, стоит ли выступать против любого земельного переустройства, как выступал он против законопроекта Рулла. Цезарю явно хотелось привлечь Цицерона на свою сторону; он направляет к оратору Корнелия Бальба, родом из Гадеса, бывшего префекта в своей армии. Бальб стал уверять Цицерона в расположении Цезаря и от имени последнего предложил союз: Помпей, Красс, Цицерон и Цезарь станут властителями Рима, избавятся от опеки сената и смогут осуществить реформы во всех областях, где они необходимы; реорганизуют суды, примут меры для пресечения вымогательств провинциальных наместников, раздадут земельные участки не только ветеранам Помпея, которые все еще дожидаются сенатского решения, но и всем гражданам Рима, которые того пожелают. Цицерону предлагалось войти в число лиц, которым будет доверено проведение этой последней операции, не поступаясь положением, которое он занимал в столице. В памяти Цицерона всплыл стих из III песни его поэмы, в котором муза Каллиопа убеждала его никогда не сворачивать с пути, однажды избранного. Заключить союз с Цезарем, участвовать в его планах значило сойти с этого пути.
Нет оснований сомневаться в том, что отказ Цицерона был продиктован соображениями политической морали, которые он черпал из сочинений философов и поэтов. Письмо Аттику, содержащее рассказ о посещении Бальба, завершается знаменитым в ту пору стихом «Илиады» о том, что «знаменье лучшее всех — за отечество храбро сражаться». Как видим, Цицерон живет в мире идеала. В эти дни он погружен в чтение и просит друзей присылать все новые и новые книги. Он читает, в частности, политические сочинения перипатетика Дикеарха, восхищен «Городским устройством Пеллепы», собирается читать «Городское устройство» Коринфа и Афин. Ни одно из этих сочинений не сохранилось, но мы довольно хорошо представляем себе общую политическую теорию Дикеарха. Вслед за Аристотелем он прославлял смешанную конституцию, соединявшую элементы монархии, аристократической олигархии и демократии, признанную наилучшей формой государственного устройства также и Цицероном в диалоге «О государство». Позиция бывшего консула, его практические решения строились с учетом политических теорий философов.
Далеко не случайно, что Цицерон погружается в чтение Дикеарха в дни, когда Рим переживает очередной политический кризис: власть фактически сосредоточена в руках нескольких человек, влияние сената падает, аристократы, как пишет Цицерон, заботятся лишь о том, как получше откормить и приручить рыб в своих садках, городская толпа на глазах выходит из подчинения, бесчинства на форуме следуют одно за другим. Цицерон ясно видит происходящее, не скрывает от себя, чем все это грозит государству, и потому силится выработать теорию, которая реально поможет восстановить согласие между тремя силами, составляющими римское государство. Внимательный читатель Полибия и других историков-философов, он хорошо понимает, что монополизация власти одной из этих трех сил означает гибель гражданской свободы. Монархия в таких условиях становится тиранией, аристократическое правление — всевластием олигархии, а тирания плебса, охлократия, едва ли не страшнее двух других. Цицерон формулирует для себя идеи, которые через несколько лет легли в основу его диалога «О государстве». Он видит опасность, нависшую над республикой, но отказывается признать, что трагический исход предопределен всей предшествующей историей гражданской общины, и готов бороться до конца.
С момента вступления Цезаря в полномочия консула события разворачиваются стремительно. Цицерон отказался от союза с новым консулом, он — единственный человек в сенате, которого следует опасаться, ибо его слушают в курии, и он пользуется авторитетом у всадников; триумвиры видят один только выход — сокрушить Цицерона. Для этой цели и понадобился Цезарю Публии Клодий.
Политику равновесия Цицерон проводил на протяжении всего 60 года, проводил в самых разных обстоятельствах, которые описывал в письмах к Аттику.
Первым звеном в цепи явился законопроект, представленный народным трибуном Луцием Флавием. Он предложил следующее: часть общественных земель, а также земель, которые собирались приобрести на средства, захваченные Помпеем в ходе кампании, подлежит разделу между ветеранами Помпея и беднейшими гражданами Рима. Законопроект был умеренным — предполагалось удовлетворить Помпея и в то же время не вызвать тревоги богачей, эксплуатировавших крупные земельные владения в Кампании. Тем не менее наиболее консервативная часть сената во главе с Метеллом Целером встретила его враждебно. На одной из сходок Цицерон выступил в защиту законопроекта. Предложение Флавия, считал он, не содержит в себе ничего демагогического, оно не будет на руку популярам; закон устроит Помпея и отведет его от союза с самыми радикальными из вожаков народной партии, с которыми он неизбежно сблизится, если сенаторы обманут надежды его ветеранов; наконец, закон Флавия утвердит права владельцев, пользующихся землями, конфискованными в свое время у проскрибированных, и, следовательно, установит согласие между различными социальными группами и избавит государство от потрясений, некогда давших возможность Манлию набрать свою армию. Кроме всего прочего, утверждает Цицерон в письме к Аттику от 15 марта 60 года, предложенная мера «очистит сточные канавы Города и поможет заселить наново запустелые земли Италии».
Так что мысль Цицерона не сводилась к интригам между социальными и политическими группами. Его политические планы строились на более широкой основе, учитывали не только положение в Городе, но и во всей Италии. Положение это сильно бы изменилось, если бы удалось удалить из Города пролетариев, составлявших резерв демагогов из народной партии, и превратить их в «добрых и порядочных граждан»; именно так, по расчетам Цицерона, и должно быть: беднейшие граждане Рима избавятся от постоянной угрозы нищеты, перестанут жить хлебными раздачами, которые не оказывают никакой серьезной помощи и которые люди, подобные Катону, тем не менее увеличивают от года к году. В раздумьях Цицерона ясно различимы контуры политики, которая вскоре станет основой принципата.
Весна 60 года была целиком заполнена борьбой вокруг законопроекта Флавия. Немного позже, как кажется, в июне, Цицерон выступает с защитой Квинта Цецилия Метелла Пия Сципиона Назики, которого один из друзей Катона, Марк Фавоний, обвинил в преступных происках. Процесс не имел никакого особого значения, по он давал Цицерону возможность сблизиться с политической группировкой Метеллов — она была враждебна Катону и его окружению, и именно к ней принадлежал Метелл Сципион Назика. Учитывая связи рода Метеллов с Публием Клодием, Цицерон стремился возможно быстрее предать забвению свою ссору с этой могущественной семьей. В позиции Катона же можно было не сомневаться — Цицерон знал, что он в любом случае выступит против Клодия, вожака народных низов.
Таково было положение дел в Риме, когда Цезарь вступил в должность консула, начав правление с аграрного законопроекта, о котором мы только что рассказали. Складывается впечатление, что в первый момент Цицерон думал согласиться на союз, который предлагал Цезарь, но очень скоро понял всю опасность подобного союза, понял, что политика новоизбранного консула рано или поздно приведет к тирании черни, и решительно отказался от сближения с ним.
В первые месяцы года Цезарю пришлось вести сложную и напряженную борьбу за два аграрных закона, проекты которых он выдвинул один за другим. Борьба привела к бурным столкновениям на форуме. Опираясь на поддержку Помпея и Красса, Цезарь сумел сломить сопротивление своего коллеги Бибула, которого вынудил запереться в доме и не появляться ни на сходках, ни в народном собрании. Второй из предложенных законов содержал параграф, по которому сенаторы должны были принести клятву в том, что примут и будут проводить в жизнь все остальные параграфы закона. Сенаторы все до одного, в том числе и те, чьи интересы ущемлял предложенный закон, отказались от сопротивления, настолько казалось оно бессмысленным перед лицом тройной силы — за Цезарем шли городские низы, за Помпеем — его ветераны, за Крассом — откупщики и всадники. Цицерон тем временем продолжает деятельность в суде. Он с успехом выступает в защиту Минуция Терма, который был народным трибуном в 62 году и наложил вето на законопроект Метелла Непота, требовавший вернуть Помпея с Востока и ему поручить борьбу с заговорщиками. Поступая так, Минуций оказывал очевидную поддержку Цицерону, и теперь оратору предстояло доказать, что он все помнит и благодарен. Так он и сделал, выступив в обоих процессах Терма, состоявшихся в 59 году. Характер предъявленных обвинений в точности неизвестен, по всей вероятности, опять «преступные происки». Во всяком случае, суд вынес Терму оправдательный приговор, и Цицерон с удовлетворением и гордостью вспоминает об этом в речи «В защиту Флакка», произнесенной несколько месяцев спустя.
Процесс Терма, проведенный в две сессии, по-видимому, не имел серьезного политического значения. Совсем по-иному выглядел процесс против Гая Антония, обвиненного то ли в вымогательстве, то ли (что кажется более вероятным) в оскорблении величия римского народа. Гай Антоний — коллега Цицерона по консульству — был вызван в Рим из Македонии, где в качестве проконсула позволял себе бесчисленные вымогательства, проявив в то же время полную неспособность к военному командованию. Главным обвинителем выступал Марк Целий Руф, молодой человек, в прошлом ученик Цицерона и так же ему преданный, как в свое время сам Цицерон был предан Сцеволе. С ним вместе выступали еще два обвинителя, о которых мы знаем очень мало. Обвинительная речь Целия отличалась необычайной яростью, если судить по отрывку ее, приведенному Квинтилианом в его «Наставлении в ораторском искусстве». Проконсул изображен в ней погруженным в оргии и разврат, ленивым, легкомысленным и бездарным до такой степени, что лишь чистая случайность спасла его от плена. Защитительная речь Цицерона не возымела действия. Важно, однако, что в ней он обрушился на Цезаря — по крайней мере, если верить Диону Кассию, чей рассказ о событиях той эпохи не всегда заслуживает полного доверия. В чем именно и почему Цицерон упрекал Цезаря, неясно, быть может, упреки связаны были с «милосердием» Цезаря к заговорщикам-друзьям Катилины. В речи «О своем доме» Цицерон упоминает, что выступал в защиту Гая Антония в полдень; через три часа Цезарь провел закон, в силу которого Публий Клодий становился плебеем. Дион Кассий видит тут месть Цезаря Цицерону, замаскированную, но чреватую самыми трагическими последствиями. Современные историки любят повторять эту версию; несмотря на романтический колорит, она не лишена вероятности. Цезарь, впрочем, и по другим мотивам мог помочь Клодию стать плебеем: как руководитель «народной партии» он был заинтересован в союзе с таким популярным демагогом, как Клодий. Он понимал также, что, едва он сложит с себя полномочия консула, на него со всех сторон посыплются яростные обвинения, и тогда ему понадобится поддержка кого-нибудь из народных трибунов. Расчет этот впоследствии полностью оправдался. На протяжении своего консульского года Цезарь мог опираться на трибуна Ватиния; полномочия Ватиния истекали 9 декабря 59 года, и Клодию предстояло прийти ему на смену. Клодий был идеальной фигурой, чтобы противопоставить его Цицерону, если бы тот стал по-прежнему противодействовать политике Цезаря; ту же роль мог сыграть Клодий и по отношению к Катону. И этот расчет Цезаря оказался точным.
В апреле 59 года Цицерон покинул Рим и, начиная с этого времени, жил на своей вилле в Антии, а оставшийся в Риме Аттик снабжал его всеми возможными сведениями о политическом положении в столице. Цицерон пользовался также информацией красавицы Клодии, она не делала секрета из поступков и намерений брата; не исключено, правда, что такая нескромность сестры входила в планы самого Клодия, и он доводил до сведения Цицерона лишь то, что считал для себя выгодным. Так или иначе, в конце апреля распространился слух, будто Клодий и Цезарь поссорились, и новоиспеченный плебей примкнул к злейшим врагам консула; он даже хвастался, что в союзе с ними сумеет провалить предложенные Цезарем законопроекты. В те же дни в центре внимания оказался и Помпей, женившийся на дочери Цезаря Юлии; брак этот вызвал немало насмешек — римляне помнили, что Цезарь не так давно был возлюбленным Муции, в ту пору жены Помпея, и удивлялись легкости, с какой оба сумели забыть соперничество в любви ради политических целей. Если верить «Переписке» Цицерона, общественное мнение было настроено против триумвиров, но они постоянно держали Город под военной угрозой, и потому выступить против них никто не решался. Цицерон полностью отдает себе отчет в том, что тоже лишен возможности действовать, и, как всегда в таких случаях, погружается в научные занятия. Он подумывал было написать сочинение по географии, но вскоре отказался от этого замысла, убоявшись трудностей, которые сулило чтение трактатов по мореплаванию и математических расчетов. Единственное его утешение — уверенность в том, что Помпей, вступив в союз с Цезарем и Крассом, окончательно подорвал свою популярность, в то время как его, Цицерона, слава сияет по-прежнему; соперничество между оратором и полководцем завершилось, как ему казалось, полной победой слова над мечом.
Спокойствие души, о котором Цицерон так много говорит в своих письмах, отход от политики не помешали ему вернуться в Рим в конце мая или, самое позднее, в начале июля. К этому времени Аттик уехал из столицы, и переписка друзей возобновилась. В письмах Цицерона — все то же чередование надежды и тревоги, все та же неуверенность. В первой половине октября он выступает защитником своего друга претория Луция Валерия Флакка, обвиненного в лихоимстве на основе только что принятого Юлиева закона (то есть закона, принятого по предложению Юлия Цезаря). Флакк был претором в 63 году, именно он в ночь со 2 на 3 декабря руководил засадой на Мулиевом мосту, которая задержала послов племени аллоброгов; с тех пор он стал заклятым врагом заговорщиков, и те из них, что уцелели после поражения Катилины, хранили к нему вечную ненависть. Позже Флакк стал наместником провинции Азия, в каковой должности его сменил в 61 году Квинт Цицерон. По возвращении сенат направил Флакка в Галлию, где вспыхнули вооруженные столкновения между гельветами и «друзьями римского народа» — эдуями. Перед Флакком и другими членами его миссии стояла задача: удержать другие галльские племена от вступления в конфликт, не дать ему перерасти в подлинную войну. Состав миссии определялся по жребию; жребий выпал и Цицерону, но сенаторы единодушно воспротивились отъезду оратора, уверяя, что место его в Риме. Все это происходило в марте 60 года. Результат миссии Флакка нам неизвестен. По возвращении в Рим Флакк был обвинен в лихоимстве в пору его наместничества в Азии. Как обычно, в роли обвинителя выступал совсем молодой человек, Децим Лелий, связанный и с Помпеем, и с Цезарем. Удар целил не столько в наместника Азии, сколько в сотрудника Цицерона. Процесс как бы повторял ситуацию процесса Гая Антония, которому те же самые люди не могли простить победы над войском Катилины и Манлия. Так что конкретное содержание обвинения не имело большого значения. Шло развитие все той же политической линии, все те же недовольные вели борьбу против государства, делая ставку на насилие. Когда Гая Антония осудили, друзья Катилины усыпали цветами могилу своего вождя, в котором видели жертву сенаторов, человека, отдавшего жизнь за то самое дело, которое ныне отстаивали триумвиры. Никто не хотел принимать во внимание, что заговор — всего лишь преступная попытка захватить почетные магистратуры и связанные с ними выгоды, уничтожив прежних магистратов; постепенно заговор Катилины окутывался романтической дымкой, превращался в миф. Так что приговор, зависевший в значительной мере от судей-сенаторов, мог быть только оправдательным. В речи, произнесенной ранее, другой защитник обвиняемого, Квинт Гортензий, показал несостоятельность предъявленных обвинений; на долю Цицерона выпал анализ политической стороны дела, вновь обнажавшего язвы республики. Защищая Флакка, Цицерон защищал собственную политику. Суд, в который входили 25 сенаторов, 25 всадников и 25 эрарных трибунов, полностью оправдал обвиняемого.
Консульство Цезаря тем временем подходило к концу. Народным голосованием был утвержден закон, делавший его наместником обеих Галлий и Иллирика — провинций, к управлению которыми он больше всего стремился, надеясь, что здесь сумеет провести крупные и победоносные военные операции и сравняться в воинской славе с Помпеем. Но прежде всего надо было увериться, что враги в Риме не смогут бросить тень на его действия, как то случилось сравнительно недавно с Лукуллом. Сразу после принятия Ватиниева закона Цезарь предложил
Цицерону сопровождать его в качестве легата; жест этот, с одной стороны, выражал неподдельную симпатию и уважение, но с другой — позволял удалить Цицерона из Рима. Цицерон сначала колебался, но вскоре решил, что отъезд будет слишком походить на уклонение от политической борьбы в столице, и отказался. «Бегство не для меня, — пишет он Аттику, — я жажду борьбы». Слова эти весьма знаменательны. Борьба была естественным состоянием Цицерона; к ней толкал даже не разум, а скорее темперамент, страсть, уверенность, что общественное мнение на его стороне. Он не испытывает большого страха перед Клодием, ибо рассчитывает на поддержку тех общественных сил, которые помогли ему в борьбе с Катилиной, прежде всего — на всадников. Рассчитывал Цицерон и на Помпея, который сумел обуздать Клодия и добился от него обещания не предпринимать ничего против Цицерона.
Тем не менее отношения Цицерона с Помпеем в те годы производят странное впечатление. Связавшись с Цезарем и Крассом, Помпей, по всему судя, нанес серьезный урон своей популярности и даже репутации полководца. Цицерон не раз выражал по этому поводу сожаление. Казалось, борьба самолюбий, которая еще так недавно отравляла их отношения, забыта, и между ними установилась дружба не столько даже политическая, сколько личная, не в последнюю очередь основанная на том, что Помпей, как представлялось, навсегда лишился былой dignitas. Сентиментальные порывы, однако, были Помпею отнюдь не свойственны, и, когда Цицерон обратился к нему с просьбой о помощи, он нашел множество предлогов, чтобы ее не оказать.
Народное собрание, посвященное консульским выборам, состоялось 18 октября. Избраны были Авл Габиний, в прошлом легат Помпея, и Луций Кальпурний Пизон, чья дочь, Кальпурния, только что стала женой Цезаря. Союз триумвиров, который обеспечивал им или их ставленникам все ключевые магистратуры, сохранял пока что всю свою силу. Пизон оказался первоизбранным и должен был владеть фасцами в нечетные месяцы. Избранный народным трибуном Публий Клодий вступил в должность уже 10 декабря и сразу же предложил ряд законопроектов, которые сенаторы расценили как направленные на подрыв государства. В проектах предусматривался прежде всего пересмотр Элиева и Фуфиева законов об ауспициях — законов, которые позволили Бибулу отказать в религиозной санкции мероприятиям Цезаря; затем предлагался новый порядок деятельности добровольных сообществ-коллегий (из них, как мы видели, подчас формировались вооруженные отряды, поддерживавшие демагогов); предложения Клодия касались также положения и полномочий цензоров и порядка распределения дарового зерна. Все четыре предложения Клодия были приняты трибутными комициями 4 января. Помня об обещании Клодия не предпринимать никаких шагов против него, Цицерон не выступил против обсуждавшихся законопроектов и в комиции не явился. Однако Клодий недолго оставался верен своим обещаниям. Он предложил следующий законопроект, озаглавленный «О казни граждан». Против кого он был направлен, не оставалось ни малейших сомнений: проект требовал восстановить и укрепить законы, запрещавшие казнь римского гражданина без решения особого суда, избранного непосредственно народом. В тот год по старому римскому календарю между 23 февраля и мартовскими календами вводился дополнительный месяц из двадцати семи дней, чтобы восстановить соответствие гражданского календаря солнечному — законопроект Клодия зарегистрирован 13-го или 15-го числа дополнительного месяца. Цицерон в нем не назван.
Герой наш, однако, прекрасно понимал, что проект Клодия направлен лично против него. Взволнованный, испуганный, он решился на опрометчивый шаг, о котором вскоре пожалел: он перестал носить тогу и тунику сенатора и облачился в одежду простого всадника, получалось, что он как бы признает, что находится под подозрением и угрозой. Поначалу, правда, жест имел благоприятные последствия: всадники шумной толпой явились ка Капитолий, они кричали, что всем им пришла пора облачиться в траур, что они сами возьмут на себя заботу о жизни и здоровье Цицерона, ведь государством, кричали они, никто не управляет. Всадники были не одиноки. Значительная часть сенаторов, все «добропорядочные граждане», boni, заклинали консулов выступить против законопроекта Клодия, но Габиний и Пизон не слушали никого. А когда сенат решил, что все члены его облачатся в траур, Габиний — консул-суффект этого месяца, наложил на решение сенаторов запрет, и второй консул, Пизон, подписался под запретом. Вскоре нашелся народный трибун, который согласился наложить вето на законопроект Клодия. То был Луций Нинний Квадрат, друг
Цицерона, на него можно было положиться. Однако и этот шаг не дал результатов. Тогда Цицерон решил посетить Пизона, он взял с собой своего шурина, который принадлежал к одному с Пизоном роду Кальпурниев. В речи «Против Пизона» он рассказал, что вышло из их визита.
«Помнишь ли ты, чудовище, тот день, когда в пятом часу явился я к тебе вместе с Гаем Пизоном? Ты только что вылез из какого-то кабака, закутанный с ног до головы, дабы укрыться от людских взглядов; обдав нас зловонным дыханием, ты принялся объяснять, что слабое здоровье заставляет тебя будто бы пить лекарства, разведенные на вине. Мы сделали вид, будто поверили — что другое нам оставалось? — и принуждены были долгое время вдыхать кабацкую вонь, которую ты постоянно источаешь. До нас доносились вперемешку наглые твои ответы и икота, так что в конце концов мы обратились в бегство». Если верить этой яростной разоблачительной речи, Пизон еще и в начале дня не мог оправиться от ночной оргии; Цицерону он, впрочем, в просьбе его отказал.
Через два дня Клодий созвал в цирке Фламиния большую сходку граждан и представил свой законопроект. Кроме обоих консулов, он пригласил также Цезаря и Красса. Помпея не было в Риме. Он отсиживался на своей Альбанской вилле, боясь, что придется после всех заверений в дружбе выступать против Цицерона. На сходке Клодий обратился к Пизону с вопросом — что думает он о консульстве Цицерона? Пизон отвечал, что «не выносит жестокости». Отвечая на тот же вопрос, Цезарь так же неодобрительно отозвался о казни заговорщиков, но заметил, что нельзя наказывать Цицерона за проступок, свершенный до принятия настоящего закона. Ответ Красса был столь же уклончив. Цицерон решил отправиться в Альбу — просить заступничества Помпея. Добиться приема ему, однако, не удалось — завидев Цицерона, великий друг его сбежал через заднюю дверь. Но и тут Цицерон не сдался, он убедил некоторых близких ему сенаторов, в свою очередь, отправиться к Помпею и просить, чтобы тот выступил в его защиту. Среди этих сенаторов был, в частности, и Лициний Лукулл. Помпей (на сей раз ему уклониться не удалось) сказал, что будет стоять на стороне закона, то есть, другими словами, поддержит консулов.
Итак, все теперь зависело от решения консулов. Цицерон снова явился к Пизону, тот посоветовал смириться перед неотвратимостью и покинуть Рим, дабы избежать столкновения между друзьями Цицерона и консулами. Смысл угрозы был ясен — Цезарь еще не выступил в Галлию, армия его в ожидании приказа стояла на Марсовом поле. Точную хронологию этих событий установить трудно, но кое-какие опорные точки можно обнаружить. Например: Клодий назначил сходку на тот день, когда в Риме отмечалась годовщина изгнания царей. Враги прозвали Цицерона «Арпинским тираном» и не раз, характеризуя оратора, пользовались этой кличкой. Собрание, которому предстояло принять закон, изгонявший Цицерона из столицы, состоялось именно в день изгнания царей, что имело вполне определенный символический смысл.
Если учесть те временные промежутки, которыми разделялись в Риме отдельные этапы прохождения законов, получится, что Клодий внес свой проект 15-го числа дополнительного месяца, голосование же и утверждение закона состоялись 12 марта. На протяжении всего этого времени подручные Клодия всячески преследовали Цицерона. Его окружали на улицах, забрасывали грязью и камнями. На их взгляд, то был лучший способ унизить человека, который умел словом подчинить себе толпу. Клодий с союзниками не решились возбудить против Цицерона судебный процесс, такой же, какой тремя годами ранее был устроен против Рабирия, как раз потому, что опасались мощи его красноречия. Они понимали, что ни один трибунал не осудит человека, чье красноречие казалось всепокоряющим, человека, который спас Рим от нависшей над ним смертельной угрозы. Чтобы справиться с Цицероном, надо было принять направленный против него закон и в то же время не дать ему выступить в народном собрании. Трибунской власти Клодия тут было недостаточно, нашелся более простой путь — подорвать популярность Цицерона, выставить его в смешном свете.
Во всей этой истории триумвиры держали себя па редкость двусмысленно. Цезарь покинул Рим и отправился в Галлию, едва лишь уверился, что народное собрание утвердит законопроект Клодия. Дион Кассий предполагает, что Помпей и Цезарь распределили между собою роли: Цезарь поддерживал действия Клодия против Цицерона, Помпей же первые два месяца наступившего года усыплял бдительность оратора успокоительными разговорами, а затем, в решающий момент, отказался воспрепятствовать обсуждению законопроекта. Такое утверждение представляется нам несколько упрощенным, следует, наверное, учитывать и другие обстоятельства. Сам Цицерон указал на них в речи «В защиту Сестия»: он сказал, что триумвиры предоставили Клодию свободу действий с целью запугать сенат. Светоний свидетельствует, что триумвиров сильно тревожила кампания, которую начали против Цезаря оба претора — Луций Домиций Агенобарб и Гай Меммий; преторы представили сенату доклад, в котором требовали отменить все законы, проведенные Цезарем во время его консульства; с помощью Клодия триумвиры стремились сорвать обсуждение доклада преторов в сенате. Так и вышло: обсуждению посвятили всего лишь одно заседание, и больше к этому вопросу сенат не возвращался. Нет никаких сомнений, что, если бы Цицерон сохранил свое место и свое влияние в курии, преторы получили бы очень сильную поддержку. Следовало как можно скорее убрать его из курии и в то же время запугать всех других сенаторов, враждебных триумвирам. Последнее, видимо, удалось полностью — никто в курии не попытался спасти Цицерона. Его отъезд из Рима устраивал всех — можно было избежать открытого столкновения и насилия. Но он, без сомнения, означал, что сенат капитулировал перед «трехглавым тираном». На стороне тирана были банды рабов и отпущенников, опираясь на них, Клодий чувствовал себя полновластным хозяином на форуме и на Марсовом поле, ибо считалось, что эти банды и есть «народ». Разобравшись в сложностях всех этих интриг, мы понимаем, какое значение придавали триумвиры Цицерону.
Мешал им и еще один человек, Катон, слывший совестью сената, как Цицерон слыл его голосом. В свое время Помпей пытался привлечь Катона на свою сторону, предложив установить брачные связи между обеими семьями. Катон отказал, и теперь от него тоже надо было как-то избавляться. Клодий сумел добиться проведения закона, по которому Катону доверялась ответственная миссия на Востоке. Ему предстояло присоединить к владениям Рима остров Кипр, где правил один из Птолемеев; кроме того — и таким образом надолго, — откладывалось возвращение Катона в Рим, он должен был добиться возвращения в Бизанций некоторых его граждан, вынужденных ранее уйти в изгнание из-за внутренних гражданских распрей. Катон отбивался как мог, утверждал, что поручение, которое на него возлагают, не почесть, а кара, но уехать из Рима ему все-таки пришлось. Вернулся Катон в столицу через два с половиной года, в ноябре 56 года. Катон покинул Рим, когда собирались голосовать за утверждение закона «О казни граждан», а Клодий подготовил новый маневр в борьбе против Цицерона — закон, в котором прямо был назван консул 63 года; тут уж Цицерону не оставалось ничего другого, кроме изгнания. В последнем перед отъездом разговоре Катон советовал Цицерону покориться неизбежному и уехать.
Голосование за Клодиев закон состоялось 12 марта. Цезарь выехал из Рима 10-го, Цицерон — 11-го, накануне голосования. Помимо закона Клодия, то же народное собрание, concilium plebis, приняло закон о распределение консульских провинций: Пизону досталась Македония, Габинию — Сирия. То был гонорар, которым Клодий расплачивался с обоими за борьбу против Цицерона. Возвратясь из изгнания, Цицерон перед всем Римом раскрыл подоплеку этой сделки.
Прежде чем покинуть Город, Цицерон поднялся на Капитолий и в храме Юпитера принес богу в дар статую Минервы, которой особенно дорожил. Он избрал Минерву потому, что она считалась «хранительницей общины», божеством, от которого зависело спасение Рима. Поступок Цицерона имел символическое значение, он позволяет нам проникнуть во внутренний мир оратора, понять не только его политические, но и религиозные воззрения. Философы много говорили о роковом круговороте, которому обречено всякое существо, утратившее внутреннее равновесие; теперь Риму, подпавшему под власть тирании, предстояло вступить в этот круговорот. Вырвать Город из цикла, которому он оказался обречен, в состоянии только забытая Римом высшая мудрость — достояние Минервы. И вот Цицерон обращался к богам с последней отчаянной молитвой в том Капитолийском храме, где восседал властитель римского государства — Юпитер, бог, облекавший властью консулов и приветствовавший победоносных триумфаторов. Отсюда, из Капитолия, исходит любая власть; да озаботится Минерва, чтобы магистраты, ею облеченные, пользовались своим могуществом умеренно и мудро. Для римлян была характерна политическая религия, но в благочестивом жесте Цицерона нет оснований видеть один из тех обрядов, которыми магистраты тешили народ, сами не слишком в них веря. Что же — просто театральная патетика? Есть, конечно, и это, но не будет ли всякий выглядеть несколько театрально, если чувствует, что все взоры сошлись на нем и каждое его слово воспринимается как пророчество? Мы думаем, что Цицерон выразил искреннюю веру — может быть, не во всемогущество официальных богов, но, во всяком случае, в надмирные силы, что определяют судьбы государств и внушают образ действий их правителям.
На основе «Переписки» можно, хоть это и нелегко, восстановить пути Цицерона в изгнании, к которому, как он и предвидел, Клодий сумел его принудить. Покидая Рим, Цицерон еще надеялся, что неурядицы вскоре улягутся и он сможет вернуться. Кое-кто из его друзей предрекал именно такое развитие событий, обещая оратору скорый триумфальный въезд в столицу. Но Клодий не дремал. Уже 13 марта он объявил, что намерен выдвинуть следующий законопроект, где Цицерон был назван по имени и обрекался на изгнание. Учитывая все те же временные интервалы, которые в Риме полагались между отдельными стадиями прохождения законов, голосование могло состояться не ранее 24 апреля. Полагалось также выставить проект закона на всеобщее обозрение самое позднее за 24 дня до голосования, то есть в апрельские календы — в тот день, когда вся полнота консульской власти переходила к Габинию. Однако через несколько дней (скорее всего 6 апреля) Клодий внес в свой проект дополнение, так что голосование отложили. Оно состоялось, насколько можно судить, 29 апреля. Что же делал Цицерон эти долгие полтора месяца?
Первое письмо написано в Нарах Луканских, небольшом городке в области того же названия, датировано оно шестым днем перед апрельскими идами, то есть 8 апреля. До той поры Цицерон, очевидно, оставался под Римом на одной из своих вилл — в Арпине, в Анции или в Формиях. Он жадно ждет вестей, все еще на что-то надеется, но надежды рушатся одна за другой. Если бы только удалось объявить незаконными все меры, принятые в консульство Цезаря... Тогда незаконным стал бы и переход Клодия из патрициев в плебеи, а следовательно, и избрание его в трибуны, и законы, которые он как трибун провел. Такой маневр задумали откупщики, которые хотели защитить Цицерона. Но Клодий сказал, что тогда незаконным окажется и сокращение на тридцать процентов их долга государству, который оставался за ними после сбора налогов в Азии. После разъяснения Клодия откупщики больше не настаивали на своем предложении.
Мало-помалу надежды покидают Цицерона, он подгружается в мрачное отчаяние. Снова и снова посещает его мысль о смерти. От самоубийства удерживает оратора Аттик, который в эти дни находится рядом с ним. Вскоре, впрочем, Аттику приходится срочно вернуться в Рим: имущество Цицерона разграблено, дом на Палатине стоит опустевший и обгорелый, разбойному нападению подверглась вилла в Тускуле, Теренцию публично оскорбляют на улицах Рима. Аттик прежде всего оказал помощь Теренции, и Цицерон благодарит его в письме, отправленном 13 апреля из Турий. Цицерона же сопровождает кто-то из отпущенников и друг — Гней Саллюстий. И все-таки оратор настаивает, чтобы и Аттик не покидал его в беде и поскорее к нему присоединился.
Цицерон понимал, что оставаться вблизи Рима опасно. Сначала он подумывал об одном из имений Аттика в Эпире, где мог бы найти убежище рядом с испытанным другом. Он отправляется на юг, видимо, намереваясь по Аппиевой дороге добраться до Брундизия. В пути, однако, его планы меняются. Судя по тому, что 8 апреля герой наш, как мы видели, находится в Нарах Луканских, он свернул от Кум на Попилиеву дорогу, ведшую к Сицилии. Там, где оставалось у него столько друзей, где пользовался он таким влиянием, Цицерон рассчитывал поселиться надолго. После Нар Луканских — Форум Попилиев и Атина. Здесь привиделся оратору пророческий сон, который он пересказал в первой книге трактата «О предвидении»: ночуя неподалеку от Атины на вилле друга, он долго не мог заснуть и лишь на заре погрузился в сон, но зато столь глубокий, что, несмотря на дорожную спешку, Гней Саллюстий не позволил будить его. Проснулся Цицерон лишь около семи часов утра и рассказал сон, который ему приснился. Печально бродил он в какой-то пустынной местности, и вдруг предстал перед ним Гай Марий. Впереди Мария шли ликторы с фасцами, перевитыми лаврами, как подобает победоносному полководцу. Марий спросил Цицерона, о чем он грустит, и тот рассказал, как заставили его покинуть отечество. Тогда Марий взял Цицерона за руку и принялся утешать, а затем приказал первому ликтору отвести оратора к своему памятнику, сказавши, что там ожидает Цицерона спасение. Памятником Марию был храм Чести и Доблести, победитель Югурты и кимвров отстроил его в ознаменование своих побед. И в самом деле: годом позже именно в этом храме сенат принял решение о возвращении Цицерона в Рим. Пророчество снова озаряло судьбу Цицерона. Воспрянув духом, он двинулся по Попилиевой дороге дальше к Сицилии.
Цицерон рассчитывал найти приют в городке Вибопа Валенция у некоего Сикки, который в пору консульства был у него praefectus fabrum. Но еще до прибытия в Вибону узнал, что наместник Сицилии запретил ему появляться на острове. Тут же Цицерон получил письмо с текстом дополнения, внесенного Клодием в свой законопроект: Цицерон не имеет права проживать в радиусе четырехсот миль (так в письме, на самом деле в радиусе пятисот миль) от Италии. Цицерон сворачивает на дорогу, ведшую в Брундизий, проезжает через Турии, затем через Тарент и вечером 17 апреля добирается до своей ближайшей цели. Несколько дней он проводит весьма приятно в доме Марка Ления Флакка, который не склонен был обращать внимание на ярость Клодия. 29 апреля Цицерон поднимается на борт корабля, отплывающего с Диррахий. Аттик так и не сумел к нему присоединиться, и Цицерону пришлось отказаться от намерения поселиться в Эпире. Впрочем, это уже не имело значения, так как Клодиев закон все равно запрещал ему проживать в Бутроте, расположенном слишком близко к берегам Италии. Цицерон пересекает греческие земли, он думает обосноваться в Кизике, городе, хранившем неколебимую верность Риму во время Митридатовых войн. Кизик не только отбил нападения царя, но и, как выражается Цицерон в речи «В защиту Мурены», запер перед ним ворота Азии. В свое время Лукулл спас город от мести царя, с той поры между другом Цицерона и жителями Кизика установились отношения, позволявшие теперь нашему герою рассчитывать на самый теплый прием.
Однако в Диррахии Цицерон снова колеблется. Ему хотелось бы поехать в Афины, но и там он оказался бы слишком близко к Италии; кроме того, Афины кишат бывшими сообщниками Катилины и другими врагами оратора, там, в частности, живет Автроний. А ведь после принятия второго закона Цицерон «лишен огня и воды», то есть не обладает гражданскими правами, и его в любой момент можно безнаказанно убить. Он поворачивает на север, в Фессалоники, чтобы, может быть, оттуда двинуться в Кизик.
Перед отъездом из Брундизия Цицерон отправил длинное письмо детям и Теренции, которая все время жаловалась на то, что известия от него скудны и доходят редко. Каждый раз, что я думаю о вас всех, пишет Цицерон, я чувствую всю безмерность моего несчастья, лью слезы, жалею, что не ушел из жизни. Он хотел бы просить Теренцию разделить с ним изгнание, но не решается, зная, как она «больна душой и телом». Наверное, лучше ей остаться в Риме и, пока есть хоть какая-то надежда, добиваться отмены закона и разрешения Цицерону вернуться. Кроме того, существуют еще и материальные затруднения, да и Туллию не следует оставлять без матери. Дочь может, конечно, положиться на Пизона, доброго ее мужа, который делает все возможное, чтобы помочь обеим женщинам, но Цицерону нужна Теренция именно в Риме, где ее энергия и упорство помогут ему. Письмо заканчивается выражениями нежности и доверия, Теренция названа «лучшей и самой верной из жен». Ничто не предвещает размолвки, которая вскоре даст себя знать. Цицерон глубоко привязан к семье, она остается, как пишет он, его «единственной надеждой».
В Фессалоники Цицерон прибыл 23 мая. Он беспокоился о судьбе брата, тот завершил наместничество в провинции Азии и теперь возвращался в Рим. Цицерон хотел бы встретить его на пути, но не знает, какой дорогой отправится Квинт. Об этом он получил два письма еще в Диррахии, но письма противоречили одно другому. В первом говорилось, что Квинт поедет морем из Эфеса прямо в Афины, во втором — что он избрал сухопутную дорогу через Македонию. В последнем случае он окажется недалеко от Фессалоник, и Цицерон сообщает, что будет там его ждать. Весть должен был передать Квинту мальчик-раб на словах; мальчик отправился в Афины; доверить ему письмо, которое могли перехватить враги, Цицерон не решился. В Фессалониках Цицерон не нашел никаких известий от Квинта. Он погружается в бесконечные тревоги: Аттик писал, что в Риме уже подготовлено обвинение Квинта в вымогательстве. Деятельность брата в Азии не дает к тому ни малейших оснований, но враги Цицерона стремятся очернить всю семью. Что делать? Настаивать, чтобы Квинт задержался и повидался с ним, или посоветовать ему спешить в Рим, чтобы рассеять возводимую на него клевету? Ни одно известие, посланное брату, до него не доходит. А Квинт думает, что Цицерон умышленно хранит молчание, и очень этим огорчен. Он пишет Марку, спрашивает, чем объяснить такое неприязненное к нему отношение. В июньские иды (13-го числа) Цицерон отвечает пространным письмом, уверяет брата в своей любви и преданности. Взаимные чувства братьев, которые прежде стыдливо скрывались, получают полную волю, их не могут больше сдержать ни разум, присущий каждому человеку от рождения, prudentia, ни разум, развитый и укрепленный чтением философов, sapientia. Не странное ли признание в устах человека, который столько лет отдал изучению и прославлению философии! Позже, однако, после смерти Туллии, Цицерон обратится за утешением к той же философии, и философия полностью оправдает возлагаемые на нее надежды. Тон письма к брату и других писем первых месяцев изгнания объясняется скорее всего особым настроением, которое владеет в эту пору нашим героем — своеобразной сладостью оплакивания себя и своих бед, в котором чувствуется в то же время надежда на то, что столь глубокая скорбь непременно умилостивит судьбу. Ибо, по всему судя, Цицерон, вопреки прямому смыслу его слов, явно не утратил надежд на возвращение. Не только Теренции и Квинту, по также и Аттику поручает он следить за всем, что может предвещать оборот дела к лучшему, вплоть до самых мелочей. Время от времени в нем пробуждается былая энергия. Он наставляет Квинта, какой линии поведения придерживаться, если процесс, которым ему угрожают, действительно состоится. Мало-помалу начинает строить планы на будущее. В ожидании дальнейших решении он остается пока в Фессалониках, в Македонии, которой ведает его друг Гней Планций, всегда готовый защитить изгнанника.
Политическое положение в Риме по-прежнему оставалось довольно сложным. Цезарь отбыл в свою провинцию и начал военные действия против племени гельветов. Было неясно, как отзовется его отъезд на положении триумвирата и на отношениях между его членами. Как раз в эти дни Клодий позволил себе выходку, глубоко оскорбившую Помпея. Помпей привез в Рим молодого армянского князя Тиграна, взятого в качестве заложника; охрану князя Помпей поручил претору Луцию Флавию. Клодий проявлял повышенный интерес к армянским делам; он пригласил юношу к себе на обед, а затем, не сказав никому ни слова, оба отправились к морю, и Тигран сел на корабль, отправлявшийся в Армению. Буря выбросила корабль на берег; Луций Флавий бросился преследовать своего подопечного, обнаружил его и направился с пленником обратно в Рим. Однако до Рима они не добрались — люди Клодия напали на поезд претора на Аппиевой дороге в четырех милях от столицы. Несколько человек из свиты претора были убиты, Тигран, по-видимому, бежал. В середине мая Аттик описал случившееся Цицерону, тот немедленно обратился к Помпею с письмом, которое, к сожалению, утрачено. Судя по некоторым замечаниям в письме к Аттику, Цицерон надеялся извлечь из этой истории пользу для себя. Помпей тем не менее пребывал в полном бездействии. В мае верховную власть осуществлял Пизон, выступить против него — значило бы задеть Цезаря, рисковать разрывом Помпей пока что не хотел. В июне фасцы оказались у Габиния, полностью преданного старому полководцу, и тогда Помпей начинает предпринимать кое-что, хоть и весьма осторожно, в пользу Цицерона. Трибун Луций Нинний Квадрат, близкий, как мы
Квадрат не отказался от своей цели и внес на рассмотрение concilium plebis (плебейской сходки), утвердившей Клодиев закон, предложение его отменить. Поскольку Квадрат был трибуном, такой шаг считался вполне конституционным. Предложение Квадрата обсуждалось 24 июня, но люди Клодия разогнали собравшихся, и замысел Помпея не удался. Несмотря на выходки Клодия, триумвиры пока что крепко держались друг за друга. Но, раз начавшись, кампания по признанию Клодиева закона не соответствующим правовым нормам уже не могла остановиться и в конечном счете завершилась возвращением Цицерона.
Когда Квинт вернулся в Рим, выяснилось, что ему ничего не грозит, и он полностью посвятил себя защите интересов брата. Вместе с Гаем Пизоном, мужем Туллии, и двоюродным братом консула они убедили последнего снова поставить вопрос о Цицероне перед сенатом. Консулы пытались уклониться, уверяли, что не могут предпринять ничего вопреки Клодиеву закону, ведь он запрещает обсуждать какие бы то ни было меры, направленные на возвращение изгнанника. Ответ вызвал в сенате такое возмущение, что курия отказалась заниматься текущими делами. Это было в июне, Вскоре затем против Клодия выступил Нинний Квадрат, он утверждал, что Клодий не дает ему исполнять свои обязанности, и прибег к архаической процедуре, которая, впрочем, реального эффекта не дала: посвятил имущество противника богине Церере.
В июле между сенатом и Клодием наступило своего рода перемирие — надо было дать возможность состояться народным собраниям. Консулами на следующий год были избраны Публий Лентул Спинтер и Квинт Цецилий Метелл Непот (брат его, Целер, умер несколькими месяцами раньше). В народные трибуны оказались избранными друзья Цицерона — Публий Сестий, Тит Анний Милон, Курций Педуцеан и Тит Фадий. Но вскоре после выборов, скорее всего 23 июля, Клодий совершил некий «курбет». Созвав сходку, он призвал к ответу Бибула, бывшего коллегу Цезаря по консульству, и заставил его признать перед всем собранием, что Цезарь осуществлял консульские полномочия вопреки произнесенной в соответствии с обычаем им, Бибулом, obnuntiatio — официальному божественному предупреждению о неблагоприятных авспициях. Другими словами, все мероприятия Цезаря следует объявить недействительными. Клодий использовал ту же тактику, к которой несколько месяцев тому назад прибегли преторы Домиций и Меммий. Стоило сенату согласиться, и все препятствия к возвращению Цицерона отпадали. Передавали, будто Клодий даже заявил, что готов «на своих плечах принести Цицерона в Рим». Как объяснить столь удивительный ход? Ни о какой искренности, разумеется, не может быть и речи. Просто Клодий отлично понимал, что условие, в зависимость от которого он ставил возвращение Цицерона, неприемлемо и невозможно. О выступлении трибуна Цицерон рассказал в речах, произнесенных после возвращения из ссылки, но в письмах Аттику, написанных в самый разгар событий, он о нем даже не упоминает; следовательно, уверен, что все это не более чем уловка и провокация. На самом деле «курбет» Клодия объяснялся просто: Варрон привез из Галлии новые вести — Цезарь не возражает против возвращения Цицерона. Цезарь, так недавно вдохновлявший Клодия на пламенные речи против «Арпинского тирана», от него отступился; Клодий это понял и пустился на шантаж. Письмо Цезаря Варрону датировано июлем; Клодий, явно сбитый с толку неожиданным оборотом дела, созвал сходку 23-го числа того же месяца. Через несколько дней он решился ка безрассудный шаг, сильно поколебавший доверие к нему триумвиров.
11 августа в вестибюле храма Кастора, где шло в тот день заседание сената, один из рабов Клодия выронил скрытый под одеждой кинжал. Схваченный и допрошенный, он признался, что получил от своего хозяина приказ убить Помпея. Говорил ли раб правду или нет, но Помпей, панически боявшийся подосланных убийц, тотчас покинул Рим и заперся на своей Альбанской вилле. Фасцы в тот месяц были у второго консула Габиния, и он стал ведать всеми делами на форуме единолично. Прежде всего Габиний напал на Клодия, что вызвало многочисленные стычки и беспорядки. Вспомнив, какую меру предпринял против него Нинний Квадрат, Клодий тоже объявил, что посвящает Церере имущество Габиния. Все это время Красс держался в высшей степени осторожно и не вмешивался в события. Казалось, Клодий полностью овладел ситуацией, однако Помпей исподволь готовил реванш. Он обратился к Сестию, одному из избранных на следующий год трибунов, с просьбой отправиться к Цезарю в Цизальпинскую Галлию, где тот после победы над Ариовистом расположил войска на зимние квартиры значительно раньше, чем было принято и чем того требовала погода. По официальному календарю стояли первые дни октября, по солнечному же был лишь конец сентября. Цезарь и Сестию подтвердил, что не имеет ничего против возвращения Цицерона и не станет больше поддерживать Клодия. На угрозы последнего на июльской сходке Цезарь не обратил никакого внимания — он прекрасно понимал, что деятельность его уже давно получила всеобщее признание. Так что новому предложению вернуть Цицерона в Рим не предвиделось больше никаких препятствий.
29 октября восемь трибунов из десяти, что должны были вступить в должность 10 декабря, договорились, что предложат проект закона, первая же статья которого предусматривала возвращение Цицерона и восстановление его в правах, которыми он пользовался ранее в Городе и в сенате. Аттик немедленно сообщает другу новость и сам текст законопроекта. Цицерон тщательно анализирует текст и выражает некоторое сомнение в том, что с юридической точки зрения все формулировки безупречны. К нему, видимо, вернулась надежда, а с ней и присутствие духа и навыки профессионального юриста. Однако, как и можно было ожидать, проект восьми трибунов не прошел. 3 ноября Клодий провел сходку, где убеждал граждан в необходимости оставить Цицерона в ссылке. Конец года Цицерон снова проводит в скорби и трауре, ибо растаяла забрезжившая было надежда.
С наступлением нового года, однако, шансы на возвращение значительно возросли. Помпей все больше проникался враждой к Клодию; он понял, наконец, что отменить пункт Клодиева закона, препятствовавший возвращению Цицерона, можно лишь с помощью власти более высокой, чем плебейская сходка, то есть — центуриатных комиций. Созвать их могли только консулы. Оба, и Пизон, и Габиний, уже в ноябре уехали в свои провинции. Пизон с армией собирался расположиться в Македонии, и тогда Фессалоники окажутся недостаточно надежным убежищем для Цицерона. К концу месяца он перебирается в Диррахий, чтобы оттуда двинуться дальше в Эпир и поселиться в Бутроте, имении Аттика, который должен туда приехать. В то же время теперь, когда в Риме правят консулы, к нему благосклонные, Цицерону явно хочется оказаться поближе к столице. Предчувствия не обманули оратора — уже в январские календы новый консул Лентул, друг Цицерона и последовательный сторонник сенатской партии, предлагает рассмотреть в сенате вопрос о возвращении изгнанника. Трибун Аттилий Гавиан немедленно накладывает вето. Ход дела снова блокирован.
Тем временем, независимо от мер, предпринимаемых консулом, другой трибун, дружественный Цицерону, пытался добиться его возвращения через сходку плебеев. 23 января он представил на рассмотрение триб новый законопроект. Клодий — теперь всего лишь частное лицо — напустил на сходку гладиаторов своего брата Аппия Клавдия, в ту пору претора, и голосование не состоялось. Друзья Цицерона поняли, что добиться победы можно, лишь овладев полем боя в самом прямом, физическом смысле слова. На форуме и на Марсовом поле произошло множество стычек, в которых теперь участвовали и гладиаторы Тита Анния Милона, человека, который через несколько лет убил Клодия. Однако победы, одержанные людьми Милона, не разрешили ситуацию. Помпей решил ввести в дело новую политическую силу — города Италии и с этой целью посетил ряд колоний и муниципиев, начав с Капуи, где был триумвиром. Ему удалось вызвать в Рим для участия в предстоявших центуриатных комициях необходимое число «провинциалов» — им льстило, что Помпей призвал их для столь важного дела, к тому же насилия и распри, парализовавшие нормальную деятельность государства, немало их утомили.
Свой план Помпей начал осуществлять в заседании сената, состоявшемся 1 или 2 мая в храме Honos et Virtus — в том самом «зданьи, Мария хранящем память», о котором шла речь в Атинском пророческом сне. Лентул вел заседание; он не стал добиваться отмены закона об изгнании, а лишь предложил сенаторам принять сенатус-консульт, обращенный к магистратам, наместникам провинций, друзьям и союзникам римского народа, где содержалось признание заслуг Цицерона и лестная его характеристика. По сути дела, постановление отменяло установленное законом «лишение воды и огня». Сенатус-консульт такого рода не подпадал под действие трибунского вето, так как касался отношений с чужеземными народами и провинциальными властями, а в этой области последнее слово принадлежало сенату. В том же заседании было оглашено обращение ко всем римским гражданам, проживающим в Италии, с призывом собраться на центуриатные комиции, дабы участвовать в голосовании по закону, который будет представлен. Едва стали известны результаты заседания, как во время театрального представления народ разразился кликами во славу Цицерона, а несколькими днями позже, 9, 11 и 13 мая, сходными демонстрациями сопровождались погребальные игры и гладиаторские бои на форуме.
На июнь фасцы перешли к Метеллу Непоту, родственнику Клодия, он не стал бы помогать действиям, направленным против Клодия. Пришлось ждать июля. 9 июля в храме Юпитера Наилучшего и Величайшего на Капитолии сосгоялось заседание сената, подготовленное Помпеем. Сам он выступил с хвалебной речью, в которой присвоил Цпцерону звание Спасителя Отечества. На следующий день сенаторы голосованием одобрили законопроект, предусматривавший возвращение Цицерона из изгнания. Закон не встретил никакого сопротивления,
4 августа был поставлен на голосование и утвержден. Граждане стеклись со всех концов Италии в таком количестве, что банды Клодия не решились что-либо предпринять. Цицерона держали в курсе дела, и в тот же день, когда состоялось голосование, он взошел в Диррахии на корабль и 5 августа высадился в Брундизин. Через три дня, 8 августа, ему было вручено официальное подтверждение закона, который возвращал нашему герою римское гражданство и призывал его в столицу.
В Риме, однако, Цицерон появился лишь месяц спустя. Медленно и торжественно проехал он по Италии, останавливаясь в муниципиях и колониях, чтобы поблагодарить граждан, которые по примеру капуанцев кинулись в столицу, чтобы сломить сопротивление его врагом. В Рим Цицерон въехал 4 сентября под вечер. День был выбран, конечно, не случайно: на это число приходились Римские игры в честь Юпитера Капитолийского. С Аппиевой дороги в город попадали через Капенские ворота; миновав их, Цицерон по Священной дороге направился на форум к храму Юпитера. Огромная толпа, шумно приветствуя, сопровождала его. Казалось, в Город вступает триумфатор. Наверное, победитель Катилины, а теперь еще и Клодия и чувствовал себя триумфатором.
В последние месяцы изгнания Цицерон не расставался с Аттиком. Большую часть времени он, по-видимому, провел в имении друга Бутроте, предаваясь сладкой надежде. Благодаря присутствию Аттика ожидание становилось не столь мучительным, чем и объясняется тон большого письма, которое Цицерон отправил ему сразу же по прибытии в столицу. Письмо исполнено самых теплых чувств, и речь в нем идет не столько о событиях и обстоятельствах, сколько о душевном состоянии автора. Он рад был увидеть Туллию, которая встречала его в Брундизии. Прибытие оратора совпало с днем рождения дочери и днем основания колонии. Все кругом ликовало. Теренция, однако, на празднике не появилась, и Цицерон был, кажется, этим огорчен. Знаменательна одна фраза в письме Аттику от середины октября. Цицерон пишет, что у него есть «тайные печали», и прибавляет: «Но меня любят мой брат и моя дочь». О Теренции — ни слова. Нет, однако, и никаких указаний на причины холодности, которая с того времени установилась между супругами. Может быть, они поссорились из-за финансовых дел, которые сильно пострадали за время изгнания? Предположение весьма вероятное и годится для объяснения того, что случилось через десять лет, но прямых подтверждений нашему предположению не существует.
Сразу после триумфального въезда в Рим Цицерон полагал, что к нему вернулись, как он выражается в письме к Аттику, «блеск» (splendorum nostrum ilium) на форуме, его авторитет в сенате и «больший почет, чем мне бы хотелось» среди «добропорядочных граждан», то есть сенаторов и всадников. Опасается оратор только одного — что слишком большая популярность возбудит подозрительность Помпея, которого он по-прежнему побаивается, несмотря на услуги, оказанные ему великим полководцем; Цицерон слишком хорошо знает ревнивый нрав Помпея. В начале письма мысль Цицерона обращается к политическим делам, но в следующих же строках он говорит о своем трудном материальном положении, о конфискованном доме на Палатине, о разграбленных имениях. Все предстояло начинать снова. Радость возвращения не могла пересилить тревогу, слишком тяжкие задачи встали перед ним. И тем не менее первые дни в столице Цицерон посвящает делам политическим. На следующий же день после возвращения, 5 сентября, он выступает в сенате с благодарственной речью, текст которой сохранился (Cum senatui gratiasegit).Речь выдержана в тонах высокого ораторского искусства, не без напыщенности, но с подлинным темпераментом. Оратор предпочитает не вспоминать о колебаниях отцов-сенаторов, он говорит лишь о шагах, предпринятых в его интересах, как ни мало действенны они были. Он поименно раздает похвалы сенаторам, оказавшим ему помощь, и со всей страстью обрушивается на консулов Пизона и Габиния; они дали Клодию возможность провести закон о его изгнании, за что и были награждены наместничеством в провинциях, которые избрали сами. «Консулы заплатили мною, — говорит Цицерон, — за те постыдные доходы, что им сулили провинции». В речи уже слышны обвинения и разоблачения, которые через два года вновь прозвучат в речи «Против Пизона», а еще через год в речи «О консульских провинциях». Цицерон отнюдь не отказывается от мести. Оба консула стали его врагами, и он поклялся разделаться с ними. А всех других, причинивших ему вред, он прощает, ибо не хочет, чтобы в сенате царили ненависть и подозрения. Он поздравляет Милона, который решился ответить насилием на насилие, благодарит Планция за помощь, оказанную ему в Фессалониках, Сестия, рисковавшего жизнью в схватке с головорезами Клодия; упоминает и о преданности зятя своего Гая Пизона, не дожившего до успешного конца дела, которому отдал так много сил. Однако Цицерон помнит, что проблемы, существовавшие накануне его изгнания, по-прежнему не решены. Триумвиры все так же пользуются влиянием; легко догадаться, что Цицерон намерен сделать все от него зависящее, чтобы это влияние сокрушить.
Невозможно не выразить благодарность Помпею, и Цицерон благодарит великого полководца с притворным дружелюбием, не забыв, однако, упомянуть о событиях 11 августа, когда, опасаясь нападения, Помпей заперся на своей вилле. О Цезаре он заводит речь лишь один раз и бросает довольно холодно: «Я не говорю, что он был моим врагом, хотя знаю, что, когда это говорили другие, Цезарь хранил молчание».
Вскоре Цицерону представилась возможность утвердить свой авторитет в курии и в то же время удалить Помпея из столицы, возложив на него обязанности в высшей степени почетные. 7 сентября по наущению Клодия народ стал шумно выражать протест против дороговизны съестных припасов — сначала в театре (где все еще продолжались Римские игры), потом толпа собралась перед зданием сената. Люди кричали, что во вздорожании продуктов виноват Цицерон, и требовали поручить Помпею обеспечение Рима продовольствием. Цицерон воспользовался случаем и выступил с законопроектом, который на следующий день и оказался принятым: Помпей облекался на пятилетний срок всеми полномочиями, необходимыми для обеспечения столицы съестными припасами; полномочия распространялись на весь известный римлянам мир. Для выполнения своей миссии Помпей получал пятнадцать помощников-легатов. Сенат предпочел текст, предложенный Цицероном, хотя ранее один из народных трибунов представил проект, по которому Помпей получал несравненно более широкие полномочия: право неограниченного расходования средств, флот, армию и право издавать приказы, обязательные для наместников всех провинций (то есть в том числе и для Цезаря!). Казалось, возвращаются времена войны с пиратами. Сенат всегда в принципе враждебно относился к расширению полномочий полководцев; к тому же сенаторы не забыли, как Помпей умножил свою славу за счет славы сената, и потому предпочли текст Цицерона; Помпею не оставалось ничего другого, как выразить глубокое удовлетворение таким оборотом дела. Цицерон достиг двух целей разом: удалил из Рима Помпея, который вскоре, несмотря на сентябрьскую осеннюю непогоду, отплыл в Сардинию; помог укрепить авторитет сената. Остался доволен и народ — он ведь требовал назначить Помпея «диктатором по продовольствию».
Еще до отъезда Помпея Цицерон провел сенатское постановление о двухнедельных благодарственных молебствиях в ознаменование побед Цезаря в Галлии. И он, и сенат внимательно следили за точным соблюдением равновесия между двумя главными триумвирами. На протяжении всего этого времени имя Красса не упоминается. Казалось, триумвират доживает последние дни, и сенат вновь начинает играть решающую роль.
7 сентября при выходе из здания, где проходило заседание сената, на котором Цицерон провел постановление, поручавшее Помпею обеспечение столицы продовольствием, оратор был встречен толпой граждан, шумно его приветствовавших; испросив разрешения у магистратов, тут присутствовавших, Цицерон произнес благодарственную речь народу.
Текст ее сохранился, он варьирует основные положения речи, произнесенной двумя днями раньше в сенате. Похвалы Помпею на этот раз гораздо менее сдержанны, а Цезарь не упоминается вовсе — стоило ли говорить о нем гражданам, которые на протяжении более двух лет упорно выражали Цезарю любовь и преданность. Речь изобилует историческими параллелями с гражданскими распрями предшествующей эпохи, причем Цицерон явно стремится доставить себя в один ряд с выдающимися политиками предыдущего поколения, также познавших горечь изгнания. Особенно подчеркивает он свое сходство с Марием, который пользовался горячей любовью народа и тоже родился в Арпине. По возвращении из изгнания, напоминает оратор, Марий испытал на себе ярость мстительных врагов. Но Цицерон успокаивает сограждан: Марий был воин, полководец, в борьбе с врагами он прибег к оружию; он, Цицерон, воспользуется средствами более ему привычными — речами, словом.
Цицерон прекрасно разбирался в существующем положении. Толпа приветствовала его, так что можно не сомневаться, что удалось наконец стать человеком, вокруг которого сплотились все общественные силы Рима. Цицерон знал, конечно, как непостоянно народное мнение, но радовался, что хотя бы на время сумел подавить влияние Клодия. Теперь можно было подумать и о собственных делах.
Едва Цицерон покинул Рим, Клодий разграбил и, при соучастии Пизона, спалил его дом. А чтобы землю эту уже никогда не могли вернуть владельцу, Клодий соорудил статую Свободы, освятил ее и начал строить вокруг нее портик. Поблизости, на участке Марка Фульвия Флакка, одного из друзей Гракхов, погибшего в пору сенатской реакции, стоял другой портик, возведенный в свое время победителем кимвров Квинтом Лутацием Катулом; Клодий его разрушил. Портик Клодия был длиннее и просторнее прежнего, и Цицерон уверял, что Клодий, живший неподалеку, построил его специально для своих прогулок. От территории, которую прежде занимал дом Цицерона, портик захватывал не более одной десятой. Остальное приобрел один из подставных людей все того же Клодия. Так что с юридической точки зрения положение оказалось довольно сложным. Основная трудность заключалась в том, что при освящении хотя бы части участка запрещалось использование его частным лицом. Снять сакральность могли только жрецы-понтифики. Эта коллегия ведала всеми вопросами, связанными с религиозными обрядами и установлениями, и решала таковые, руководствуясь тайными заповедями, записанными в их книгах. 29 сентября Цицерон произнес перед понтификами речь, дошедшую до нас под названием «О своем доме». Из нее мы узнаем немало интересных деталей политической тактики Цицерона. Несколько неожиданно оратор начинает оправдываться перед жреческой коллегией в том, что добивался чрезвычайных полномочий для Помпея. Самооправдания его весьма обстоятельны, из чего можно заключить, что многие сенаторы из самых консервативных, то есть как раз из тех, что составляли коллегию понтификов, враждебно встретили предложение Цицерона касательно Помпея. Так как Цезарь отсутствовал, коллегией руководил Марк Теренций Варрон Лукулл; брат его несколькими годами ранее принужден был уступить Помпею командование в войне против Митридата. Можно себе представить, сколько трудностей предстояло преодолеть Цицерону, ведь пришлось добиваться благосклонности самых разных, подчас враждующих, политических партий!
О доме говорится лишь в последней части речи, да и там Цицерон утверждает, что сохранение статуи, воздвигнутой Клодием, граждане Рима сочтут оскорблением не только ему, но также и сенату, и народу Рима, которые вернули оратору былой почет и былую славу. После этого патетического пассажа оратор обращается, наконец, к собственно правовой проблеме, возникшей в связи с освящением участка. Не будучи членом коллегии понтификов, он тщательно избегает предлагать свое толкование религиозных законов и говорит лишь о самых общих религиозно-правовых нормах, известных каждому гражданину. Так, он указывает, что не все установления были соблюдены, что понтифик Луций Пинарий Натта, совершавший обряды, допускал ошибки, что, помимо всего прочего, он — близкий родственник Клодия и находился в сговоре с трибуном. Понтифики приняли решение, благоприятное для Цицерона. В нем говорилось, что «лицо, освятившее участок, оказалось не уполномоченным на то, как положено, голосованием в комициях или в трибах, поскольку же ни комиции, ни трибы не поручали ему поступать так, как он поступил, не будет нарушением божественных установлений продавать или покупать этот участок и восстанавливать строения, на нем ранее стоявшие». Итак, религиозную сторону дела удалось уладить. Оставалась сторона юридическая, то есть возвращение Цицерону его собственности. 1 октября вопрос был поставлен на обсуждение сената. Взял слово Клодий и говорил в течение трех часов, пытаясь помешать принятию решения. Наконец он замолчал; сенаторы постановили, что дом возвращается во владение Цицерона, портик Клодия должен быть разрушен, а портик Лутация Катула восстановлен. Один из трибунов, Аттилий Серран, наложил было вето, но по предложению консула будущего года сенат принял еще одно постановление, объявлять шее трибуна ответственным за беспорядки, которые может вызвать отмена сенатусконсульта вследствие вето, им наложенного. После ночи размышлений Серран снял вето, и на следующий день дело было кончено. Не теряя времени, консулы поставили работы по выполнению сенатских решений на торги, и разрушение портика Клодия началось тотчас же. Сенат принял также постановление о возмещении ущерба. Цицерону предстояло получить два миллиона сестерциев за Палатинский дом, двести пятьдесят тысяч за виллу в Формиях и пятьсот тысяч сестерциев — за виллу в Ту скуле, разграбленную Габинием, который, кстати говоря, даже перенес колонны с виллы Цицерона на строительство собственной виллы, находившейся поблизости. Возмещение ущерба было явно недостаточным, если вспомнить, что Палатинский дом стоил три с половиной миллиона. В письме к Аттику Цицерон горько жалуется на эту несправедливость и объясняет ее завистью тех, кто, как он выражается, «подрезал ему крылья», и боится, как бы они не выросли вновь. Имеется ли в виду Гортензий или кто-либо другой? Установить вряд ли возможно.
Работы уже начались, но вдруг 3 ноября на строительной площадке появились вооруженные люди Клодия. Они разогнали рабочих и принялись разрушать портик Катула, почти уже выведенный под крышу. Незадолго до того Квинт Цицерон снял неподалеку у наследников аристократического рода Элиев Ламиев дом, известный под названием «Каренского»; люди Клодия стали забрасывать дом Квинта камнями, а потом подожгли. После этого Клодий несколько дней подряд собирал в разных местах города вокруг себя граждан и всячески поносил братьев Цицеронов. 11-го числа он с бандой наемников напал на Цицерона на Священной дороге. Оратор успел укрыться в соседнем доме, но из рассказа его явствует, что он предвидел подобный оборот дела и принял меры предосторожности, так что в момент нападения его сопровождала надежная охрана. На другой день в 11 часов утра Клодий напал на дом Милона, расположенный на обращенном к Тибру склоне Палатина. Из дома Милопа выскочили вооруженные люди, убили нескольких «солдат» Клодия, и уличная стычка превратилась в настоящее сражение. Причины были следующие: Милон обвинил Клодия по закону «О насилии», и Клодий рассчитывал занять должность эдила и тем избежать процесса. Милон же всеми средствами старался не допустить созыва народного собрания, на котором могли избрать Клодия в эдилы. Каждый раз, когда назначался день комиций, Милон «всматривался в небо» и обнаруживал неблагоприятные знамения. Дело доходило до смешного. Консул Метелл Непот, родственник Клодия, чтобы провести народное собрание, пробирался на Марсово поле задолго до рассвета, обходными путями, но, что бы он ни делал, когда бы ни появлялся на месте собрания, там неизменно оказывался Милон — он стоял, окруженный телохранителями и всматривался в небо! В декабре политическая жизнь столицы свелась, в сущности, к поединку между Клодием и Милоном, который окончился через три года на Аппиевой дороге. Положение осложнялось еще и тем, что Клодий имел поддержку в сенате: брат Аппий Клавдий и консул Метелл Непот были на его стороне. Консул, казалось, помирился с Цицероном, но в глубине души не мог простить ему все случившееся. О Милоне всем и каждому было известно, что он входил в окружение Помпея, Клодий же, как постепенно выяснялось, действовал лишь в собственных интересах. Впрочем, это не слишком отличало его от других честолюбцев, которых мы во множестве встречаем в те годы на политической арене Рима. Но в отличие от многих из них Клодий не обладал ни сдержанностью, ни скрытностью, ни качествами политического деятеля первого ранга. Однако до поры до времени скандалы, которые он устраивал, и вопли, которыми его люди, окружив курию, сопровождали заседания сената, приносили ему некоторый успех. В январе комиции наконец состоялись, и 20-го числа Клодий стал эдилом.
Не все проблемы, связанные с домом Цицерона, были улажены, но восстановительные работы шли пока что без помех. Цицерон мог погрузиться в хлопоты о дальнейшем продвижении по пути почестей. Благодарный Помпей предложил ему и брату его почетную миссию в провинциях. Квинт тотчас же согласился и в декабре отплыл из Италии, чтобы помогать Помпею выполнять поручение сената. Цицерон тоже выразил согласие, но совсем на иной лад. Он хотел, чтобы положение легата не сопровождалось какими бы то ни было обязанностями, а носило чисто декоративный характер. Ему надо было сохранить свободу действий ко времени цензорских выборов. Положение цензора было венцом сенатской карьеры и, помимо авторитета, всеобщего уважения и удовлетворенного честолюбия, давало вполне реальную власть — в первую очередь право вносить в списки сената или исключать из него, кого цензор найдет нужным. Упустить такую возможность для борьбы за «согласие сословий» Цицерон не мог. Если же цензорские комиции до весны не состоятся, он воспользуется своей миссией и с почетом отбудет из Рима, чтобы провести некоторое время в разъездах.
Так складывались планы Цицерона примерно с середины октября. Множество обстоятельств сошлось, однако, и нарушило их. Бесчинства Клодия, который содержал самую настоящую армию, были явно рассчитаны на то, чтобы не дать довести до конца работы на Палатине. Это длилось вплоть до январских комиций. Вдобавок история с царем Египта, возникшая еще в предыдущем году, приобретала все большую остроту и требовала вмешательства Цнцерона. Вопрос стоял так: следует ли восстанавливать на троне египетских царей Птолемея Авлета, изгнанного подданными? Царь нашел убежище в Риме, где пытался, как некогда Югурта, за деньги получить политическую поддержку. Для этого он занимал у римских преторов все новые и новые суммы под сказочные проценты. Одному из консулов 57 года, Лентулу Спинтеру, получившему в управление провинцию Киликию, поручили отвезти Птолемея в Александрию. Но, чтобы поручение приобрело законную силу, его должен был утвердить сенат.
Тем временем жители Александрии возвели на трон вместо Авлета дочь его Беренику и твердо решили, что она и в будущем останется царицей. Они послали в Рим большую делегацию (как говорили, примерно из ста человек) во главе с философом-академиком по имени Дион. С помощью делегации александрийцы рассчитывали нейтрализовать интриги Авлета. Но при высадке в Путеолах члены делегации подверглись нападению. Дион сумел добраться до Рима, один из друзей Помпея, Лукцей, оказал ему гостеприимство. Так же поступил и Цицерон. Однако вскоре Дион был убит, не успевши выступить в сенате, который согласился его выслушать. Молодой Лициний Кальв (поэт и друг Катулла) обвинил в убийстве некоего Азиция, и Цицерон согласился выступить защитником. Процесс состоялся до апреля 56 года, определить дату точнее не представляется возможным. Можно предположить, что Цицерон согласился защищать Азиция, чтобы отвести подозренпе от людей из окружения Помпея. Возможно, впрочем, что убийство явилось результатом сложных интриг, которыми тайно руководил Клодий. Азиций должен был уже предстать перед судом, и тут в том же преступлении обвинили молодого Целия, бывшего любовника Клодии, которая ныне упорно преследовала его своей ненавистью. Цицерон выступил также на защиту Целия. Речь, сохранившуюся до наших дней, он произнес 4 апреля, в ней упоминается об оправдательном приговоре Азицию. Так что при защите Азиция, так же, наверное, как и при защите Целия, Цицерон противостоял маневрам клана Клодиев. Хотя все это лишь догадки.
Пока шла борьба за возвращение Птолемею египетского трона, царь жил в доме Помпея в качестве гостя. В начале января Помпей вернулся в Рим из поездки по провинциям для налаживания поставок зерна в столицу в будущем году; он выступил в сенате, горячо доказывая, что миссия эта с самого начала предназначалась Лентулу. Если верить Цицерону, однако, друзья Помпея делали все возможное, чтобы экстраординарную магистратуру сенат доверил именно ему. По-видимому, выступление Помпея в сенате не отличалось искренностью; на самом деле он добивался экстраординарного командования отчасти потому, что оно обещало немалые выгоды, главным же образом потому, что «покорение» Египта (в сущности, установление римского контроля над правительством страны) должно было довершить его образ покорителя мира, во многом уже созданный символикой его триумфа.
И тут молния поразила святилище Юпитера Латиария на Альбанской горе. Юпитер Латиарий — один из древнейших богов Рима, покровитель Латинской лиги; консулы ежегодно приносили ему торжественные жертвы во время празднеств, носивших название Латинских. Такое знамение нельзя было оставить без внимания. Обратились к Сивиллиным книгам — собранию пророчеств пли, скорее, инструкций, указывавших, к каким обрядам следует прибегать для смягчения гнева богов; там обнаружили, что римлянам не следует вторгаться в Египет силой оружия. В сенате поднялись горячие споры, в ходе которых возникло несколько предложений. Одни, и в их числе Лукулл и Гортензий, требовали отправить Лентула в Египет без армии, другие, например, Красс, настаивали, чтобы в Александрию поехал Помпей в сопровождении всего лишь двух ликторов. Бибул, напротив того, предлагал послать трех бывших магистратов, что исключало Помпея из числа кандидатов — в связи с необходимостью обеспечить столицу хлебом он был облечен империем с чрезвычайными полномочиями. Цицерон отстаивал кандидатуру Лентула. Сохранилось несколько писем ею к Лентулу, которые дают возможность проследить хитросплетения интриг вокруг Помпея; он продолжал от называться от поручения, но усилиями друзей на глазах становился наиболее вероятным кандидатом. Тогда трибун по имени Гай Катон внес проект закона о плебисците, который должен был прервать наместничество Лентула в Киликии и призвать его в Рим. Консул Гней Лентул Марцеллин всячески оттягивал голосование, находя все новые возражения юридического характера; плебисцит так и не состоялся. Вскоре, однако, популярность Помпея сильно поколебалась. Публий Клодий, только что избранный эдилом, 2 февраля официально выступил с обвинением Милона в нарушении закона «О насилии»; беспорядки в столице возобновились; 7 февраля на одной из сходок Помпей подвергся грубым оскорблениям: Клодий обращался к толпе с вопросами «Кто морит народ голодом?», «Кто норовит удрать в Александрию?» — ив ответ люди Клодия хором выкрикивали имя Помпея.
Сходка закончилась общей свалкой. Цицерон и Помпей, присутствовавшие на сходке, смогли уйти, не пострадав. Вот как изменилось общественное мнение с тех пор, когда народ требовал назначить Помпея «диктатором по продовольствию»! Теперь Помпею приходилось опасаться за свою жизнь. В написанном в те дни письме к брату Цицерон замечает, что Красс снабжает Клодия деньгами, подталкивает на борьбу с Помпеем; это внушает автору письма надежду на распад триумвирата. Он думает, что в конечном счете именно он оказался победителем, ибо добился всеобщего уважения в сенате и благосклонности граждан Рима.
В этот период Цицерон возвращается к деятельности судебного защитника. Он выступает адвокатом своего друга Сестия, которому 10 февраля было предъявлено обвинение одновременно по двум законам — о происках и о насилии. Процесс назначили на 13-е и 14-е следующего месяца. Защитник произнес речь, текст ее сохранился. 11 февраля Цицерон выступил защитником еще в одном процессе — Кальпурния Бестии, который занимал магистратуру эдила в 57 году и теперь оказался привлеченным к ответственности за нарушение Туллиева закона о происках, то есть закона, проведенного самим же Цицероном. Обвинителем выступал молодой Целий. Суд оправдал Бестию, и Цицерон пишет, что в своей речи начал исподволь склонять общественное мнение в пользу Сестия, напомнив, что тот был серьезно ранен наемниками Клодия в одной из уличных стычек и что спас Сестия от смерти именно Бестия.
История с царем Птолемеем длилась вплоть до марта месяца. В конце концов царь отказался от дальнейшей борьбы, покинул Рим, перебрался в Эфес и поселился в ограде храма Артемиды — ждать лучших времен. По-видимому, он полагался на обещания Помпея и на вмешательство наместника Сирии Габиния, который был продан своему бывшему командующему; к тому же Габиний рассчитывал добиться и кое-каких выгод для себя. Помпею необходимо было укрепить свое положение, его подрывали и ультраконсервативные сенаторы, и сторонники Клодия. Единственный путь для него состоял в укреплении триумвирата. В середине апреля в городе Лукке на границе Цизальпинской Галлии (следовательно, на территории, находившейся под управлением Цезаря) состоялось свидание триумвиров; туда навстречу Цезарю выехали не только Помпей и Красс, но, если верить Плутарху, и более двухсот сенаторов. Цицерона в Лукке но было. Он находился вдали от Рима — объезжал имения свои и брата в Арпине, в Формиях и в Помпеях.
Итак, Цицерон уклонился от свидания в Лукке, куда стеклись все, кто играл хоть какую-то роль в политической жизни государства. Может быть, он просто не знал об этой встрече? Вряд ли. Или не догадывался о ее подлинных целях? Еще менее вероятно. Скорее всего Цицерон сознательно избегал участия в переговорах, ибо не желал содействовать восстановлению тирании, от которой сумел, как ему казалось, избавить государство. На процессах Сестия и Целия он защищал обвиняемых вместе с Крассом и надеялся, что по крайней мере со стороны Красса ему не грозит опасность, и потому решился выступить с нападками на триумвират. В речи «В защиту Сестия» он обвинил Цезаря, Помпея и Красса в потворстве Клодию. Делая вид, будто всего лишь передает распространяемые Клодием клеветнические слухи, Цицерон в такой косвенной форме напомнил, что действие государственных институтов парализовано, «кормило государства вырвано из рук сената», причем сделал это даже не Клодий, а консулы Габиний и Пизон, а за ними, как всем известно, стояли Цезарь и Помпей. Цицерон призывает сенатскую «молодежь», которой вскоре придется взять на себя ответственность за положение дел в государстве, не допустить повторения 58 года — Цезарь и его армия расположились тогда у самых ворот Рима и стали безраздельно властвовать над жизнью и смертью граждан. Сговор триумвиров неизбежно предполагает использование силы, утверждал Цицерон, и все безумства Клодия, а также ответные безумства Милона суть неизбежные следствия этого сговора.
За подтверждением своих доводов Цицерон обращается к учениям философов. Он говорит, например, о смерти, которая, по единодушному мнению эпикурейцев и платоников, не может рассматриваться как зло. В связи с описанием насилий в Риме набрасывает кратко картину развития человечества от первобытного состояния до образования государств; развитие шло благодаря мужеству и мудрости нескольких выдающихся мужей. Такая картина неоднократно встречалась в сочинениях эпикурейцев, а до них — у Аристотеля и у Платона. Можно, конечно, видеть здесь просто «общие места», риторические украшения, призванные выставить напоказ образованность оратора. Но, во всяком случае, необходимо учитывать воздействие подобных рассуждений на слушателей, которые толпились у трибуната в жажде услышать раскаты знаменитого голоса, который так давно не звучал в Риме. Философские рассуждения поднимали судебные дебаты над повседневной рутиной, оратор призывал отвести угрозу, нависшую над самым великим достижением человечества — над гражданским устройством, способным обеспечить мир и безопасность всех и достоинство каждого.
Процесс Сестия дал также Цицерону возможность напрямик напасть на одного из самых верных сторонников Цезаря — Публия Ватиния. Будучи в 59 году трибуном, Ватиний сумел организовать плебисцит, отдавший Цезарю вопреки воле сената наместничество в Иллирике и галльских провинциях. Ватиний участвовал в процессе Сестия в качестве свидетеля обвинения. Цицерон воспользовался правом допроса свидетеля и обратился к Ватинию с речью, которая сохранилась и отличается необычной резкостью. Напасть на Ватиния, обвинить трибуна 59 года в том, что он пренебрег ауспициями и другими законными установлениями, значило напасть на Цезаря, еще раз поставить под сомнение его консульские решения и в первую очередь законность его наместничества, в котором он по закону Ватиния был утвержден на пять лет. Таким образом вырисовывается правовой конфликт, который несколькими годами позже стал поводом для гражданской войны. В письме Лентулу, написанном в декабре 54 года, Цицерон объясняет мотивы, которыми руководствовался, произнося речь против Ватиния. В суд явился и Помпей — свидетельствовать в пользу Сестия. Ватиний упрекнул Цицерона в том, что он вошел в число друзей Цезаря лишь после побед, одержанных последним в Галлии. Цицерон отвечал, что, на его взгляд, «поведение Бибула заслуживает большей хвалы, чем чьи бы то ни было победы и триумфы». Другими словами, лучше оказаться побежденным, чем добиваться победы дурными путями, как добился ее Цезарь. Заседание это происходило 10 февраля.
Процесс Целия в начале апреля непосредственно не связан с политической ситуацией, и в речи Цицерона нападок на триумвиров нет. Речь направлена главным образом против Клодии, сестры Клодия, которая предъявила Целию ряд серьезных обвинений. Цицерон принял тон снисходительного отца семейства, объяснял поступки клиента молодостью и предсказывал, что в будущем тот непременно станет добрым гражданином. Не исключено, что таким образом Цицерон надеялся приобрести расположение римской золотой молодежи, к которой и раньше обращался в речи «В защиту Сестия»; он, видимо, опасался, что отпугнул ее от себя, разоблачая «юнцов», слишком охотно шедших за Катилиной. Подобное объяснение согласуется с постоянной политикой Цицерона, направленной на примирение всех политических сил Рима. Он явно хочет предстать носителем высшего нравственного авторитета в государстве, что естественно повлекло бы за собой избрание его в цензоры.
5 апреля Цицерон атаковал один из законов, особенно дорогих Цезарю, — закон о распределении земель в Кампании. Каковы причины, толкнувшие оратора на столь, казалось бы, неразумный шаг? Инициатива принадлежала не Цицерону, а Луцию Домицию Агенобарбу, претору 58 года, который, как мы помним, уже пытался добиться, чтобы сенат признал недействительными законодательные акты Цезаря. По его наущению трибун Публий Рутилий Луп представил в сенат проект пересмотра аграрного закона Цезаря. Цицерон поддержал проект, и Помпей, кажется, по крайней мере в тот момент, ничего не имел против. Сенат принял постановление, в соответствии с мнением Цицерона, и назначил обсуждение законопроекта. Так обстояли дела в сенате, когда Помпей отбыл из Рима, как считалось, в Сардинию, а на самом деле в Лукку, где встретился с Цезарем и Крассом.
Мы уже указывали на причины, побуждавшие Помпея возобновить союз с Цезарем и Крассом. Дополнительной причиной явилась позиция, занятая Цицероном. Цезарь мечтал о дальних походах, он уже в это время думал о переходе через Рейн и об экспедиции в Британию; он не мог допустить, чтобы Домиций с помощью Цицерона осуществил свой маневр. После Луккского свидания Цезарь мог не сомневаться, что по истечении пяти лет, предусмотренных Ватиниевым законом, его полномочия командующего будут продлены. Помпей и Красс должны были стать консулами на 55 год, после чего каждый получал в управление провинцию, Красс — Сирию, Помпей — Дальнюю и Ближнюю Испанию, соединенные воедино. Наместничество давалось каждому тоже на пять лет. Об этой договоренности Цицерон узнал не сразу. Поездку по имениям пришлось срочно прервать, так как из Рима пришли тревожные вести: Клодий снова пытается помешать восстановлению Палатинского дома. С помощью Аттика Цицерон принял некоторые предосторожности, а Милон выставил караул у строительного участка. Клодий не мог теперь действовать, как прежде, прямо и грубо; тогда он придумал хитрый маневр. В середине апреля, как раз в те дни, когда шло свидание в Лукке, явилось снова множество знамений: в Римской Кампании слышался звон оружия, в Потенции началось землетрясение, в безоблачном небе гремел гром, вспыхивали ослепительные полосы света. Сенаторы, как полагалось в таких случаях, запросили гаруспиков, что следует делать, дабы умилостивить явленный знамениями гнев богов. Гаруспики (они не образовывали еще признанной государством греческой коллегии, впоследствии ее создал Азгуст, а в ту пору это были всего лишь «специалисты», приглашенные в Рим из Этрурии) ответили, что все боги в сильном гневе, особенно Юпитер, Сатурн, Нептун и Земля-Теллус. Причина гнева — пятикратно повторенное кощунство. Неправильно проведены и осквернены игры, осквернены священные участки земли, убиты вопреки установлениям международного права чужестранные послы, нарушены клятвы и оскорблена Фидес и, наконец, осквернены «древние и тайные» обряды. Гаруспики обратились к сенату с четырьмя советами: избегать распрей, что грозят отдать государство во власть одного человека, следить, чтобы никто не вынашивал против государства тайных замыслов, не доверять магистратуры дурным гражданам, а, главное, надо, чтобы «неизменным оставалось государственное устройство».
Подобный ответ в те дни, когда шло сплочение триумвиров, по всему судя, подсказал гаруспикам кто-либо из сенаторов, враждебных триумвирату. Обращение к Сивиллиным книгам уже положило однажды конец притязаниям Помпея на Египет. Упоминание об убийстве посла (или послов, оракул никогда не изъяснялся слишком определенно) достаточно прозрачно. Другие пункты ответа можно истолковать как осуждение действий Клодия (или Милона) и вообще всех случаев насилия, которыми так изобильна была в последнее время общественная жизнь Рима. Наконец, предостережение против распрей, ослабляющих сенат, явно выдавало аристократическое происхождение пророчеств. Клодий, однако, сделал вид, будто не догадывается о подлинном смысле ответа гаруспиков, и истолковал его весьма своеобразно на сходке, которую созвал в силу своих полномочий эдила: гнев богов направлен против Цицерона, гаруспики имеют в виду именно оратора. Ведь говорится же в ответе об осквернении святилищ — то есть о возвращении Цицерону участка и о восстановлении его дома на месте статуи Свободы. Несколько дней спустя Цицерон оспорил такое, мягко говоря, пристрастное толкование в речи «Об ответе гаруспиков», текстом которой мы располагаем. Он не присутствовал на сходке, но содержание речи Клодия ему передали. Возможно, в день сходки Цицерон еще не вернулся в Рим. Выступал он скорее всего во второй половине апреля, на следующий день после бурного заседания, в котором резко осуждал Клодия, пригрозил ему судом (по какому поводу — нам неизвестно) и был поддержан большинством сената.
В своем толковании ответа гаруспиков Цицерон без труда доказал, что речь идет о святотатствах, совершенных Клодием, наемники которого «осквернили» Мегалезийские игры в честь Кибелы в начале апреля. В речи содержится прекрасная картина этих игр и живописный образ богини, которая проносится по горам и долам в сопровождении львов и бьющих в бубны беснующихся корибантов. Звуки бубнов приняли в Кампании за звон оружия. Кощунственное же нарушение обрядов всегда, начиная со скандала на празднике Доброй Богини, было делом Клодия. Не он один, однако, повинен перед богами. В ответе гаруспиков упоминается убийство послов. Конечно, говорит Цицерон, убит Дион, но ведь убиты и другие представители племен и народов, официально посланные защищать интересы их родины перед римскими магистратами. Так, например, некий Платор, посланный жителями Орестиды, вольного Македонского края, к Пизону, был им отравлен и убит. Так что подобная судьба постигла не одного только александрийского посла, чью гибель некоторые считают делом посланных Помпея.
В целом автор речи об ответах гаруспиков благосклонен к Помпею. Цицерон не позволяет себе обвинять триумвиров, он нападает лишь на своих личных врагов — прежде всего на Клодия и еще на Пизона, консула, который предал его ради выгодного наместничества. О Цезаре — ни слова; по контрасту с безудержными восхвалениями Помпея это выглядело как осуждение. Ни слова и о Крассе. Цицерон старается поссорить триумвиров между собой. Наша датировка речи как раз подтверждается ее содержанием — Цицерон, видимо, не знал еще о согласии, к которому пришли триумвиры в Лукке. Об этом ему предстояло узнать в самое ближайшее время.
Весть пришла с двух сторон. Сначала прибыл Вибуллий, вестник, которого спешно отправил к нему Помпей тотчас после своего отъезда из Лукки. Помпей просил Цицерона не участвовать в сенатских прениях по аграрным законам Цезаря и распределению Кампанских земель, которые начинались 15 мая. Другое известие доставил Квинт, которого Помпей встретил в Сардинии. Они долго беседовали, и содержание разговора известно нам по обстоятельному письму Лентулу, цитированному выше. В ходе разговора Помпей напомнил Квинту, как тот умолял его помочь возвращению Марка из изгнания и какие обязательства принял от имени брата. Если теперь Марк не проявит сдержанность, последствия падут на Квинта. Пусть Марк отныне не подвергает критике политику Цезаря, мало того — пусть всячески ей содействует. Угрозы Квинту заставили задуматься и Марка. Видимо, придется снова смириться с неизбежным. В письме к Лентулу Цицерон рассказывает, как погрузился в воображаемый диалог с Республикой, в духе античных диалогов, едва ли не самым ярким образцом которых является «Критон» Платона. Цицерон просит римское государство позволить ему высказать благодарность людям, вызволившим его из изгнания, и выполнить обязательства, которые принял от его имени Квинт.
«Ведь в лице моем государство всегда располагало добрым гражданином, но оно же всегда позволяло мне оставаться верным своему человеческому долгу». Цицерон исследует всю свою политическую биографию, вспоминает, что всегда питал глубокое уважение к Цезарю, равно как и к своему брату Квинту. В заключение — еще одна реминисценция из Платона, где говорится, что в государственных делах никогда не следует пытаться достичь недостижимого и «действовать силой ни против отца, ни против отечества». Так с помощью цитат из Пятого письма Платона Цицерон оправдывает если не в собственных глазах, то по крайней мере в глазах римского общества свою внезапную готовность послушно следовать «советам Помпея и Цезаря». Он не цитирует Платона дословно, ибо явно старается избежать ясности и определенности. В рассуждении, использованном Цицероном, тем, кто упрекал Платона в невмешательстве в политическую жизнь Афин, он отвечает, что афинская демократия стара и не способна внять чему бы то ни было, что она «неизлечима». Понимал ли Цицерон, что римская республиканская община тоже неизлечима? По-видимому, понимал или почти понимал, но не решался высказать. Как бы то ни было, на заседание 15 мая Цицерон не явился, так что ему не пришлось воздерживаться от суждений о судьбе Кампанских земель, хотя раньше он обещал принять в заседании самое активное участие. Правда, он лишился удовольствия слышать, как сенат отказал Габинию в просьбе провести молебствия в его честь. Вопрос о наделах в Кампании в отсутствие Цицерона не решили, маневр сената, направленный против Цезаря, провалился.
Триумвирам, однако, простого невмешательства было мало. 15 или 16 мая Цицерон отправился в Анций, но тут же вернулся. Сенату предстояло рассмотреть еще одно дело, которое требовало его присутствия. Война в Галлии продолжалась и ширилась, Цезарь без официального разрешения сената увеличил число своих легионов с четырех до шести, а потом и до восьми. Теперь он настаивал, чтобы сенат предоставил средства для оплаты солдат и позволил выбрать десять легатов — следовательно, намеревался Довести в ближайшее время число своих легионов до десяти. Сенаторы отнеслись к просьбе в высшей степени сдержанно. Тогда Цицерон взял слово и добился удовлетворения требований Цезаря вопреки возражениям друга Катона Фавония (Катон все еще находился на Востоке и должен был вернуться только в ноябре).
Согласно Семпрониеву закону, по-прежнему сохранявшему силу, жеребьевка провинций проводилась до выборов магистратов, которым на следующий год предстояло ими ведать. Соответственно каждый год вставал вопрос о том, в какие провинции следует назначать новых наместников. Сенаторы, враждебные Цезарю, внесли предложение сменить наместников в обеих Галлиях, Цизальпинской и Нарбонской, Другой сенатор, Публий Сервилий Исаврийский, друг Катона, предложил сделать то же в двух других провинциях, Македонии и Сирии, где наместниками были Пизон и Габиний. Цицерон выступил с большой речью в поддержку последнего предложения. Речь, сохранившаяся под названием «О консульских провинциях», представляет собой подлинный обвинительный акт, где подытожены деяния обоих консулов 58 года. Цицерон показывает, сколь губительно было их наместничество для обеих провинций — Македония охвачена брожением, Сирия ограблена откупщиками налогов, а те ограблены Габинием. Обоих наместников надо немедленно отозвать, дабы честь и безопасность государства не понесли непоправимого ущерба. Положение в провинциях, вверенных Цезарю, совсем иное: повсюду одержаны победы и виден скорый конец войне. Отзывать Цезаря в такой момент — чистое безумие. Услышав такое, ведший заседание консул Луций Марций Филипп не выдержал и прервал оратора, заметив, что раз уж личное пристрастие заставило Цицерона столь отрицательно отозваться о Пизоне и Габинии, оно же могло бы продиктовать ему и сходную оценку Цезаря — уж кому-кому, а Цезарю Цицерон многое мог припомнить. Замечание не смутило оратора, он отвечал, что в его глазах интересы государства выше личных пристрастий, и привел целый ряд исторических примеров, доказывая, что все государственные мужи, достойные этого имени, всегда готовы были примириться со своими противниками, если обстоятельства того требовали. Сенаторы проголосовали за решение, которое отстаивал Цицерон (и которое отвечало интересам триумвиров), — он принял личное участие в составлении сенатусконсульта. Союз с Цезарем был скреплен. Прошло немного времени, и Квинт стал легатом Цезаря, а нападки Клодия на строительство Палатинского дома оказались окончательно преданными забвению.
В июле, в письме из Анция Цицерон объясняет Аттику причины и смысл проведенного маневра. Письмо, по всему судя, представляет собой один из вариантов речи «О консульских провинциях», которые Цицерон показывал многим, в том числе, возможно, и Помпею. Оказывается, Цицерон не слишком доволен собой. В душе его, наверное, звучит монолог Музы из поэмы «О своем консульстве»: она требовала от поэта никогда не сходить с пути чести и гражданской доблести. «Что ж, прощай политика доблести, чести и правды!» — пишет Цицерон другу. На первый взгляд он и в самом деле отрекся от доблести, чести и правды, отчего и называет свою речь «палинодией» — песней отречения и говорит о ней «subturpicula» — «стыдноватая». Тут же, однако, мы встречаем слова, позволяющие понять более глубокие причины происшедшего: «Трудно поверить, сколько коварства живет в душах людей, которые жаждут стать руководителями государства и, наверно, могли бы достичь своей цели, будь в них хоть капля верности истине и слову». Цицерона предали, но не это заставило его изменить политическую линию. Произошло нечто более серьезное: выяснилось, что те, кому он отводил главную роль в будущем устройстве римского государства, не способны ее исполнить. И снова мы видим слова и мысли, навеянные Платоном, на сей раз не Письмом V, а диалогом «О государстве», где речь идет о добродетелях, необходимых «стражам республики». В Риме стражами республики стремятся стать люди, которых Цицерон называет «prinsipes», «руководителями государства» и в которых не видит верности истине и слову. Все сказанное Аттику в 56 году, он повторит через два года в письме к Лентулу. Итак, перед нами не просто попытка найти софистические доводы для своего оправдания, а твердое, обдуманное после Лукки решение последовать советам Аттика. Как это ни парадоксально звучит, Цицерон изменил политическую линию не потому, что триумвиры оказались на вершине власти, а потому, что первые граждане республики прекрасно приспособились к создавшемуся положению; они не поддержали Цицерона в его борьбе за свободу, а, напротив того, втайне радовались его бессилию. Письмо к Аттику так и кончается: «Раз уж люди, власти не имеющие, меня не любят, попытаемся сделать так, чтобы меня полюбили те, кто имеет власть».
Многие историки в связи с описанными событиями очень любят осуждать Цицерона, говорить о трусости, приспособленчестве, отказе от принципов. Оценка зависит от того, на чем сосредоточить внимание — на внешних обстоятельствах или на скрытых чувствах, которые и диктовали Цицерону его поступки. Даже если «палинодия» выдает самые насущные и самые эгоистические мотивы, можно ли после всего, что он перенес в изгнании, ставить Цицерону в вину нежелание ввязываться в заведомо проигранную битву? Сопротивление грозило разорением не только ему, но и семье, и брату. К тому же Цицерон понимал обреченность любой попытки. Отказаться от мученического венца, выйти из числа руководителей государства и смешаться с теми, кто, по его выражению, «идет следом за», — это, быть может, тоже признак величия души. Пусть же каждый из нас решит, принял ли Цицерон, ученик и почитатель Платона, свое новое положение как философ или как беспринципный политик; ведь, будучи философом, он прекрасно знал, чего стоит так называемое общественное мнение, постоянно создающее ложные ценности, — однодневки, как называл их Сократ и все его последователи вплоть до самых отдаленных.
В начале года в семьях Аттика и Цицерона произошли счастливые события. 12 февраля Аттик сочетался браком с римлянкой по имени Пилия. Ему было 53 года, ей — много меньше. Через два года у них родилась дочь. Туллия, как мы помним, потеряла первого мужа, когда отец ее еще находился в изгнании. Ей исполнилось в ту пору 20 лет. 4 апреля 56 года отпраздновали ее обручение с отпрыском одного из самых знатных родов Рима Фурием Крассипом. О нем мы знаем только, что он владел приятными садами на берегах Альмы рядом с Аппиевой дорогой и, следовательно, был человеком довольно богатым. Иногда Цицерон с удовольствием обедал в этих садах. Здесь же осенью 54 года он принимал Красса перед отъездом его в Сирию. Двумя или тремя годами позже брак Туллии оказался расторгнутым по причинам, нам не известным. Римляне избегали рассказывать о подробностях своей семейной жизни даже самым близким друзьям. Следуя этому обыкновению, Цицерон очень мало говорит о семейной жизни дочери, как, впрочем, и о собственной. О размолвках с Теренцией, о ссорах Квинта с Помпонией он упоминает глухо, так что нам удается узнать весьма мало.
Смирившись с положением, в которое поставило его соглашение в Лукке, Цицерон возвратился к своим обычным занятиям. Влияние в сенате, которым прежде пользовался, Цицерон в какой-то мере утратил,
Обвинение Бальба представляло собой, по-видимому, скрытый маневр, направленный против триумвирата. Несколькими месяцами раньше Цицерон, может быть, присоединился бы к нему. Теперь такой возможности у него не было, и наш герой защищал Бальба с тем большим рвением, что тот оказывал ему услуги во время изгнания и, можно сказать, вошел в число его друзей. Бальба оправдали. В заключении к речи Цицерон объясняет свою позицию с помощью уже знакомых нам доказательств: вместе с философами и такими историками, как Полибий, он видит в гражданских смутах самую большую опасность для государства. Он утверждает, что политические столкновения хотя и вполне законны, но «имеют разумный смысл лишь до тех пор, пока приносят государству пользу или хотя бы не приносят ему вреда». Мы уже не раз убеждались, что Цицерон не просто прибегает к риторическому ходу, призванному оправдать подчиненное положение, в котором он оказался. Оратор признает свое поражение, но старается сделать из него выводы, согласные с его политической философией. Воинские подвиги Цезаря придают новый блеск римскому имени; было бы нелепо, полагает Цицерон, осуждать одного из самых славных граждан Вечного Города по личным и, в сущности, ничтожным поводам.
Так мыслил Цицерон летом 56 года. На вилле в Анции, разграбленной два года назад и наспех приведенной в порядок, он все больше времени проводит в библиотеке, окруженный отпущенниками-писцами, присланными Аттиком. И все настойчивее ищет путей создания новой политической теории, основанной не только на философских учениях, но прежде всего на собственном опыте.
В начале июля Цицерон возвращается из Анция в Рим. Приближалось традиционное время выборов. Милон выставил свою кандидатуру в преторы, и Цицерон хотел поддержать ее. Так что приехать в город надо было непременно. Политическая ситуация сложилась трудная. На форуме и на Марсовом поле Милон сумел взять верх над Клодием, но лишь с помощью угроз и насилия; в преддверии преторских и консульских выборов борьба соперничающих клик шла бурно. Помпей и Красс заранее договорились с Цезарем, что станут консулами на 55 год, но далеко не все были согласны с такой комбинацией. В частности, консул текущего года Марцеллин обратился к народу с призывом отстоять свободу, и народ восторженно встретил его речь. По успех Марцеллина оказался недолговечным. Когда он попытался провести выборы в сроки, освященные традицией, в июле, один из народных трибунов, друг Клодия Гай Катон (нам уже знакомый), наложил свое вето. Сенаторы решили игнорировать вето трибуна, но толпы возбужденного народа собрались вокруг курии, осыпая сенаторов угрозами; так шло и на протяжении последующих месяцев: всякий раз, когда сенат пытался назначить день комиций, что-либо мешало их провести. В конце концов сенаторы облачились в траур и перестали проводить заседания. Год кончился, а ни консулы, пи преторы на 55 год все еще не были избраны. Пришлось назначить интеррексов — чрезвычайных магистратов, чья единственная функция состояла в проведении комиций. Интеррексы пребывали в должности не долее пяти дней. Второй из них сумел назначить комиции и провел выборы 5 января. Помпей и Красс оказались избранными главным образом благодаря многочисленным солдатам армии Цезаря, которым тот как бы случайно дал именно на этот день отпуск, и они прибыли в Рим под водительством легата Цезаря Публия Лициния Красса, сына триумвира. Заклятый враг Цезаря Луций Домиций Агенобарб продолжал упорно отстаивать свою кандидатуру; однажды перед рассветом, когда Агенобарб шел на форум, какие-то люди напали на него и убили раба, несшего факел. Агенобарб снял свою кандидатуру. В такой обстановке состоялись выборы консулов на 55 год.
Избрание преторов протекало не столь драматично, но тоже довольно сложно. Катон завершил свою миссию на Кипре и в ноябре вернулся в Рим. Он получил триумф, хотя свергнутый им с престола царь Кипра, брат Птолемея Авлета, не оказал никакого сопротивления и, услышав о приближении римлян, покончил с собой. Дело было не в военных победах — Катон привез с Кипра огромную добычу, состоявшую в основном из личного имущества царя. На свою беду, он не сумел представить точный отчет — все документы и приходные книги погибли вместе с копиями в дважды обрушившихся на Катона несчастьях — в кораблекрушении и в пожаре. Клодий воспользовался случаем, чтобы скомпрометировать Катона. Катон тем не менее выдвинул свою кандидатуру на преторских выборах, но поддержки не получил и вынужден был уступить место другому кандидату, Ватинию, хотя Цицерон и произнес в сенате речь против последнего. Речь не сохранилась и, по всей вероятности, не была опубликована. Ватиния поддерживал Помпей, и, едва прошли преторские выборы, триумвир решил помирить Цицерона с новоизбранным претором. Это ему удалось, и на следующий год Цицерон выступил с защитой человека, которого всего лишь годом раньше осыпал упреками и бранью. Ватиний прошел в преторы благодаря ловкому маневру Помпея: увидев, что первая центурия проголосовала за Катона, Помпей, в качестве консула руководивший выборами, объявил, что слышит раскаты грома, прекратил опрос центурий и отложил выборы. Выигранные несколько дней он использовал так: раздал избирателям еще больше денег, собрал в Рим мошенников, готовых за плату на все, и в результате добился избрания Ватиния; то народное собрание навсегда осталось в памяти римлян как непререкаемое свидетельство разложения республики в последние ее годы.
Но что же делал тем временем наш герой? В двух источниках, у Плутарха и у Диона Кассия, упоминается эпизод, дата которого не указана, но, по всей вероятности, он имел место после возвращения Катона с Кипра. Цицерон, воспользовавшись отсутствием Клодия, явился на Капитолий и похитил бронзовые доски, на которых его недруг нанес отчет о своих действиях в качестве народного трибуна. Цицерон считал трибунат Клодия незаконным, а следовательно, и надписи, к нему относящиеся, не должны оставаться на Капитолии. Он унес их и, как передавали, разбил. Поступок оратора, по-видимому, стал предметом обсуждения в сенате. В ответ на упреки Клодия Цицерон старался оправдать свои действия, говоря, что переход Клодия в плебеи был проведен с нарушением законов и обрядов, значит, и все действия его впоследствии следует признать неправомочными и как бы не имевшими места. Слова оратора вызвали неудовольствие Катона: миссия его на Кипре тоже входила в число мер, осуществленных Клодием, и если трибунат Клодия ставится под сомнение, то покорение острова и обращение его в провинцию превращается в разбойное нападение, противное законам богов и людей. Катон считался величайшим законником своего времени, и в его устах подобное возражение никого не удивило. Спор, естественно, остался чисто теоретическим, никакие реальные выводы из него сделаны не были, но, как утверждают оба упомянутых автора, отношения Цицерона с Катоном с того времени ухудшились. Внешне, однако, они сохраняли прежнее согласие, и в письме Лентулу 54 года, выше уже цитированном, Цицерон утверждал, что выступил против Ватиния, желая «почтить и защитить Катона».
Цицерон попал в сложное положение. Катон, а также Домиций Агенобарб и оба консула предшествующего года, Марций Филипп и Марцеллин, были враждебны триумвирам, у Цицерона же руки оказались связаны. В какой-то мере, правда, удавалось делать вид, будто действия его и решения вполне самостоятельны. В эти месяцы он защищает в суде друзей Помпея Луция Каниния Галла и Тита Ампия Бальба (в последнем случае в качестве второго защитника выступал сам Помпей). Затем он открыто и яростно напал на Пизона, своего личного врага, который в качестве консула допустил голосование по Клодиевым законам.
Некоторое отдаление Цицерона от активной политической деятельности имело не только отрицательные последствия. Располагая свободным временем, он смог обратиться к философскому и литературному творчеству. «Переписка» дает возможность уловить, как развивалась его мысль. В последние месяцы 56 года Цицерон пишет поэму в трех песнях, озаглавленную «О моем времени»; речь в ней шла об изгнании и возвращении, и название следует читать «О превратностях моей жизни». Ни одна из трех песен не была опубликована, мы не располагаем ни единым фрагментом поэмы. Чтобы прославить те годы своей жизни, он рассчитывал не столько на поэму, сколько на исторический труд, который писал по его просьбе Лукцей, друг Помпея, тот, что оказал гостеприимство послу Береники Диону Александрийскому. В июне 56 года, находясь в Анции, Цицерон обратился к Лукцею с большим письмом, в котором просил написать о нем историческую «монографию» примерно в том духе, в каком Саллюстий через несколько лет написал «Катилину» и «Югурту». Книга должна явиться как бы эталоном описания политических переворотов, причем исследованию подлежат причины переворота и средства борьбы с ним. Монография должна быть как бы драмой со своими кульминациями, театральными эффектами и счастливым концом. В том же письме Цицерон просит Лукцея быть к нему снисходительным и «во имя дружбы слегка преступить пределы исторической истины». В наши дни подобная просьба несколько озадачивает. Что же, выходит, Цицерон хотел, чтобы для умножения его Славы историк лгал (о, разумеется, совсем немного!)? На самом деле речь идет не об искажении фактов — они известны современникам во всех подробностях, и тут вряд ли можно что-либо изменить; речь о толковании, об освещении, в котором факты предстанут перед читателем. В конечном счете Цицерон добивается от Лукцея оправдания своей нынешней позиции своей политической изоляции между триумвирами, с одной стороны, я консерваторами — с другой, между Помпеем и Катоном. Именно стоящим на такой позиции желает он войти в историю. Стремление «изваять собственную статую» вызвано, может быть, не столько тщеславием, сколько чувством завершенности наиболее значительной части жизни. На выборах 55 года цензорами были избраны два аристократа, Публий Сервилий Исаврийский и Марк Валерий Мессала. Магистратура, о которой Цицерон мечтал как о венце карьеры, навсегда от него ускользнула.
Между тем свидание в Лукке приносило плоды, на которые триумвиры и рассчитывали. В марте 55 года народный трибун Гай Требоний, вопреки сопротивлению Катона и после яростных уличных стычек, провел закон, согласно которому Помпей получил на пять лет в управление обе испанские провинции, а Красс — Сирию «и прилегающие области». Цезарь примерно в то же время получил продление командования в Галлии также на пять лет в соответствии с законом Помпея и Лициния, проведенным через народное собрание обоими консулами, несмотря на сопротивление Катона — он и на этот раз оказался бессильным. Цицерон уже в апреле уезжает на свои виллы. Сначала он живет в Кумах, где широко пользуется роскошной библиотекой Фавста Суллы> сына диктатора. Здесь он обнаруживает труды Теофраста и. «эзотерические сочинения» Аристотеля (единственные, которыми мы сегодня располагаем). Цицерон полон идеями Аристотеля, как признается в обширном письме Лентулу, столько уже раз нами цитированном. Он почти вовсе отказывается от произнесения речей, целиком отдается работе над диалогом «Об ораторе» и вновь встречается «с музами, более мне любезными и снова чарующими меня так же, как чаровали в дни первой моей молодости». После стольких лет он опять находится во власти мыслей и чувств, продиктовавших ему в свое время «О нахождении материала». Кажется, он начинает с того места, на котором когда-то остановился; он навсегда распрощался с годами честолюбивых стремлений и политической борьбы, которые разделяли две эпохи его жизни. Аттик, правда, держит Цицерона в курсе, рассказывая более или менее обо всем, что происходит в Риме, но в ответных письмах Цицерон не раз повторяет, что тишину библиотек предпочитает суете форума и курия. В конце апреля он посещает Помпея, выражает ему свои дружеские чувства, но Помпей упорно избегает делиться с оратором какими-либо политическими секретами. Цицерон понимает, что Помпей скрывает свои подлинные мысли. Он, например, с пренебрежением упоминает о провинциях, куда он и Красс назначены наместниками, хотя Требониев закон, которого триумвиры столь настойчиво добивались, только что проведен. Цицерон не так наивен, чтобы принимать всерьез признания «друга», хотя и благодарит его усиленно за «откровенность». Он не забыл, как в интересах Цезаря «друг» предал его собственные, и знает, что Помпей ни в каком случае никогда не согласится вернуть Цицерону подлинную свободу действий.
Летом Цицерон вернулся в Рим. Он находился еще в столице, когда туда (по-видимому, в августе или в сентябре) приехал Пизон. Не так давно Цицерон добился включения Македонии в число преторских провинций, сделав тем наместничество Пизона незаконным. Когда Пизон явился в сенат, всем стало ясно, что предстоит настоящее сражение. Первым на этот раз атаковал Пизон, предъявив врагу подлинное обвинительное заключение. Некоторые исследователи считают, что памфлет, сохранившийся до наших дней, известный под названием «Инвектива против Цицерона» и приписываемый Саллюстию, на самом деле и есть то обвинительное заключение, с которым выступил в сенате Пизон. Предположение опровергается, однако, тем, что обвинения, содержащиеся в памфлете, слишком общи и вряд ли отражают ситуацию, в которой говорил Пизон: ни одной конкретной детали, ни упоминания об отзыве наместника, ни слова о том, как удалось этого отзыва добиться, ничего, кроме оскорблений и брани, которые мог в любое время обрушить на голову недруга и Клодий и кто-либо другой.
Речь «Против Пизона», произнесенная в сенате, дошла до нас почти полностью. Как мы уже отмечали, она резка до предела и тем разительно отличается от других речей оратора. Цицерон создает карикатурный образ Пизона, обвинения, ему предъявленные, разоблачают не столько его политические взгляды, сколько частную жизнь. Пизон невежествен и необразован — чему ж тут удивляться, ведь он по матери галл. Он окружен философами? Да, но ведь это почти сплошь эпикурейцы, они обучают его философии, из которой он усваивает лишь одно слово — «наслаждение». С этими философами Пизон проводит в пьянстве и разврате ночи напролет, пока не прокричит петух. Такой человек недостоин не только звания консула, но и имени римлянина.
Через несколько дней, примерно 9 октября, Цицерон присутствовал на играх, устроенных Помпеем по поводу открытия театра, носившего его имя. О чувствах, владевших Цицероном, мы узнаем из пространного письма, посланного другу Марку Марию, который предпочел остаться на своей вилле неподалеку от Стабий (не исключено, что пребывал Марий на одной из двух вилл, с бассейном и маленькими, в старинном вкусе, атриями, что совсем недавно обнаружены, — она высится на холме над морем, окруженная обширными платановыми рощами). Марий поступил мудро. Цицерон, опутанный узами официальной дружбы с Помпеем, не смог последовать его примеру. Отличать подлинные ценности от мнимых — этим умением каждый, кто стремится к мудрости, должен овладеть прежде всего. На играх давались вперемежку все виды зрелищ, излюбленных народом: трагедии, пантомимы, атлетические игры, гладиаторские бои, травля зверей — животных убивали сотнями, в последний день появились даже слоны, но вызвали жалость, ибо, говорили зрители, «они как будто принадлежат в чем-то роду человеческому». Бесспорный интерес представляют вкусы Цицерона в области театра и зрелищ, которые он высказывает в письме с полной откровенностью. Он, разумеется, любит театр (известно, что он переводил на латинский язык Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана), но слишком пышная сценическая бутафория в «Клитемнестре» Акция и в «Троянском коне» Ливия ему претит. Вереницы мулов, чаши, щиты и мечи, потешные бои прямо на сцене Цицерона утомляют и лишают наслаждений, по-настоящему ему дорогих, — поэтической декламации и актерской игры. Не нравятся ему также и бесчисленные сцены насилия. Здесь, впрочем, он не одинок — друг его Марий придерживается той же точки зрения и вполне разделяет чувства Цицерона.
Пышные игры, устроенные Помпеем и рассчитанные на то, чтобы поразить воображение толпы, которая любит, чтобы ей в угоду бросали на ветер богатства, уже предвещают игры времен империи; Цицерон отзывается о них в выражениях, весьма близких тем, что через сто лет употреблял в сходных случаях Сенека. Досуг, otium, неотделим для Цицерона от умственных занятий, смысл его в ясности и глубине, которые он придает размышлениям. Цицерон знает, что не одинок в своем предпочтении созерцательного досуга пошлым развлечениям; их вовсе немало, тех, кто, подобно Марию, стремится жить «как подобает человеку».
В том же письме Цицерон жалуется, что ему все же приходится заниматься ремеслом адвоката, У него не остается достаточно времени и сил для «духовного отдыха», он вынужден выступать в суде «по просьбе людей, оказавших мне услуги, в защиту тех, кто никаких услуг мне не оказывал». Тягостное положение, в котором он находится, не только лишает его свободы действий на политической арене, но и подталкивает отдаться целиком научным занятиям и теоретическим раздумьям. В последние дни года он сообщает Аттику, что диалог «Об ораторе» окончен, его можно отдать переписчикам, а потом и на суд читателей.
Приступая к трактату «Об ораторе», Цицерон знал, что до сего времени ни один римлянин не владел словом с таким совершенством, как он. Он знал также, что наследует и традиции греческой культуры. Он не забыл, что говорил ему на Родосе Молон, и с тех самых пор неутомимо продолжал упражняться в греческой декламации. Он много думал о законах искусства красноречия и еще больше — о его целях и смысле. То, что он много раньше сказал об этом в трактате «О нахождении материала», теперь представляется ему юношески легкомысленным и поверхностным. В свете пережитого опыта он стремится подойти к проблеме по-другому. Ведь красноречие — не только важное слагаемое общественной жизни, но также ее форма, а подчас и движущая сила. Поэтому обращаться с ним следует сугубо осторожно. Платон указывал на опасности, которые таит красноречие, но какой он сделал вывод? Он отрицал это искусство искусств, отказывался от него. Однако греческие полисы не могли жить без дискуссий и споров, без речей, убеждающих граждан в разумности тех или иных решений, и выводы Платона на практике не осуществлялись. Не сам ли Платон написал в Пятом письме: «Афины слишком стары, чтобы в их установлениях и привычках можно было что-либо изменить». Цицерон же утверждает, что Рим еще не стар, его установления и привычки можно попытаться улучшить. Не осуждать надо красноречие, а научить граждан — по крайней мере лучших из них — правильно им пользоваться. Цицерон начинает рассуждения с того места, где их окончил Платон.
Диалог ведется издалека, со времен юности автора; не случайно оба главных действующих лица, Антоний и Красс, как мы отмечали, связаны с арпинскими истоками рода Цицеронов. Контекстом диалога оказывается не только римская история начала I века до н. э., но и вся совокупность событий, пережитых и обдуманных автором. В 91 году, к которому относится действие диалога, положение в Риме разительно напоминало то, что сложилось к 55 году: тогда, как и теперь, достоинство сената подвергалось яростным нападкам демагогов. Самые пожилые из собеседников — и прежде всего Квинт Муций Сцевола Авгур — настроены мрачно, они предчувствуют драматические события, которые обрушатся на общину Рима, приведут к гражданским войнам, а в конце концов и к диктатуре Суллы. Цицерон ожидал такого же развития событий после Луккского свидания, дальнейший их ход показал, насколько он был прав. Он надеется, однако, что есть еще возможность избежать худшего. Ради того и делится он своими размышлениями об искусстве красноречия, долгим опытом оратора, надеясь, что и то, и другое послужит еще на пользу общине.
В первой книге Антоний проводит различие между людьми, «умеющими говорить», и «красноречивыми». Первые способны ясно излагать чужие мысли и пользуются успехом у людей «обычных», вторые представляют избранный предмет по-новому и в подлинном блеске, материал и форму речи черпают лишь из собственной души. Красота формы будит мысль и стремит ее дальше, речь больше не средство убеждения, а действительность, плоть мысли. В речи подлинного оратора появятся в нужный момент и параграфы законов, и исторические примеры, и широкие нравственные, философские обобщения, что делают мысль обширной, а главное — верной. Цицерон, как мы убедились, обладал необходимой для такого красноречия энциклопедической образованностью, ибо с ранних лет занимался греческой философией; мы видели также, что в своих речах он нередко возвышался над фактами и обстоятельствами и раскрывал общефилософское и общечеловеческое значение событий. Главные персонажи диалога «Об ораторе» — как бы две стороны духовной личности автора, его философская культура и его практический опыт.
Подчас в диалоге можно встретить глубоко личные признания. Таков рассказ Красса о том, какое волнение охватывает его всякий раз перед началом речи, как молчанке, в котором люди ждут его первых слов, неизменно внушает ему страх. Известно, какое смущение постоянно испытывал Цицерон при начале речи; в 52 году он дорого заплатил за эту свою особенность. Она была всем известна, и противники нашего оратора нередко потешались, когда в начале речи он заикался и терял нить изложения. К счастью, рядом неизменно находился отпущенник Тирон, секретарь и помощник Цицерона, разработавший собственную систему скорописи (знаменитые «Тироновы записи»); он схватывал на лету и заносил на таблички слова патрона, и потом можно было отредактировать речь, привести в порядок и издать в том виде, который наиболее соответствовал славе автора.
Обсуждение проблемы в заключительной части пер-вой книги строится по принципу «за и против», в соответствии с традициями Академической школы, которым Цицерон отдал дань во времена бесед с Антиохом Аскалонским и, еще в большей мере, с Филоном из Лариссы. Красс утверждает, что главное в красноречии — врожденный талант оратора, обучение и тренировка могут укрепить и развить талант, но никак не могут его заменить. Каждый, кто захочет стать судебным оратором-практиком, говорит Красс, должен прежде всего изучить законы государства, гражданского права и истории. Наставления Красса вводят нас в самую суть римской цивилизации, раскрывают все ее отличие от греческой. Право образует фундамент, основу общественной и частной жизни римлянина, каркас, на котором строится система социальных отношений, и jus — совокупность норм, устанавливающих место каждого лица и каждой вещи в жизни гражданской общины. Красс приводит многочисленные примеры из судебной практики, доказывающие, какую решающую роль играет знание права. В его речи можно хорошо проследить, как формируется метод контроверсии — метод обучения, ставший веком позже основным в риторских школах. В контроверсиях право — не просто часть практической подготовки юриста, оно есть средство нравственного воспитания, ибо обостряет и развивает чувство справедливости. Выступая в суде, оратор, прошедший такую школу, закладывает основы новых, более гуманных и справедливых отношений между людьми, нежели те, из которых исходили древние правовые установления и законы XII таблиц. Красноречие остается и в этом случае движущей силой общественной и политической жизни, но нравственное и правовое его содержание становится гораздо значительнее. Так находило себе разрешение одно из противоречий философии Платона: в той мере, в какой основатель школы вообще допускал существование ораторов, он требовал, чтобы они формировались как философы и развивали в себе способность достичь главного — обнаружения истины; однако Платон признавал, что истина неизбежно носит отвлеченный характер. Красс же (а также Цицерон) утверждает, что римский оратор стремится обнаружить истину не в общей ее форме, а в каждом конкретном судебном деле и оценивает ее по нормам права, а в конечном счете — разума.
Ответ Антония на рассуждения Красса прежде всего в следующем: груз общей образованности не должен подавлять оратора. По любому вопросу, который у него возникнет, он всегда сможет справиться у специалиста. Ответ, который дает Красс, раскрывает главную мысль: говоря об ораторе, он вовсе не имеет в виду речи сутяг, которыми кишит форум, а «нечто более возвышенное» — искусство, выходящее бесконечно далеко за рамки риторики профессиональных адвокатов, искусство, от которого зависит весь ход римской государственной машины.
Вторая и третья книги большей частью посвящены технике построения речей. Цицерон не мог выпустить все то, о чем по традиции полагалось писать в трактатах о судебном ораторе. Поэтому во второй книге он рассматривает правила расположения материала и роль памяти; в третьей же говорит о технике исполнения речей (выбор слов и ритмическая организация фразы), о мимике и жестикуляции. Однако и здесь Цицерон не ограничивается правилами, а стремится исследовать внутреннюю — творческую сторону дела. Красноречие, на его взгляд, вообще не располагается в сфере Истины, как считает Платон, а в сфере
Не будем характеризовать технические приемы, призванные открыть оратору путь к вершинам его искусства. Нам важно лишь понять, как глубока мысль автора, уловившего связь между литературой во всех ее проявлениях и духовным состоянием общества. Столетием раньше римляне впервые почувствовали, что может совершать поэзия; Цицерон открыл, что то же свойство присуще и прозе. Он связывает воедино литературное творчество, подъем, охватывающий оратора во время речи, и одушевление, которое вызывает речь у слушателей. Художественное слово объединяет людей, но по-другому, чем повседневная речь; стилистически организованное, оно обретает торжественную значительность, которая убеждает и увлекает. В те же годы рождается великая латинская проза, проза Тита Ливия, Сенеки и Тацита. Она возникла из ораторской речи, и художественный канон, который она утвердила, навсегда сохранил связь с искусством, способным подчинять себе, действовать на ум, направлять волю.
Такие размышления занимали Цицерона, когда ему удавалось прервать судебную деятельность и хоть ненадолго обрести покой на вилле в Анции или в Помпеях.
Между тем консульский год Помпея и Красса, 55-й, подходил к концу. Уже в начале года на Востоке произошли важные события, которые потребовали вскоре вмешательства Цицерона. Ставленник Помпея Габиний, никем на то не уполномоченный, решил восстановить Птолемея Авлета на египетском престоле в Александрии. Из подчиненной ему провинции Сирии Габиний во главе армия выступил в поход и без труда рассеял наспех набранных ополченцев некоего Архелая, бывшего жреца Ма, главной богини причерноморского города Команы, который выдавал себя за сына Митридата; Архелай грозил сплотить против Рима народы Востока (Габиний, по крайней мере, делал вид, будто верит в реальность этой угрозы). Архелай был мужем дочери Птолемея Авлета Береники, которой, как мы уже упоминали, жители Александрии передали престол Египта. Брак этот оказался недолгим. В конце апреля 55 года Архелай был убит неподалеку от Александрии в бою с войском Габиния. Авлет оказался восстановленным на троне, за что и уплатил Габинию десять тысяч талантов. Габиний оставил царю для охраны его и города несколько вспомогательных когорт из галлов и германцев, а сам возвратился в Сирию. Подлинная цель операции состояла в том, чтобы дать Птолемею возможность собрать деньги и возвратить римлянам крупные и давние долги. В результате действий Габиния вмешательство в египетские дела нового наместника Сирии, то есть Красса, становилось излишним. Тогда, но совету Цезаря, решили вознаградить Красса, поручив ему возглавить поход против парфян, живших по восточным окраинам вверенной ему провинции. Сенаторы, враждебные триумвирам, попытались помешать доходу и по возможности лишить проконсула средств к его осуществлению. Усилия их, однако, ни к чему не привели, и в конце ноября Красс в алом походном плаще командующего торжественно выступил из Рима во главе войска. У ворот города его ждал трибун Гай Атей Капитон, один из немногих трибунов, которые не были в подчинении у триумвиров; Капитон произнес слова проклятья, сопровождая их обрядами, восходившими, как говорит Плутарх, к седой древности. До этого трибун, разумеется, пытался наложить вето и провел ауспиции, ясно показавшие, что боги не одобряют затеянный поход. Красс не обратил ни малейшего внимания ни на знамения, ни на проклятия. Он стал лагерем в римской Кампании и стоял несколько дней, довершая формирование армии. Как раз в это время Цицерон возвращался после объезда своих вилл, встретил Красса и пригласил на прощальный обед на виллу Фурия Крассипа, что на берегу Альмы. Обед призван был показать всем, что былые расхождения забыты. В свое время, когда до Рима дошли вести о походе Габиния в Египет, Цицерон в речи «Против Пизона» резко осудил эту авантюру и напомнил, что в Сивиллиных книгах ясно выражен запрет вступать с войском в Египет. Красс тогда вмешался и глубоко оскорбил Цицерона, обозвав его «безродным». Цицерон тотчас дал отпор, но обиды не простил. С той поры между ними встала вражда. Помпей, однако, настаивал на примирении. Дни, проведенные на виллах, безмятежное чтение философских трудов, работа над диалогом «Об ораторе» притупили чувство обиды, и противники возлегли за дружеской трапезой в садах у Аппиевой дороги.
В 54 году консулами были Луций Домиций Агенобарб, добившийся наконец этой высшей магистратуры, и Аппий Клавдий Пульхр, брат Публия Клодия; каждый из триумвиров на протяжении этого года располагал проконсульским империем. Двое находились вдали от Рима, Цезарь — в Галлии, Красс — в Сирии; Помпей же не поехал в порученную ему провинцию Испанию и пребывал на своей Альбанской вилле или в принадлежавших ему садах на Марсовом поле: как командующий он не имел права вступать в пределы померия — священной ограды города. Присутствие Помпея чувствовалось, однако, постоянно; он сохранял все свое влияние, собирал у себя друзей, а иногда с их помощью добивался созыва сената где-нибудь вне померия. Цицерон собирался сопровождать Помпея в Испанию в качестве легата и теперь терпеливо ждал, когда тот решится наконец отбыть из Рима. Но Помпей понимал, что политические интересы требуют его присутствия в центре всех интриг и столкновений, тайных и явных, сталкивавших в борьбе отдельных людей и партии; ему важно было, чтобы и Цицерон находился тут же, под рукой, готовый защитить людей, ненавистных сенатской оппозиции, но нужных триумвирам. И Цезарь тоже не хотел, чтобы Цицерон покидал Рим. Оратор, по-видимому, смирился с отведенной ему ролью и поддерживал вполне дружеские отношения и с Цезарем, и с Крассом; на то указывает его переписка с Квинтом, который находился в Галлии, и с Аттиком, путешествовавшим по Востоку, — переписка в этом году особенно обильная. Отношения Цицерона с Помпеем засвидетельствованы не столь подробно, поскольку их переписка не сохранилась, да ее, возможно, и не было. Но, по всему судя, и с Помпеем отношения оставались вполне корректными.
Переписка с Цезарем была особенно интенсивна, но, к несчастью, письму пропали почти полностью. Между Цицероном и Цезарем завязывается что-то похожее на дружбу на основе общих литературных интересов. Каждый высоко ценит образованность и ум другого. Цезарь еще в юности написал трагедию «Эдип», про которую Август впоследствии говорил, что она не заслуживает опубликования. В 46 году Цезарь сочинил поэму «О моем путешествии», где описывал свой путь из Рима в Дальнюю Испанию; скорее всего то была сатира, напоминавшая «Дорогу в Сицилию» Луцилия и позднейшую «Дорогу в Брундизий» Горация. Цезарь много занимался грамматикой и в утраченном трактате «Об аналогии» рассматривал те же философские проблемы языка, которым посвящено сочинение «О латинском языке» Варрона. В диалоге «Брут» Цицерон воздал Цезарю должное не только как оратору, но и как историку. Красноречие Цезаря, говорит Цицерон, было «утонченным, ярким и в то же время величественным и благородным». Впоследствии Цицерон подтвердил свою оценку в письме Корнелию Непоту. Отзыв из этого письма Цицерона приводит Светоний, говоря об искусстве Цезаря придавать своим мыслям чеканную афористическую форму и выражать их в словах разнообразных и изысканных. Цицерон, сам придававший большое значение чистоте стиля, восхищается стилем «Записок» Цезаря и утверждает, что такого не удавалось достичь ни одному из любителей нарочитых стилистических красот. В 54 году он посылает Цезарю на суд свою поэму «О моем времени». Цезарь хвалит первую песню, находит ее прекрасной, вторую же и третью считает недоработанными и написанными несколько небрежно. Переписку между покорителем Галлии, чья звезда с каждым днем восходит все выше, и консулярием, потерпевшим поражение и стремящимся обрести взамен душевное спокойствие, можно рассматривать как трактат, посвященный изящной литературе.
Преторианская когорта Цезаря — или, говоря современным языком, его штаб — состояла главным образом из просвещенных молодых людей, увлекавшихся философией; большинство, как и сам Цезарь, склонялось к эпикуреизму. Среди них находился и Гай Требаций Теста, юрист и друг Цицерона, который перед вступлением на путь магистратских почестей счел за благо раздобыть побольше денег. По-видимому, Требаций был принят в армию Цезаря по рекомендации Цицерона весной 54 года, то есть примерно тогда, когда туда прибыл Квинт Цицерон. Эти двое как бы представляют оратора в штабе полководца.
Отношения Цицерона и Цезаря охватывали, однако, не только область литературы. Цицерон сделался своего рода уполномоченным Цезаря; Цезарь доверил ему весьма важную миссию; миссия требовала много труда и времени, а главное — от ее успешного выполнения зависела в известной мере слава Цезаря среди граждан Рима. Миссия Цицерона состояла в следующем: он наблюдал за градостроительными работами, предпринятыми Цезарем, и, в частности, приобретал земельные участки, необходимые для строительства нового форума. Форум Цезаря или Юлиев должен был тянуться вдоль Аргилета, позади Новой Курии (впоследствии Юлиевой Курии). Строительство начали через несколько лет, а завершили только при Августе. Кроме того, Цезарь собирался перестроить старинные saepfa («загородки») на Марсовом поле, где голосовали во время народных собраний разделенные на центурии граждане, а также расположенный неподалеку портик; он хотел превратить все эти строения в государственную виллу, предназначенную стать резиденцией иностранных послов. Дело требовало больших денег, и через руки Цицерона, а также финансового уполномоченного Цезаря Оппия проходили весьма значительные суммы. Цезарь поручил им планировать расходы в целом в пределах шестидесяти миллионов сестерциев. Но только на окончание нового форума понадобилось сто миллионов. Некоторые современные историки предполагают, что Цицерон позаимствовал из этих денег какую-то часть в виде разного рода гонораров, комиссионных, наградных и т. п. Так ли это? Ни в одном источнике ни разу не встречается ни малейшего намека, позволяющего строить подобные предположения. Единственное, что нам известно: в феврале 54 года Цезарь одолжил Цицерону 800 тысяч сестерциев; к 51 году долг еще не был возвращен и при надвигавшейся гражданской войне весьма беспокоил Цицерона.
Так складывались отношения Цицерона с Цезарем. С Крассом они складывались по-другому, отчасти из-за огромного расстояния, их разделявшего, а главным образом из-за былой вражды, которую ни тот, ни другой не мог и не хотел забыть. Уважение к высокому уму и образованности адресата явно сквозит в письмах Цицерона Цезарю. К Крассу он подобного уважения не чувствует и даже не испытывает к нему простой человеческой симпатии. Он говорит, конечно, наместнику Сирии о своей дружбе, например, в письме от января 54 года, то есть вскоре после обеда в садах Крассипа, но речь, без сомнения, идет о политическом союзе, а не о непосредственном чувстве.
Тем временем Цицерон по-прежнему бывает в заседаниях сената и принимает участие в государственных делах, В феврале в сенате появился царь Коммагены Антиох II; он просил уступить ему небольшое поселение в районе Дзеугмы на Евфрате, а также подтвердить право носить тогу-претексту, дарованное ему в свое время Цезарем; Цицерон взял слово и поднял насмех тщеславного царька. Оратор без труда добился отрицательного решения сената, хотя понимал, что выступает против планов, а может быть, и против материальных интересов консула Аппия Клавдия Пульхра, с которым только что помирился. Аппий, однако, не проявил недовольства. По-видимому, такого рода выступления не выходили за рамки той независимости, которая была Цицерону оставлена.
В мае Цицерон уезжает, живет сначала на вилле в Кумах, затем — в Помпеях. Как и в предыдущем году он посвящает этот месяц литературным трудам — много читает и начинает работу над трактатом «О государстве». Но уже 2 июня возвращается в Рим, где его ждут многочисленные дела, которыми пришлось заниматься все лето. Некоторые из этих дел нам почти совсем неизвестны. Например, тяжба между реатинцами и жителями Интерамны, связанная с тем, что последние перегородили плотиной канал, по которому воды Белинского озера сбрасывались в реку Нар. Жители: Интерамны опасались переполнения реки и наводнений, реатинцам же сток избыточных вод озера давал возможность осушить и превратить в плодородное поле заболоченную равнину. Реатинцы обратились к консулам с жалобой, требуя: освободить сток вод по каналу. Цицерон считал себя в моральном долгу перед реатинцами и согласился защищать их интересы. Он отправился на место и, как можно предположить, испытал немалое удовольствие от общения с этолийскими крестьянами старой складки, так сильно напоминавшими арпинских.
В Риме же политическое положение вновь резко осложнилось. Приближались консульские выборы. На высшую магистратуру претендовали четыре кандидата: два патриция — Марк Эмилий Скавр и Марк Валерий Мессала Руф, и два выходца из плебейских родов — Гай Меммий и Гней Домиций Кальвин. Меммий, некогда ярый враг Цезаря, теперь сблизился с триумвирами и взял на себя некоторые обязательства перед ними; он рассчитывал, что Цезарь повторит прошлогодний маневр и пришлет на выборы солдат. Скавр же надеялся на поддержку Помпея, с которым его связывали родственные отношения. Нe полагаясь до конца на триумвиров, Меммий решил использовать и другие средства. Он и Домиций Кальвин заключили договор с консулами Клавдием Пульхром и Домицием Агенобарбом: консулы обещали поддержать обоих кандидатов, они же брались предъявить народу тексты
Пришлось снова отложить выборы. Они в 54 году вообще так и не состоялись, и вплоть до июля 53 года Римом управляли сменявшие друг друга бесчисленные интеррексы. Государственные учреждения, в сущности, не работали; государственный механизм вновь стал нормально функционировать лишь после комиций 53 года, и тут примечательно, что консулами были выбраны как раз те два человека, которым триумвиры отказали в поддержке, — Валерий Мессала и Домиций Кальвин. Помпей и Цезарь, по всему судя, не в состоянии были больше контролировать выборы. Цицерон пишет брату 24 октября 54 года после оправдания Габиния (о нем мы еще скажем несколько слов): «Нет больше сената, нет судов, нет уважения ни к одному из нас». Цицерон раздражен — старый недруг снова (хотя и ненадолго) ушел от наказания; но оратор ошибался, дела обстояли не совсем так; оставалось еще что-то от старой римской libertas, народное собрание и оптиматы сохраняли свое влияние. Сам Цицерон немало для этого сделал.
В течение лета 54 года Цицерон несколько раз выступал защитником в судебных процессах и делал это далеко не всегда по указанию Помпея или Цезаря, как утверждают многие историки. Так, он защищал Гнея Планция, потому что хотел помочь другу и земляку (дело слушалось скорее всего в конце августа). Род Планциев происходил из маленького селения Атины неподалеку от Арпина. Планций был квестором в Македонии в 58 году, и, как мы помним, именно он оказал покровительство Цицерону и позволил поселиться в Фессалониках, а не продолжать, как того требовал закон Клодия, путь до Кизика, чтобы навсегда остаться там. Цицерон в 54 году согласился защищать Планция из благодарности, памятуя об оказанной услуге. Планция обвинили в организации незаконных сообществ с целью добиться своего избрания в эдилы на 55 год. Не исключено, что Планцию оказывал покровительство Красс, но Цицерон выступил в роли адвоката вовсе не по этой причине, к тому же, вторым защитником вместе с Цицероном выступал Гортензий, а уж его заподозрить в связях с триумвирами никак не возможно. Обвинителем на процессе был Марк Ювенций Латеренский, гордый, самоуверенный аристократ Катоповой складки, раздраженный тем, что не добился магистратуры, на которую, как он считал, имел полное право претендовать. Ювенций говорил как бы от имени сената, он обвинял Цицерона в пресмыкательстве перед триумвирами. В данном случае доказательства его били мимо цели. Защищая Планция, Цицерон не только отдавал долг благодарности, но и отстаивал определенную политическую линию: в речи он подчеркивает, что Планций происходит из всадников, то есть из того зажиточного муниципального сословия, откуда, по его убеждению, могут выйти новые люди, способные вернуть республике былую славу. Планций как раз один из таких подлинно новых людей, которых «вознесет, повернувшись, колесо истории», утверждает оратор. Планций был моложе своего защитника на 18 лет, и Цицерон уверен, что лишь молодые могут оздоровить политическую жизнь Рима, отравленную ныне властолюбием триумвиров и высокомерием сената, который на глазах превращается в узкую замкнутую касту. Речь «В защиту Планция» — бесспорно, подлинно политический документ. Подзащитного Цицерона оправдали. В другом процессе примерно в то же время Цицерон защищал Ватиния. Его тоже обвинили в нарушении закона о недозволенных сообществах. Но общий характер дела выглядел совсем иначе. Как мы помним, Цицерон во время суда над Сестием нападал на Ватиния, потом Помпей добился их примирения. Для Цицерона примирение было своего рода политическим договором: он превращает нападки на Ватиния, за что Помпей обещает заставить Клодия прекратить преследования Цицерона. Кроме того, Цезарь просил Цицерона не просто сохранять нейтралитет, но оказать Ватинию реальную поддержку. И Цицерон снова уступил просьбе полководца — из чувства подобострастия, как уверяли его враги. Сам же оратор так объясняет свои действия в письме к Лентулу, которое мы уже столько раз цитировали: оптиматы использовали Клодия против Цицерона, значит, и ему вполне позволительно использовать в своих интересах Ватиния, который, как всем известно, доносит Цезарю обо всем, что случается в Риме, и о людях, вовлеченных в эти события.
Около того же времени, кажется, ближе к концу июля, Цицерон защищает еще одного клиента, обвиненного все но тому же закону о сообществах. Звали клиента Гай Мессий, и обвиняли его в интригах (подлинных или вымышленных), благодаря которым он был избран в эдилы на 55 год. Мессий входил в окружение Помпея, но служил в преторианской когорте Цезаря. У него были причины рассчитывать на особое внимание со стороны Цицерона: он немало сделал для возвращения оратора из изгнания. Так что процесс Мессия во многом походил на процесс Планция с той, однако, разницей, что речь Цицерона в защиту Мессия не сохранилась.
Столь же мало осведомлены мы и о процессе Марка Ливия Друза Клавдиана, в котором Цицерон также вел защиту. В каком-то судебном деле, которое рассматривалось ранее, Друз, будучи обвиняемым, якобы вступил в сговор с обвинителем (или, наоборот, будучи обвинителем, вошел в соглашение с обвиняемым; оба варианта обозначались в Риме одним и тем же термином praevaricatio, но больше мы ничего об этой истории не знаем, разве только, что Цицерон взялся защищать Друза по просьбе Помпея и что Друз был оправдан.
Пожалуй, самым важным процессом лета 54 года можно считать тот, где Цицерону пришлось действовать вопреки своим личным чувствам в угоду Помпею и Цезарю - процесс Габиния. Габиний — консул 58 года, затем - наместник Сирии, в каковой магистратуре его сменил Красс. Бесславно и бесшумно появился он под стенами Рима 19 сентября, но в город вступил, опять же стараясь привлекать как можно меньше внимания, лишь 27 сентября. Габиний прекрасно понимал, что придется отвечать по нескольким обвинениям, одним из которых должно было стать обвинение по закону об оскорблении величия римского народа, за то, что он восстановил на престоле Птолемея, не имея должных полномочий от сената; кроме того, Габинию грозило обвинение в подкупе, именно подкупом объясняли многие странные меры, которые он предпринял в Сирии против откупщиков. Цицерону больше всего хотелось бы участвовать в процессе в качестве обвинителя, но это было невозможно по крайней мере по двум причинам: выступление государственного деятеля такого ранга против мужа-консулярия римские граждане восприняли бы как жестокость и злоупотребление собственным авторитетам; вторая причина несравненно проще — Помпей не мог допустить, чтобы Цицерон обвинял его давнего агента. Он вновь попытался помирить противников, но Цицерон уклонился. На первом процессе Габиния он выступил как свидетель обвинения, но в столь умеренных выражениях, что Габиний благодарил его. Впрочем, и все дело велось чрезвычайно мягко, Габиний в конечном счете был оправдан, хоть и всего тридцатью восемью голосами против тридцати двух. Лучшего соотношения не смогли добиться ни с помощью Помпея, ни с помощью сговора с обвинителем.
Первый процесс Габиния состоялся 23 октября. Как раз в те дни Тибр вышел из берегов, вода затопила прибрежные кварталы, разрушила множество домов и подмочила зерно в государственных амбарах неподалеку от порта. Римляне увидели в этом проявление гнева богов за то, что оправдали человека, который вопреки ими явленным знамениям пересек с оружием границы Египта. Люди вышли на улицы, они громко осуждали судей, оправдавших виновного. Цицерон находился в Тускуле и усиленно работал над трактатом «О государстве». В письме Квинту он рассказывает, как сначала составил план сочинения в девяти книгах, каждая из которых содержит разговор между Сципионом Эмилианом и его друзьями; как потом по совету друга своего Гнея Саллюстия изменил намерение и решил написать диалог, в котором участвуют он сам и Квинт. Мы еще увидим, что в конце концов Цицерон вернулся к первоначальному замыслу; он написал диалог, в котором участвуют знаменитые деятели прошлого века, но изложил их беседы в сильно сжатом виде, уместив их всего в три дня.
Вскоре Цицерону пришлось по настоянию Помпея вернуться в Рим. Габиний должен был снова предстать перед судом на сей раз по обвинению в вымогательстве. В городе, и без того настроенном враждебно к бывшему наместнику Сирии, поднялась настоящая буря. Помпей все еще не имел права появляться в пределах померия; он собрал сходку на Марсовом поле и долго горячо говорил в защиту Габиния. Цезарь прислал письмо — подлинную апологию обвиняемого, письмо читали на улицах. В конце концов Помпей заставил Цицерона взять на себя защиту. Примечательно, что в письмах оратор ни словом пе упоминает об этом. Согласился он, по-видимому, против воли, и рассказывать, как все было, ему не хотелось. Однако намек на происшедшее можно обнаружить в речи в защиту Гая Рабирия, произнесенной вскоре после осуждения Габиния — его приговорили к изгнанию. Защитительная речь Цицерона не принесла на сей раз ожидаемого результата. Следовательно, триумвиры вовсе не были так уж полновластны, и напрасно Цицерон после оправдания Габиния в первом процессе без конца жалуется на их всемогущество. Народное собрание и суды во власти страстей и интриг метались из стороны в сторону под давлением разных общественных сил, так что никто не мог считать себя подлинным хозяином положения. И Цицерон, то под влиянием момента, то спасая собственную жизнь, вынужден был участвовать в событиях. При этом он убеждался только в одном — никто не способен вести политику разумную и продуманную, цель которой — благо государства. Он описал пережитое, и то, что им описано, во многом напоминало анархию, царившую в греческих полисах в пору их окончательного упадка. И постепенно становится понятным, почему, закладывая в трактате «О государстве» основы идеального государственного устройства, Цицерон все большее место отводит элементам монархии.
Добившись осуждения Габиния, обвинители обратились против Гая Рабирия Постума, который финансировал махинации Габиния, равно как и многих других. Цицерон защищал в суде и Рабирия. Он был в долгу у этого человека — в пору изгнания Рабирий оказывал оратору всяческую поддержку. И Цицерон не забыл об этом. Не менее твердо помнил он и то, что Цезарь всячески помогал несчастному Рабирию, разоренному, как утверждал защитник, нелепыми финансовыми махинациями Габиния в Египте. Утверждения Цицерона не слишком правдивы — Рабирий привел из Египта несколько кораблей, трюмы которых были до отказа забиты товарами, вовсе не столь дешевыми и никчемными, как уверял оратор. Исход процесса нам неизвестен, он, в сущности, и не так важен, ибо дело Рабирия — всего лишь своеобразное приложение к суду над Габинием.
Во всех письмах Квинту, написанных в последние месяцы 54 года, Цицерон подчеркивает заслуги Цезаря, говорит о величии его славы. Он называет Цезаря «лучшим и могущественнейшим из людей», надеется, что тот защитит и укрепит его «достоинство», проще говоря — его политическое положение. Он живо описывает будущее, когда Цезарь вступит в Рим, увенчанный не меньшей славой, чем некогда Помпей, но слава Цезаря свежее. Как мы уже отмечали, Цицерон и в самом деле чувствовал к Цезарю более живую симпатию, чем к Помпею. Осенью 54 года это чувство еще укрепилось. В начале сентября умерла Юлия, дочь Цезаря и жена Помпея. Уже больше года она болела, родила ребенка, который тут же умер, и никак не могла оправиться после родов. И Помпей, и Цезарь искренно горевали о Юлии. Из письма Квинта Цицерон узнал, что Цезарь перенес несчастье «с мужеством и твердостью духа», и немало им восхищался. Сам он горячо любил свою дочь Туллию и измерял отцовское горе Цезаря тем, какое сам испытал бы на его месте. А через несколько лет Туллия в самом деле умерла примерно при тех же обстоятельствах. Но Цицерон лишь после долгой тяжелой борьбы с собой сумел обрести душевное спокойствие, которого Цезарь достиг, кажется, сразу, огромным усилием воли. В эту пору Цицерон питает к Цезарю симпатию, восхищение и искреннюю привязанность, что побуждает его вернуться к работе над поэмой о британском походе; работа была начата давно, Цицерон узнавал тогда от брата все новые подробности, но так и не окончил поэму. Теперь он с новой энергией возвращается к пей и доводит до конца. Последнее упоминание о поэме содержится в письме Квинту от начала декабря: Цицерон ищет верного человека, через которого хочет передать поэму Цезарю. До наших дней от нее не дошло ни одного фрагмента.
За несколько дней до смерти Юлии Цицерон выступал в суде с защитой Марка Эмилия Скавра, одного из четырех претендентов на консульство года. Цицерон произнес речь 2 сентября. Текст ее сохранился, в нем есть несколько значительных пробелов, но зато мы располагаем комментарием к речи Аскония, где содержится множество драгоценных сведений. Процесс, кажется, затеял Аппий Клавдий Пульхр, желая помочь своим новоиспеченным союзникам против их врагов. Обвинения представляются не слишком правдоподобными: якобы Скавр, будучи пропретором Сардинии, довел своими преследованиями одну из местных жительниц до самоубийства; убил на пиру юношу но имени Бостар; существовало и другое обвинение, касавшееся поставок зерна из Сардинии в Рим, но все, связанное с этим обвинением, — в пропавших частях текста. Обвинителем выступал молодой человек, Публий Валерий Триарий, защищали обвиняемого целых шесть адвокатов, среди них — Публий Клодий, Цицерон, Гортензий Гортал. Само сопоставление имен показывает, насколько противоречивым и сложным было дело. Цицерон вмешался в него, как представляется, из уважения к памяти отца Скавра, одного из самых энергичных деятелей консервативного крыла сената, первоприсутствующего в сенате, затем цензора. Вряд ли есть основания думать, что выступить в защиту Скавра Цицерона побудил Помпей; он благосклонно относился к Скавру (по крайней мере внешне), но политическое положение менялось, выборы уходили в прошлое, и Помпей постепенно отдалялся от Скавра, Скавр был оправдан, но некоторое время спустя Триарий предъявил ему новое обвинение, на сей раз в незаконных предвыборных махинациях. Подробности второго процесса неясны. Народ демонстрировал свою поддержку Скавру, но Помпей сумел эти демонстрации подавить, и обвиняемого осудили. Впрочем, Аппиану, который сообщает о процессе, следует доверять с большой осторожностью, потому хотя бы, что он относит процесс ко времени консульства Помпея в 52 году, а это весьма сомнительно. Так или иначе, но начиная с осени 54 года Помпей явно ведет двойную игру.
54 год кончался среди общей тревоги: на 53 год консулы избраны не были, и в городе упорно говорили о диктатуре. Цезарь, по горло занятый, оставался в Галлии — в октябре вспыхнуло восстание племени эбуронов под предводительством Амбиорика. Лагерь на берегу Самбры, где стоял Квинт со своим легионом, был окружен и попал в осаду. В Адуатуке эбуроны перерезали шесть тысяч римских солдат, и Цезарь не смог, как обычно, вернуться на зимние квартиры в Цизальпинскую Галлию; война поглощала его целиком. Квинта с армией удалось вызволять из осады; вскоре Помпей добился для Цезаря разрешения провести дополнительный призыв. Галльская армия пополнилась тремя новыми легионами. Помпей, в сущности, в это время — подлинный и единственный властитель Рима, а значит, и мира. Красс в Сирии всецело занят подготовкой похода против парфян. Но после первых успехов весной 53 года он погибает вместе со всей своей армией, а 12 июня у городка Карр в сирийской пустыне сложил голову и сын его Публий (кстати говоря, горячий поклонник Цицерона). В Риме все еще не было консулов, и постоянная смена интеррексов парализовала в первую очередь суды из-за отсутствия преторов, которые бы «говорили право», и других магистратов, которым по положению следовало председательствовать в судах. Становилось все более ясно: так дальше жить невозможно, а нормальное течение дел в состоянии обеспечить лишь единый сильный правитель. Цицерон признает подобную необходимость, но она внушает ему страх. Он пишет о развале основ государства, о крушении законности и права, о гибели всего, чем существовала свобода в Риме и что было ему бесконечно дорого. Помпею он не доверяет; само слово «диктатура» вызывает у римлян мрачные воспоминания об ужасах проскрипций. Среди всего этого разгрома и развала единственное утешение Цицерона — дружба Цезаря, которую он в декабрьском письме Аттику называет «сладчайшей»; «когда все тонет, только за нее и можно ухватиться». Цезарь действительно мог спасти Цицерона — но не республику.
Тогда же, в декабре, Цицерон вспоминает, что все еще официально считается легатом Помпея, и опасается, не придется ли ему в январе отправиться в Испанию, либо, по крайней мере, выехать за ворота города, доступ в который человеку, облеченному военной властью (во всяком случае, теоретически), закрыт. Опасения эти, правда, не повлекли за собой никаких практических шагов.
Теперь, когда можно не бояться больше ни Цезаря, ни Помпея, сообщает Цицерон своим корреспондентам, тревожиться не о чем, и он обрел наконец душевное спокойствие. Но один повод для волнений все-таки остался: Милон выдвинул себя кандидатом в консулы на 52 год, о чем по обычаю объявили заранее. Милон устроил для народа игры, стоившие фантастических денег. Понимая, что совершает безумие, Цицерон тем не менее счел долгом оказать Милону помощь и даже просил Квинта о том же. Да и как было не помочь человеку, столько сделавшему, чтобы не дать Клодию навсегда убрать с политической арены Цицерона, а заодно и Квинта? Помпей отнесся к кандидатуре Милона настороженно. Он поддержал двух других кандидатов — Публия Плавтия Гипсея, своего квестора в последние годы Митридатовой войны, и Метелла Сципиона, на чьей дочери Корнелии женился в конце года; Корнелия была вдовой Публия Красса, павшего у Карр. Помпей в свое время нуждался в Милоне, противопоставляя его Клодию, теперь надобность эта отпала, а содействовать далеко идущим планам молодого честолюбца старый полководец намерен не был. И теперь Милон в глазах Помпея — всего лишь смутьян, чьи интриги нарушают ход общественной жизни, а главное — мешают интригам триумвиров.
Наконец в июле избрали консулов 53 года. Ими стали Гай Домиций Кальвин и Марк Валерий Мессала. Против последнего, правда, было возбуждено обвинение в незаконных предвыборных махинациях, но в суде его защищали Цицерон и Гортензий и добились оправдательного приговора. Так что Мессала мог на законных основаниях фигурировать в числе кандидатов. Цицерон, кроме того, поручился за него перед Цезарем. Что касается Домиция, то он сумел без ощутимого ущерба выпутаться из скандала, который погубил Меммия. Насколько можно судить, Цицерон никакой помощи Домицию не оказывал.
С января 53 года переписка с Аттиком прерывается, поскольку оба друга находятся в Риме, а с декабря 54 года наступает перерыв и в переписке с Квинтом — отныне мы осведомлены о текущей политической жизни Рима далеко не так полно, как в предыдущие годы. Известно лишь, что в Риме неоднократно происходили волнения. 6 ноября 53 года во время триумфа Гая Помптина, которого он ждал восемь лет со времени побед над аллоброгами в 61 году и который в конце концов удалось устроить лишь благодаря ловкости претора Гальбы, в городе происходили уличные стычки, сопровождавшиеся кровопролитием. На дни триумфа Цицерон приехал в Рим, памятуя о сотрудничестве с Помптином в пору подавления заговора Катилины. Подручные Клодия, узнав о его присутствии в столице, всячески выражали свою ненависть не только к помощнику консула 63 года, но и к нему самому.
Те же вооруженные отряды Клодия сорвали народное собрание, дошли до того, что стали забрасывать консулов камнями и с обнаженными мечами ворвались в Септу — ограду, в которой происходили выборы. Отразить их натиск, обратить в бегство и заставить откатиться к реке смог только Милон с вооруженной свитой. Выборы, однако, оказались сорванными.
Еще одно столкновение произошло на Священной дороге: люди Милона напали на Плавтия Гипсея и друзей, его окружавших. Цицерон, случайно находившийся среди них, едва не поплатился жизнью.
Цицерон с ужасом наблюдал, как Клодий с новой энергией разворачивает агитацию с двойной целью — добиться избрания в преторы, но в первую очередь устранить с политической арены Милона. Цицерон считает необходимым сделать все от него зависящее, чтобы поддержать Милона. Он пишет об этом прямо в письме Куриону Младшему, которое относится, по-видимому, к середине 53 года. Он уверен, что есть еще возможность вернуть Рим к нормальной политической жизни, но при одном условии — Милон должен стать консулом. Цицерон рассчитывает на поддержку Куриона, которого по-прежнему считает преданным делу аристократии или, во всяком случае, старинным республиканским порядкам. Курион был одним из тех молодых людей, с которыми старый консулярий связывал все свои надежды. Он полагал, что вместе с людьми старших поколений уйдут в небытие застарелые распри и бесчисленные честолюбивые устремления, а молодежь, всему этому чуждая, займет политическую авансцену. Цицерон не доверяет Помпею, его то и дело меняющейся политике, со стороны Цезаря не видит пока никакой серьезной опасности и считает, что Милон один в состоянии обеспечить политическое обновление. «Поднимается попутный ветер, — пишет он Куриону, — и Курион будет тем кормчим, что сумеет его использовать и привести корабль в гавань».
О каком попутном ветре идет речь? По всему судя, о распаде триумвирата. Красс погиб; Помпей, связанный по рукам и ногам проконсульским империем, не может вступить в Рим; Цезарь — во власти превратностей войны; самый подходящий момент сенату вновь взять па себя руководство государственными делами, считает Цицерон. Достаточно устранить Клодия, и общественная жизнь вернется в обычное русло. Вскоре выяснилось, что надеждам Цицерона не суждено сбыться.
В весенние месяцы этого года Цицерон объезжает свои виллы. В апреле живет некоторое время в Кумах, где его навещает Помпей; о чем они говорили, мы не знаем, известно лишь, что Помпей казался веселым и довольным. Через несколько дней Цицерон уже в Формиях. Тирон, старый верный секретарь нашего героя, заболел, и настолько серьезно, что не смог дальше сопровождать оратора, и остался на Формийской вилле. Цицерон пишет ему письма, полные глубокой искренней привязанности: до тех нор пока мы будем в разлуке, говорит он Тирону, я не смогу притронуться ни к одной книге. Он не в состоянии вернуться к начатым работам, то есть к трактату «О государстве» и уже, по-видимому, к диалогу «О законах». В письмах нет никакого преувеличения. Тирон был постоянным сотрудником, чем-то несравненно большим, чем секретарь в современном смысле слова, и Цицерон обращался к его помощи ежеминутно. В те времена литературное произведение создавалось скорее в ходе беседы, а не писания. Каждую фразу, прежде чем секретарь заносил ее на табличку, обсуждали, взвешивали. Такой способ работы предполагал определенную интеллектуальную близость между автором и помощником, который в то же время играл роль первого читателя. Тирон был другом Цицерона в самом полном и точном значении слова. Болезнь Тирана волновала оратора, и он, не стесняясь, с нежной откровенностью пишет другу о своей тревоге. В ту пору Тирон юридически еще раб, но вскоре он получил волю и сделал чрезвычайно много для посмертной славы своего теперь уже патрона.
Во второй половине года политическое положение лучше не стало. Выборы, как и в предыдущем году, бесконечно откладывались под тем или иным предлогом, так что опять в декабре Рим не имел еще консулов. Помпей как обладатель проконсульского империя был единственным магистратом с законными полномочиями, хотя они и не распространялись на сам город. Осенью 53 года Цезарь, вернувшийся с армией в Равенну на зимние квартиры, сразу оценил положение и опасности, которые оно таило. Полагая, по-видимому, что еще не настало время порывать с Помпеем, и надеясь избежать открытого конфликта, который неминуемо перерос бы в гражданскую войну, он решил выдать за Помпея свою внучатую племянницу Октавию. Октавия была замужем за Гаем Клавдием Марцеллом, но Цезарь рассчитывал расторгнуть их брак «по государственным соображениям». Сам Цезарь собирался развестись с Кальпурлией, дочерью консула 68 года Пизона, и жениться на Помпее — дочери Помпея. Помпея была помолвлена с Фавстом Суллой, сыном диктатора, но и помолвку Цезарь, видимо, собирался отменить. Помпей, однако, не согласился на подобную комбинацию и женился на Корнелии, дочери Публия Корнелия Сципиона Назики, который в результате усыновления вошел в семью Цецилиев Метеллов. Как мы уже упоминали, Корнелия — жена Публия Лициния Красса, сына триумвира, овдовела в июне 53 года. Когда завершился положенный срок траура, весной 52 года она вышла за Помпея. Биограф Помпея уверяет, что старого полководца пленили красота и скромность молодой вдовы; наверное, стоит указать еще по крайней мере на две возможные причины: несмотря на возраст (он приближался к шестидесяти). Помпей постоянно искал женской любви, а, кроме того, был не прочь породниться с одной из самых древних и знатных семей Рима.
Если верить Светонию, именно с этого времени Цезарь стал готовиться к захвату власти, учитывая и возможность гражданской войны. Историки любили торопить события, но в данном случае действительно союз между Цезарем и Помпеем исчерпал себя и явно шел к концу. Цезарь старался добиться поддержки возможно большего числа сенаторов; направо и налево раздавал он деньги в долг под очень умеренные проценты, а подчас и вообще без них; каждый, кто навещал его в ставке, будь то всадник или простой гражданин, возвращался облагодетельствованный. Благосклонностью Цезаря могли похвастаться даже отпущенники, даже рабы. Главной его опорой по-прежнему оставался Публий Клодий. Это был единственный человек, способный сорвать планы Помпея, если, впрочем, верить, что старый полководец действительно стремился вернуть государство в русло нормальной политической жизни.
В начале 52 года, точнее — 20 января, произошло событие, окончательно разрушившее хрупкое равновесие, на котором Цицерон надеялся основать нормальную деятельность государства. В тот день Милон ехал в сопровождении жены и телохранителей в Ланувий, где был жрецом одного из местных культов, и на Аппиевой дороге недалеко от Бовилл повстречал Клодия, который возвращался в Рим также в окружении толпы подручных. Когда процессии разъезжались, между людьми Милона и Клодия возникла перепалка, а потом и драка. Эскорт Милона одержал победу, сам Клодий был ранен, рабы отнесли его в соседнюю харчевню, а там по приказанию Милона его прикончили. Вечером тело Клодия привезли в Рим; зрелище обезображенного трупа, вопли Фульвии, вдовы, вызвали подлинное восстание сторонников Клодия и всего римского плебса. Тело сняли с носилок, поместили в курию и подожгли здание, чтобы курия стала погребальным костром человека, павшего, по убеждению толпы, жертвой сенаторов. Сенаторы собрались на Палатине в одном из храмов, избрали интеррекса и единственным законным магистратам, то есть Помпею и народному трибуну, вручили полномочия по проведению в жизнь сенатусконсульта о чрезвычайном положении. Помпей получал право проводить набор войск по всей Италии. Начались переговоры между Помпеем и Цезарем, последний требовал наказания Милона — не столько, по-видимому, из любви к законности, сколько из опасения, что Милон может стать вожаком римской толпы и склонить ее на сторону Помпея. Между триумвирами началась торговля. Сенаторы предлагали избрать Помпея единоличным консулом, без коллеги, трибуны же настаивали, чтобы коллега был и чтобы им стал Цезарь. Осуществить последнее предложение не пришлось, так как в эти дни началось общее восстание галльских племен и командующему необходимо было присутствовать в провинции. Цезарь соглашался не претендовать на консульство текущего года, но требовал взамен согласия сената на заочное выдвижение своей кандидатуры
Комментарий Аскония помогает понять мысли и чувства Цицерона на протяжении месяцев, прошедших между убийством Клодия и судом. Было ясно, что оратор, столь горячо поддерживавший кандидатуру Милона на консульских выборах, станет и в суде защищать своего друга, и это вызывало враждебное отношение к Цицерону большинства граждан. О злодеяниях Милона ходили самые фантастические слухи. Особенно неистовствовали народные трибуны Квинт Помпей, Гай Саллюстий (историк) и Тит Мунаций Планк Бурса (брат будущего основателя Лиона). Планк объявил, что если Цицерон будет упорствовать в своем желании выступить защитником Милона, то он, Планк, привлечет к суду его самого. Город шумел и бушевал. Но, несмотря ни на что, Цицерон, пишет Асконий, «выказал такую твердость и такую верность долгу, что ни неприязнь народа, ни подозрения Помпея, ни опасности, которые его подстерегали, если бы он оказался обвиненным перед народом, ни стянутые на площадь и явно враждебные Милону войска не поколебали его решимости выступить защитником, хотя он мог легко отвести от себя всякую угрозу, спастись от ненависти толпы и вернуть расположение Помпея, стоило лишь умерить свой пыл».
Политическая путаница, царившая в Риме, привела к тому, что поборник сенатских порядков Милон оказался перед судом, где председательствовал сенатор-консерватор Луций Домиций Агенобарб, выбранный народным собранием, но до того, как консул, зарекомендовавший себя противником триумвиров; так что на суде противостояли друг другу два давних политических союзника, а среди членов суда находился Катон, много раз публично заявлявший, что, убив Клодия, Милон оказал государству величайшую услугу. Тем не менее за обвинительный приговор проголосовали 12 сенаторов, 13 всадников и 13 эрарных трибунов, а за оправдание подсудимого высказались лишь 6 сенаторов, 4 всадника и 3 эрарных трибуна. Цифры эти показательны: осуждение Милона свидетельствовало об общем желании вернуть мир в общественную жизнь, положить конец насилию, которое еег парализовало. Возможно, Помпей не разделял общие чувства, а лишь стремился укрепиться в положении единственного правителя государства и потому в решающий момент отвернулся от человека, верно ему служившего; но у членов суда таких мотивов не было. Цицерон построил защиту на том, что люди Клодия с самого начала рвались в драку, тогда как о людях Милона такого не скажешь; драка завязалась внезапно, сначала между рабами, и лишь когда дело было сделано, Клодий ранен, Милон решил воспользоваться случившимся и устранить противника. Исходные положения Цицерона не совсем точны. Клодий неоднократно угрожал Милону смертью, Милон делал то же, но до роковой встречи ни один не пытался привести угрозу в исполнение, и, в сущности, ни тот, ни другой не стремился к трагической развязке. И Клодий и Милон пали жертвами общего напряжения, которое сами же и создали и терпеть которое больше никто не мог. Одно время Цицерон надеялся, что Милон, став консулом, покончит с этим положением законным путем — добившись, например, осуждения и изгнания Клодия. Судьба решила по-иному, но больше всего выгоды из случившегося извлек Помпей. Он даже пустил слух, будто Милон составил заговор с целью его убить, и, кажется, намекал, что Цицерон имел к заговору какое-то отношение.
После осуждения Милон отправился в изгнание в Массилию (современный Марсель), где и прожил до 48 года, когда попытался поднять в Южной Италии восстание против Цезаря и при разгроме его погиб.
Многих друзей Милона также привлекли к ответственности, но по отношению к ним судьи оказались более мягкими. Оправдали, например, Марка Савфея, руководившего штурмом харчевни, где лежал раненый Клодий. Защищал его Цицерон. Друзья Клодия, участвовавшие в беспорядках и в поджоге курии, были строго наказаны. Расхождения в общественном мнении и тенденции, его объединявшие, вырисовывались вполне отчетливо: люди «государственные», те, что заседали в суде, благоволили к Милону больше, чем к Клодию, но все они стремились положить конец разгулу насилия. Первым следствием изложенных событий оказался окончательный распад триумвирата: Цезарь, погруженный в Галлии в борьбу с Верцингеторигом, не мог более контролировать положение в Городе столь бдительно, как раньше; с другой стороны — и совпадение обоих обстоятельств имело решающее значение — исчезли с политической арены и Клодий и Милон, Помпей остался один на один с сенатом, что очень скоро привело к союзу. Сложилась политическая ситуация, которая через два года привела к гражданской войне.
В отредактированном и переработанном варианте речи «В защиту Анния Милона» Цицерон восхваляет мудрость и беспристрастие Помпея, хотя прекрасно понимает, что тот жаждет осуждения Милона. В речи вообще присутствует образ римского государства, который (по крайней мере как образ) занимает Цицерона в новой политической ситуации, образованной смертью Клодия: республика, вернувшаяся к своим исконным основам, верная законам и справедливости, исполненная мужества и уважения к праву. Оратор понимает, что образ, им созданный, вряд ли может быть воплощен в действительность, что он всего лишь мечта, но в такой республике Цицерон надеется занять место, ему подобающее — место оратора, пусть и зависимого от Помпея, но воздействующего всей мощью своего слова на сенат, на суды, на сходки, которые никто не посмеет разгонять камнями и дубинками. На протяжении месяцев, последовавших за осуждением клики Клодия, Цицерон, по его собственным словам, погружен в дела. Судебные процессы следуют один за другим, проведенные Помпеем новые законы создают сложные юридические казусы, которые требуют его вмешательства и разбора. Об этом Цицерон рассказывает Марку Марию, соседу по Кампанским имениям, в письме, предположительно датируемом началом 51 года. Здесь же — выражения радости по поводу осуждения Мунация Планка Бурсы, который так яростно нападал на Цицерона, и теперь Цицерон сумел добиться обвинительного приговора своему врагу. На процессе Планка Цицерон продемонстрировал независимость от Помпея; последний позволил себе направить суду письмо, где восхвалял Планка. Однако судьи все же решились «осудить того, кем сами были поставлены в судьи, наперекор его великому могуществу». «Они никогда не сделали бы этого, — прибавляет Цицерон, — если бы моя скорбь не была их скорбью». Начинала брезжить надежда, что вновь удастся обрести свободу и восстановить былой авторитет. Процесс мог состояться только после завершения магистратских полномочий Планка, то есть после 9 декабря 52 года; если учесть все полагавшиеся по закону отсрочки — очевидно, в январе 51 года. В эти дни Цицерон уже подпадал под действие одного из законов Полнея и должен был в ближайшее время оставить Рим, чтобы отправиться наместником в провинцию Киликию.
До того, как перейти к рассказу о киликийском проконсульстве, необходимо вкратце остановиться на одном деле, которое, как принято считать, ставит под сомненье честность и порядочность Цицерона. После осуждения имущество Милона было конфисковано, что не помешало ему взять с собой в Массилию значительное число рабов, которые с правовой точки зрения подлежали конфискации вместе с остальным достоянием осужденного. Цицерон поручил вольноотпущеннику своей жены Филотиму приобрести возможно большую часть имущества Милона; он поясняет, что хотел помешать какому-нибудь «злонамеренному покупщику» воспользоваться случаем и отнять у Милона всех его рабов, а жену Милона Фавсту лишить имущества, лично ей принадлежащего. Операция была продумана и проводилась в жизнь в сотрудничестве с неким Дуронием, другом и доверенным лицом Милона. Неожиданно в мае 51 года Милон пишет Цицерону письмо, жалуясь, что Филотим и, как ему кажется, Цицерон тоже действуют вовсе не в его пользу, а договариваются между собой с целью приобрести для себя конфискованное имущество. Сбитый с толку Цицерон }же из Брундизия, то есть по дороге на Восток, пишет Аттику, просит его разобраться во всей истории и, если у Милона действительно есть основания считать себя пострадавшим, убедить Филотима вообще отступиться от дела. Переписка длилась некоторое время, и, если рассматривать ее без предвзятости, она доказывает, что зло-употребления в самом деле имели место, но только со стороны Филотима. Это не единственный случай, когда отпущенник Теренции играл сомнительную роль в денежных делах семьи. Цицерон понимал, что происходящее может поставить под сомнение его честность. В позднейших письмах есть намеки на случившееся, они нарочито неясны, но отнюдь не из желания скрыть что-либо неблаговидное; Цицерон, как мы думаем, не хотел привлекать внимание к приобретению имущества осужденного, что наносило ущерб казне, однако оратор пошел на это ради друга. И нет никаких доказательств, что сэч Цицерон извлек из осуждения Милона какие-либо выгоды.
После свидания в Лукке сенат, по сути дела, перестал решать большие государственные вопросы, а потому и Цицерон значительно меньше участвует в политической жизни. Теперь, несмотря на многочисленные судебные процессы, он располагал досугом и предпочитал жить на своих виллах в окрестностях Кум, Формий, Помпей, Арпина или неподалеку от Рима в Тускульском имении (ныне Фраскати). Государственные дела решались без него; он же много размышлял на первых порах об ораторском искусстве, а позже об условиях, которые необходимы для успешного управления государством. Раздумья Цицерона над теорией красноречия основывались на его личном опыте, приобретенном за долгие годы практической деятельности судебного и политического оратора в Риме, а также на философском опыте, который накопили греки на протяжении четырех веков от Сократа до Филона из Лариссы. Итогом раздумий явился диалог «Об ораторе»; едва кончив работу над ним, Цицерон обратился к другой проблеме, которую на протяжении жизни двух поколений пытались разрешить многие государственные деятели Рима: государства неизменно переживают рождение и развитие, упадок и смерть; по-видимому, циклы, по которым они развиваются, обусловлены некоторой общей неделимой закономерностью? А, может быть, дело в законах, и если законы, управляющие государством, будут достаточно совершенны, оно может жить вечно?
Римляне размышляли об этом, наверное, уже со времен Катона Цензория — его историческое сочинение «Начала» содержало сравнение государств с различным политическим строем. Полибий и римляне его кружка тоже отдали дань подобным раздумьям — вспомним хотя бы слезы Сципиона Эмилиана перед обреченным Карфагеном. Все они, однако, лишь продолжали искать решение вопросов, некогда поставленных Аристотелем. Мысли Аристотеля о жизни и развитии государств ученик его Дикеарх систематизировал и представил в виде единой стройной теории «наилучшего государственного правления». Лучше всего устроено, доказывал Дикеарх, не то государство, где граждане живут счастливо, а то, которое сохраняется дольше всех других. Политический опыт греческих городов-государств, начиная с самых отдаленных времен, показал, что в любом полисе идет борьба противоположных сил, каждая из которых, взятая сама по себе, может стать разрушительной: народ может и должен оказывать влияние на государственные решения, но он лишен разума и последовательности; опытом и властью располагает аристократия, но она разделена на клики, которые, то объединяясь, то враждуя, вечно борются за господство. Наконец, история полисов, отдаленная или недавняя, знала также и царей, потомков самых древних родов или достигших власти в результате переворота. В последнем случае их называли тиранами — словом, которое у греков той поры не имело ни отрицательного, ни вообще оценочного смысла. Эти три силы дали начало трем разновидностям государственного строя — монархии, олигархии и демократии. Следуя Дикеарху и другим историкам греческих полисов, Цицерон в первой книге диалога «О государстве» говорит об изначальных формах общественной организации, о силах, в ней участвующих. Исходное понятие для него — фундаментальное и специфически римское — populus, народ. «Populus, — утверждает Цицерон устами Сципиона Африканского (главного действующего лица диалога), — не есть скопление людей, объединенных какой-либо произвольной связью, но организованное множество, объединенное общим согласием относительно прав и сочетания интересов». Определение Цицерона отличается от принятого у греков. Аристотель усматривал первоначало общественного устройства во взаимной пользе, то есть связывал его с понятием выгоды. Мысль Аристотеля играет важную роль в учении зпикурейцев, которые, как известно, вообще многим ему обязаны. Формула Аристотеля гласила: полис есть множество, но не произвольное, а самодостаточное и потому способное обеспечить себе долгую жизнь. Стоики дополнили Аристотеля! полис есть, разумеется, совокупность совместно проживающих людей, но также и прежде всего — «множество, управляемое Законом». А Закон, говорили они, есть воплощение разума, то есть свойства чисто человеческого, и потому именно существование Закона отличает человеческое сообщество от объединений других живых существ. Здесь мы имеем дело не столько с реальным состоянием общества, сколько с общественным идеалом, ибо законы, принятые в том или ином государстве, далеко не всегда, конечно, согласуются с совершенным Законом.
В определении, которое формулирует у Цицерона Сципион Эмилиан, говорится о праве; имеется в виду, однако, не закон, a jus, и различие тут весьма существенно. Jus означало во времена Цицерона личный статус каждого члена общины, устанавливавший совокупность прав и обязанностей гражданина, своего рода правовое пространство, ограниченное такими же правовыми пространствами других членов общины. В своем исходном значении jus не определяется законами; они лишь позже, задним числом переводят на язык права содержание, внутренне присущее этому понятию, сотканное из обычаев, усвоенных из жизни, больше переживаемых чувством, чем осознанных разумом и потому в корне отличных от стоического «закона», ибо он выведен рациональным путем из теоретических предпосылок. Перед Цицероном естественно встал вопрос о соотношении между jus и законом в греческом понимании слова; выяснению связи между ними он посвятил специальную работу, трактат «О законах», который создавал одновременно с диалогом «О государстве» или чуть позже. Jus есть движущая сила, инстинкт, укорененный в самой природе гражданской общины римлян. «Государство есть достояние народа, а народ — не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов». Не исключено, что в потребности такого объединения Цицерон видел отражение вселенского Разума, то есть силы, поддерживающей связь и порядок в мире, которая разлита в мироздании, но еще не воспринята человеческим сознанием. Из этого инстинкта и выводит Цицерон различные виды государственного управления. Лучшим оказывается устройство, которое создаст самые благоприятные условия для реализации инстинкта сообщества. Так мысль Цицерона от высоких и общих умозрений греков обращается к римской исторической реальности и исследует целый ряд вполне конкретных элементов политической жизни.
Божественное дуновение, вложившее в душу людей инстинкт сообщества, дало им и способность реализовать его в своей деятельности, опираясь на особую добродетель. А именно — потребность в справедливости и праве в их нераздельности. Она вносит порядок в общественную жизнь и дает возможность управлять ею. Право есть условие и воплощение разумной организации общества и свойственно любой из трех форм правления. Право может обеспечить «царь справедливый и мудрый», «избранные и выдающиеся граждане» или даже «сам народ». Последний вариант, прибавляет Сципион Эмилиан, наименее похвален. Прямая демократия, однако, допустима, если сумеет столь же успешно, как два других вида государственного устройства, противостать несправедливости или всевластию личных эгоистических интересов.
Цицерон, как видим, основывает общественный строй на прямом интуитивном чувстве равенства перед законом как непосредственном выражении права. Оно есть залог единства гражданской воли, которой и сильна община. Равенство перед законом, повторим, состоит в уважении к личным интересам каждого; такое его понимание не имеет ничего общего с подыманием равенства в эпоху Великой французской революции — тогда его рассматривали как суть и основу всей политической структуры. Цицероново равенство перед законом охраняет не только духовную свободу каждого, но и жизнь — отсюда «право провокации», то есть гарантированная осужденному на смертную казнь возможность апеллировать к собранию народа. Поэтому один из главных пороков монархии в том, что она лишает граждан возможности участвовать в решении политических вопросов и тем неизменно вызывает их недовольство и протест. Даже при таком справедливом и мудром царе, как Кир, зависимость всего и вся от воли государя порождала в душах подданных чувство ущербности. В Массилии, где существовало аристократическое правление избранных граждан, неизменно слывших идеально справедливыми, все-таки, говорит Цицерон, гражданам казалось, что они как бы в рабстве, ибо лишены подлинной самостоятельности, ограничены в правах, обречены на полную общественную пассивность. А полная демократия, примером которой были некогда Афины, действует на основе народных постановлений, не признает власти старейшин, а потому не знает духовной иерархии и лишает гражданскую жизнь всякого достоинства.
Совершенство государственного строя определяется, таким образом, не практическими результатами, которых община может добиться, а отношением к нему граждан. Политика зиждится на убеждении или, если угодно, на искусстве убедить каждого в том, что он играет в жизни государства не последнюю роль. Здесь ощущается опыт оратора, знающего, какую силу имеет слово в театре, где зрители — все граждане города.
Итак, Цицерон поставил себе задачу обрисовать государственное устройство, способное воплотить в жизнь все перечисленные требования, весь тот строй мыслей и чувств. Возникло учение о «смешанном» государственном устройстве, о котором впервые заговорил еще Дикеарх. «Чистые» государственные устройства, то есть монархия, аристократия или демократия, помимо изъянов, отмеченных выше, опасны и сами по себе. Каждое имеет не только привлекательное лицо, но и отталкивающую изнанку: монархия чревата тиранией, аристократия — олигархией, демократия — всесилием разнузданной толпы. Так возникали «дурные» режимы, это Цицерон знал от Полибия, и вовлекали общину в серию переворотов, нередко приводившую к полной катастрофе. Распри между гражданами ослабляли Город, и он, неспособный защититься, попадал в руки врагов. Риму времен Цицерона такое будущее, разумеется, уже не угрожало: поблизости не осталось народов, способных разрушить Вечный Город или хотя бы причинить ему ущерб. Времена Митридата миновали, а могущество парфян только-только начало складываться и впервые проявилось в разгроме Красса в войне, которую начали сами же римляне. Но государства, как сказал в одной из Катилинарий Цицерон, могут погибать под воздействием внутренних сил и уничтожать себя сами. Целые провинции, как при Сертории, например, отпадали от Рима, и ясно обозначался конец империи, конец величия римского народа.
В трактате обращает на себя внимание последовательность глав — Цицерон демонстрирует свое искусство сопоставлять аргументы «за» и «против». Сначала каждому из трех «чистых» режимов воздается хвала, подчеркиваются достоинства, ему присущие. В пользу монархии говорит единство управления, столь очевидно необходимое в любом человеческом начинании, в жизни семьи, в каждом доме, потребное для ведения корабля не меньше, чем для ведения войны. Государство без монархического элемента в устройстве не может поэтому дочитаться прочным. При аристократическом правлении за власть борются люди значительные и знающие, снискавшие уважение и богатством, но прежде всего мудростью, опытностью, осторожностью, верностью традициям и принадлежностью к старинным, издавна прославленным семьям. Без их советов государство стремится к гибели. Демократия отдает высшую власть народу и являет собой — по крайней мере в теории — наиболее устойчивый строй; каждый член гражданского коллектива обладает гражданскими правами: он утверждает законы, отправляет правосудие, заключает союзы и мирные договоры, объявляет войны, регулирует деятельность граждан и устанавливает пределы их обогащения. Все это приносит удовлетворение и с полным основанием порождает чувства личной свободы и независимости. Если интерес каждого совпадает с интересом всех, надолго устанавливается согласие и длится до тех пор, пока все действия граждан направлены на сохранение государства и защиту общей свободы.
В хвалебной характеристике каждого слагаемого «смешанного» государственного устройства без труда можно узнать черты правовой структуры римской гражданской общины, какой она была во времена Цицерона. В принципе народ действительно обладал абсолютным суверенитетом. Он имел, например, право издавать законы — доказательством чего могут служить законодательные акты, принятые по инициативе Клодия, законы в пользу Цезаря, Ватиниев плебисцит и многие другие. Народ подчас отказывался утвердить решения сената, в частности, касавшиеся распределения провинций. Однако большей частью народ своими правами не пользовался и лишь утверждал решения сената, то есть органа государственного управления, составлявшего его аристократический элемент. И, наконец, каждый римлянин знал, что консул — подлинный монарх, унаследовавший от царей знаки власти и полномочия, хотя каждый консул обладал и тем и другим лишь в течение одного месяца. Пока все органы государственного управления действуют согласованно — а для этого необходимо влияние людей, способных внимать голосу разума или хотя бы воспринимать чужое мнение, община живет естественно я спокойно, и каждый гражданин занимает место по заслугам, то есть уверен в своем достоинстве. Так осуществлялся принцип, который Цицерон сформулировал в речи «В защиту Сестия» и осуществление которого считал залогом счастья государства — otium cum dignitate, покой в сочетании с достоинством.
Такой характер римского политического менталитета подтверждается всем, что нам известно о мышлении и эмоциональных склонностях людей того времени. Сохранение dignitas было главным предметом забот Цезаря и Помпея; яростная, осложненная бесчисленными беззакониями борьба за магистратуры, начиная от триумвирата и кончая интригами и сделками Антония, Пизона, Габиния, Аппия Клавдия, имела одну цель — материальное обеспечение otium. В принципе, к тому же стремились и ветераны — ценой походов хотели они обеспечить себе земельные наделы как залог мирной и спокойной жизни. Весь Рим, в сущности, мечтал о мире, и мечта эта родилась не только как реакция на ужасы гражданской войны, она росла из постоянной привязанности народа к сельской жизни. Цицерон с детства воспринял этот строй мыслей и чувств и всю жизнь работал над тем, чтобы претворить идеал мирной жизни в действительность. Мы видели, что любовь к миру и отвращение к насилию как средству управления определили с самого начала его позицию, характер его общественной деятельности. Формула concordia ordinum, из которой он всегда старался исходить, означала для него согласие стремлений и деятельности всех групп, занимавших определенное место и игравших определенную роль в социально-политической структуре республики. Формула эта была для Цицерона не простым словосочетанием, но и не исчерпывалась своим эмоциональным содержанием, она означала установление равновесия между силами, которые все вместе могли обеспечить нормальный ход общественного развития.
Цицерону казалось, что идеал его был близок к осуществлению в конце предшествующего столетия, и именно поэтому, сначала интуитивно, а затем по зрелом размышлении. он отнес время действия диалога «О государстве» к 129 году до н. э., незадолго до внезапной смерти Сципиона Эмнлиана, когда Гракхи своими дерзновенными законами нарушили мирную жизнь общины. Некоторое время Цицерон колебался, не отвести ли в диалоге место более поздним событиям, чтобы не замыкаться в эпохе столь отдаленной и уже как бы ставшей мифом. Не лучше ли вывести в диалоге себя самого или, может быть, брата Квинта? В конце концов автор выбрал нечто среднее: Рутилий Руф — подлинный участник диалога, составляющего содержание трактата, жил в изгнании в Смирне и там беседовал с Цицероном; автор пересказывает этот разговор. Книга снабжена предисловием, где Цицерон говорит о политических событиях, которых был участником, и пытается определить свое особое место в развитии римского государства и античной философии. Цицерон вводит в книгу чисто римскую ноту: ни один философ из рассуждавших до него о политике никогда не занимался ею практически, ни разу в жизни не отправлял магистратуры. Так обстояло дело с платониками и эпикурейцами, даже со стоиками — кое-кто из них, правда, бывал советником при правителе. В то же время подлинные государственные деятели, как ни были они славны своими делами, не умели теоретически осмыслить и описать свой опыт. Цицерон — первый, кто может писать, исходя не из теоретических предпосылок, а из живой политической реальности. Отсюда — важная особенность диалога Цицерона, его отличие от одноименного сочинения Платона: он не пытается сконструировать некоторую новую систему, какой была идеальная гражданская община Платона; он описывает «Ромулов град» и прослеживает его историческое развитие.
Исторический характер рассуждений Цицерона — примечательная черта книги, придающая ей специфически римский облик. В начале II книги Сципион Эмилиан передает слова Катона (по всей вероятности, подлинные, фигурировавшие в его «Началах») о том, что политическое устройство греческих городов, как правило, создавалось одним человеком — Миносом на Крите, Ликургом в Спарте, Тесеем, Драконом, Солоном в Афинах. Ничего подобного не было в Риме. «Наше государство создано умом не одного, а многих людей и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков, на протяжении жизни нескольких поколений». Ум одного человека не в состоянии ни охватить все многообразие дел, положений и обстоятельств в государстве, ни предвидеть все, что может в нем возникнуть с течением времени. Поэтому Сципион старается показать, как родилось римское государство, как оно менялось от века к веку и как на каждом из этапов находился великий законодатель, который обеспечивал процветание и дальнейшее его развитие. Рим образовался и длится вот уже столько веков, благодаря многочисленным сменявшим один другого мужам, мудрым и как бы даже божественным. Первым был Ромул, он основал город в таком месте, которое особенно подходило для столицы будущей великой империи — довольно далеко от моря, что спасало от набегов морских разбойников, но и достаточно близко к морским путям, по которым все страны мира могли доставлять Риму свои товары. Затем цари, сменяя один другого, создали учреждения, необходимые каждому государству. Прежде всего возник сенат — опора царской власти, потом — коллегии жрецов, в частности, тех, что владели искусством прорицания по полету птиц, искусством, начало которому положил сам Ромул. Можно понять, почему Цицерон придает такое значение этим прорицаниям,— проблема ауспиций вставала в связи с консулатом Цезаря, об ауспициях упоминали законы Клодия, в более поздние годы их использовали трибуны, пытаясь парализовать политическую жизнь республики.
Цицерон не скрывает, что Ромул смог основать Рим лишь благодаря военному превосходству племени, которое сумел собрать. Однако наибольшее внимание он уделяет правлению Нумы, с которым в сознании римлян связывался идеал мира, тишины и спокойствия, столь желанный в середине I века до н. э. В мирной простой сельской жизни сформировались и нравственные ценности, прежде всего — право, основанное на справедливости и fides, «надежной вере». В души римлян, ожесточившиеся в непрерывных войнах, которые вел Ромул, Пума сумел вернуть мягкость и человечность — это особое сочетание чувствительности, доброты и ума. Нума правил тридцать девять лет, он заложил два краеугольных камня, на которых зиждилось потом римское государство — почтение к богам (religio) и милосердие (dementia).
Итак, мы видим, что рождение и первоначальный рост римского государства Цицерон связывает не с захватом богатств, не с покорением новых земель, а прежде всего с обретением духовных ценностей. Цицерон представлял себе дело так: каждый из великих законодателей открывал перед умственным взором римлян образ нового государства. Образ этот изначально заложен в них самих, ибо вытекает из человеческой природы, но сами римляне его в себе не ощущали. Лишь благодаря мудрости великих мужей, способных одновременно руководить жизнью общины и размышлять о задатках, присущих каждому живому существу, возникает образ государства. При этом мудрые мужи не заимствовали свои взгляды. Неверно полагать, будто Нума был учеником Пифагора; Сципион исправляет эту распространенную ошибку, основанную на неправильной хронологии. На самом деле духовное развитие Рима обусловлено врожденными свойствами римского народа.
Мысль о том, что римляне занимают особое место в структуре мироздания и призваны стать хозяевами вселенной, не принадлежит Цицерону. Она родилась сама собой в результате непрестанных побед, которыми отмечен в истории Рима II век до н. э. Римские легионы, а в еще большей мере — сенатские комиссии установили в покоренных странах порядок и спокойствие, которых те не знали с давних пор. Казалось, призвание Рима в том и состояло, чтобы устранять причины распрей, пресекать кровопролития, положить конец переселениям целых народов, короче — распространять на все новые и новые земли основанную на праве справедливость, которую Рим считал достоянием собственных граждан. Впервые об этом сказал Полибий около 150 года. Победы римского оружия — лишь воздаяние за гражданскую доблесть. Цицерон прибавляет, что победы порождены также деятельностью людей, которые из поколения в поколение возглавляли общину; эти люди играли в политической жизни города ту роль, которую в духовной жизни играет разум. Цицерон развивает здесь мысли Платона, однако без той жесткой прямолинейности, которая присуща Платону в диалоге «О государстве». Великие мужи Рима воздействуют на граждан прежде всего личным примером, обращаются к их чувству чести; они не пытаются основать общественный порядок на страхе. Такое оптимистическое представление об общественном развитии Цицерон заимствовал у греческих философов, но Цицерон подтверждает его еще и религиозными соображениями. Душа человеческая, говорит он, имеет небесное, божественное происхождение. Она несет в себе искру огня, который должно поддерживать с помощью самоусовершенствования и который один может дать духовным силам победу над силами противоположными — эгоизмом, страстями, жаждой наслаждений. Поддерживать в себе этот огонь человек может двумя путями — либо путем занятий и размышлений, либо соединяя теоретическое знание с практическим участием в политической жизни. Действующие лица диалога, «обогатившие нашу римскую, от предков идущую традицию чужеземными учениями, созданными Сократом», воплощают как бы единение этих путей — в прошлом к такому единению стремились Сципион и его друзья, ныне к нему же стремится Цицерон и в этом произведении, и во всем своем творчестве.
Движущее начало всякой деятельности Цицерон полагает в стремлении к славе. Слава может быть различной, и та, к которой стремится государственный деятель, будет несравненно больше и шире, чем та, что доступна одинокому мыслителю или главе кружка. Развивая подобные мысли, Цицерон, естественно, имеет в виду славу, выпавшую на долю ему самому, когда он сорвал замыслы Катилины и спас Рим; он говорит об этом прямо в предисловии к диалогу. Не менее прекрасна и другая слава, та, например, которой отмечены Помпей или Цезарь, при том условии, однако, что баловни ее не станут подчинять своим собственным интересам всю республику — res publica, «достояние народа». Вождям государства Цицерон отводит роль модераторов общины, а не ее владык. Отсюда следует, что вождей в каждом поколении может и должно быть несколько, но ни в коем случае не один. Именно поэтому Сципион изображен в окружении друзей, мудрых, справедливых, проницательных и твердых, так что в свете этих размышлений Цицерона становится понятнее смысл письма, которое он послал Помпею при завершении победоносной кампании на Востоке и в котором сравнивал победителя со Сципионом, а себя с Лелием. Было ли то тщеславие, как уверяли недруги консулярия? Или выражение вполне твердой уверенности в том, что победа над Катилиной могла и должна положить начало новой политической системе, совсем иной, чем прежняя, приведшая Рим к гражданской войне? Характерный для Цицерона этих лет строй мыслей и представлений, который мы выше пытались реконструировать, находит себе выражение и подтверждение в изображенных в диалоге идеальных отношениях в государстве — такими мог их мыслить лишь прилежный читатель Платона и Аристотеля, ученик ctopikob, и в то же время оратор, чтимый сенатом и форумом.
Диалог завершается несколько мистическим рассказом о сне, что приснился Сципиону Эмилиану в молодости во время первой Африканской кампании. Сон Сципиона играет в диалоге «О государстве» ту же роль, что в «Государстве» Платона сон Эра, сына Армения, и не случайно он так славился на протяжении всего средневековья, когда весь остальной текст диалога был утрачен. Причина очевидна: «Сон Сципиона» окутан мистическим колоритом, близким христианскому мироощущению, в то время как пять книг, составляющих основное содержание диалога, говорили христианской душе несравненно меньше.
В этом месте нашего рассказа следует, по-видимому, напомнить вкратце историю открытия диалога Цицерона. Существует одна-единственная сильно поврежденная рукопись, которая содержала, как было ясно всем на протяжении долгих веков, текст произведения Блаженного Августина — «Комментарий» к ветхозаветным псалмам 119—140. Для «Комментария» Августина писец начала VIII века использовал листы старого пергаменного кодекса, которые предварительно выскоблил и промыл. На этих-то листах и был переписан еще в IV веке диалог Цицерона «О государстве». Кардинал Анджело Май, ведавший начиная с 1819 года библиотекой Ватикана, исследуя страницы кодекса, обнаружил под позднейшими текстами утраченный диалог Цицерона и сумел расшифровать довольно длинные его фрагменты; не приходится удивляться, что многие параграфы диалога расшифровать не удалось. Вот какими обстоятельствами объясняется современное состояние диалога. Не хватает целых страниц, многие места не прочитываются, порядок отдельных частей текста не всегда ясен. На протяжении долгих лет, однако, многочисленные издатели, используя главным образом цитаты, введенные в сочинения Блаженного Августина, который многократно читал и перечитывал диалог «О государстве», сумели обнаружить основные элементы текста, восстановить смысл остальных и самое важное — проследить развитие мысли Цицерона.
Мы уже не раз высказывали предположение, что Цицерон и в жизненном поведении, и в теории государства немалое значение придавал религии: предсказания, описанные в «Марии» и в поэме «О своем консульстве», равно как те, что услышал он в декабрьские ноны от дев-весталок, размышления о роли ауспиций и о религиозных установлениях, приписываемых царю Нуме в диалоге «О государстве», — все это, на взгляд Цицерона, бесспорно свидетельствует о присутствии в мире божественного начала. Сон, что приснился ему в Атине при отъезде в изгнание, оказался пророческим и укрепил его духовно. Сон Сципиона, который Цицерон объясняет впечатлениями, оставшимися у полководца с той поры, когда он еще юным трибуном посещал царя Массинису, есть одновременно и естественное проявление человеческой натуры, и божественное откровение. По этому поводу древние комментаторы воздавали должное Цицерону, так как он в отличие от Платона избежал в своем рассказе явно невероятных вещей — перед нами не воскресший мертвец, а человек с разгоряченным воображением, видящий сон. Но не случайно главная роль в сне молодого человека отведена его «деду» — вернее, старшему Сципиону, который усыновил в свое время его отца и который обладал даром прорицания. Вообще сны в глазах римлян имели пророческий смысл, и никто, кроме эпикурейцев, в этом не сомневался. Сны — часть разлитой в мире таинственной субстанции, и объяснить их можно, лишь исходя из бессмертия души, как делали философы-академики, а до нпх пифагорейцы. Когда человек, подлинно значительный, сумевший сохранить в себе частицу изначально вложенного божественного огня, умирает, душа его устремляется в небесные выси, к богам и приобщается божественного провидения и божественного всезнания.
Исповедовал Цицерон эти верования или перед нами всего лишь литературный прием? Отвечая на подобный вопрос, важно помнить, что несколькими годами позже Цицерон собирался воздвигнуть святилище душе своей дочери Туллии как некоему божеству. Рассуждения «за» и «против», столь частые в его трактатах — например, в диалогах «О природе богов» или «О предвидении», теряют всякую доказательную силу перед лицом столь прочувствованного личного поступка. Нет никаких сомнений, что Цицерон искренне убежден в бессмертии души. Он не сомневается также, что в определенный момент разум человека найдет поддержку со стороны непознаваемых сил или, напротив того, увидит свои заблуждения перед лицом тех же непознаваемых непредсказуемых сил, зависящих лишь от божественного Всеведения, которое создает и хранит строй, царящий в мире. Души подобны небесным телам: как и они, живут собственной жизнью, как и они, находятся в вечном движении, и потому никогда не было у них начала и никогда не будет конца. Души, стойкие в доблести, преданные отечеству, освободившись от тела, устремляются в небеса, но дух тех, кто предавался чувственным наслаждениям, предоставил себя в их распоряжение как бы в качестве слуги и, по побуждению страстей, повинующихся наслаждению, оскорбил права богов и людей, носится, выйдя из их тел, вокруг самой Земли и возвращается в это место только после блужданий в течение многих веков».
Этими словами завершается текст диалога, сохранившийся до наших дней.
Таковы были мысли, которые занимали Цицерона и к которым он возвращался в те дни, когда в уединении, свободный от дел, размышлял о государстве, о судьбах людей, о божественном начале в мире. Именно тогда, в феврале 54 года, в письме Квинту он выносит суждение о поэме Лукреция, столь же знаменитое, сколь загадочное: «Стихи Лукреция и в самом деле таковы, как ты о них судишь — много подлинного таланта, но и много искусства». Афоризм этот современные исследователи толковали в самых разных смыслах, усматривая в нем то похвалу поэту, то «крайнюю сдержанность». Толкование осложняется еще и тем, что, как сказано в одной древней биографии Лукреция, Цицерон был издателем его поэмы. Между тем приведенная фраза из письма Квинту — единственное упоминание Лукреция во всем корпусе сочинений Цицерона, сохранившихся до наших дней. Значит ли это, что Цицерон относился с осуждением к эпикуреизму, который проповедует в поэме Лукреций? Учение эпикурейцев Цицерон излагает весьма подробно в обоих названных выше диалогах, но, видимо, считает, что теоретическое изложение отличается от поэтического воссоздания, ибо в поэзии всегда есть элемент искусства и игры. В рассуждениях Лукреция о смертности души с точки зрения философской действительно нет ничего, заслуживающего внимания, но с точки зрения искусства главное в них — поэтическая форма, те «искры гения», которыми они блещут. То же можно сказать и об очерке истории политических устройств в пятой книге поэмы; особое внимание, уделяемое там зависти и честолюбию, как главным движущим силам революционных переходов от монархии к аристократии, от нее к демократии, а от последней — к тирании, — все это, может быть, привлекло Цицерона поэтическими красотами изложения, но уж никак не могло заинтересовать его по существу, ибо строилось на положениях давно известных, в частности, тех, что были воспроизведены в книге Полибия. В поэме «О природе вещей» многое связано с темами, занимавшими Цицерона в ходе работы над диалогом «О государстве», но вряд ли пришлось ему почерпнуть здесь что-либо для себя новое. По политическому опыту Лукреций никак не сравним с консулярием, спасшим Рим от Катилины. Он был всего лишь человеком из окружения Гая Меммия, чья бездарность и нерешительность в острой ситуации 54—53 годов нам уже известны; с общественной и политической жизнью Рима Лукреций был знаком лишь понаслышке, и Цицерону, конечно, нечему было у него учиться. Неудивительно поэтому, что когда в 51 году Цицерон пишет живущему в Афинах Меммию, прося его отказаться от мысли строить себе дом на месте садов Эпикура, он обращается с этой просьбой от имени их общего друга эпикурейца Аттика и ни словом не упоминает Лукреция. Содержащаяся в письме просьба «уважать предрассудки» последователей Эпикура показывает, что, не разделяя взглядов философов этого направления, Цицерон относился к ним с полной терпимостью. Он отнюдь не видел в них злоумышленников, чьи труды должны быть осуждены, а память предана забвению. Сам он все больше склоняется к стоицизму, или, по крайней мере, к тем элементам учения Платона, которые вошли в труды Зенона, Хрисиппа и других стоиков. В «Сне Сципиона» легко обнаружить влияние стоического учения Панеция, также не верившего, что мир обречен погибнуть во всеобщем пожаре. Что бы ни говорили современные критики, мысль Цицерона не развивается в категориях отдельных философских школ и направлений; она питается собственными раздумьями автора, знакомого, разумеется, со всем наследием философской мысли, но создающего учение связное, самостоятельное, постоянно опирающееся на общественную практику и поверяемое ею.
Стремление Цицерона всегда сопоставлять теоретические воззрения с общественной реальностью особенно ярко выразилось в диалоге «О законах», в его замысле и осуществлении: раз законы управляют государствами и задача состоит в сохранении и продлении государства, необходимо установить, какие законы хороши, ибо соответствуют общему строю Вселенной. В свое время Платон написал «Законы», дабы подтвердить историческими примерами теоретические выкладки предыдущего своего труда «Государство». Цицерон, вполне очевидно, ориентировался на этот образец. Диалог «О законах» бесспорно написан после «О государстве» и до наместничества в Киликии, то есть в 52 или в 51 году, а, значит, не только после диалога «О государстве», но и сразу вслед за ним. Трактат «О законах» завершает период духовной биографии Цицерона, который начинается с возвращения из изгнания и кончается гражданской войной.
Законов в Риме было очень много, они без конца менялись, а подчас и противоречили один другому. После восстановления коллегии трибунов новые законы принимались чуть ли не каждый год, а кроме того, еще другие утверждались по предложению консулов, некоторые — на основе сенатских постановлений. Вместе они образовывали пеструю массу, в которой ориентировались только специалисты-правоведы. Цицерон ознакомился с состоянием римского законодательства, еще когда появлялся на форуме в свите Сцеволы — во времена, о которых он вспоминает в трактате «О законах». В отличие от диалога «О государстве» в этом сочинении действуют современники Цицерона — Квинт и Аттик, а также и сам оратор. Разговор, воспроизведенный в книге, происходил, таким образом, совсем недавно; он, однако, не случайно не датирован, как и диалог, лежащий в основе трактата «О государстве»: и тот, и другой отражали историческую ситуацию не столько конкретную и неповторимую, сколько типологическую; в одном действие происходит в 129 году, накануне грандиозного политического кризиса, вызванного движением Гракхов, в другом — на пороге гражданских войн. Анализ римской системы магистратур, содержащийся в книге III сочинения «О законах», обнажает пороки, ей присущие, в первую очередь речь идет об опасностях, сопряженных с народным трибунатом. О них говорит Квинт, и, как ни убедительно возражает ему Марк, угроза государству, которой чревата эта магистратура, выступает совершенно ясно. Примечательное совпадение: одним из поводов гражданской войны вскоре явилось изгнание из Рима двух народных трибунов, приверженцев Цезаря, которые и присоединились к нему в Равенне. В государстве, о котором мечтает Цицерон, подобные эпизоды не могли бы произойти. В скопище законов необходимо внести порядок. По окончании гражданских войн этим и занялся император Август.
Уже в диалоге «Об ораторе» Цицерон устами Красса высказывал пожелание создать единый свод, собрать в нем отдельные положения римского права и классифицировать, как советовал Аристотель, по родам и видам. Красс уверяет, что тогда римское гражданское право сделается своего рода произведением искусства, так что правилам этого искусства можно будет обучать, как обучают геометрии или риторике. Но с чего же тут начать? Как внести разумный порядок в скопление законов^ норм и правил, не созданных сразу каким-то одним законодателем, а выраставших исподволь в течение веков из повседневной практики? Римские законы, как и государственное устройство республики, похожи на дерево, которое растет само по себе, не подчиняясь никаким правилам. Значит, и создавать систему законов следует, исходя из их «природы». Вот в чем основная мысль трактата.
Слово «закон», начинает Цицерон, неоднозначно. Есть два рода законов: вселенский Закон — «был разумом, происшедшим из природы, побуждающим к честным делам и отвращающим от преступления, разумом, который начинает быть законом не только тогда, когда он уже записан, но и тогда, когда он возник»; и есть законы писаные, которые выражают волю законодателя в виде определенных распоряжений или запрещений. Законы этих двух видов никогда не смешиваются. Закон в первом из указанных смыслов присущ «природе», то есть естественному ходу и положению вещей, и потому «есть прямой разум всевышнего Юпитера»; он подобен закону, что управляет движением небесных тел — и тот и другой рождены Провидением. Людской закон может отражать волю Провидения, потому что вселенский Разум живет не только в божественных предначертаниях, но и в разумной деятельности человека. Законодатель поэтому в состоянии следовать божественному закону, вводить законы столь же всеобъемлющие, столь же справедливые и равно распространяющиеся на всех, кого они касаются.
Из этого рассуждения вытекает весьма существенный вывод, на котором Цицерон особенно настаивает: если Закон одноприроден с Разумом, а последний присущ людям, как и богам, значит, боги и люди едины в своем подчинении общему Закону, то есть едины единством права. Мысль Цицерона можно сформулировать и по-другому: мир — единая община, достояние равно людей и богов.
Такова главная мысль, лежащая в основе всего диалога. Цицерон развивает ее в полном соответствии с правилами диалектики, которую усвоил еще в молодости, когда слушал Диодота, великого диалектика и геометра. Влияние учителя сказывается и в том, что образ Вселенского Града или Града Мудрых, которым завершается весь ход мысли, — образ в высшей степени стоический. Любое государство, любая община, таким образом, если законы, ими управляющие, соответствуют разуму, приобретают некую вселенскую миссию. Так оправдываются римские завоевания, ибо законы Рима, будучи распространены на весь остальной мир, приведут к торжеству в нем права и справедливости. Идея эта уже встречалась нам в трактате «О государстве», где она, впрочем, скорее высказана, чем доказана. В трактате «О законах» содержится доказательство, хотя и основанное на априорных предпосылках. Цицерон отводит «софизм» Карнеада, который в 155 году убеждал римлян, что завоевания их «неправые», и по-своему обосновывает римскую экспансию, толкуя ее не как акт военного насилия, а в духе стоической философии как расширение границ права, основанного на Разуме.
Связь политической мысли Цицерона с религией видна в этом трактате еще более отчетливо, нежели в предыдущем. Единство людей и богов дает, по мнению Цицерона, возможность основать государство на установлениях, которые не только ведут к процветанию и благополучию граждан, но я обеспечивают вечную жизнь самого государства; она естественно следует из совершенства законов, согласных с «природой».
Уже в диалоге «О государстве» говорилось, что «государство должно быть устроено так, чтобы существовать вечно. Государство не знает смерти, той естественной, которую знает отдельный человек, чья смерть не только неизбежна, но подчас и желанна». Сравнительно со своими предшественниками, размышлявшими о судьбах государств, Цицерон вводит существенно новый оттенок мысли. Политики и философы ограничивались ранее признанием того, что государства втянуты в вечный и роковой цикл рождений и разрушений и потому неизбежно смертны; Цицерон же полагает, что государства умирают лишь тогда, когда управляются дурными законами, и отнюдь не считает их гибель неизбежной. Поэтому лучшими законодателями будут те «вдохновенные» государственные мужи, что совмещают силу теоретической мысли с опытом и мудростью политической практики, мужи, прославленные Цицероном в диалоге «О государстве», чьи души находятся в гармонии с мировой душой, а ум есть отсвет Вселенского Разума.
Цицерон замечает, что законами подчас называют частные предписания, возникшие в связи с временной ситуацией и не связанные со всей совокупностью правовых норм. Такие законы, на его взгляд, не заслуживают этого имени, поскольку не входят в систему вечных начал права и не связаны между собой. Тем самым они дурны и втягивают государство в роковое движение к катастрофе. Именно таковы законы республики Рима в предсмертные ее годы, которые только расшатывают традиционное устройство государства, созданное на протяжении веков «добрыми» законодателями. Если Рим выжил, если сумел вырасти, укрепиться, распространить свою власть на весь известный мир, то лишь благодаря неуклонному воздействию духовного наследия законодателей, которые, конечно, учитывали всякий рае конкретное положение, но рассматривали его в свете вечных принципов Справедливости и Права и, стремясь к сегодняшней пользе, постоянно видели и самое отдаленное будущее. Так соединились две ветви исторического развития, вместе приведшие к возникновению империи: естественное становление, независимое от человеческой воли, и разумная планомерная деятельность людей, способная все же направлять развитие в русло, наиболее благоприятное для государства. Так кормчий корабля, уступая силе ветра и волн, в то же время искусным маневром приводит благополучно корабль в гавань. В годы раздумий над проблемами политической философии сравнение это возникало в уме Цицерона неоднократно. Он и сам никогда не упорствовал в тщетной борьбе с неизбежным; и после Лукки уступил силе ветра и волн, надеясь, что настанет день, когда он снова встанет у кормила и по затихшему морю счастливо поведет корабль при благоприятном расположении светил на небесах.
Философские размышления над судьбами государств давали, как видим, силы надеяться или хотя бы не отчаиваться. В душе Цицерона живет вера в вечность Рима, скорее религиозная, чем логически обоснованная. Боги, говорит он во II книге «О законах», всецело господствуют над жизнью, гражданам остается лишь проникнуться этой истиной, их первый долг — подчиняться божественному закону. Соответственно II книга целиком посвящена религиозным установлениям во всем их многообразии. Речь идет здесь о религии, тесно связанной и с политикой, и с философией; полезная для государства и в то же время покоящаяся на основах Разума, она, однако, не могла бы существовать, если бы не уходила корнями в исконные верования народа. Нет никаких причин видеть в Цицероне «ловкого иезуита» (как отзывался Стендаль об этрусках), лицемера, который сам ни во что не верит, но использует страх перед богами, чтобы принуждать людей покоряться. Мы не раз видели, что религиозные убеждения, которые он сам для себя выработал, пронизывают все его существо, образуя неповторимую смесь искреннего благочестия, философской метафизики и практических соображений, учитывающих воздействие на народ всевозможных обрядов, культа предков, жреческих постановлений, ритуальных игр и зрелищ. К великому удовлетворению собеседников, Квинта и Аттика, в конце II книги Цицерон приходит к признанию роли фундаментальных законов римской религиозной жизни, растущих из народной традиции и в то же время оправданных разумом.
В III книге рассматриваются частные законы и правила отправления магистратур. На этом сохранившийся текст трактата обрывается. Не исключено, что, подобно диалогу «О государстве», он тоже состоял из шести книг. Макробий цитирует пятую книгу, о дальнейших остается только гадать. Цицерон отдает себе отчет, сколь многим обязан он в этом своем сочинении Платону. Но считает, что следует своему образцу скорее в стиле, чем в существе мысли. Самооценка эта, надо сказать, полностью оправдана. Законы, о которых идет речь в диалоге, — истинно римские. Философское их обоснование не восходит прямо и исключительно к Платону; оно в большой мере подсказано учениями стоиков и в первую очередь Панеция, который разрабатывал свою систему под непосредственным воздействием римлян. Мысль выступает здесь в живом развитии, выскальзывает из рамок философских школ, тяготеет к практике, господствует над ней и ее обогащает. Впредь политики не смогут руководствоваться одними лишь прагматическими соображениями и всегда будут вынуждены учитывать духовную сторону дела. До Цицерона республиканская идеология существовала лишь в подсознании народа, Цицерон дал ей самосознание, создав если не «идеологию принципата», то, во всяком случае, ее идеализованный вариант.
В 53 году сенат принял постановление, которым рекомендовал доверять промагистрату управление провинцией не менее чем через пять лет по отправлении магистратуры. Цель- сенатусконсульта состояла в том, чтобы утихомирить страсти; сенаторы рвались к претуре и к консульству; они стремились стать на несколько месяцев полновластными хозяевами провинции и выкачать из нее возможно больше денег; предполагалось, что отсрочка на пять лет умерит пыл претендентов. В 52 году по предложению Помпея этот сенатусконсульт стал законом, и то, что прежде было лишь рекомендацией, превратилось в обязательное правило. В результате в первые пять лет после принятия закона обнаружилась нехватка наместников. В провинции пришлось посылать, подчас против их воли, бывших магистратов, которые доселе еще провинциями не управляли. Цицерон как раз принадлежал к их числу. Уже в марте 51 года он получил распоряжение отправиться в Киликию в качестве наместника.
Киликия, примыкающая с севера к границам Сирии, расположена по южному побережью Малой Азии напротив Кипра и почти целиком покрыта горами. Когда Помпей после победоносного завершения Митридатовой войны устраивал эти земли, он превратил Киликию в провинцию, включив в нее длинную полосу земель, отрезанных от провинции Азия, вобравшую в себя Ликию, Памфилию, Писидию, Ликаоншо, часть Фригии, а также, в результате миссии Катона, остров Кипр. То была трудная провинция, лишенная единства, населенная народами, резко отличавшимися друг от друга, подчас даже еще не обретшими оседлости. Положение осложнялось тем, что после разгрома римлян под Каррами можно было ожидать вторжения парфян не только в Сирию, но и в Киликию. Цицерон подчинился полученному распоряжению без всякого энтузиазма.
Назначение состоялось в марте, и он медленно тронулся в путь в конце апреля. Друзьям, оставшимся в Риме, поручил следить, чтобы наместничество его ни в коем случае не продлили и чтобы в следующий год не был включен дополнительный месяц, который задержал бы прибытие в Киликию наместника ему на смену.
Маршрут Цицерона удается проследить во всех деталях, потому что в пути он писал множество писем, главным образом Аттику, но также и другим, в частности, своему предшественнику в Киликии, консулу 54 года Аппию Клавдию Пульхру, который, по всему судя, отнюдь не был в восторге от того, что именно Цицерон едет его сменить. Несмотря на недавнее примирение, столкновения их, спровоцированные некогда Клодием, не были по-настоящему забыты, да к тому же в глазах родовитого аристократа Цицерон был всего лишь выскочкой. Холодность Аппия Клавдия объяснялась и другими причинами, в которых нам вскоре предстоит разобраться.
В начале пути Цицерона, как требовал обычай, окружала большая свита. Из нее мы знаем двоих — Аттика и Авла Торквата, друга Помпея, оказавшего Цицерону помощь в пору изгнания. Торкват собирался проводить наместника до Минтурн и остаться в своем поместье в окрестностях города. Аттик доехал только до Тускула и вернулся в Рим. Следующую остановку Цицерон сделал в Арпине, где встретился с братом. На следующий день ка вилле Квинта состоялся семейный обед, где Цицерон оказался свидетелем домашней ссоры между Квинтом и Помпонией. Подготовку праздничного обеда Квинт поручил не жене, а одному из отпущенников; когда муж попросил Помпонию председательствовать за столом, она в гневе отвечала, что чувствует себя не хозяйкой, а гостьей в собственном доме. Квинт только вздохнул, сказавши: «И вот что мне приходится сносить чуть ли не каждый день!» Помпония покинула пиршественный зал, а блюда, которые ей отнесли, отослала обратно. Короче, вела она себя совершенно невыносимо, а вечером отказалась прийти к Квинту в супружескую спальню. В письмах Цицерон опять предсказывает, что из этого брака вряд ли что-нибудь получится; продлился он, однако, дольше, чем его собственный. Цицерон искренне любил Аттика, брата Помпонии, и такого рода сцены заставляли его страдать, тем более что он, как старший, считался главой семьи. Поддержание семейного мира входило в его обязанности, и все происшествие он рассказывает в письме столь подробно для того, чтобы убедить Аттика прочесть сестре соответствующую нотацию.
В его собственной семье тоже далеко не все шло гладко. Брак Туллии с Крассипом оказался недолговечным. Толком неизвестно, ни когда брак был прерван, ни по какой причине. Бесспорно лишь, что во время путешествия 51 года Цицерон подыскивает дочери нового мужа. С Крассипом он сохранил, несмотря на развод дочери, самые дружеские отношения и третьего зятя искал тоже среди своих политических союзников. Это вполне соответствовало обычаю, и лишь в одном Цицерон отклонялся от общепринятого — он хотел найти мужа, который нравился бы и самой Туллии. Он остановился на нескольких кандидатах. Один из них — Сервий Сульпиций Руф, сын консула 51 года. Отец был человек умеренный, придерживался политики примирения, что, видимо, и вызвало у Цицерона желание породниться. Склонить Руфа к браку с Туллией он рассчитывал с помощью Сервилии, матери Брута, состоявшей в великой дружбе с Цезарем. Быть может, таким косвенным путем Цицерон хотел добиться одобрения нового брака дочери со стороны Цезаря? При всем том, однако, он твердо намеревался учитывать в первую очередь желание дочери. Утверждения, будто Цицерон распоряжался судьбой и чувствами Туллии точно так же, как впоследствии Август распоряжался судьбой и чувствами своей дочери, лишены, на наш взгляд, всякого основания. Пока ничего еще не решено, и Цицерон едет в Киликию, горько сетуя, что Туллия без него выберет себе третьего мужа.
Следующая часть пути оканчивалась к Аквине, на левом берегу Лириса, на полдороге в Минтурны, куда Цицерон прибыл 5 мая. Там Авл Торкват с ним распрощался. Отсюда Цицерон пишет Аттику и просит возможно скорее вернуть за него долг Оппию, то есть Цезарю, Если надо, пусть Аттик даже займет у кого-нибудь нужную сумму, лишь бы быстрее разделаться с этим долгом. Положение проконсула Галлии явно пошатнулось. В те дни, когда Цицерон выезжал из Рима, консул Клавдий Марцелл выступил в сенате с предложением назначить преемника Цезарю на следующий год. Второй консул, Сульпиций, не поддержал предложение коллеги, а трибуны наложили на него вето. Однако вопрос был поставлен, и Цицерон задумывался над тем, чем может кончиться дело. Ситуация в Риме очень его беспокоила, в особенности опасался он оказаться вдали ст столицы, когда разыграются события, обещающие принять самый драматический оборот — что вскоре и произошло.
Из Минтурн Цицерон отправился на свою виллу в Формии, а оттуда в Кумы, куда съехались многие римские вельможи, проводившие майские дни на виллах на побережье. Посетил Цицерона и Гортензий, уже больной, но настоявший на свидании с другом, с которым вместе участвовал в столь многих судебных процессах. Встреча оказалась последней.
Из Кум Цицерон переехал на свою виллу в Помпеях, а оттуда отправился в Беневент, ненадолго задержавшись на вилле своего друга Понтия, которая скорее всего находилась на полпути между Помпеями и Беневентом. Где бы оратор ни останавливался, его ждали письма от Аттика, ответами на которые мы располагаем; именно благодаря этим ответам мы и узнаем, какие размышления и заботы владели Цицероном по дороге в Киликию. После Беневента была Венузия на Аппиевой дороге и наконец Тарент, куда он прибыл 18 мая. Здесь Цицерон встретился с Помпеем, который проявил самую изысканную любезность. Они провели вместе три дня, и на этот раз Помпей был необычайно разговорчив. Он сказал Цицерону много такого, что тот не решился повторить даже в письмах к Аттику. Вот в высшей степени показательная фраза из письма Цицерона: «Уезжая, я расстался с образцовым гражданином, который твердо решил устранить то, что вызывает опасения столь многих». Речь, вполне очевидно, идет об открытом конфликте сената с Цезарем. В мае 51 года Помпей еще стремится к миру, и Цицерон, конечно, его в этом поддерживает.
После Тарента — Брундизий, где Цицерону предстояло сесть на корабль. Здесь, однако, возникла новая задержка. В качестве легата с Цицероном должен был ехать Гай Помптин, некогда союзник его в подавлении заговора Катилины, опытный военачальник, которому Цицерон, как мы помним, несколькими месяцами ранее помог получить триумф. Помптин согласился быть легатом Цицерона, но теперь задержался в Риме, и Цицерон решил подождать его в Брундизии. Ожидание оказалось тщетным, Помптин не явился, и в конце концов пришлось уехать без него.
Задержка в Брундизии дала Цицерону возможность встретиться со случайно находившимся в городе легатом Аппия Клавдия и тем самым впервые познакомиться с положением дел в Киликии. Через легата Аппий извещал Цицерона, что войска, находящиеся в провинции, слишком малочисленны, чтобы обеспечить ее безопасность. Новость настораживала, поскольку Цицерон знал о письме Аппия Клавдия сенату, где говорилось, что он значительно сократил находившиеся в провинции войска. Легат, ожидавший в Брундизии, уверил, что это недоразумение, что проконсул действительно собирался провести сокращение, но, насколько ему, легату, известно, так и не осуществил свое намерение. Где тут правда и где ложь? Цицерон пишет Аппию Клавдию письмо не столько с целью узнать, что произошло в действительности, сколько с просьбой не создавать ему новых трудностей — вполне достаточно и тех, что уже есть. Если Аппий согласится выполнить его просьбу, Цицерон обязуется утвердить все меры, принятые предшественником. Тон переписки между уходящим проконсулом и сменяющим его весьма дружеский и любезный, скрывающий, однако, немало намеков и подвохов. Аппий пишет, что задерживается в провинции, желая повидать Цицерона. На самом деле он явно избегает встречи, и там же, в Брундизии, Цицерон узнает от некоего Фаниата, отпущенника Аппия Клавдия, что проконсул намерен отплыть из Сиды, и именно там Цицерон мог бы с ним встретиться. Однако на Коркире — новое известие: praefectus fabrum Клавдия Луций Клодий передает, что встречу лучше бы устроить в Лаодикее. Цицерон прибывает в Траллы, там его ждет письмо с извещением, что Клавдий отбыл в Таре. В начале сентября встреча все еще откладывается. По всей вероятности, свидание проконсулов в конце концов состоялось, но в «Переписке» оно не отражено. Провинцию Цицерон нашел в тяжелом состоянии — армия деморализована, жители обобраны и требуют правосудия. Поддерживать обвинения против Аппия Клавдия не входило в расчеты нового проконсула. Цицерон полагал, и скорее всего справедливо, что положение в Риме не станет лучше, если против Клавдия будут официально выдвинуты обвинения в вымогательстве или в оскорблении величия римского народа. Можно предположить, что проконсулы заключили соглашение. Клавдий, например, мог обещать добиться отзыва Цицерона после первого же года наместничества, а Цицерон мог обязаться не рассказывать, в каком положении застал провинцию. Если наше предположение правильно, именно соглашением такого рода объясняется отсутствие упоминаний о встрече.
Итак, Цицерон отплывает из Брундизия, и корабль его скользит по морской глади далее на восток. Остановки следуют одна за другой — Диррахий, берега Эпира, Коркира. Так что он проезжает неподалеку от владений Аттика, и слуги, посланные другом, встречают его у причала, передают съестные припасы и разного рода изысканные кушанья, и Цицерон обедает в пути, по его собственным словам, «как жрецы-салии», то есть члены жреческой коллегии, которые каждый год устраивали торжественную трапезу, славившуюся обилием и изысканностью. Окончание морского пути — мыс Акций. Отсюда дорога пойдет по суше. Погода стоит прекрасная, но огибать Левкады, где море всегда бурное, Цицерон все же не решается; к тому же войти в Коринфский залив можно только, пересев на небольшое суденышко, которое, по его убеждению, недостойно римского проконсула. Все это изложено в письме к Аттику, написанном сразу после высадки у мыса Акций 14 июня. Из того же письма мы узнаем, что с Цицероном едет сын, впервые приобщающийся к обязанностям, которые, как надеется отец, ему придется рано или поздно исполнять.
Наконец — Афины, где Цицерон не бывал с юношеских лет. В пору изгнания он не решился поселиться в этом городе. Зато теперь проводит там десять дней, и их оказалось достаточно, чтобы пробудить былое отрадное чувство и возобновить знакомства с афинскими философами. Он пишет Аттику, что очарован приемом, который ему оказывают, но сожалеет, что в области философии здесь «все вверх дном»; единственный человек, у которого можно хоть что-то почерпнуть — Арист Аскалонский, брат Антиоха. Цицерон, как видим, хранит верность Академии. Однако посещает главу местной эпикурейской школы Патрона, который снова обращается с просьбой ходатайствовать перед Гаем Меммием о возвращении школе дома Эпикура: в соответствии с декретом Ареопага дом был передан Меммию, когда тот изгнанником жил в Афинах. Выше мы уже обращались к этому письму, которое столь наглядно свидетельствует о широте взглядов Цицерона. Как философ он не одобряет эпикуреизм, но относится с симпатией к проповедующим его и помнит, как много лет назад воодушевляли его лекции Федра.
К середине июля относится письмо Аттику, написанное на Делосе, в котором Цицерон описывает морской переход из Пирей, гавани Афин, к берегам Малой Азии: сильнейшие порывы ветра сотрясают родосский корабль, избранный для этого путешествия, медленность плавания раздражает, острова следуют один за другим — Дзостер, где пришлось задержаться на целый день, Хиос, Гиары, Сир, наконец Делос. Здесь путешественники решили дождаться хорошей погоды, ибо в этих краях северные ветры бывают губительны (прибавим от себя: вплоть до наших дней). Ждать пришлось не слишком долго, и 22 июля Цицерон высаживается в Эфесе, лишь однажды остановившись в пути, на острове Самосе, и не испытав ни разу приступа морской болезни. Всюду, где бы он ни останавливался, выходили приветствовать его официальные делегации и множество жителей. Редкую предупредительность проявляли и откупщики — как будто от него зависело продление откупов; не без чувства облегчения замечает он, что договоры на откупа в Киликии уже подписаны до его назначения. Хоть одна забота спала с плеч нового наместника! Примерно в это же время к нему начинают поступать первые вести из провинции: задержка жалованья привела к восстанию солдат (о чем ни прежний наместник, ни его доверенные лица не говорили ни слова), но теперь его удалось усмирить — так, во всяком случае, ему доносят. Позже Цицерон узнал, что дело было довольно серьезным: пять когорт, то есть около половины легиона, отделились от основных сил и стали лагерем близ Филомелии в Ликаонии — без единого командира, без легата или трибуна, даже без центурионов. При этом в провинции всего находилось лишь два легиона, а парфянская угроза вырисовывалась все яснее.
В письме Катону, написанном в конце 51-го или в начале 50 года, Цицерон подробно описывает меры, которые принял, чтобы справиться со всеми трудностями. Едва пересекши границы провинции, он в каждом более или менее значительном городе, встречавшемся ему на пути, стал проводить собрания местных магистратов, на которых рассматривал бесчисленные жалобы на действия прежнего наместника. Объявил недействительными незаконно введенные налоги, значительно снизил налоги на прибыль, некоторые из которых достигали 48 процентов, и аннулировал долги городов, записанные за ними без всяких на то оснований. Затем Цицерон уладил историю с взбунтовавшимися солдатами, и легат Марк Анней по его поручению вернул их в лагерь под Иконием. Справившись с этими делами в первые дни августа, Цицерон приступил к воинскому набору. Он призвал ветеранов, сформировал из них особое подразделение «вновь призванных», укомплектовал отличный, по его словам, кавалерийский отряд и вспомогательные когорты, в которых служили граждане свободных городов и подданные вассальных Риму царьков. Когда Цицерона назначили наместником Киликии, а Бибул уже отбыл в свою провинцию Сирию, речь шла о том, чтобы дать им право набрать легионы в Италии и из римских граждан. Сенат, однако, воспротивился, скорей всего потому, что совсем недавно в Риме прошли массовые мобилизации в армии Цезаря и Помпея. Цицерону приходилось полагаться лишь на ресурсы своей провинции. Ему удалось собрать довольно большое войско, с которым он 24 августа прибыл в Иконин и восстановил в армии, там стоявшей, дисциплину и порядок. Теперь можно было отправляться в собственно Киликию. Сначала Цицерон думал ехать кратчайшим путем, но прибыли посланцы царя Коммагены Антиоха и в крайнем волнении сообщили, что парфяне пересекли границу Сирии. Цицерон тотчас решил двигаться северным путем через Каппадокию, где на плоскогорьях никакие естественные препятствия не могли задержать наступление врага; в Киликию же из Сирии вели лишь два узких горных прохода, которые легко удержать даже небольшими силами. Кроме того, Каппадокия была вассальным царством (там правил царь Ариобарзан), и допустить туда парфян нельзя было пи под каким видом, тем более что в этом случае от Рима оказался бы отрезанным его официальный союзник царь Армении. Цицерон стал лагерем в Кибистре на границе Каппадокии у подножия Киликийских гор. Отсюда он мог двинуться навстречу парфянам, откуда бы они не появились, с севера или с юга.
Весть о случившемся немедленно распространилась по всей Малой Азии. У одних наступление парфян породило страх, у других — надежду. Надежным союзником Рима в этих краях был царь Галатии Дейотар. К нему Цицерон и его брат отослали сыновей в ту пору, когда сами включились в военные действия. Некогда Дейотар оказал римлянам поддержку в борьбе против Митридата, за что римское правительство прирезало к его владениям новые земли. Узнав о вступлении парфян в Сирию, Дейотар направил к Цицерону послов сообщить, что собирает войско и в ближайшее время придет на помощь наместнику. Цицерон велит его благодарить, просит поторопиться и в ожидании обещанных подкреплений на пять дней задерживается в Кибистре. За эти пять дней ему пришлось разбираться во внутренних делах Каппадокии. Едва римская армия появилась здесь, как проримская партия при дворе царя Ариобарзана сообщила проконсулу о заговоре против царя, о котором сам царь не подозревал. Цицерон собрал необходимые сведения и выяснил, что за спиной заговорщиков стоит великий жрец богини Ма Архелай, сменивший жреца с тем же именем, который женился на Беренике Египетской и погиб под Александрией. Архелаю дали понять, что ему следует покинуть страну, что он тотчас же и сделал. Предусмотрительность и энергия Цицерона не только спасли Ариобарзана, но и обеспечили спокойствие в тылу римской армии.
Тут пришла весть, что парфянская армия, усиленная ополчениями арабов, появилась у стен Антиохии. Передовой конный отряд проник даже на территорию Киликии, но был уничтожен конниками римлян, действовавшими вместе с так называемой преторианской когортой — личной охраной проконсула, стоявшей в это время на Антиохийской дороге в Эпифанее на юго-восточной границе провинции. Теперь намерения противника стали ясны, Цицерон понял, что вражеская армия пойдет южным путем, и перенес лагерь к Аману, одному из отрогов Тавра, выходившему к морю около Исса, в самом углу, образованном сирийским побережьем, ориентированным с севера на юг, и побережьем Киликии, идущим с востока на запад. Здесь он узнал, что нападение на Антиохию сорвано, проквестор Гай Кассий, управляющий Сирией, разбил парфян и арабов под стенами города, а новый наместник края Бибул вступил наконец в Антиохию.
Парфянская угроза отпала, Цицерон вздохнул с облегчением; он посылает сказать Дейотару, что выступать на соединение с ним не надо — пусть остается в пределах своего царства и, не теряя бдительности, следит за дальнейшим развитием событий. Теперь Цицерон может заняться Аманом — эта область вокруг горного хребта того же имени оказывалась то частью Римской империи, то парфянского царства. Цицерон делает вид, будто отходит на запад, к Эпифанее, ночью круто меняет направление, с отрядом легко вооруженной пехоты движется назад, на восток, и на заре 13 октября появляется у подножия Амана. Войско в боевом порядке четырьмя колоннами поднимается по горной круче, каждой колонной командует один из легатов — Квинт, Гай Помптин, Марк Анней и Луций Туллий, однофамилец Цицерона и друг Аттика. Во время наступления Цицерон находится при колонне, которой командует Квинт. Операция длится почти целый день. Солдаты захватывают и жгут деревни, форты, превращавшие гору в единое укрепление; из фортов жители нападали па города и поселки, лежавшие на равнине. К десятому часу (около пяти часов пополудни по современному счету) все было кончено. Армия заночевала неподалеку от Иссы, возле алтарей Александра Македонского, возведенных некогда в ознаменование исторической победы, им одержанной. Место для ночевки выбрано не случайно — Цицерон склонен был толковать выбор символически. Опустошение Амана длилось четыре дня, затем армия двинулась на северо-восток к Пиндениссу, главному поселению так называемых свободных киликийцев. Здесь укрылись беглые рабы и разбойники, готовые при появлении парфян напасть на римлян. Цицерон осадил город; он использовал новшества, разработанные Цезарем в ходе Галльской войны: окопы, рвы, редуты, небольшие лагеря, рассеянные вокруг города, осадные башни, тяжелые осадные машины — все, как было у Цезаря под Алезией!
Взять город удалось лишь на пятидесятый день — 17 декабря, в первый день сатурналий. Солдаты приветствовали Цицерона как императора. На этот год военные действия были кончены. Войско расположилось на зимние квартиры в занятых деревнях. Теперь предстояло заняться гражданской администрацией. В этой области у Цицерона давно уже сложились определенные взгляды. Некогда он выразил их в письме Квинту, когда тот уезжал в Азию в качестве наместника провинции. Цицерон считал первейшей заботой правителя поддержание мира, соблюдение справедливости и права и прежде всего уменьшение налогов и денежных поборов. Города, изнывавшие под бременем долгов, вынуждены были, как правило, брать взаймы крупные суммы у римских финансовых воротил под ростовщические проценты. Кроме того, стремясь расположить к себе ежегодно сменявшихся наместников, провинциалы то и дело принимали решения об оказании им дорогостоящих знаков уважения: ставили статуи, подносили золотые венки (а часто и отдавали их стоимость наличными), выбивали почетные надписи. Ко всему этому прибавлялись расходы по размещению и содержанию свиты наместника. С первых же дней своего наместничества Цицерон твердо решил внести должный порядок. Он стремился восстановить справедливость, но не только: как пишет он в одном из писем, хищническая эксплуатация края вызывала ненависть к римлянам, делала их присутствие нестерпимым, мешала установить в провинции подлинное согласие всех слоев населения. По обычаю, новый проконсул издал эдикт, где излагал принципы, которыми намерен руководствоваться в своей деятельности; эдикт в точности воспроизводит основные положения трактата «О государстве»: цель и высшее определение римского завоевания — установление права. Эдикт Цицерон составил еще в Риме. Но, столкнувшись с провинциальной действительностью, счел нужным прибавить еще и милосердие — «желание облегчить тяготы разоренных городов, которые разорили магистраты, призванные ими управлять».
Совещания с магистратами и видными гражданами Тарса задержали Цицерона до первых дней января, затем он выехал в Лаодикею, куда прибыл 11 февраля, выслушал здесь жалобы жителей Кибиры и Апамеи и других греческих городов, не входивших в собственно Киликию — туда он вернулся лишь 7 мая. От этих месяцев сохранилось сравнительно немного писем, но и по ним можно составить себе представление о том, чем приходилось заниматься проконсулу. Особенно примечательно одно дело, показывающее, какими приемами пользовались римские дельцы для эксплуатации провинций. В Таре к Цицерону приехал некий Скапций, горячо ему рекомендованный Марком Брутом. Вместе с другим римским богачом, Матинием, Скапций просил Цицерона заставить жителей кипрского города Саламина выплатить наконец деньги, которые они заняли у обоих дельцов. Постепенно Цицерон выяснил, что настоящий кредитор, скрывающийся за спинами Скапция и Матиния, Брут. Деньги саламинцы взяли под 48 процентов в 56 году, вскоре после присоединения острова к Риму. Выплатить такую сумму город не мог. Чтобы принудить жителей к уплате, Аппий Клавдий назначил Скапция префектом с подчинением ему конною отряда, который был размещен на острове и вводил жителей в новые расходы. Саламинцы все же платить отказались. Скапций явился к Цицерону с просьбой возобновить его назначение и продолжить полномочия командования конным отрядом. Цицерон отказал, вызвал саламинцев, и тяжба развернулась перед его трибуналом. Скапций требовал двести талантов. Граждане Саламина утверждали, что сумма долга составляет сто шесть талантов. Они заявили, что теперь в состоянии вернуть долг, так как Цицерон существенно сократил так называемый преторский налог — сумму, которую города по традиции выплачивали каждому новому наместнику, чтобы тот в зимнее время не ставил к ним войска на постой. Так что у них собралось достаточно денег, чтобы выплатить долг, что саламинцы и предлагали сделать; в случае же отказа Скапция они намерены передать деньги на хранение в храм, что означало запрещение взыскивать проценты. Решение граждан Саламина казалось вполне справедливым, однако Цицерон его не утвердил. С правовой точки зрения не все здесь было ясным, о долгах провинциалов существовало несколько сенатусконсультов, противоречивших друг другу. Примешалось, правда, еще одно соображение, которое скорее всего и решило дело: Скапций открыл Цицерону,
В длинном письме Аттику, написанном еще из Лаодикеи в начале мая, Цицерон рассказывает, чем руководствуется в своей деятельности. Первым шагом было заставить выборных магистратов города возместить казне полисов деньги, которые они оттуда щедро черпали для своих личных нужд. Подобная практика была широко известна, и потому оказалось достаточно простой просьбы наместника — магистраты без всякого протеста вернули деньги, которые заимствовали на протяжении десяти лет, и казна уплатила откупщикам все, что им причиталось. Все оказались довольны. К тому же Цицерон, как уже говорилось, фактически отказался от преторского налога, ограничив свои расходы официальными субсидиями, которые выплачивал ему сенат. Все это дало возможность царю Ариобарзану выплатить Помпею хотя бы проценты с той суммы, которую был ему должен; всю сумму Помпей и не требовал и сообщил, что пока в ней не нуждается. Но дело о долге саламинцев все еще оставалось нерешенным. Цицерон считает, что строго придерживался закона, в частности, когда отказал Скапцию в конном отряде. Он вспоминает, что творилось при Аппии Клавдии: солдаты отряда Скапция вели себя нагло и грубо, а однажды заперли членов городского сената в зале заседаний и держали в осаде так долго, что некоторые умерли от голода. Подобные вещи, пишет Цицерон, терпеть нельзя, даже во имя интересов политического союзника. Он уважает Брута и надеется на его одобрение. И уж, конечно, его должен одобрить Катон!
Цицерон не без юмора говорит о бесспорном своем достоинстве — простоте жизни. Встает он каждый день рано, на заре, как когда-то в молодости, выслушивает посетителей любезно и внимательно, без малейшей спеси, столь принятой у римских наместников. В роли судьи опирается одновременно на свои специальные познания (как-никак он опытный юрист и судебный оратор!) и в то же время стремится быть милосердным. Вынужденный, в сущности, выполнять обязанности царя, он старается быть «добрым царем». Цицерон хорошо помнит, что полисы Азии долго находились под управлением Селевкидов или Атталидов; они привыкли соотносить монарха с тем идеальным его образом, который создал, например, Ксенофонт, изображая Кира; в них живо идейное наследие эллинизма, и римскому наместнику следует с этим считаться. Сам Цицерон читает «Киропедию» столь старательно, что кодекс оказался совершенно истрепанным. Приходится действовать в стране, где нет ни сената, ни общепровинциального народного собрания, где монархический элемент цицероновской идеальной общины приобретает особое значение. Он рад, что может реализовать его на практике, но оставаться в провинции слишком долго, продлевать установленный сенатом официальный срок наместничества, тридцатое июля будущего года? — никогда!
Даже и здесь, в Киликии, имя Помпея у всех на устах. В Риме, кажется, отнеслись всерьез к вторжению парфян и единодушно считают, что отразить его призван Помпей. Сам он пишет Цицерону, что готов взять на себя эту миссию. Однако великий Помпей весьма хитер, и скорее всего это лишь маневр: под предлогом предстоящей войны на Востоке он «занял» у Цезаря два легиона, то есть накануне вооруженного конфликта сената с Цезарем по возможности ослабил его галльскую армию. На Востоке положение тоже какое-то смутное. Приходит весть, что парфяне перешли Евфрат, почти тотчас следом — опровержение. Бибул преисполнен зависти к успехам Цицерона и держит себя так, будто наместника Киликии вообще не существует. Систематически пишет о положении в провинции пропретору Азии Минуцию Терму, а Цицерону не пишет, хотя уже в силу географического положения Киликии наместнику ее знать о передвижениях врага было бы несравненно важней, чем Минуцию. Давний заклятый враг Цезаря Бибул не желает руководствоваться при управлении провинцией Юлиевым законом, который Цезарь провел в пору своего консульства. Бибул ничего не забыл и ничему не научился, он противостоит Цезарю все так же упорно, как в год совместного их консульства, и к Цицерону недоброжелателен, видимо, потому, что знает о дружеских отношениях между наместником Киликии и Цезарем. Цицерон на всякий случай уже с начала лета принимает необходимые военные предосторожности и в то же время исподволь готовится к отъезду из Киликии. Вести из Рима попадают к нему с опозданием на несколько недель, и ему трудно правильно оценивать развитие отношений между Цезарем и сенатом, которые день ото дня становятся хуже. Молодой Целий Руф, друг Цицерона, которого он защищал от обвинений Клодия, сообщает в начале августа с полной определенностью: Помпей желает, чтобы Цезарь, прежде чем вновь стать консулом, передал преемнику свою армию, Цезарь же отказывается сделать этот шаг, ибо видит в галльских легионах единственную силу, способную защитить его от происков врагов. Целий ясно понимает, какой предстоит выбор. Что предпочесть? Законность? Но воплощением законности станет Помпей, к которому Целий не питает ни малейших симпатий. Цезарь — нарушитель закона, роль, конечно, далеко не привлекательная, но «если в смутные времена надлежит, пока дело не дошло до вооруженной борьбы, следовать нравственным правилам, то, когда война началась и идут военные действия, следовать приходится за тем, кто сильнее...». Перед тем же выбором в самом близком будущем станет и Цицерон. Пока что «государственный переворот» произошел не в Римской республике, а в семье Цицерона, и узнал он об этом гораздо позже, чем надо бы. Треволнения, в которых пребывала Туллия в связи с выбором мужа, кончились совершенно неожиданно: она избрала не Сервия, а Публия Корнелия Долабеллу, он был моложе ее на 10 лет и только что развелся с женщиной, тоже его старше, на которой, как говорили, женился из корыстных соображений. Долабелла пользовался самой дурной славой. В одном из писем Цицерон напоминает, что некогда дважды защищал его в суде от обвинений в убийстве; ни о первом, ни о втором процессе нам ничего не известно. Долабелла родился около 69 года, и в описываемое время ему шел двадцатый год. Чтобы как-то выделиться и укрепить свое положение, он выступил с обвинением Аппия Клавдия, едва тот вернулся из Киликии, в оскорблении величия римского народа. Обвинение было предъявлено в последние месяцы 51 года. Брак с Туллией состоялся в июле следующего. Мало что могло быть Цицерону столь неприятно, как брак дочери с обвинителем человека, чьей благосклонности он так долго и упорно добивался. Аппия Клавдия только что избрали цензором, он прислал Цицерону письмо, где поздравлял с замужеством Туллии; в ответном письме Цицерон счел необходимым объясниться: сначала он пишет, что ничего не знал о готовящейся свадьбе; потом спохватывается — даже если бы я о ней знал, говорит он, и если бы находился в Риме, я все равно одобрил бы этот союз по одной простой причине: его желали Туллия и Теренция. Как видим, нет оснований считать, будто Цицерон устроил брак Долабеллы с Туллией ради своих политических выгод. Долабелла был слишком молод, рассчитывать на его влияние не приходилось. Лишь гораздо позже, когда Долабелла стал союзником Цезаря, Цицерон мог надеяться, что он сумеет защитить жену и тещу от опасностей, если войска Цезаря вступят в Рим.
Незадолго до отъезда из Киликии Цицерон узнал, что сенат назначил молебствие в его честь — как недавно в честь Цезаря! Недостигнутой оставалась лишь вершина почета — триумф. Цицерон ходатайствует о нем. Разве не его успешные действия в горах Амана предотвратили нашествие парфян? Во всяком случае, намекнуть на это было можно.
Стремление Цицерона добиться триумфа за свои, в сущности, весьма скромные военные действия может вызвать удивление, а то и показаться скандальным. Еще из Тарса, скорее всего в конце июля, он пишет Катону, оправдывая свое желание. Он отнюдь не преуменьшает значение своих военных подвигов, но главная мысль письма в том, что он жаждет награды не столько за взятие Пинденниса, сколько за прошлые свои дела — за подавление заговора Катилины, за спасение Рима в тяжелую минуту. Триумф для него, как видно, — воздаяние за изгнание, за все унижения, перенесенные впоследствии, В последний день декабря памятного 63 года Метелл Непот воспрепятствовал Цицерону произнести самому себе похвальное слово. Каким блистательным реваншем было бы теперь в расшитой тоге и в лавровом венке подняться на квадриге на Капитолий под приветственные клики толпы. И не только это, но и еще больше: он станет не просто сенатором, а «мужем-триумфа-тором», почти сравняется с Помпеем и Цезарем. Его слово будет играть в сенатских прениях особую роль. Он — выходец из сословия всадников, а всаднику-триумфатору гораздо легче добиться согласия сословий, необходимость которого Цицерон так ясно и убедительно доказал в трактате «О государстве», что вызвал в Риме, по словам Аттика, огромный всеобщий интерес. Лаврами победоносного полководца будет увенчан философ. В стремлении Цицерона добиться триумфа столько же высокого патриотизма, сколько личного тщеславия. До сих пор Рим гордился своей военной славой; триумф Цицерона прославил бы не полководца в боевом плаще, но в первую очередь — консула в тоге; такой триумф возвестит Риму начало нового мышления, новой эры. Так думал Цицерон.
Наш герой отбыл из Киликии 30 июля, точно в последний день своего наместничества. Тяготам и медленности путешествия по суше он предпочел плавание по морю и сел на корабль в Иссе; там пришлось оставить Тирона, который сопровождал патрона в провинцию, а в Иссе снова заболел. Цицерон уехал, не дождавшись официально утвержденного преемника. Сначала он думал до приезда нового наместника передать управление провинцией Квинту, но по зрелом размышлении отказался от этого плана. Причины отказа ясны не до конца; по всей видимости, немалую роль сыграли боязнь общественного мнения, которое могло усмотреть в таком поступке семейный интерес и колебания самого Квинта — он торопился вернуться в Италию и увезти сына, чей злобный и непостоянный характер внушал отцу все большие опасения. В конце концов Цицерон назначил своим прее мником только что присланного нового квестора Луция Целия Кальда и, так и не разобравшись в этом мало знакомом человеке, доверил ему провинцию.
Цицерон сделал остановку в Сидее на побережье Памфилии через три дня после отплытия из Исса. Оттуда корабль проконсула плывет на Родос. Кроме Квинта, нашего героя сопровождают сын и племянник, и Цицерону очень хочется показать юношам остров, поделиться воспоминаниями о своем столь славном пребывании здесь тридцать лет назад. Сентябрь Цицерон проводит в Эфесе — противные ветра не позволяют продолжать плавание. Из Рима идут письма, все более и более тревожные: гражданская война, по общему мнению, неизбежна. Цицерон отплывает из Эфеса 1 октября и после многократных остановок в ожидании попутного ветра 14 октября прибывает в Афины. Здесь оратора застает письмо Аттика, написанное совершенно ему несвойственным дрожащим почерком — Аттик болен перемежающейся лихорадкой; в ответном письме Цицерон выражает тревогу о здоровье друга и подтверждает желание возможно скорее встретиться с ним в Риме. С тем же нарочным Цицерон посылает письмо Теренции, выдержанное в самых нежных тонах («моя сладчайшая, моя желанная Теренция»), с просьбой выехать ему навстречу возможно дальше. И в тот же день — еще одно письмо Аттику, почти целиком посвященное политическому положению, с которым придется столкнуться по возвращении в столицу. Двумя месяцами раньше Целий описал Цицерону ситуацию, и оратор не сомневается в неизбежности военного конфликта между сенатом и Цезарем. Помпей, по всему судя, станет на сторону сената, и Цицерону, как человеку, верному республиканским принципам, остается лишь за ним последовать. Внутренняя полемика с циничными рассуждениями Целия ощущается в письме: «Если дело дойдет до войны, я считаю, что лучше быть побежденным с одним из двоих, чем оказаться победителем с другим». Но Цицерой до сих пор надеется, что все как-нибудь уладится, он явно доволен, что в ожидании триумфа полагается оставаться вне Рима и тем самым не придется участвовать в сенатском обсуждении вопроса о продлении полномочий Цезаря в Галлии.
В начале ноября Цицерон из Афин приезжает в Патры. Здесь Тирон присоединяется было к патрону, но вновь заболевает. Трудности путешествия ему явно не под силу; нечего делать — приходится оставить ученого секретаря-отпущенника в Патрах. Цицерон поручает Тирона заботам одного из друзей, договорившись, что врач, которому оратор особенно доверяет, сделает все, чтобы Тирон смог продолжить путешествие. Цицерон, Квинт и оба юноши пишут Тирону письма, одно заботливее другого. Письма Цицерона неопровержимо свидетельствуют, что Тирон необходим ему скорее как друг, чем как секретарь.
Тем временем путешествие продолжается. 4 ноября Цицерон в Ализии на Акарнанском побережье, 6 ноября — на Левкаде, на следующий день — на мысе Акции, 9 ноября — на Коркире, где остается до 16 ноября. Затем — Кассиопей на побережье Эпира, 22-го он отправляется в Гидрунт и 24-го высаживается в Брундизии, в тот самый час, когда Теренция въезжает в город с противоположной стороны; они едут навстречу друг другу и встречаются на форуме. В Брундизии Цицерон застает письмо Тиропа с добрыми вестями: отпущеннику лучше, скоро он сможет присоединиться к патрону. Там же, конечно, ждали его и несколько писем Аттика. Постепенно Цицерон возвращается в свой круг, в привычную систему отношений, и это преисполняет его чувством радостной уверенности. В ответном письме Аттику он говорит об ожидаемом триумфе и о малышке Помпонии, дочери Аттика, — ей немногим более года, и она доставляет отцу много счастливых минут. И тут Цицерон не упускает случая заметить, насколько не правы эпикурейцы в своем постоянном стремлении обнаружить в основе всякого человеческого чувства, даже такого естественного и искреннего, как отеческая любовь, эгоистический расчет. Не лучше ли признать, что подобные чувства в природе человека, ибо человеку дан инстинкт любви к ближнему. Ну а каково политическое положение? Сведения в письмах Аттика мало утешительны, и тревога по-прежнему не покидает Цицерона. Впрочем, не следует приходить в отчаяние. Боги всегда покровительствовали Риму.
Не
Было бы несправедливо упрекать Цицерона в неспособности предвидеть наступавшие события. Еще из Брундизия он пишет Тирону, который наконец выздоровел и готов отплыть в Италию: «Боюсь, что сразу после январских календ в Риме начнется великая смута. В любом положении постараемся умерять свои страсти».
Мысли Цицерона заняты повседневными делами, по душа остается во власти дурных предчувствий.
В Брундизии начинался последний участок пути и кончался уже в Риме. Проконсул ехал в сопровождении солидной свиты, в нее входили и ликторы — они необходимы для триумфа, но пока что мешают и утомляют. Поначалу кортеж двигался довольно быстро. В один из последних дней ноября выехали из Брундизия и уже б декабря оказались в Эклане на Ашшевой дороге, неподалеку от Беневента. Как и по пути на Восток, Цицерон сворачивает здесь к Требуле и останавливается на вилле Луция Понция. Там проводит весь день 9 декабря и уже на следующий прибывает на свою виллу в Помпеях. Здесь состоялся разговор с Помпеем; полководец проводит дни в Кампании — вследствие болезни, как он уверяет, но скорее стремясь подольше пожить вдали от Рима, чтобы не оказаться втянутым в политические интриги и лишенным столь необходимой ему сейчас свободы. Будущее представляется Помпею в мрачном свете. С Цезарем, по его мнению, договориться невозможно, война неизбежна. Неужели Цезарь, размышляет Цицерон, находясь на вершине славы, осыпанный дарами Судьбы, окажется настолько безумен, что развяжет гражданскую войну? Цицерону очень хочется сказать — нет, Цезарь этого не сделает, но он понимает сам, сколь ничтожна его надежда. Двумя днями раньше, в письме Аттику из Требулы, то есть до разговора с Помпеем, Цицерон с предельной ясностью описал расстановку сил: речь идет лишь о том, кто именно захватит власть, Цезарь или Помпей. Помпей ни в грош не ставит интересы государства. Недаром он закрывал глаза на все беззакония, которые Цезарь творил в пору своего консульства, недаром добился явно противозаконного продления полномочий Цезаря в Галлии. И все-таки придется, по-видимому, принять его сторону, но прежде надо постараться сделать все, чтобы сохранить мир, надо добивать-тя от Помпея мудрой осторожности. Такой позиции Цицерон придерживался на протяжении всех следующих месяцев, когда разразилась и бушевала гражданская война.
Из Помпей Цицерон едет в Формии и вместе со всей свитой ночует у себя на вилле. Цицерон, как мы помним, любил всякого рода совпадения дат, и в Рим он собирается въехать 3 января — в день своего рождения. Но вскоре меняет решение: 2 января — Компиталии, праздник ларов перекрестка; явиться в такой день на Альбанскую виллу Помпея значило бы стеснить его слуг и рабов, нарушить их веселый праздник. Он будет здесь лишь третьего числа, тем самым в Риме — четвертого. До всего этого, 25 декабря, состоялся еще один долгий разговор с Помпеем, который присоединился к Цицерону по пути. Теперь уже и Цицерон не надеется избежать войны. На этот раз Помпей перечисляет все беззакония, совершенные Цезарем во время консульства. Что же будет, если он добьется второго консульства? И больше всего старый полководец опасается уступок, как он выражается, «притворного мира». Цицерону остается единственная надежда: если разразится война, войска сената не смогут удержать Рим; город придется оставить, тогда ненависть народа, бесспорно, обратится против врагов Цезаря — неужели Помпей решится на это? Снова и снова Цицерон обдумывает положение, рассматривает все возможные решения, это мучает его, как он пишет, ночи и дни. Мучает и еще одно — долг Цезарю, оратор рассчитывал вернуть его еще в прошлом году, но так и не смог, погасить долг можно только из денег, отложенных на триумф. А можно ли оставаться должником человека, который не сегодня завтра станет политическим противником или, еще хуже, врагом государства?
Цицерон приблизился к воротам Рима, как и рассчитывал, 4 января. Граждане толпою вышли ему навстречу, но он не переступил границу Города. Не имеет он права также присутствовать в собрании сената, и не был в зале заседаний 7 января, когда отцы-сенаторы приняли решения, направленные против Цезаря, ставшие причиной гражданской войны. Ему рассказали, что два народных трибуна, Антоний и Квинт Кассий, к ним присоединился еще Курион — покинули курию и уехали к Цезарю. Сенат проголосовал за декрет о чрезвычайном положении. В соответствии с декретом на защиту сената должны выступить все магистраты, обладающие империем: пока Цицерон не вступил в столицу, декрет полностью относится и к нему. Италия была поделена на военные округа. Цицерон принял под свое командование Капуанский. Здесь он и оставался все время, пока разворачивались первые эпизоды гражданской войны.
Цицерон за пределами столицы ждет ответа на ходатайство о триумфе. Рим охвачен волнением. Консул Лентул отнесся к просьбе Цицерона благосклонно и обещал вынести ее на обсуждение сената, как только будут улажены самые срочные дела. Триумф Цицерона в число таковых явно не входит. Цезарь перешел Рубикон — вступил на истинно италийскую землю. Он занимает Аримин, затем Пизавр и по побережью Адриатики неудержимо приближается к Риму. Города один за другим открывают перед ним ворота. Что еще им остается делать? Победоносные легионы, галльские и германские конники внушают ужас. Другая колонна под командованием Антония переваливает Апеннины, захватывает Арреций. 13 января пал Фанум Фортуны, теперь в руках Цезаря оба пути на Рим — из Этрурии через Арреции и по Фламиниевой дороге из Фанума. Рим неминуемо попадает в кольцо.
И все-таки, несмотря ни на что, Цицерон пытается остановить войну. Еще не было ни одного сражения, значит, все еще поправимо. Глубокой ночью появляется в ставке Цицерона Целий; он решил присоединиться к Цезарю, он заклинает Цицерона ехать с ним. Цицерон отказывается. Целию он дает письмо, где предлагает Цезарю посредничество в переговорах с Помпеем. Кроме того, Цицерон заявил во всеуслышание, что готов на жертву — ради восстановления гражданского мира он откажется от триумфа и войдет в триумф Цезаря.
17 января Помпей, назначенный главнокомандующим сенатской армией, понял, что Рим защитить нельзя. Он отступает в Кампанию, где стоят те два легиона, что под предлогом предстоящей войны с парфянами «одолжил» он у Цезаря. 18 января на заре Цицерон решает следовать за Помпеем. Он тоже движется на юг. Он вынужден выступать в предутренней мгле — ведь за ним шагают ликторы с фасцами, увитыми лаврами, а это в его положении просто смешно. Магистраты и сенаторы начинают съезжаться в Капую; не желая смешиваться с этой толпой, Цицерон уезжает на свою виллу в Формиях, где к тому же удобнее разместить людей свиты. Предлог нашелся легко: в Кампании ему поручено не только набрать легионеров из размещенных здесь еще со времен консульства Цезаря ветеранов Помпея, но также и охранять побережье, не допустить высадки врага. Формии гораздо ближе к морю, чем Капуя, и выполнять поручение отсюда проще. Но есть и другая причина: Цицерон все дальше отходит от партии, которую уже начинают именовать помпеянской, и в то же время избегает вступать в тесные контакты с людьми из окружения Цезаря. Чем дальше, тем яснее осознает он, что должен создать свою партию — «добропорядочных людей», boni. Кто такие boni? Как видно из «Переписки», boni — люди, которые ставят превыше всего интересы государства, руководствуются только законами, boni не стремятся сводить старые счеты, как сторонники Помпея, не рвутся, как цезарианцы, поправить свое состояние, растраченное в пирах и наслаждениях или на подкуп избирателей. «Добропорядочный человек», bonus, стоит твердо среди разгула страстей и полагается лишь на самого себя.
Туллия и Теренция, а также Помпония остались в Риме. 29 января они все еще в городе к вящему неудовольствию Цицерона; в этот день оратор жалуется Аттику: все матроны уже покинули Рим, кто-то может подумать, будто его жена и дочь дожидаются вступления Цезаря в город и рассчитывают на покровительство Долабеллы, который с самого начала присоединился к наступающим войскам; кому-то покажется, будто Цицерон ведет двойную игру, и тогда в совершенно ложном свете предстанет его стремление избегать помпеянцев. В конце концов 2 февраля Туллия, Теренция и Помпония оказываются в Формиях, вопреки совету Аттика, который принимал большое участие в их делах. Цицерон спрашивает: разве хорошо, что его жена и дочь остаются в Риме? Аттик отвечает: женщины поступают так по его совету. Но вот по городу прокатывается паника, скорее всего потому, что пришла весть об окончательном провале миссии Луция Цезаря и Росция Фабата; они пытались примирить Цезаря и Помпея. И тогда 2 февраля все три дамы появляются в Формиях. С ними прибыли сыновья Марка и Квинта Цицеронов. Возникает мысль отправить обоих юношей в Грецию, где они будут в безопасности и смогут, не теряя времени даром, предаться ученым занятиям. Но осуществление плана зависит от решения Помпея. Если договоренность будет достигнута и Помпей, как требует Цезарь, отправится в свою провинцию Испанию, всем придется ехать за ним. Семейные дела, как неизбежно случается в подобных обстоятельствах, переплетаются с делами политическими. Квинт тоже находится в Формиях. Он гораздо ближе к Цезарю, чем брат, он был его легатом, и он еще меньше, чем брат, знает, как поступить.
Пока что Цицерон без особого рвения исполняет официально возложенную на него обязанность. Его вызывают в Капую, где он видит только беспорядок и бездарность. Что же все-таки делать? Оставаться ли в лагере Помпея? Не уехать ли вообще из Италии? Цицерон снова обращается за советом к Аттику. Тот отвечает: надо оставаться в Италии. Наступление Цезаря разворачивается стремительно. В какой-то момент Цицерон надеялся, что его удастся остановить на реке Тиферне; казалось, войска Домиция Агенобарба займут здесь прочную оборону, Италия не будет оставлена на милость победителя и честь республики будет спасена. Но Домиций не подчиняется приказу Помпея, он запирается в Корфинии в тщетной надежде остановить Цезаря здесь. 15 февраля Цезарь подходит к городу. Через неделю город капитулирует. Тем временем Антоний занимает Сульмон. Преданный приближенными, Домиций пытается покончить с собой, но врач вместо яда дает ему снотворное. Домиций очнулся пленником Цезаря, тот обошелся с ним в высшей степени милостиво — отпустил на свободу, разрешил взять имущество, в том числе крупную сумму денег, предназначенную для выплаты жалованья солдатам, которая хранилась в городской казне.
Великодушие Цезаря произвело сильное впечатление. Люди опасались, что победоносный полководец пойдет по пути Суллы, возродит методы борьбы, обычные в гражданских войнах, — резню, проскрипции, бывшие, в сущности, слегка замаскированной формой той же резни. Лукан в «Фарсалии» описывает, с каким страхом ожидали жители Рима вступления войск Цезаря в столицу, воспоминания о Сулле преследовали каждого. Цицерон тоже опасался жестокости победителей. Цезаря он хорошо знает и ничего дурного от него не ждет, но советники Цезаря, и в первую очередь Антоний, на него не похожи. 9 февраля Цицерон пишет из Формий Аттику: «Ты опасаешься резни, и не без оснований. Он, конечно, понимает, что резня опасна для его же тирании, но будет выполнять волю людей, которых я слишком хорошо знаю». Эти строки написаны до Корфиния, незадолго до получения вестей, которые вновь заронили в душу Цицерона искру надежды. Великодушие Цезаря по отношению к Домицию, заклятому политическому врагу, человеку, назначенному сенатом сменить его в Галлии, подтверждает догадки Цицерона: Цезарь, видимо, будет действовать мягко, добиваться популярности, следовательно, он, хотя и стремится установить монархический режим — lominatio, в то же время, по всему судя, способен действовать самостоятельно, не подчиняясь требованиям своих советников. Победа Цезаря таит двойную угрозу: личная власть разрушит республику и передаст достояние гражданского коллектива в руки одного человека; а с другой стороны, разнуздание неуправляемых общественных сил, всегда входивших в стратегию и тактику «народной партии», расстраивало нормальный ход государственного механизма — не это ли доказали годы всевластия Клодия, когда он обслуживал интересы Цезаря, а заодно и свои собственные? Сейчас Цезарь опирается на те же анархические силы, сумеет ли он с ними справиться, когда придет к власти? Развитие событий по любому из этих направлений не оставит и следа от гражданского идеала, созданного Цицероном в диалоге «О государстве».
Были и другие обстоятельства, не менее удручавшие Цицерона, — отношения его с Помпеем. Оратор не питал особых иллюзий, знал слабости Помпея, видел все его уловки и хитрости; он не забыл, как Помпей на своей Альбанской вилле не захотел его принять и сбежал через заднюю дверь. Но это — в прошлом, теперь же перед лицом надвигающейся опасности не следует вспоминать. Конечно, Цицерон говорит о Помпее много горьких слов, он сожалеет о том, что Помпей слишком долго потворствовал честолюбивым замыслам Цезаря, что слишком поздно начал против него борьбу; он упрекает Помпея за то, что тот согласился на верховное командование, принял на себя всю ответственность и в то же время вовсе не подготовился толком к неизбежной войне. В одну из горьких минут, когда Цицерону кажется, что все потеряно, он пишет Аттику: «Не могу без скорби говорить о вине этого человека, которого мне безумно жаль, и я страдаю как распятый». В сущности, только жалость к Помпею и удерживала Цицерона в сенатском лагере. Он безошибочно провидит день, когда «первые люди» Италии — местная знать и богачи из муниципиев, толпой устремятся в Рим на поддержку Цезаря. Некоторые уже поступили так — консулярии Маний Лепид, Луций Волкаций, а главное, Сервий Сульпиций, консул 51 года, всегда и весьма красноречиво проповедовавший умеренность. Цицерон признается Аттику, что и сам охотно последовал бы их примеру, но его удерживает даже не auctoritas Помпея, а память о его благодеяниях. Цицерон больше ни в чем не упрекает Помпея, он пишет лишь об обязательствах, налагаемых дружбой.
Могут сказать: ведь и Цезарю Цицерон был другом, они обменивались и до сих пор обмениваются бесчисленными письмами, в которых речь идет вовсе не исключительно о политике; Цезарю Цицерон тоже многим обязан, именно Цезарь, несмотря на происки Клодия, дал согласие вернуть Цицерона из ссылки. Все это, конечно, верно. Но главное для нашего героя — чувство чести. Примкнув
Так, на наш взгляд, думает Цицерон в феврале 49 года, в дни, когда решается судьба Италии. Он почти ежедневно делится своими размышлениями с Аттиком. Аттик же в ответных письмах приводит совсем другие доводы. Он утверждает, что определение honestum, данное другом, вовсе не лучшее. И прибегает к доказательству от противного: «честно» ли (honestum) убегать от опасности? — спрашивает он. Ответ, естественно, отрицательный. А тогда следовать за Помпеем не honestum. Честно оставаться в Италии. Туг мы видим столкновение двух философских систем: эклектического стоицизма Цицерона и эпикуреизма Аттика. Первый исходит из идеала, вытекающего из рационалистического мировоззрения, второй — из правильно понятого интереса и ценности безмятежного спокойствия. Именно поэтому Аттик, как сообщает его биограф Корнелий Непот, был «другом всех и каждого». Он не жалел ни денег, ни сил для помощи любому, кто в ней нуждался, он помогал и тем, кто последовал за Помпеем. Сам Аттик остался в Риме, и его «удаление от дел» было, говорит Корнелий Непот, «столь любезно Цезарю, что после победы он, нередко писавший тому или иному гражданину, требуя денег, к Аттику никогда не обращался и даже передал ему Квинта Цицерона и сына Помпонии, захваченных в лагере Помпея».
В конце концов позиция Аттика совершенно ясна: он исходил из чисто эпикурейского принципа — в любом положении избегать риска. Отъезд из Италии вслед за Помпеем, который явно готовился покинуть Рим, во всяком случае, после падения Корфиния, бесспорно, был риском. Вот если Помпей останется в Италии (так пишет Аттик, хотя твердо знает, что тот не останется), тогда, разумеется, надо все принести в жертву honestum, презреть возможность бегства и умереть за родину. И тут Аттик верен эпикуреизму — мораль этой школы допускала также готовность к героической смерти. Гораций вспоминает об этом в своей знаменитой оде. В данном случае, однако, перспектива гибели была скорее теоретической. Аттик напоминает Цицерону, что государство не воплощено в личности Помпея — оно представляет собой «республику», res publica, то есть «общее дело», и «народ», populus, продолжает существовать, хотя правительство, считающее себя законным, находится в изгнании.
И Цицерон, и Аттик, как видим, ищут решения вопроса в сфере философского анализа, а не в приспособлении к обстоятельствам, которые меняются в зависимости от исхода последнего сражения. Цицерон отождествляет республику с Помпеем. Аттик, может быть, более проницателен, над ним меньше власти имеют архаические представления, он исходит из политической реальности, которая не зависит от тех или иных лиц. Главное, на взгляд Аттика, — коллектив граждан, populus, и задача любого политического режима — служить этому народу, обеспечить ему мир и порядок. Прямо этого Аттик не говорит, но он явно не против единоличного правления при условии, что носитель единоличной власти будет «добрым царем». Много лет спустя политические союзники Аттика начнут борьбу за создание такого строя, исходя из теоретических посылок, изложенных Филодемом в его сочинении «О добром царе у Гомера»; еще позже, после победы при Акции, Меценат, такой же эпикуреец, как и Аттик, советовал основать новый строй на монархических началах — речь его сохранил для нас Дион Кассий, у которого в руках, без сомнения, были прямые исторические источники. Однако Цицерона не так-то легко убедить. Он помнит наставления Музы в поэме «О своем консульстве». Только один раз пришлось ему отклониться от правил, что возвестила Муза, — триумвиры заставили его действовать им в угоду, но и тогда, уступая силе, Цицерон все же надеялся, что придет день и он вновь обретет свободу. Может быть, этот день настал?
В середине февраля проблема выбора неожиданно резко обострилась. В те дни, когда Цезарь осаждал Корфиний, Помпей вызвал Цицерона к себе в Луцерию — ведь с формальной точки зрения он по-прежнему подчинен Помпею. По пути Цицерон узнает, что наступающие войска Цезаря могут перерезать ему дорогу, тотчас же поворачивает назад и возвращается в Формии, по всему судя, очень довольный, что нашелся предлог и можно по-прежнему держаться в стороне. Ну а если придется все же отправиться к Помпею, то только морским путем. Предвидя такую необходимость, Цицерон отдает распоряжение подготовить один корабль в порту Гаэты и один в Брундизии. Впрочем, полной уверенности в том, что придется воспользоваться тем или иным, у него нет.
Восемнадцатого февраля осада Корфиния еще продолжается, в лагере Помпея ожидают благоприятного исхода событий; Цицерон же пытается разобраться в положении и в себе самом: он пишет длинное письмо Аттику, в котором взвешивает по своему обыкновению все «за» и «против». Вначале — аргументы в пользу отъезда к Помпею: воспоминание о благодеяниях престарелого полководца, о возвращении из ссылки. К тому же, если остаться в Италии, Помпей отплывет на Восток, Цицерон попадет в полную зависимость от Цезаря; а положиться на Цезаря вряд ли можно — все и всех готов он принести в жертву своему честолюбивому стремлению к верховной власти. Наконец, допустим, Помпей добивается победы и с триумфом возвращается в Италию — какой стыд придется пережить! Далее Цицерон доказывает преимущества противоположного решения так же и, может быть, даже более убедительно. Доказательства как бы сами собой распределяются по рубрикам; так строились «суазории» — упражнения для учеников риторических школ, где принято было сочинять монологи, обращенные к тому или иному знаменитому историческому деятелю. Аргументы бывали двух видов, так как перед оратором ставились две цели: доказать, что предлагаемый совет отвечает интересам великого человека, убедить его в том, что выполнение совета для него почетно, сообразно с его достоинством. Аргументы первого рода подпадают под понятие «полезного», utile, второго — под уже знакомое нам понятие honestum. Аргументы Цицерона типа utile: Помпей никогда не отличался предусмотрительностью, отсутствие ее демонстрирует и теперь; полководец никогда не прислушивался к советам Цицерона, а если бы прислушался, не попал бы в такое тяжелое положение. Помпей всегда исходил из собственных интересов, а не из интересов государства. Следовательно, каждый, кто присоединится к Помпею, рискует принести не пользу, а вред.
Следовать за Помпеем, однако, противно не только utile, но и honestum. Видимо, все же на Цицерона сильно действовали доводы Аттика. Помпей передислоцировал свои войска, а попросту говоря, бежал из Рима. Что может быть позорнее? Он предал родину в руки тирана. А ведь предать родину — тягчайшее из преступлений. Что такое родина? Люди, боги, достояние. Что же из всего этого на стороне Помпея? Ничего. Граждане либо совершенно равнодушны, либо склоняются на сторону Цезаря. Так во имя чего же станет жертвовать собою тот, кто присоединится к Помпею?
Из письма ясно видно, что Цицерону хочется остаться. К изложенным соображениям прибавляются и более практические: стоит январь, погода никак не благоприятствует путешествию; плавание по морю в это время крайне опасно, да и как можно вот так вдруг бросить все — имущество, дома, семью... Цицерон по опыту знает, чем это может кончиться. Но в то самое время, когда он пишет письмо, гонцы прибывают один за другим: дела под Корфинием поправляются; говорят даже, будто легаты Помпея в Испании разбили войско цезарианцев, которые пытались задержать их в Пиренеях. На помощь Помпею идет армия под командованием Афрания, она вот-вот спустится в Италию. Об отъезде на Восток можно больше не думать. Вести не бесспорны, но на какое-то время Цицерон обретает спокойствие. Можно с чистой совестью оставаться на месте.
Этот долгий разговор с самим собой, лишь по форме обращенный к Аттику, несомненно, принес пользу. И вот какую: Цицерон больше не смотрит на положение с точки зрения жесткой стоической морали; он стал трезвее, видит дальше и глубже, чем любой последовательный стоик (Катон, например, предпочел умереть, но не склониться перед победоносным Цезарем). Постоянное общение с Аттиком действует на Цицерона, размышления и решения его постепенно теряют возвышенный драматизм, присущий стоикам. Спокойствие Аттика не внушает надежды, но помогает обрести душевный мир. Позже в трактате «Об обязанностях» Цицерон сказал о самоубийстве Катона, что для такого человека оно вполне естественно; но, прибавляет он, есть ведь и другие люди, «которым самоубийство следовало бы бесспорно поставить в вину, ибо жизнь их была менее суровой, а характер — более человечным». Можно ли сомневаться, что Цицерон говорит о себе? Поступок соответствует требованиям чести и достоинства; но этого мало, надо еще, чтобы он был в согласии со всей жизнью человека. Такая последовательность, верность души самой себе есть особая добродетель — добродетель «пристойности». Цицерон уделяет ей много внимания в поздних философских трактатах и в первую очередь в трактате «Об обязанностях». Нет сомнений, что личное и духовное влияние эпикурейца Аттика избавило Цицерона от слишком жесткого стоицизма; рассудок, может быть, и влек его к стоической морали, но отвращали чувствительность, деликатность души и тонкий ум, видевший все стороны каждого положения.
После капитуляции Домиция и падения Корфиния стало уже совершенно ясно, что Помпей вскоре покинет Италию; через Формии проезжает Бальб Младший (племянник Бальба, друга и подзащитного Цицерона). По поручению Цезаря он разыскивает консула Лентула, дабы передать, что Цезарь обещает ему наместничество. Тогда же Бальб, его дядя, пишет Цицерону: у Цезаря всего лишь одна цель — обеспечить свою безопасность, он охотно предоставит Помпею руководство государством. Цицерон тут же пишет Аттику: все это кажется ему весьма подозрительным. Цезарь, видимо, ищет возможности встретиться с Помпеем и с ним покончить. Все демонстративные акты милосердия рассчитаны на то, чтобы усыпить общественное мнение и тем легче достичь цели. Через несколько дней, однако, Цицерон понял, что недооценивал воздействие Цезарева милосердия. Он беседует в поле с крестьянами и убеждается, что настроение изменилось: тот, кого они прежде опасались, пользуется теперь их доверием; тот же, кому они доверяли (то есть Помпей), внушает недоверие и страх. Высокие политические цели, борьбе за которые Цицерон посвятил всю жизнь, далеки от простого народа и непонятны ему. Стоит ли и дальше служить им? Снова — в который раз! — возникает соблазн бросить все и присоединиться к Цезарю, который то в письмах, то через посланцев вроде Бальба продолжает добиваться посредничества Цицерона. На самом деле Цезарь больше не рассчитывает на готовность Помпея встретиться и договориться (неясно даже, хочет ли он этого на самом деле). Постепенно он дает понять, что, вступив в Рим, займется восстановлением республиканской системы правления, которая одна может дать новому строго прочность и обеспечить доверие граждан. 5 марта, во время стремительного марша на Брундизий (он рвется перехватить Помпея), Цезарь пишет Цицерону любезное письмо, благодарит оратора за все, что тот для него сделал (за то, по-видимому, что, командуя войсками в Кампании, пребывал в полном бездействии, и за то, что не присоединился к Помпею). А главное, Цезарь мечтает как можно скорее вернуться в Рим и встретиться там с Цицероном, воспользоваться его советами, его авторитетом, влиянием его на граждан. Цицерон делает вид, будто не понимает, и в ответном письме продолжает рассуждать так, будто Цезарь, как прежде, просит его о «посредничестве доброй воли». Он ясно понимает: одно дело не участвовать (пока что) в действиях Помпея, и совсем другое — прямо перейти на сторону Цезаря; ведь нет сомнения, что, едва узаконив свою власть, Цезарь тотчас объявит мятежниками и изгнанниками Помпея и сенаторов, за ним последовавших.
Двадцать восьмого марта Цезарь посещает Цицерона в Формиях и прямо говорит, чего от него ждет. Цицерон думал было уклониться от встречи и уехать в Арпин руководить семейной церемонией — его сын Марк должен был навсегда сложить с себя детскую тогу-претексту и надеть белую тогу взрослого гражданина, — но поколебавшись, все-таки передумал и остался в Формиях, чтобы встретиться с победителем лицом к лицу. Цицерон выслушал Цезаря и понял, что время решать настало: если он и дальше будет откладывать возвращение в Рим, то лишит возможности вернуться туда и других сенаторов — тех, что покинули столицу двумя месяцами раньше; кроме того, могут подумать, что он осуждает Цезаря и боится его. Разговор свой с Цезарем Цицерон излагает так:
«Итак, приезжай и веди переговоры о мире». — «По моему, — говорю, — разумению?» — «Тебе ли, — говорит, — буду я предписывать?» — «Так я, — говорю, — буду стоять за то, чтобы сенат не соглашался на поход в Испанию и переброску войск в Грецию, и не раз, — говорю, — буду оплакивать Помпея». Тогда он: «А я не хочу, чтобы это было сказано». — «Так я и считал, — говорю я, — но я потому и не хочу присутствовать, что либо следует говорить так и обо многом, о чем я, присутствуя, никак не могу молчать, либо не следует приезжать». Наконец он, как бы в поисках выхода, предложил мне подумать. Отказываться не следовало. Так мы и расстались. Поэтому я уверен, что не угодил ему, но сам себе я угодил, как мне уже давно не приходилось».
Свидание оказалось решающим. Цицерон увидел людей, окружавших Цезаря, они не заслуживали ни малейшего уважения; он понял, что будет представлять собой цезарианский режим, и тогда наконец решился. До тех пор теплилась еще надежда, что можно будет остаться в Италии, не отрываться от родной земли, такой близкой и дорогой, где пережито столько счастливых дней. Цицерон видит некую справедливость в том, что покинет родину ради Помпея — ведь благодаря ему он некогда на нее вернулся. Раз все потеряно, надо следовать за теми, кто в конечном счете полнее других воплощает honestum — хотя и не совсем то, о чем Цицерон еще так недавно писал Аттику. Не придется больше твердо придерживаться своих принципов. «Свободной республики», которой он хотел служить, ему больше не видать. Его преданность законам устарела, все размышления предшествующих месяцев утратили смысл.
«Итак, направимся, куда находим нужным, и оставим все наше, поедем к тому, кому наш приезд будет более приятен... И я делаю это, клянусь, не ради государства, которое считаю разрушенным до основания, но для того, чтобы никто не считал меня неблагодарным по отношению к тому, кто помог мне в тех несчастьях, которые он же и причинил, а заодно и потому, что не могу видеть того, что происходит, или того, что, во всяком случае, произойдет».
Все его рассуждения и доводы, его мудрая проницательность и политическое достоинство больше не имеют цены. Единственное, что осталось, — чувство долга по отношению к главе сената, хотя Цицерон и не уважает этого человека, испытывает к нему весьма непостоянную приязнь и не ждет от него для Рима ничего хорошего, ведь если человек этот победит, он вернется в Рим во главе орды варваров, клиентов-царьков и, может быть, еще хуже — алчных, жаждущих места сенаторов. Но
Итак, Цицерон принял решение. В начале апреля он. как мы уже говорили, едет в Арпин для участия в церемонии облачения сына в мужскую тогу и несколько дней живет у Квинта на его Арканской вилле. Здесь меньше риска, что до него доберется какой-либо нежелательный посетитель; а между тем отпущенники и рабы готовят все необходимое для отъезда. Но тут семью постигает жестокая драма. Сын Квинта, тоже Квинт (ему шел семнадцатый год), наслушавшись разговоров старших, счел, что дядя поступает неверно. В прошлом юноша не раз, конечно, слышал, как отец его без конца восхвалял Цезаря. Ни с кем не посоветовавшись, он пишет Цезарю и один едет в Рим, добивается свидания с Гирцием, а потом и с самим Цезарем; тот расспрашивает о дяде, пытается выведать, каковы истинные намерения Цицерона, Юноша смутился, но все же, видимо, не выдал семейной тайны. Квинт надеялся получить от Цезаря порядочную сумму и избавиться от материальной зависимости. Ему пришлось разочароваться. Цезарь отправился в Испанию, не приняв его услуг, и Квинт вернулся к своим.
Поступок юного Квинта страшно возмутил Цицерона, отец провинившегося оказался снисходительнее, и Цицерон жалуется на отцовскую терпимость, которая мешает, пока не поздно, исправлять дурные наклонности сыновей. Дело было, однако, не в дурных наклонностях. Молодые аристократы восставали против семейных традиций. Фигура Цезаря сильно действовала на их воображение, они мечтали броситься в бой за человека, который в их глазах был героем легенды. Юный Марк, годом моложе Квинта, по всему судя, не поддался соблазну.
В начале апреля семья все еще живет у Квинта. В это время Цицерон получает письмо от Цезаря: Цезарь не сердится, что оратор не приехал в Рим, не таит на него обиды. 7 апреля Цезарь отправляется в Испанию. Куриону он доверил управлять Сицилией (занятой Катоном от имени «законного правительства»), по дороге Курион заезжает к Цицерону, живущему уже на вилле в Кумах, и говорит с ним со всей откровенностью. Слова Куриона не на шутку испугали оратора. Цезарь милосерд по расчету, чтобы не потерять народную любовь (это чуть было не случилось, когда он пригрозил смертью народному трибуну Метеллу); если же народ от него отвернется, он начнет действовать со всей жестокостью. Цезарь соблюдает законы тогда, когда это помогает осуществлению его планов, позволяет до поры до времени избежать открытого насилия. Теперь Цицерон видпт ясно: из Италии придется уезжать. Сперва он думает найти убежище на Мальте. Остров не затронут войной, он в какой-то мере нейтральная территория. Цицерон надеется, что отъезд не станет нарушением долга благодарности (мы уже знаем, что главным образом из чувства благодарности хотел Цицерон присоединиться к Помпею); в то же время отъезд даст возможность уклониться от активного участия в войне.
Теренция и Туллия, ожидавшая ребенка, незадолго до того возвратились в Рим; без сомнения, Цицерон отправил их в столицу, когда всерьез решил покинуть Италию. В Риме женщины будут в полной безопасности, там царит спокойствие, к тому же Аттик и Долабелла позаботятся о них, Туллия тревожится за отца, она просит его не спешить, не делать непоправимый шаг, а подождать и посмотреть, как пойдут дела в Испании. Цицерон отвечает: к несчастью, это невозможно. Конец апреля, Цезарь стоит перед Массилией, боевые действия в Испании еще не начались; если Цезарь добьется успехи, что будет в Италии с теми, кто не присоединился к нему? Начнутся конфискации, возвращение ссыльных, отмена долгов, выборы в магистраты заведомых негодяев. Сможет ли Цицерон сдержать негодование, заседать в сенате рядом с Габинием? Да еще и пустят ли его в сенат? Может быть, Цезарь станет мстить за то, что держался в стороне? Впрочем, даже и победа Цезаря в Испании не принесет мира. Помпей больше всего надежд возлагает на флот; он считает так: кто хозяин на море, тот хозяин и в Риме. Может быть, события пойдут иначе, и Цезарь потерпит поражение; Цицерон полетит навстречу победителю, но какой прием окажет ему Помпей? Все равно он будет выглядеть изменником, как и многие другие. Нет, просьба Туллии неосуществима. Вывод один: надо присоединяться к Помпею как можно скорее. Но в начале мая на виллу в Кумах доставлено письмо от Антония, которого Цезарь назначил главнокомандующим в Италии. Ходят слухи (конечно, ложные!), пишет Антоний, будто Цицерон собирается покинуть Италию. Пусть остережется и не делает этого! Друзья Цицерона, в их числе сам Антоний, Цезарь, дочь оратора и зять — все они настоятельно просят его не покидать Италию. Прежде всего из любви к нему, Цицерону, но еще и потому, что Цезарь желает, чтобы оратор был «здрав, невредим и сохранил свое влияние на политическую жизнь». Эти слова можно толковать по-разному. Может быть, в них скрыта угроза: если Цицерон попытается уехать, он рискует своим положением и даже жизнью. Или же обещание: Цицерон нужен Цезарю для воссоздания государственного устройства. Два толкования, в сущности, не так уж противоречат одно другому. Вместе с письмом Антония прибыло и письмо от Цезаря. Тон дружественный, но суть та же, что в письме легата: пусть Цицерон проявит осмотрительность, пусть воздержится от опрометчивых поступков. Дружба их подвергается сейчас испытанию; Цицерон окажется в безопасности и спасет свою честь, если будет держаться вдали от военных действий.
Тем временем приносят письмо от Целия, написанное 16 апреля в Интимилии, на пути к Массилии. Антоний и Цезарь изъясняются намеками, Целий говорит прямо. Не приходится ожидать от Цезаря и дальше милосердия, как в Корфинии и в Риме. Он оставил Рим, исполненный гнева против сената и народа. И если победит, будет безжалостен. Целий подтверждал слова Куриона, и наш герой укрепился в своих намерениях. Он был уверен, что, если Цезарь победит, диктатура его продлится не более полугода; Цезарь, без сомнения, столкнется с сопротивлением всего народа; он не найдет людей, способных ответственно вести государственные дела, — тот, кто промотал собственное состояние, сможет ли управлять провинцией? Все это так. Только придется ли дожить до исполнения своих пророчеств?
Цицерон уже под надзором. Антоний прямо подтверждает это, оставить Италию, поселиться на Мальте или еще где-нибудь он может лишь по приказу Цезаря. Цицерон надеется, что в Кампании вспыхнет восстание (эта надежда соблазнила позднее Целия и Милона и стала причиной их гибели). 13 мая он отправляется на свою виллу в Помпеи — пусть все видят, что он и не помышляет об отъезде из Италии. На виллу приезжает один из друзей, сообщает: центурионы трех когорт местного гарнизона готовы стать под командование Цицерона. Но что могут три когорты? Чтобы не встречаться с центурионами, Цицерон покидает виллу до рассвета и возвращается в Кумы. Так избежал он риска попасть под подозрение. И, кажется, поступил разумно — агенты Цезаря шныряют всюду и следят за каждым его шагом и словом. Из Сицилии пришли дурные для помпеянцев вести. Катон вынужден оставить остров, Курион легко овладел им.
17 мая Туллия, которая, по-видимому, приехала в Кумы вместе с матерью, разрешилась от бремени, не доносив двух месяцев. Роды прошли хорошо, но Цицерон пишет Аттику, что «тот, кто родился, чрезвычайно слаб»; по всей вероятности, ребенок не выжил. Это письмо было последним письмом Аттику из Италии. 7 июня Цицерон вместе с Квинтом и обоими юношами поднимается на борт корабля в Гаэте. И уже с корабля пишет Теренции. Он просит простить его, если в последние дни был с нею капризен и невежлив. Приступ болей в желчном пузыре мучил его до самого утра. Быть может, длительное ожидание и сомнения были причиной болезни.
Теперь решение окончательно принято, он спокоен и почти совсем здоров. Теренция и Туллия пусть остаются возможно дольше на виллах, вдали от проходящих войск; вилла в Арпине — надежное убежище, там есть все необходимое для них и для слуг. И неожиданно с пафосом, ему, казалось бы, несвойственным, Цицерон объявляет, что идет освобождать родину! Чего, без сомнения, вовсе не думает.
Цицерон в Эпире, и письма, как и следовало ожидать, становятся редки. Письмо от сентября 46 года, направленное в Стабии другу и соседу Марку Марию (с которым мы уже встречались), дает представление о лагере Помпея. Тотчас же по прибытии, пишет Цицерон, он пожалел, что приехал, ибо увидел слабость войск, которыми располагает Помпей, и отсутствие боевого духа у его солдат. Что же до командиров (их много по отношению к числу солдат), если не считать Помпея и нескольких его приближенных, у всех только одна цель — обогатиться; Цицерон слышал их разговоры, и эти люди так жестоки, что он больше всего опасается их победы. Не говоря уж о том, что все они по уши в долгах.
Видя все это, Цицерон счел себя обязанным посоветовать Помпею заключить мир. Помпей и на этот раз отказывается. Тогда Цицерон советует затянуть войну. Помпеи как будто согласен, но вскоре победа, одержанная его войском, вновь внушает ему веру в свои силы (речь идет, по-видимому, о прорыве блокады, созданной Цезарем в начале июля 48 года). С этой минуты, пишет Цицерон Марку Марию, «этот столь великий человек перестал быть полководцем». И приводит доказательство: Помпей при Фарсале без колебаний выставил молодых неопытных рекрутов против закаленных в боях легионеров.
Плутарх говорит о бездеятельности Цицерона в течение всего времени между июлем 49-го и августом 48-го. Помпей не знает, что ему поручить, сам же Цицерон не хочет никакого поручения. Воодушевления он не чувствует, осуждения не скрывает, говорит то, о чем писал Марку Марию двумя годами позже. Цицерон расхаживает по лагерю, то усмехаясь, то хмурясь, и время от времени роняет иронические замечания. Некоторые из них остались в истории. Еще до отъезда из Италии Цицерон сказал: «Я знаю, от кого мне бежать, но не знаю, за кем следовать». По приезде в Эпир кто-то сказал, что он явился слишком поздно; Цицерон отвечает: «Да нет же вовсе не поздно, ведь я вижу, здесь еще ничего пе готово». Однажды Помпей спросил его, конечно, с насмешкой, где его зять (то есть Долабелла), Цицерон отвечал: «С твоим тестем». Помпей обещал какому-то галлу, солдату Цезаря, перешедшему на его сторону, дать права римского гражданина. Цицерон воскликнул: «Вот странный человек! Обещает галлу гражданство города, который ему не принадлежит, а сам не может даже вернуть нам наше гражданство». В
Слова Цицерона передавались потоп от поколения к поколению, их смаковали «любители старины» еще во времена Макробия, но Цицерон вовсе не желал кого-то дразнить, тоска и глубокая тревога владели его душой. Он чувствовал себя бесконечно одиноким и прятал чувство за иронией. И становился совершенно невыносим. Некоторые, например, консулы Лентул и Домиций, обвиняли Цицерона в трусости. Правда, скажет Цицерон позднее, я в самом деле боялся... того, что и произошло.
Из Эпира Цицерон изредка пишет Аттику. В Италии хозяйничали цезарианцы, письма доходили с трудом, к тому же существовала опасность, что они будут перехвачены. Поэтому Цицерон весьма осторожно упоминает о событиях, которых был придирчивым и горестным свидетелем. Он пишет больше о денежных делах, заботу о которых поручил другу. Например, что необходимо выжать деньги из должников и сделать очередной взнос в счет приданого Туллии. В начале лета Цицерон заболел. Он пишет Аттику, что болен, но надеется вскоре встать на ноги и принять участие в битве, которая обещает стать решающей. По всему видно, что Цицерон пишет эти строки не по искреннему убеждению, а скорее из чувства долга или, может быть, в какой-то мере из осторожности. В июне приходит письмо от Долабеллы, которое еще усилило недоверие Цицерона к Помпею. Долабелла уверяет, что потеря Испании и самой надежной части войска ослабила Помпея. Может быть, теперь он укроется за морем и продолжит войну с помощью флота (много лет спустя именно так поступил младший сын Помпея Секст). Цицерон же поступит правильно, если уединится в одном из мирных городов, подальше от шума сражений; то же следует ему сделать и в другом случае — если Помпей отступит на Восток, запрется в одном из горных районов и оттуда станет продолжать войну. «Ты сделал достаточно из дружбы и благодарности, — пишет Долабелла, — достаточно послужил также той партии и тому порядку, который считал справедливым,,.» Цицерон всегда был другом всем и каждому. Пришло время стать другом самому себе. И еще несколько слов, внушающих надежду, прибавляет Долабелла: Цицерон без труда получит прощение Цезаря, и достоинство его нисколько не пострадает. Долабелла писал из лагеря Цезаря, Цицерон же сидел в Диррахии, больной, не в силах присоединиться к армии, ушедшей на Восток, в Македонию. С ним оставались Варрон, Катон с пятнадцатью когортами, ведавший обороной города, и Колоний — под его командованием находилась эскадра кораблей и транспортные суда, доставлявшие армии продовольствие. Диррахий был тыловой базой Помпея, здесь он сосредоточил значительные запасы зерна и других продуктов. Пятнадцать когорт, как предполагалось, защитят город от внезапного нападения цезарианцев, однако Плутарх утверждает, что Помпей назначил Катона командовать ими еще и по другой причине — хотел держать подальше от себя человека непреклонной нравственности, боялся его осуждения, боялся, что Катон помешает ему воспользоваться плодами победы по coбственному усмотрению.
На протяжении всего июля и вплоть до 10 августа, на протяжении дней, полных ожидания, Цицерон и его друзья держатся бодро, но в глубине души одно мрачное предчувствие сменяет другое. Еще тяжелее стало, когда один из гребцов Родосского флота рассказал о своем пророческом сне: Греция, залитая кровью, разграбленный Диррахий, обращенные в беспорядочное бегство корабли, отсветы отдаленных пожаров... Но, говорил гребец, родосское ополчение вернется на родину целым и невредимым. Он рассказал свой сон Копонию, а тот поделился с Цицероном. Позже Цицерон поведал о сне гребца Квинту — тот тоже находился в армии Помпея. В I книге трактата «О предвидении» Квинт — одно из действующих лиц диалога — вспоминает об этом, доказывая, что сны подчас имеют пророческий смысл. В жизни все произошло точно так, как в сне гребца. После поражения Помпея при Фарсале в Диррахий прибыл Лабиен, некогда легат Цезаря, перешедший на сторону Помпея в первые дни гражданской войны. Лабиен объявил Цицерону и его товарищам, что армия Помпея разгромлена, командующий пытается пробраться к морю и никаких известий о нем пока нет. Дальнейшее сопротивление не только в Эпире, но и во всей Европе невозможно.
Вскоре весть дошла до солдат, в городе начались грабежи, предсказанные сном родосского гребца. Солдаты разбили провиантские склады, они растаскивали зерно, в спешке рассыпая его по улицам и переулкам; трибуны с Катоном во главе устремились к боевым кораблям. Солдаты не желали продолжать войну, они только и мечтали перейти на сторону Цезаря. Суда, стоявшие в гавани, солдаты подожгли, и когда Цицерон, Катон, Варрон и остальные плыли к Коркире, они наяву увидели зарево над Диррахием.
Катон решил плыть к Коркире, потому что там находилась большая часть помпеянского флота и туда базировались сторожевые суда, державшие связь между Италией и Грецией. На Коркире уцелевшие помпеянцы собрали военный совет. Прежде всего решили избрать нового командующего. Самым старшим из консуляриев был Цицерон. Его и избрали по предложению Катона, который находился лишь в преторском ранге. Цицерон отклонил оказанную честь, что вызвало приступ неистовой ярости у Гнея Помпея, старшего сына полководца, — столь неистовой, что он обнажил меч и бросился на Цицерона, только вмешательство Катона спасло оратора. Тот же Катон разрешил Цицерону уехать вместе с Квинтом в Патры. В Патрах они остановились в доме Мания Курия, одного из друзей Цицерона и Аттика. Маний Курий — тот самый богатый торговец, который принимал в своем доме в Патрах Цицерона и его брата на их возвратном пути из Киликии и ухаживал за больным Тироном. С величайшим радушием принял он их и на этот раз. Кроме самого консулярия, Квинта и двух юношей, в доме Мания расположились также ликторы и свита, которые по-прежнему сопровождали Цицерона и доставляли все больше хлопот и неприятностей. Цицерон, однако, упорно не желал отказываться от законные почестей, которые никто не имел права у него отнять. Отказ означал бы признание решений находившегося в изгнании сената недействительными, то есть капитуляцию перед победителем.
В Патрах Цицерон получил письмо от Долабеллы; тот рассказывал о жизни Туллии и Теренции и, между прочим, сообщал, что Цезарь разрешает Цицерону немедленно вернуться в Италию, а все другие сторонники Помпея должны оставаться в изгнании до принятия решений об их участи. Отношения с братом складывались тяжелые. Квинт обвинял Марка во всех обрушившихся на них бедах. Конечно, утверждает Квинт, Цезарь считает Цицерона предателем, ведь он отказался последовать за человеком, осыпавшим его благодеяниями. Теперь ясно, что Цезарь никогда не разрешит Квинту вернуться в Италию. Что делать? Марку можно вернуться на родину, а ему, Квинту, нельзя. Оставаться в Патрах становится небезопасно. Кален, командующий войсками Цезаря в Греции, занимает один город за другим, одни встречают его с восторгом, другие с покорностью, лишь город Могара пытался сопротивляться, жители его проданы в рабство. Законы войны неумолимы, не знают исключений. Из Патр надо уезжать. Марк отплывает в Брундизий, Квинт остается в Ахайе. Он даже намерен броситься в Азию, к Цезарю, и вымолить у него прощение. Но вскоре отказывается от этого плана, вместо себя посылает сына, надеясь, что, памятуя о его прошлогодней выходке, Цезарь примет юношу более благосклонно, Юный Квинт отправляется сначала на Самос, потом в Эфос, где долго ждет Цезаря, задержавшегося под Александрией. В конце концов он добился приема, и на сей раз помог Гирций, но это было уже в Антиохии — в 47 году! Свидание окончилось благополучно, Цезарь решил поверить молодому Квинту.
Тем временем Цицерон прибыл в Брундизий, где его дружески встретил командовавший обороной города Публий Ватиний. Прежде они были врагами, потом Цицерон по просьбе Цезаря успешно защищал Ватиния. Ватиний, казалось, забыл о распрях, помнил только об услуге, ему оказанной. Под его покровительством Цицерон прожил целый год, пока Цезарь продолжал замирять Восток.
Не один Ватиний радушно принял Цицерона. Из Тарента вскоре явился Гай Матий, друг Цезаря и друг Цицерона, много сделавший для их сближения в годы Галльской войны. Через некоторое время в Брундизии во главе легионов, одержавших победу при Фарсале, вступил Антонин. Некоторые источники утверждают, что именно Антоний, бывший у Цезаря префектом конницы, став диктатором, спас жизнь Цицерону, которого солдаты хотели убить. Сам Цицерон во второй Филиппике пи слова не говорит об угрозах солдат, он лишь упоминает, что Антоний его «не убил в Брундизии». Надо признать, что солдаты, хотя и без больших оснований, могли считать Цицерона главным врагом Цезаря; именно Цицерон, на их взгляд, вынудил Цезаря начать гражданскую войну и за это заслуживает смертной кары. В таком свете предстает Цицерон в поэме Лукана, посвященной гражданской войне: описывается разговор Цицерона с Помпеем накануне Фарсальской битвы, где Цицерон как бы от имени солдат требует «немедленно начать бой, побуждает Помпея принять сражение. На самом деле Цицерон не призывал к битве, а, напротив, того, советовал затягивать ход событий, к тому же во время решающего сражения он находился в Диррахии, то есть весьма далеко от Помпея. Причина в том, что за столетие, которое отделяло описанные события от эпохи Лукана, Цицерон стал символом умирающей республики, «законного правления», схваток на форуме и в курии. Таким символом его считали уже с лета 48 года, и в угоду подобному взгляду Лукан пошел на искажение истории. Политическое насилие мало считается с истиной и не снисходит до нюансов. Для солдат Антония Цицерон был из тех, кто стремился лишить Цезаря его dignitas; он был самым известным и, по их убеждению, самым влиятельным из отсиживавшихся вдали от фронтов «хозяев Рима», политиков, которые развязали войну. Следовательно, он заслуживал смерти. Антоний же стремился сохранить Цицерону жизнь. Не из чувства дружбы (ее между ними никогда не было), а чтобы предоставить Цезарю самому решить судьбу оратора. Цицерон был слишком значительной фигурой, его участь воспримут как провозвестие будущего порядка. Смерть Цицерона означала бы, что грядет новый Сулла, надо вновь ожидать проскрипций и крови. Цицерону спасли жизнь, его исподволь, терпеливо привлекают на свою сторону — это залог того, что создается новая законность, возрождающийся Рим вбирает в себя все, что составляло величие Рима прежнего — красноречие, поэзию, право, философию. Эпикуреец Филодем, друг тестя Цезаря Пизона, размышляя о правлении «доброго царя», отводил Цицерону, изображенному в виде Нестора, роль философа, который стоит рядом с «царем» и своими советами смягчает его всевластие.
Пока Квинт дожидается, чтобы сын его добился у Цезаря прощения, Цицерон пишет диктатору письмо за письмом; в каждом он уверяет, что последовал за Помпеем лишь под влиянием окружающих, которому не сумел воспротивиться. Цезарь, по-видимому, считает, что Квинт принял решение и «дал сигнал к отъезду». Цицерон явно не хочет объяснять случившееся подобным образом. Дело слишком важное, он хочет сам нести ответственность за свои поступки. В марте 47 года, то есть как раз в дни тревожного ожидания, Цицерон посылает Аттику выдержку из своего письма Цезарю от конца 48 года: «О брате моем Квинте я беспокоюсь не меньше, чем о себе самом, но в своем нынешнем положении не решаюсь препоручать его тебе. Осмелюсь просить только об одном: не считай, что он совершил что-либо, желая ослабить мои обязательства перед тобой или мою любовь к тебе; считай, что он скорее был создателем нашего союза, а при моем отъезде — спутником, не предводителем».
Готовность защищать Квинта бесспорно можно поставить Цицерону в заслугу: в это самое время Квинт распространял о нашем герое порочащие слухи, так что Цицерон даже сказал однажды: жаль, что мать произвела на свет не только старшего, но и младшего сына. Племянник Квинт, в свою очередь, старался свалить на дядю всю ответственность за случившееся. Старая взаимная неприязнь, зародившаяся еще в то время, когда племянник тайком отправился к Цезарю, теперь вышла наружу. Передавали даже, будто молодой человек сочинил целую книгу — обвинительный акт Цицерону и передал ее диктатору. Цицерон великодушен, он стремится предать все это забвению и держится так, как полагается главе семьи. Он знает, что сохранил еще достаточно былого авторитета, и может защитить брата; он оказывает Квинту покровительство, как в 56 году поступился в его интересах своими убеждениями.
В октябре или ноябре 48 года он пишет из Брундизия Оппию и Бальбу — просит ходатайствовать за него перед Цезарем. Оба с уверенностью отвечали, что Цезарь ничего дурного не сделает Цицерону; напротив, он постарается, чтобы положение оратора стало еще более почетным. В какой-то момент Цицерон всполошился — подумал, что имя его включено в эдикт Антония, запрещавший бывшим помпеянцам въезд в Италию. Тревога
Казалось, и в самом деле наступают времена общественного согласия. Цицерон надеялся воспользоваться его благами.
Но проходит месяц за месяцем, а положение не меняется. Из Египта поступают вести одна другой тревожнее. О Цезаре ничего не слышно, писем от него нет. Катон и помпеянцы в Африке продолжают борьбу, и невозможно решить, близится ли Цезарь к победе или война вот-вот окончательно истощит его силы. Цицерон, оказавшийся теперь цезарианцем, не знает, что его ждет. В январе 47 года тревога его дошла до высшей точки. В Африке и в Испании серьезно готовятся, через несколько месяцев начнется наступление против Цезаря. В самой Италии усиливаются волнения. Уже в 48 году, когда Целий предложил отменить долги, они были настолько серьезны, что сенат провел закон о чрезвычайном положении и отрешил Целия от претуры. Целий бежал на юг Италии и в Капуе присоединился к Милону, располагавшему еще отрядом гладиаторов. Милон и Целий надеялись привлечь на свою сторону гарнизоны окрестных городов, но успеха не добились и оба погибли. Целий и Милон — два друга Цицерона.
В 47 году, движимый ненавистью к Антонию, на тот же путь встал и зять оратора Долабелла. Вспыхнули беспорядки на форуме, сенату пришлось принять те же меры. Число убитых, как передавали, достигало 800 человек. Цицерон возмущен поступком Долабеллы, он опасается, что зять поссорит его с Цезарем. Весьма возможно, что, не получая достоверных вестей из Италии, Цезарь и сам начнет по-другому смотреть на Цицерона. Положение становится все более шатким и в провинциях, и в Италии, и в самом Риме. Взбунтовались легионы. Антоний срочно покидает столицу и отправляется в армию, гасить мятеж. Солдаты требуют немедленной выплаты денежной награды, обещанной накануне Фарсальской битвы, иначе они не двинутся пи в какие новые походы. Войска, сосредоточенные
Одержав наконец победу на Востоке, Цезарь высадился в Таренте в конце сентября 47 года. По дороге в Рим он проезжал через Брундизий, и Цицерон вышел ему навстречу. Плутарх кратко описал их свидание. Цицерон, по его словам, вполне мог надеяться на благополучный исход, поскольку события в конечном счете завершались в пользу Цезаря, но оратор не мог избавиться от чувства стыда: предстояло встретиться с человеком, чьим врагом он официально считался, который теперь будет говорить с ним как победитель; к тому же встреча происходила на глазах огромной толпы — свиты Цезаря и вышедших ему навстречу граждан Брундизия. Но унижаться Цицерону не пришлось. Едва завидев его во главе процессии, Цезарь сошел с коня, обнял оратора, и оба долго шли рядом в отдалении от остальных, беседуя без свидетелей. Цицерон был прощен. Хотел он того или нет, он стал членом новой гражданской общины, общины Цезаря.
Встреча с Цезарем, по всему судя, состоялась 25 сентября. Как только обстоятельства позволили, Цицерон двинулся в Рим, распрощавшись с Брундизием и со всеми своими бедами. Еще 13 июня в Брундизий приехала Туллия и прожила здесь все лето. Она была больна и погружена в самое мрачное отчаяние, вызванное поведением мужа: брак с дочерью оратора нисколько не изменил его — вечно пьяный, он путался с девицами, открыто содержал наложницу, проедал и пропивал приданое жены. В политических делах он все более напоминал Клодия. В июле Цицерон и Туллия обсуждают возможность развода, но Цицерон надеется, что предложит его сам Долабелла. Пока что оратор вынужден согласиться выплатить последнюю треть приданого, хотя понимает, на что будут употреблены эти деньги. Во всяком случае, внешне брак сохраняется.
В конце октября Долабелла отправляется с Цезарем в Африку. Скажем, забегая вперед, что в июне следующего года он вернулся и брак его с Туллией возобновился, хотя и ненадолго. В январе 45 года Туллия ждала сына Долабеллы; не дождавшись этого события, Долабелла в октябре с ней развелся. Вскоре Туллия умерла, мы еще расскажем об этом подробно.
В семейной жизни Цицерона обнаружились в это время еще и другие беды. 1 октября он из Венузии пишет Теренции, прося приготовить на Тускуланской вилле все необходимое, чтобы принять его вместе со свитой. Ликторы, теперь уже с разрешения Цезаря, по-прежнему сопровождают его; он расстался с ними лишь при въезде в Рим, обставленном, естественно, так скромно, как только возможно.
Письмо из Венузии было кратким и резко отличалось по тону от тех, что Цицерон писал жене несколькими годами раньше. Ни одного нежного слова, ни в начале, ни в конце, таковы же были письма на протяжении все< последних месяцев. Теренция отказалась присоединиться к мужу в Брундизии, сославшись на состояние здоровы, и в то же время перестала высылать ему деньги. Когда Цицерон только еще поселился в Брундизии, она написала, что ждет с нетерпением его скорого приезда, но потом письма становятся все более редкими и краткими. На протяжении 47 года отношения полностью разладились. Причин взаимного охлаждения было несколько. Внешние связаны с управлением имуществом, которое в семье всегда оставалось раздельным. Свои дела Теренция вела сама с помощью отпущенника Филотима. Но Филотим занимался также и делами Цицерона, сопровождал его во время путешествия на Восток и после Фарсальской битвы неоднократно ездил в Азию получать деньги по векселям и отвозить письма. Постепенно выяснялось, что Филотим не слишком строго отличал имущество Цицерона от имущества Теренции, Счета, которые он представлял, становились все более запутанными. В августе 47 года Теренция должна была выслать Цицерону 12 000 сестерциев, но, как выяснилось, 2000 из них она оставила у себя. Конечно, то могла быть ошибка, результат небрежно написанной цифры, но Цицерон признается Аттику, что ошибка эта — далеко не первая, в прошлом было немало других, более серьезных. Не две тысячи сестерциев — причина развода; у Цицерона накопилось множество обид на жену, о которых он лишь упоминает, называя «бессчетными». Суть состояла в другом. Есть много свидетельств, что Теренция постоянно вмешивалась в политические дела мужа; некогда она сама толкала Цицерона на союз с Помпеем, теперь же стала упрекать его в этом, сочла его политическую карьеру конченой и винила его в том, что оказался среди побежденных. Косвенное подтверждение подобному объяснению: после развода с Цицероном (вероятно, в первые месяцы 46 года) Теренция вышла замуж за убежденного цезарианца, одного из любимцев диктатора — историка Саллюстия. На этот раз она выбрала точно.
Пока Цицерон, стараясь не привлекать внимания, перебирался в Рим, Цезарь устанавливал порядок в государстве, дисциплину в легионах и готовился к переправе в Африку. Будущее снова оказалось, или могло оказаться, под вопросом. Базой для переправы избран был Лилибей в Сицилии — город, где столько лет назад Цицерон был квестором. Цезарь прибыл в Лилибей 17 декабря, 25-го посадил армию на корабли и 28-го появился перед Гадруметом. Африканская кампания началась. В Риме, власть над которым Цезарь передал Антонию, победители чувствовали себя полными хозяевами. Среди них у Цицерона было немало друзей, например, Гирций и Оппий, оба из ближайшего окружения диктатора. Но были и другие, далеко не столь к Цицерону благосклонные. Несколькими месяцами позже Цицерон писал о них Варрону: они страдают от того, что среди всеобщей катастрофы я выжил. Человек, пишет он дальше, мало-помалу привыкает ко всему, в том числе — к поражению. Но Цицерона гнетет царящее на форуме молчание, невозможность выступать там как прежде. Он подумывал даже об отъезде из столицы, о том, чтобы поселиться на одной из своих вилл или даже совсем уехать из Италии. Но не решился, боясь вызвать сомнения, показаться подозрительным. Он не собирается наподобие Целия и Милона устраивать заговоры против Цезаря, он готов к деятельности по воссозданию государства, если диктатор его к ней привлечет. Если же нет — он все равно будет стремиться выполнить эту задачу, только не практической работой, а своими сочинениями и учеными занятиями. За столетие до Сенеки Цицерон начинает разрабатывать тему, над которой тог задумается в сходных обстоятельствах, — тему участи философа в жизни государства. Если философ может, как то советуют стоики, занимать государственные должности, пусть занимает. Но, «оказавшись в положении, лишающем его возможности действовать», пусть постепенно сходит с арены, и пусть голос его звучит в сочинениях, созданных для просвещения своего народа. Сенека ссылается при этом на философа-стоика Атенодора, сына Сан дона и ученика Панеция; он был современником Цицерона и добрым его знакомым. Не исключено, что перекличка в рассуждениях Цицерона и Сенеки не случайна, она навеяна общим источником — мыслями Атенодора, которого Сенека читал, а Цицерон скорее всего слышал. Атенодор разрабатывал учение Панеция, с успехом приспосабливал философию Стой к римской системе ценностей и весьма удачно смягчал и делал более человечными ее требования. В те же годы другой Атенодор, тоже выходец из Тарса, по прозвищу Горбатый, был советником и наставником Катона. Он представлял, однако, другую, гораздо более суровую линию стоической нравственной философии. Стоицизм такого толка полностью соответствовал несгибаемому характеру Катона, и само самоубийство Катона во многом объясняется наставлениями Горбатого. Цицерон, восприняв многое от Атенодора, сына Сандона, может быть, именно потому и отказался от мысли о самоубийстве, которая, как показывают письма, не раз посещала его в эти месяцы: он отказался, по крайней мере на время, и от деятельности и погрузился в раздумья и созерцание; он был твердо убежден, что мысль — тоже действие. Чистый otium, умственный досуг, без всяких обязательств, он отрицал в отличие от Варрона, который сдался Цезарю в Испании, получил его прощение и потом занимался уже только составлением ученых компиляций.
Несмотря на решение примириться с Цезарем и жить под его властью, Цицерон в глубине души хранит надежду. Силы сенатской партии в Африке весьма значительны, во главе их стоят люди твердых убеждений, не раз выдерживавшие самые суровые испытания. Может быть, еще не все потеряно? Надежда теплилась несколько месяцев вплоть до битвы при Тапсе, в которой Цезарь 6 апреля 46 года одержал полную победу. В середине того же месяца осажденный в Утике Катон покончил с собой. Завершился еще один эпизод гражданской войны. Цезарь снова стал победителем.
Но Цицерон не дожидался исхода африканской кампании. До смерти Катона и даже до битвы при Тапсе он создал два произведения неравного достоинства — диалог «Брут» и «Парадоксы стоиков». Не странно ли, что, решив посвятить свои раздумья восстановлению «приемлемого» политического строя, Цицерон пишет книги о красноречии и проблемах риторики? Однако, если взглянуть более пристально, станет ясно, что оба сочинения гораздо больше связаны с общественной жизнью, чем могло показаться на первый взгляд.
«Брут» — диалог, где выведены сам Цицерон, его друг Аттик и «младший» Юний Брут, чье имя нам уже встречалось, отныне он станет играть первостепенную роль в жизни и сочинениях оратора. Брут был племянником Катона со стороны матери его Сервилии, которая долгое время была возлюбленной Цезаря; женившись на дочери Катона Порции, Брут стал зятем своего дяди. Перед отъездом в Испанию Цезарь поручил Бруту управлять Цизальпинской Галлией, и тот, по словам его биографа Плутарха, прекрасно справился с возложенным на него поручением, показав себя дельным и честным магистратом. В те дни, к которым Цицерон относит их разговор, Брут еще не выезжал в свою провинцию и находился в Риме, так что разговор, весьма возможно, действительно имел место, но, конечно, не в той форме, которую придал ему автор.
Тон всему сочинению задает вводная глава — похвальное слово Гортензию, умершему, как мы уже говорили, в 50 году. Превозносятся, однако, не столько достоинства Гортензия-оратора, сколько Гортензия-друга, и прежде всего друга политического, собрата Цицерона по коллегии авгуров, важность которой для общественной жизни Рима Цицерон хорошо понимал и особо подчеркивал в трактате «О законах». Убежденный аристократ, сторонник сенатской партии, Гортензий, по словам Цицерона, исповедовал те же политические убеждения, что он сам. Гортензий был sapiens — «мудрым», то есть проницательным и уравновешенным, и bonus — «добропорядочным», то есть надежным и честным. Личные достоинства и талант обеспечили ему престиж в обществе, его уважали за ум и нравственный опыт. Смерть настигла Гортензия в то время, когда таким людям не осталось больше места в государстве. С победой Цезаря исчезла древняя республика, и Цицерон, не таясь, оплакивает ее. Сердце общины — форум; сегодня он молчит и лишь вспоминает с грустью голоса великих людей, некогда здесь звучавшие — конечно, голос Гортензия, но и голос Цицерона тоже.
Цицерон вспоминает о том, какой была политическая жизнь в те времена, когда ею управляли разум, талант и авторитет, основанный не на грубой силе, а на всеобщем уважении к уму и прямодушию; затем переходит собственно к диалогу, в котором рассказывает о зарождении и последующем развитии искусства слова — основы всей жизни Рима. Цель Цицерона — показать, как выросла и развивалась республика красноречия и разума, от которой теперь осталось лишь воспоминание. Весьма удачно находит Цицерон повод представить галерею римских ораторов, используя сочинение Аттика, представлявшее собой хронологию римской истории от ее начал до времени разговора. Сочинение это Цицерон ценит очень высоко; оно воссоздает в некотором роде «тело» Рима, «Брут» же предназначен воссоздать его душу — гражданское слово, в котором находит себе выражение духовный строй государства и его гражданина. Красноречие предполагает мудрость — так утверждает Цицерон устами Брута. Смятение царит в государстве, и всех благ может добиться любой. Но красноречие — совершенное выражение глубокой мысли — дано лишь достойным.
Мы не будем рассказывать обо всех перечисленных Цицероном ораторах, начиная с Менения Агриппы, который рассказал плебеям знаменитую басню о Желудке и Членах Тела и вернул их в Рим со Священной горы, куда они было отселились, и кончая самим Цицероном и Цезарем. Стоит отметить лишь хвалебный отзыв о Гракхах, не об их политической деятельности, а об их красноречии и верности своим принципам. Упоминание о Гракхах введено в диалог, чтобы показать: только римская аристократия обладает высшим искусством — увлекать за собой людей одним лишь даром слова. Длинная процессия римских ораторов проходит перед взором читателя. Цицерон утверждает — все они «вожди», principes, в том смысле, в каком он употреблял это слово уже в диалоге «О государстве». В каждую эпоху вождей было много, и потому государство не могло стать монархией; самодержавной власти не существовало, и царей было столько, сколько сенаторов. Прослеживая смену эпох и лет, разговор добирается наконец до современности и переходит на Цезаря. Он, однако, появляется на сцене не один, но рядом с Марцеллом, бывшим консулом; благодаря мстительности Цезаря (да и упрямству самого Марцелла) он все еще в изгнании в городе Митиленс. Следует похвальное слово Марцеллу, Цицерон называет его «совершенным», «человеком в полном смысле слова»; похвальное слово — как бы первый набросок речи, которую Цицерон произнесет в защиту этого помпеянца, чья судьба воплощала для него все беды, обрушившиеся на Рим.
Что касается Цезаря, то в пору пребывания в Риме Брут был еще слишком юн и не слышал его речей, теперь он очень хотел бы узнать, что думает о Цезаре Цицерон. Однако оценка красноречия Цезаря передана Аттику, тот говорит, с каким тщанием Цезарь пользовался всегда чистым, подлинно латинским языком, отличаясь строгим и взыскательным выбором слов; речь Аттика как бы вправлена в рамку, которую составляет похвала Цицерону, вложенная в уста Цезаря. Содержание похвалы важно: человек, создавший образцы ораторского искусства, признает Цезарь, прославил тем самым «имя и достоинство римского народа». И не случайно чуть дальше Цицерон формулирует устами Брута следующую мысль: «По правде говоря, если хотите знать, великий оратор значит гораздо больше, чем посредственный полководец (я не говорю о тех примерах божественного провидения, когда мудрость полководцев спасала государство на войне и в дни мира)». Цицерон таким образом причислен к сонму великих римлян самим Цезарем, при этом Цезарь, как явствует из его же слов, вполне мог бы не захватывать военной силой высшую власть в государстве, не уничтожать республику, ибо ораторский талант и без того ставил его в один ряд с великими мужами, что создали Рим, его образ и его славу в истории.
Оставалось закончить диалог подробным рассказом о собственной карьере нашего героя. Брут еще молод, ему нет и сорока, в его возрасте Цицерон произносил Веррины и перед ним расстилалась большая часть предстоявшего пути судебного защитника и политического оратора. Брут представляется Цицерону учеником, одним из тех молодых римлян, на которых он рассчитывал как на преемников и защитников своего гражданского идеала. И вот — злосчастная гражданская война, которой можно было бы избежать, ведь она разразилась, как иногда кажется Цицерону, по недоразумению, из-за того лишь, что Цезарь и Помпей боялись один другого; неужто из-за этой войны великий Рим окажется во всем подобным другим государствам и устремится к гибели вопреки гражданской доблести его вождей, вопреки всему, что предвещало ему стоять вечно? Брут, может быть, еще увидит лучшие времена, увидит возрождение великого Рима.
«Брут» ни в коей мере не сочинение оратора, желающего преподать своим читателям правила красноречия. Это Цицерон сделал десятью годами раньше. Теперь он вновь обратился к теории красноречия по соображениям несравненно более глубоким и серьезным. Он хотел представить историю в виде пути в бесконечное будущее, торимого разумом и творчеством человека.
«Парадоксы стоиков», написанные скорее всего в первые недели апреля, не раз ставили в тупик историков литературы; снова и снова пытались они понять, зачем в этом маленьком сочинении (к тому же еще не полностью сохранившемся) Цицерон излагает учение стоиков, в то время как общеизвестно, что сам он, как, впрочем, и Брут, исповедовал философию Академии.
Вопрос останется без ответа, если рассматривать «Парадоксы» как изложение, вполне серьезное, стоических взглядов. Между тем Цицерон сам признается, что хотел ludens, «шутя и играя», представить в виде самоочевидных и общепонятных истин причудливые суждения стоиков, которые сами философы этой школы не всегда умели объяснить ученикам, специально собравшимся их послушать. Итак, перед нами просто демонстрация собственных возможностей, словесного искусства, которое может сделать правдоподобным даже то, что кажется отменно неправдоподобным. Но что за странная мысль предаваться таким играм в столь тревожный момент?
В сочинении рассматривается всего семь «парадоксов». Один из них, четвертый — «О том, что каждый, кто не занимается философией, безумен», остается без доказательств — они поглощены лакуной, которая целиком захватила и пятый парадокс, по-видимому называвшийся «Только мудрец — гражданин, все остальные — изгнанники». Первый озаглавлен «Только нравственное благо — благо»; второй — «Счастье лишь в доблести»; третий — «Все заблуждения, как и все доблестные деяния, равны между собой»; пятый (если учитывать лакуну, шестой) — «Только мудрец свободен, каждый, кто не мудрец, — раб»; и наконец, последний — «Только мудрец богат».
Доказательства этих положений Цицерон черпает не из философии стоицизма, а главным образом из римской истории. Так, чтобы доказать одно из основных положений стоического учения «только нравственное благо — благо», он приводит примеры из жизни и деятельности Ромула, Нумы Помпилия, Горация Коклеса (который один защищал мост через Тибр от врагов Рима этрусков) и многих других римских героев, обоих Сципионов, Гнея и Публия, погибших в Испании, Старшего Публия Африканского и, наконец, Сципиона Эмилиана. Ни один из названных великих мужей не жил ради денег или роскошных дворцов, не добивался любой ценой военного командования или провинциального наместничества, не отличался властолюбием, не погружался в плотские наслаждения. В небольшом произведении Цицерон рисует контрастный образ Рима: древнего, исполненного доблести и славы, и сегодняшнего — в огне гражданской войны, причина которой — упадок нравов.
Цицерон доказывает, что для счастья достаточно одной гражданской доблести; он рассказывает о несчастьях, пережитых им самим, о своем изгнании; рассказ не лишен риторических красот, но становится более искренним, когда автор пишет, что смерть страшна лишь тому,кто не верит в божественную природу души. Как и при разборе первого парадокса, где опровергается мысль, что наслаждение может быть подлинным благом, Цицерон выступает против эпикурейцев. Он имеет в виду, как можно полагать, не Аттика, с которым его связывала, как мы не раз отмечали, большая духовная близость, а эпикурейцев, толпившихся вокруг Цезаря; ложно понятый эпикуреизм ведет к разрушению ценностей, близких сердцу каждого подлинного римлянина. Об этом Цицерон говорил и раньше, в речи против Пизона. Однако при доказательстве тезиса о том, что только мудрец по-настоящему богат, Цицерон использует типично эпикурейский аргумент: подлинно богат тот, как учил и Эпикур, кто ни в чем не нуждается. В качестве отрицательного примера приводится триумвир Красс; и дабы у читателя не осталось никаких сомнений, Цицерон приводит знаменитый афоризм, который приписывали Крассу: «Тот не может почитать себя богатым, кто не в состоянии содержать на свой счет несколько легионов».
Еще более показателен парадокс о мудреце — единственном, кто воистину достоин звания гражданина. Положение это не входит в число самых известных заповедей стоицизма. Впервые его сформулировал Зенон, но в определенном контексте, раскрывавшем смысл. Цицерон же использует парадокс, чтобы изобразить «дурного гражданина», человека, разрушавшего все, на чем стояло римское государство, толкавшего на безнравственные поступки консулов, презиравшего сенат, то есть Публия Клодия. Такой человек разрушает государство, лишается родины и становится в самом полном смысле слова изгнанником. Но вряд ли кто-либо из читателей забыл, что Клодий был орудием Цезаря, что Цезарь обеспечил его магистратскую карьеру, сделал народным трибуном, что и позволило Клодию совершить все его бесчинства.
Суждение «только мудрец свободен» иллюстрируется по контрасту образом «императора», то есть полководца, преданного своим страстям, алчности, ярости, сладострастию. Идет ли здесь речь о Цезаре? Внешне, конечно, нет, и ничто не дает оснований подозревать, что имеется в виду именно он. Но при мысли о фантастических доходах, принесенных галльской кампанией, о миллионах сестерциев, которые он собирается еще истратить на общественные сооружения в Риме, от подобных ассоциаций трудно отделаться. Цицерон знал эту сторону деятельности Цезаря лучше, чем кто бы то ни было. Рассуждение касалось, помимо Цезаря, и всех тех, кто окружал себя немыслимой роскошью и оправдывал свои дурные страсти словами о том, что «мы первые люди (principes, «принцепсы») в государстве». Был ли то намек на приближенных Цезаря, сказочно обогатившихся в ходе гражданской войны? Или имеется в виду более широкий круг — легкомысленные аристократы, забывшие о делах государства и бездумно увлеченные своими рыбными садками? В одном месте, кажется, речь идет о Лукулле — там, где Цицерон вкладывает в уста некоего полководца слова: «Я вел длительные и трудные войны, я командовал легионами, правил обширными провинциями», после чего описывается, как этот полководец застывает в восхищении перед картиной или статуей. Можно, конечно, возразить, что Цицерон был другом Лукулла и не случайно сделал его действующим лицом одного из своих диалогов. Но речь ведь идет не о конкретном человеке и друге автора, а об определенном типе сенатора. Лукулл лишь символизировал этот тип; в сатирической зарисовке римского общества эпохи Цицерона отдельные личности не так важны, как общая картина нравов. Люди, которые претендуют на имя principes civitatis, первых и главных в государстве, сами низводят себя до уровня рабов. Они даже отдаленно не похожи на вождей республики, где бережно хранятся нравы предков.
Таким образом, в маленьком сочинении дан серьезный анализ причин гражданской войны: распущенность черни, постоянно возбуждаемой демагогами, безудержное честолюбие «первых людей», неспособных более играть в государстве роль, по традиции им принадлежащую, алчность полководцев, которыми движет не жажда славы и чувство долга перед родиной, а тщеславие и, главное, стремление к обогащению сверх всякой меры. Три силы, которые в диалоге «О государстве» находились в равновесии и тем обеспечивали незыблемость римского государства, пришли в состояние полного разложения, знаменующего гибель гражданской общины.
Едва ли не самый парадоксальный из всех — тезис, согласно которому все доблести, как и все пороки, равны между собой. Было время, когда Цицерон, обращаясь в речи «В защиту
Не случайно вступление к «Парадоксам стоиков» открывается именем Катона, который в те дни находился в Африке и руководил борьбой против Цезаря. Разумеется, говорит Цицерон, красноречие Катона — стоическое, оно основано на вопросах и ответах, касающихся частных обстоятельств дела, и не имеет ничего общего с красноречием Цицерона и Брута, прошедших школу Академии. Но разве при разнице в формах выражений нельзя сохранить единство взглядов, нравственных и политических? Разве стоическое красноречие только от того, что оно стоическое, меньше воздействует на слушателей, по крайней мере на подготовленных и образованных? Цицерон, другими словами, надеется, что нравственные принципы, которыми руководствуется Катон, могут оказать влияние на людей, ныне стоящих у кормила государства; от этих людей зависит в конечном счете судьба Рима. Цицерон хочет поднять римлян на борьбу против диктатора, возродить старинную доблесть, он надеется, что под грудой пепла еще тлеет прежний огонь, что колесо Фортуны повернется.
Цицерон еще не поставил последнюю точку под «Парадоксами стоиков», когда в Рим пришла весть о самоубийстве Катона. Человек, воплощавший совесть умирающей республики, не захотел дожидаться прощения от Цезаря. Верный своим принципам, верный моральным и философским обязательствам, которые на себя принял, он предпочел уйти из жизни. Самоубийство его, вызвавшее столетием позже восхищение Сенеки, было ужасно: один, лицом к лицу с Судьбой, он наносит себе удар мечом, вбегают слуги, перевязывают рану, останавливают кровь, но едва слуги вышли, Катон срывает повязку, руками разрывает рану. Для тех, кто, подобие Цицерону, решил выжить, то был урок и упрек. Показательно, что именно Катон после Фарсала спас Цицерону жизнь, помог добраться до Италии и ни в малейшей мере не осуждал его, другие же помпеянцы не были столь великодушны и ничего не поняли в скрытых движениях души Цицерона. Помня благодеяния, глубоко уважая Катона, Цицерон соглашается на просьбу Брута написать похвальное сочинение в честь его дяди. Дело, однако, было нелегким, автор оказался, по его собственному выражению, перед «задачей Архимеда», где решение в высшей степени неочевидно. Можно ли прославить Катона, не сказав ничего о его убеждениях, о выступлениях в сенате, всегда направленных против Цезаря, о том, на какой путь он встал с самого начала гражданской войны, как поддержал Помпея? Но даже похвала серьезности Катона, твердости его духа и преданности своим убеждениям вызовет недовольство цезарианцев, а вернее — их ярость. Сочинение в честь Катона было явным вызовом, но Цицерон от него не уклонился. Сочинение во славу Катона не сохранилось, о нем мы знаем лишь в самых общих чертах. Там был рассказ о детстве Катона, когда уже обнаружились главные свойства его характера — твердость, презрение к опасности, чувство чести в сочетании с серьезностью, что заставляло даже значительных людей уважать Катона, несмотря на его юный возраст.
Создание сочинения в честь Катона требовало немалого мужества. Цицерон решился на этот шаг, твердо рассчитывая не только на «милосердие» Цезаря, но и на понимание. И не ошибся. В своей небольшой книжке Цицерон обратился к той же проблеме, что в «Парадоксах», — к проблеме отношений между нравственной значительностью человека л его поступком. Цицерон восхвалял Катона и за то, и за другое. Цезарь решил отвечать, он написал ответ на пути в Испанию, где предстояло сразиться с последними помпеянцами. Еще один духовный поединок, какие в прошлом бывали между Цицероном и Цезарем нередко. Цезарь осыпает Катона упреками, ставит ему в вину множество ошибок, но, споря с автором хвалы, признает его высокие достоинства.
Памфлет Цезаря под названием «Антикатон» не сохранился. Известно лишь, что эта полемика еще более прославила Катона.
«Брут», «Парадоксы» и «Катон» показывают, что Цицерон не утратил интереса к политике и защищал все те же идеалы. Не имея возможности делать это в речах, он отстаивал их в сочинениях философского плана. Живет он то в Риме, то на Тускульской вилле, где ему всегда писалось и думалось особенно легко, навещает Гирция и Долабеллу, который тем временем вернулся из Африки и, как кажется, помирился с Туллией; Цицерон дает Гирцию и Долабелле уроки ораторского искусства и слушает, как они, подобно юным ученикам риторических школ, занимаются «декламациями»; Цицерон получает приглашения на обеды то в дом к одному, то на виллу к другому, а обеды у них так удивительно вкусны. Ораторские упражнения, которым и сам Цицерон отдает дань, помогают ему мало-помалу восстановить здоровье, подорванное испытаниями последних лет. Убедившись, что больше не приходится опасаться преследований со стороны Цезаря, Цицерон как бы расцветает. Он ходатайствует за друзей, все еще опасающихся вернуться в Рим, и надеется добиться для них прощения у Цезаря. Кое-что ему и вправду удается сделать — вскоре после возвращения Цезаря в Рим Цицерон пишет Титу Ампию Балъбу (претору в консульство Цезаря и заклятому врагу диктатора), что тот скоро получит охранную грамоту и сможет вернуться в столицу.
В письме к одному из своих друзей, Луцию Папирию Пету, Цицерон рассказывает, как живется ему в «новом Риме», где все зависит от воли одного человека, где нет больше законов, а потому нет и свободы. По отношению к цезарианцам он держится с подчеркнутой предупредительностью, пытается добиться их дружбы, они тоже крайне предупредительны к Цицерону. В самом деле уважали цезарианцы оратора или притворялись, сказать трудно. Сам Цицерон надеется, что они искренни, хотя и не до конца в этом уверен. Царящая вокруг атмосфера напоминает атмосферу царского двора, и лицемерие — обязательное условие выживания. Исчезла свобода слова — «парресия», которую греки считали одним из главных признаков свободной гражданской общины; в это самое время в одном из своих сочинений ее прославлял Филодем. Цицерон прекрасно знает, что Цезарь отдал специальное распоряжение — каждое его слово друзья Цезаря изо дня в день передают диктатору, но Цицерон все же постоянно бывает в их кружке. Неизвестно, правда, достаточно ли точно его речи доводятся до сведения Цезаря. Среди людей, которых Цицерон до поры до времени считает друзьями, он по своему обыкновению говорит весьма вольно, позволяет себе рискованные остроты, которые тут же передаются из уст в уста; ходят по городу и словечки, которых он никогда пе произносил, но молва приписывает их ему. Попадаются и весьма опасные, но Цицерон успокаивает себя: Цезарь — человек проницательный, он сумеет отличить подлинник от подделки. А в глубине остается все та же мысль: главное — остаться верным себе, сохранить чистую совесть, а каковы будут последствия и как распорядится Судьба, от нас не зависит. Так Цицерон прилагает к своей жизни парадокс стоиков, согласно которому все заблуждения, как и все достоинства, стоят друг друга и внешние проявления человека имеют мало общего с его внутренним духовным содержанием. Все большим доверием проникается он к наставлениям стоической морали и все чаще старается вести себя в соответствии с ними; теперь он может рассчитывать только на самого себя, он погружен в духовное одиночество и оказался в положении стоического «Мудреца». Вот почему стоицизму была суждена такая важная роль в эпоху принципата, первый черновой очерк которого складывался как раз в эти годы. Для Платона еще в большей мере, чем для Аристотеля, счастье человека зависит в первую очередь от счастья гражданской общины, одно с другим нераздельно. Некогда Цицерон и сам думал так, но идеальную эту норм> постепенно разрушили сначала годы изгнания, потом — события гражданской войны. Надеяться на поддержку общины, на свободный диалог с гражданами больше по приходилось. Утрата внешней свободы требовала уравновешенности свободой внутренней, «автаркией», которая в этих условиях становилась особенно необходимой. но сказать, что Цицерон стоит у начала духовной эволюции, когда ка протяжении первых столетий империя подобная жизненная позиция приобретала постепенно все большее значение.
Теперь Цицерон мог еще раз вернуться к занятиям теорией красноречия. В течение лета он пишет небольшой трактат, как утверждает автор, по просьбе Брута. Называется трактат «Оратор». Цицерон шутливо замечает, что повторяет судьбу Дионисия Младшего: лишившись власти в Сиракузах и изгнанный из города, он стал школьным учителем в Коринфе. Опираясь на свой опыт наставника красноречия, Цицерон намерен создать образ идеального оратора, такого оратора, может быть, никогда не было и не будет, но его можно себе представить. Невольно бросается в глаза разительное сходство цицероновского идеального оратора с идеальным мудрецом стоиков: последний — тоже существо воображаемое, образец, ни для кого не достижимый, но тем более важно создать образ, волнующий, будящий стремление к идеалу, образующий как бы эталон жизненного поведения. Фидий, изваявший Зевса или Афину, не стремился воспроизвести черты того или иного реального лица, он хотел воплотить «идею», образ, живший в его душе. Так и Цицерон прислушивается внутренним слухом к голосу совершенного оратора. Он мыслит как истый последователь Платона и вполне сознательно снова и снова возвращается к своей излюбленной идее: живой источник красноречия — философия. Кажется, будто снова заговорили участники диалога из трактата «Об ораторе». Однако важны и различия. В «Ораторе» Цицерон говорит от своего лица, он опирается на собственный опыт, причем в такое время, когда традиционное римское красноречие умолкло, когда нет больше Антокия, Красса и других государственных мужей, выведенных в трактате «Об ораторе». Теперь рождается красноречие иного рода — в нем искусство говорить прежде всего связано с искусством мыслить. Далее Цицерон ссылается на Демосфена. Разве можно забыть — и Бруту меньше, чем кому-либо другому, — что великий афинский оратор до конца боролся против Филиппа? Считать его образцом — долг каждого настоящего республиканца. Идеальный оратор — тот, кто найдет в себе силы восстать против тирана. Цицерон полагает, что именно Брут способен следовать примеру Демосфена. Что это? Похвала, обычно воздаваемая в вводной главе? Такое толкование вполне возможно, но чувствуется в этих учтивых словах и нечто иное — прикровенный призыв стать на путь Демосфена, быть независимым, уметь словом зажечь толпу, сделаться вождем народа и властителем дум. Трактат и представляет собой перечень приемов, с помощью которых можно этого достичь. Вряд ли стоит все их перечислять; вполне традиционные приемы красноречия располагаются по обычным рубрикам — нахождение материала, его расположение, поиски выразительных средств, доказательств — с особым вниманием к тому, чтобы они были «подобающими», — умение найти необходимый тон и уровень рассуждений, близкий и понятный слушателям. Все это, разумеется, ремесло, технические приемы красноречия, но они основаны на опыте самого Цицерона и согреты его эстетическим чувством, наполнены его творческими находками, и потому Цицерон каждый раз отыскивает слова, идущие прямо в душу слушателя. Прекрасные рецепты, которые, однако, предполагают, что оратор обращается к свободным гражданам, что живет и действует он в res publica и что тирана нет. Итак, «Оратор» можно понимать как побуждение к действию, обращенное к Бруту, чье имя само по себе вызывало у каждого римлянина мысль об изгнании царей. Цицерон говорит, что уже сейчас, управляя Цизальпинской Галлией, Брут держится превыше всяких похвал. Он достойно продолжает традицию великих римлян; лишь люди, подобные Бруту, способны возродить республику такой, какой она была некогда, свободной и избавленной от застарелых пороков, приведших ее к гибели: от продажного красноречия демагогов, от пустых политических вожделений, от невежества «первых людей в государстве». Единственное препятствие на пути истинного возрождения — «тиран». Думает ли Цицерон о немедленном физическом его устранении? Или полагает, что такой исход возможен когда-нибудь, в отдаленном будущем? Ведь наступит же рано или поздно день, когда Цезаря не станет. Как ни далек этот день, надо уже сегодня быть к нему готовым.
Летом 46 года или одним из дополнительных его месяцев принято датировать маленькое сочинение, которое по традиции называется «О наилучшем виде ораторов», его можно рассматривать как практическую иллюстрацию к наставлениям, что содержатся в диалоге «Оратор». Сочинение первоначально было задумано как предисловие к переводу знаменитой речи Демосфена «О венке» и ответной речи Эсхина «Против Ктесифонта». Перевод не сохранился, имеется лишь предисловие, представляющее на суд читателя две речи, которые Цицерон считал образцом политической полемики. Противники обсуждали проблему — как оценивать заслуги гражданина перед родиной. Вполне очевидно, что Цицерон намекаем на сходство своего положения с положением Демосфена. Если бы вновь он обрел свободу слова, именно так, как Демосфен стал бы он говорить, в том же тоне и с такой же силой! И пусть не думают, будто манера эта устарела и теперь следует подражать Лисию и тем, кого принято называть «аттикистами». Нет, утверждает Цицерон, подлинный аттикизм, то есть лучший вид красноречия, — это как раз красноречие Демосфена, который являет пример человека, имеющего подлинные заслуги перед родиной.
От последних лет жизни Цицерона до пас дошли еще два малых сочинения по риторике. «Разделения ораторского искусства» — своего рода краткое наставление, написанное для сына Цицерона Марка в ту пору, когда юноша готовился к поездке в Афины, по всему судя, в 46 году. Жанр наставления, написанного отцом и обращенного к сыну, существовал в римской литературе со времен Катона Цензория, который написал для своего сына целую энциклопедию; жанр давно уже стал вполне традиционным. Посвящая свое наставление Марку, Цицерон снова думает о будущем, он исходит из того, что сыну доведется жить в свободном государстве; исходя из того же предположения, посвятил он ему вскоре и трактат «Об обязанностях».
Другое малое риторическое сочинение, «Топика», написано после гибели Цезаря, в июле 44 года, в те дни, когда после мартовских ид Антоний стал полновластным хозяином Италии, и Цицерон в очередной раз искал возможности бежать из страны. Остановившись по дороге в Болии, Цицерон вспомнил (или сделал вид, будто вспомнил), что некогда обещал своему другу Требацию, правоведу, сопровождавшему Цезаря в Галлию, написать для него толкование «Топики» Аристотеля. Теперь, на борту корабля, несущего его к берегам Сицилии и Греции, он выполняет обещание и по памяти, без текста, пишет комментированное изложение Аристотеля. О политике здесь речь пе идет, Цицерон дает вполне практические советы, предназначенные для юриста, помогающие ему находить доводы и располагать их в нужном порядке. Примеры почти все заимствованы из судебной практики; в этом последнем своем сочинении Цицерон предстает как истинный опытный судебный оратор.
После возвращения Цезаря в Рим, в течение лета или в один из двух дополнительных месяцев года Цицерону представилась возможность снова выступить с публичными речами. Первая была посвящена защите помпеянца Марка Клавдия Марцелла — консула 51 года, того самого, который внес в сенате предложение об отзыве Цезаря из Галлии и о прекращении его наместнических полномочий. Именно это предложение и стало одной из причин гражданской войны. По разным другим поводам Марцелл тоже выступал против Цезаря. Когда началась война, он последовал за Помпеем, но лишь ради спасения собственной жизни. Подобно Цицерону, он не одобрял действий Помпея и не принадлежал к числу тех его сторонников, которые только и мечтали о проскрипциях и конфискациях. После Фарсальского разгрома Марцелл поселился на острове Митилене и, также подобно Цицерону, отказался участвовать в африканской кампании. В изгнании он занимался философией и теорией красноречия. В «Бруте» Цицерон восхваляет Марцелла как философа и как одного из граждан, которые делают честь своей родине, с достоинством перенося несчастья, на них обрушившиеся. На взгляд Цицерона, Марцелл — республиканец, сумевший остаться в живых, один из тех, на кого можно рассчитывать в деле восстановления res publica. В рассуждении, приведенном нами выше, говорится о близости Цицерона с Марцеллом. Цицерон особо подчеркивает преданность Марцелла занятиям философией, а мы знаем, сколь важным считал их оратор для возрождения гражданской общины. Так что добиться возвращения Марцелла Цицерон считал необходимым, к тому же это дело помогало угадать подлинные планы Цезаря. И Цицерон пишет изгнаннику несколько писем подряд, он доказывает Марцеллу, как необходимо и для него самого, и для Рима возвращение, уговаривает вернуться в столицу, если Цезарь дарует ему прощение. Марцелл согласился лишь после третьего письма. В Риме в том же направлении действовал двоюродный брат Марцелла Гай, в свое время также получивший прощение Цезаря. Так что для возвращения бывшего консула все было подготовлено; но, конечно, от него требовали обещания отказаться от былой непримиримости и не таить обиду. По всей вероятности, Марцелл в какой-то мере поддался на уговоры; в начале сентября в сенате была разыграна настоящая комедия: от Цезаря добивались согласия на возвращение старого помпеянца, а согласие было получено заранее. Развернувшуюся сцену Цицерон описал в письме Сервию Сулышцию Руфу, также консулу 51 года, коллеге Марцелла, который проявил несравненно большую гибкость и получил наместничество в провинции Ахайе на 47 год. Цицерон мог не ходить на заседания сената, ибо был уже senex, «старцем», однако нередко посещал их, хотя чаще всего хранил молчание. В этот день тесть Цезаря Пизон первым произнес имя Марцелла, Гай Марцелл тут же бросился к ногам Цезаря, умоляя вернуть старого консулярия. Сенаторы поднялись со своих мест и присоединились к просьбам Гая Марцелла. Глубоко взволнованный, Цицерон пишет: «День этот показался мне прекрасным; мне как бы привиделся образ возрождающейся республики». Довольно странное признание — речь ведь шла о том, чтобы склонить в нужную сторону волю властителя, а в условиях подлинной республики такая ситуация немыслима. Чувства, владевшие нашим героем, можно, однако, объяснить. Начать с того, что впервые за много месяцев сенат в целом получил возможность выразить свое мнение — обычно Цезарь сообщал о решениях, которые должен принять сенат, лишь нескольким видным его членам. Кроме того, после установления диктатуры Цезаря постановления, которые по-прежнему носили пышное название сенатусконсультов, не обсуждались на заседаниях; их составляли друзья Цезаря, а, чтобы придать им законный вид, Цезарь вписывал в них имена известных сенаторов, не спрашивая их согласия. Благодаря такому обыкновению Цицерон не раз получал благодарственные письма от царьков далеких племен, выражавших признательность за принятие декретов, о существовании которых он даже не подозревал. Вот почему Цицерона радовало, что Цезарь на этот раз решил хоть посоветоваться с отцами-сенаторами. И, наверное, на Цицерона еще большее впечатление произвело единодушие, с которым сенаторы настаивали на прощении своего коллеги. На миг показалось, будто сенат вернулся к былой деятельности, вновь обрел понимание своей роли, показалось, будто возродился один из главных органов республиканской власти.
Так или иначе, Цезарь в строгом соответствии с принятой процедурой опрашивал сенаторов одного за другим; когда очередь дошла до Цицерона, он произнес целую речь, которая вошла в историю под названием «В защиту Марцелла», речь эта не похожа на защитительную речь перед судом, а представляет собой скорее «сентенцию», произнесенную в курии, она полна благодарностей Цезарю. Через несколько дней, между 23 сентября и 3 октября, должен был состояться четвертый триумф победителя, сопровождаемый играми в честь победоносного Гения полководца; все с нетерпением ожидали обещанного блистательного зрелища. Соответственно, Цицерон в своей речи не жалеет красок, превознося славные победы Цезаря, но как истинный философ замечает, что одержать победу над самим собой — дело более трудное и важное, чем победа, достигнутая оружием. Не божественное — человеческое величие являет тот, кто способен на настоящее великодушие.
Речь Цицерона содержит программу правления и совет правителю; главное, за что хвалит он Цезаря, — спасение рода древнего и благородного, рода Клавдия Марцелла. Забота о сохранении семей, из которых вышли национальные герои Рима и которые некогда содействовали величию города, стала в дальнейшем одним из важных слагаемых политики Августа, Хотя Цезарь и распространял широко сенатское достоинство на новых людей, стараясь восполнить утраты, причиненные гражданскими войнами, но и он использовал каждую возможность привлечь на свою сторону представителей старой знати, если они выражали готовность с ним сотрудничать. Ведь надо же было обеспечить провинции опытными наместниками! Наибольшее восхищение, говорит Цицерон, вызывает милосердие Цезаря. Современные историки и комментаторы часто задаются вопросом, чем вызывалось пресловутое милосердие Цезаря, отражало ли оно подлинные его чувства или было лишь лицемерным политическим ходом. Некоторые замечают, что в ходе галльской кампании Цезарь отнюдь не проявлял милосердия; конечно, так оно и есть, но милосердие к согражданам для римлянина столь же обязательно, как суровость к врагу — ни то, ни другое ни в малейшей степени не было велением сердца. Такое же удивление мы, современные люди, испытываем, читая сцены «Энеиды»: Эней проливает слезы, проявляет сочувствие, он, судя по всему, человек мягкий и чувствительный, а при этом на протяжении всей первой половины поэмы Эней предстает перед нами в виде героя, который в сражении не ведает чувства жалости. Законы войны для римлянина жестоки и неизменны, война идет как бы в другом пространстве, под взглядом других богов. Когда война торжественно объявлена, когда исполнены все обряды, между римлянином и врагом («враг» по-латыни hostis — буквально: «человек извне») не остается никаких связей, и jus больше не существует. Но связи между гражданами, те, что лежат в основе гражданской общины, не могут разрушиться, они постоянно находят в общине опору и новые силы — pietas и fides. Сулла пытался игнорировать эти непреложные требования римского сознания и потерпел поражение. Сторонники Помпея, как, впрочем, и он сам, пошли по тому же пути. Цезарь был более проницателен. Его милосердие имело целью не столько завоевать сердца, сколько включить себя как диктатора в систему гражданских традиций и норм. Согласно этим нормам подвергнуть человека смертной казни можно лишь по решению народного собрания, да и сама казнь считалась своеобразной милостью сравнительно со смертью па чужбине. Цезарь заявил себя сторонником такого взгляда еще во времена консульства Цицерона — он требовал не казнить участников заговора Катилины. По своей натуре, писал Цицерон в 46 году, Цезарь не был свободен от склонности к жестокости, но он понял, что безудержное насилие оскорбляет глубинные чувства народа, убежденного, что jus provocations, право апелляции к народному собранию, остается главной преградой на пути тирании.
Милосердие, однако, было не только ценностью в глазах граждан Рима. Философы и риторы Греции давно включили его в число добродетелей, присущих «царственной душе». Быть может, похвалы, которые Цицерон расточает Цезарю, содержат скрытую угрозу или, во всяком случае, предупреждение. Цицерон восхваляет Цезаря как божество, поднявшееся выше людей и их страстей, восхваляет за добродетель, присущую царям. Нет ли тут намека па то, что Цезарь стал царем и самодержцем, к чьим ногам бросаются сенаторы? Речь Цицерона в прямом ее смысле была понятна каждому слушателю. Но разве не могли некоторые растолковать ее и несколько иначе?
Цицерон сообщил Марцеллу, что Цезарь разрешает ему вернуться, тот ответил благодарственным письмом, которое сохранилось, — дружественное, по без чрезмерных изъявлений радости. Роль, которую Цицерон сыграл в его деле, Марцеллу важнее, чем само возвращение и столицу. Он пишет об огромном значении дружбы в человеческой жизни: он может жить вне политики, но не может лишиться дружбы. Слова эти вряд ли навеяны философией Эпикура или стоиков; естественнее видеть в них дань римской традиции, в соответствии с которой на дружбе строились союзы сенаторов в курии и в народном собрании. Гражданская война развела союзников и друзей. Ныне настало время возродить солидарность «первых людей государства».
Марцеллу, однако, не суждено было вновь увидеть Рим. Он не торопился покинуть Митилену и взошел на корабль лишь 23 мая 45 года. Во время остановки в Пирее он был убит одним из своих спутников, Публием Магием Цилоном, который тут же покончил с собой. Тайна так и осталась невыясненной. Был ли Магий разгневан па Марцелла, который отказался ссудить ему денег? Странная ревность друга? Или тайное мщение Цезаря? Последнее предположение возникло сразу же после убийства, вероятность ему придавало сопоставление с еще одной смертью — проквестор Катона Луций Юлий, уцелевший в битве при Тапсе, вскоре был убит при невыясненных обстоятельствах. Убийство Марцелла могло быть делом рук Цезаря, но зачем было ему убивать Луция? Заботами Сервия Сульпицпя Марцелла похоронили в Академии, в месте, что навевало множество воспоминаний о философах.
Вторую речь Цицерон произнес в полном соответствии с нормами судебной процедуры на форуме, перед трибуналом Цезаря, отправлявшего правосудие единолично. Это происходило в октябре, за несколько дней до отплытия диктатора в Испанию. Героем речи был Квинт Лигарий, которому Цезарь даровал прощение, но который по-прежнему находился в изгнании вдали от Рима. Судьба Квинта Лигария — пример странных положений, в которые люди нередко попадали в условиях гражданской воины. В 50 году Лигарий был легатом наместника провинции Африка, а после отъезда последнего временно исполнял его обязанности. Неожиданно в провинции появился один из приближенных Помпея, Публий Аттий Вар, в прошлом также управлявший Африкой. Прибыл он из города Авгзима в Италии, спасаясь от наступавших войск Цезаря и ярости жителей. Вар решил по собственному почину создать и провинции Африке самостоятельную систему обороны; когда Элий Туберон, официально назначенный находившимся в изгнании сенатом управлять провинцией, показался на своих кораблях перед Утикой, Вар и Лигарий не дали Туберону и его сыну Квинту сойти на берег. Туберон с сыном отправились к Помпею в Эпир. Лигарий и Вар вступили в союз с царем Юбой и разбили Куриона, которого направил в Африку Цезарь. Для цезарианцев то было тяжелое поражение — проиграв сражение, Курион покончил с собой, и провинция приняла помпеянцев, хлынувших сюда после Фарсала. Во время африканской кампании Цезаря, которая закончилась битвой при Тапсе, Лигарий оказался в стане врагов диктатора; он был взят в плен в Гадрумете, и Цезарь пощадил его жизнь, как и жизнь других пленников, здесь захваченных. Разрешения вернуться в Рим, однако, Лигарий пе получил.
Римский форум — центр Рима и средоточие его историческом славы. Некогда заболоченная низина между холмами, где располагались первые поселении римлян, осушенная еще при царях, служившая в лучшие времена республики местом бурных народных собраний, триумфальных шествий возвращавшихся с победой армии. В эпоху Цицерона место народных сходок, где часто звучал голос великого оратора
Рим. Форум Юлия Цезаря. В его сооружении принимал участие Цицерон.
Рим. Форум Августа. Колонны храма Марса Мстителя, сооруженного Августом в память о своей мести заговорщикам-республиканцам, принимавшим участие в убийстве Юлия Цезаря. По большей части то были друзья и единомышленники Цицерона: все, до единого человека, уничтожены Августом. Храм освящен во 2 году до н. э.
Рим. Храм Сатурна. Здесь хранилась казна Римской республики и иногда заседал сенат.
Храм Капитолийской триады в небольшом италийском городе I в. до н. э.
Модель римской усадьбы.
Подгородная вилла. Эпоха поздней Республики.
Монета (денарий) консула Гая Целия Кальда. 51 г. до н. э. Портрет типичного римского аристократа эпохи Цицерона.
Портрет римлянина. I век. до н. э.
Римляне переставали брить бороду в знак скорби, пережив трагические события, личные или общественные. Трагически пережили крушение республики современники Цицерона, трагически пережил его и он сам.
«...Отечество я уже оплакал - сильнее и дольше, чем любая мать своего единственного сына», писал он в одном из писем в августе 46 г.
Так выглядел обычный простой римлянин в эпоху Цицерона.
Реалистические скульптурные портреты — ценнейший вклад римлян в сокровищницу мирового искусства. Из них встает коллективный образ римского народа - «народа квиритов». Среди них Цицерон жил, к ним обращался со своими речами на сходках.
«Благочестием, почитанием богов и мудрой уверенностью в том. что всем руководит и управляет воля богов, мы, римляне, превзошли все племена и народы» (Цицерон).
Дева весталка; одна из жриц, хранивших вечный огонь в храме Весты на форуме.
Понтифик - член одной из высших жреческих коллегий, при совершении жертвенного возлияния: в левой руке ящичек с благовониями, в правой руке надо представить себе чашу.
Мозаика III в. до н. э., изображающая сцену боя двух гладиаторов.
Гладиаторы сражались друг с другом или с дикими животными в амфитеатрах на потеху римской толпе. Они вербовались сначала из военнопленных, позднее также из римских граждан. Цицерон, хотя и посещал эти кровавые зрелища. не любил их, но в Риме и в провинциях они пользовались огромной популярностью: развалины бесчисленных амфитеатров обнаруживаются сегодня на всей территории бывшей Римской империи.
Парадный зал римского дома - атрий (
Отверстие в крыше служило для освещения, углубление в полу — для сбора дождевой поды. В атрии богатые и знатные римляне - Цицерон в их числе - принимали клиентов и деловых посетителей.
Триклиний - парадная столовая в римском доме (
Обедали римляне с членами семьи, друзьями и клиентами. Обедали лежа. На каждом из трех лож возлежало по три человека. Стол ставился в проходе между ложами.
Слуги переливают вино из сосудов, где оно хранилось, в кубки, чтобы нести их в триклиний.
Сценка, исполняемая актерами. Эта мозаика Диоскурида Самосского (I век до н. э.) украшала одну из комнат на вилле Цицерона под Помпеями.
Частые омовения — характерная черта римского образа жизни. Бани были городские (государственные и частные) и домашние. На репродукции - одно из помещений бани в небольшом италийском городе.
Римский мир во всем его разнообразии увековечен в произведениях Цицерона. Они дошли в рукописях, многие из которых изготовлены в средневековых монастырях и выглядели так, как изображено здесь. На репродукции - начало Второй речи против Катилины. (IX в.).
Так называемая «арка» - парадный сундук, стоявший в атрии, в котором хранились деньги, семенные и деловые документы и особенно ценные рукописи. Возможно, в таких «арках» сохранились в некоторых домах в эпоху империи и античные копии произведений Цицерона.
Старинная римская медная монета с изображением двуликого Януса. Янус — древнейшее верховное божество римлян, «бог богов», бог переходов, концов и начал. Один лик его обращен в невозвратное прошлое, другой в загадочное будущее. Древность, античный Рим, наследие Цицерона и жизнь пришедших им на смену народов, мысль и искусство последующих эпох сливает он в единое и неразрывное целое, имя которому История и Культура.
У Квинта Лигария было два брата, один из них некогда оказал Цезарю какие-то услуги. Был у него также дядя, сумевший остаться в стороне и никак не скомпрометировавший себя в ходе гражданской войны; дядя и оба брата начали добиваться разрешения изгнаннику вернуться в Рим. Они добились свидания с Цезарем, при котором присутствовал Цицерон; Цезарь совсем было склонился к тому, чтобы удовлетворить их просьбу, по тут Квинт Туберон предъявил Лигарию обвинение по закону об умалении величия римского народа; Лигарий вступил в договорные отношения с царем Юбой, то есть с варваром, и тем изменил римскому делу. Туберон весьма ловко построил обвинение: он обвинял Лигария не в помпеянстве, помпеянцем Туберон был недавно и сам, а в измене!
Вести защиту оказалось нелегко. Цезарь ненавидел людей, которые в Испании вновь разожгли, казалось бы, оконченную гражданскую войну. Сохранился рассказ Плутарха, согласно которому диктатор твердо решил не возвращать Лигария из изгнания, а защитительную речь Цицерона согласился выслушать лишь для того, чтобы доставить себе удовольствие после стольких месяцев вновь услышать голос великого оратора. Но речь началась, набирала силу, и все большее волнение овладевало слушателями. Особое впечатление произвело на Цезаря упоминание о Фарсале — руки его задрожали, и он уронил какие-то записи. Вопреки собственным намерениям Цезарь вынес Лигарию оправдательный приговор.
Речь «В защиту Лигария» построена весьма искусно. Оратор переходит от иронии к пафосу, ловко вставляя упоминания о временах и событиях, которые никого не могли оставить равнодушным. Судьбу Лигария, вопреки собственной воле втянутого в войну, он сплетает со своей собственной. По самому уязвимому пункту защиты, о царе Юбе, — полное молчание. Лишь отдаленными намеками защитник дает понять, что виноват не Лигарий, ответственность за измену лежит на других, например, на Метелле Сципионе, верховном командующем, который после поражения весьма кстати утопился в море. Цицерон говорит, как жестоко со стороны Туберона обвинять человека, которого нет в Риме, который и без того обречен жить в изгнании. Неужели Цезарь не возмутится подобной жестокостью? Прямо к теме милосердия Цезаря оратор обращается только в конце речи (как и в речи, посвященной Марцеллу), ограничиваясь утверждением, что ближе всего к богам тот смертный, который дарует жизнь другому смертному.
В речи «В защиту Лигария» содержится мысль, Ставшая впоследствии знаменитой в формулировке Лукана. Дело, за которое боролся Помпей, говорит Цицерон, во многом схоже с тем, которое отстаивал Цезарь, у каждого была своя правота, но «ныне прав тот, за кого стоят боги».
Чистая риторика? Но если и так, то весьма действенная, так как Цезаря она убедила. Не удачным расположением слов, не четкой организацией мысли, а самим содержанием. Уже в речи «В защиту Марцелла» Цицерон доказывал, что Фортуна подчиняется Цезарю, и сам диктатор искренне в это верил. В речи к народу полагалось говорить о покровительстве богов. Прежде чем принять какое-либо политическое решение, римляне, как известно, всегда обращались к богам, чтобы узнать их отношение к задуманному. Победа была знаком благоволения богов. Некогда в речи о законе Манилия Цицерон упоминал об этом, доказывая богоизбранность Помпея. Уверенность в зависимости победы от воли богов — одно ив самых глубоких религиозных убеждений римлян с незапамятных времен; это подтверждается такими обрядами, как триумф, или игры в честь победы с состязаниями боевых колесниц. Цезарь тоже устроил игры в честь своей победы, как мы недавно упоминали. Так что милосердие Цезаря и ошеломляющие победы, которыми завершались все его походы, полностью вписывались в национальную традицию. И Цицерон, как ловкий оратор, сумел связать с ней защиту Лигария. Быть может, Цезарь помиловал Лигария не в порыве чувств, а потому, что, слушая Цицерона, понял, что решение его должно соответствовать традиционному образу истинного римлянина и только тогда будет иметь политическое значение. Защитник упорно доказывал, что Цезарь не деспот, а истинный римлянин, и, принимая этот образ, диктатор вынужден был оправдать Лигария.
На протяжении нескончаемой осени 46 года Цицерон объезжал свои виллы и писал множество писем самым разным людям; некоторые из его адресатов нам по другим источникам неизвестны. То были магистраты, назначенные Цезарем, как, например, наместник Киликии Квинт Корнифиций. Цицерон посылает ему свой маленький трактат «О наилучшем виде ораторов», но не ради этого написано письмо — Цицерон пытается выведать, чем кончились мятежные действия Цецилия Басса, взбунтовавшего против Цезаря войска, расквартированные в Сирии. В письмах к Корнифицию встречаются фразы, весьма знаменательные. Цицерон пишет, что дела в Риме идут совсем не так, как хотелось бы ему и, наверное, самому Корнифицию, если бы тот находился в столице; он прибавляет, что недоволен и Цезарь. Главным образом Цицерон скорбит о том, что «ничего не происходит», никакие серьезные дела не рассматриваются, то есть, другими словами, старинные учреждения, и в первую очередь сенат, бездействуют. А по провинциям между тем рассылаются сенатусконсульты, которых сенат не принимал! Осуждал ли и Корнифиций подобную практику или Цицерон приглашал его разделить свое мнение?
Были и другие причины сожалеть о том, как складывались дела; главная — поведение друзей Цезаря. Плутарх приводит некоторые примеры их поступков, вызывавших неодобрение и даже ярость римлян: разгульные безумства Долабеллы, алчность Амантия (о котором нам известно лишь, что именно ему написал Цезарь после победы над Фарнаком свое знаменитое «пришел, увидел, победил»), пьянство Антония, экстравагантные строительные планы того же Корнифиция. Порочные наклонности друзей вызывали у Цезаря отвращение, но, как говорит Плутарх, он вынужден был их терпеть. В эти дни Цицерон писал своему другу Пету, что, в сущности, о намерениях Цезаря никто ничего не знает. Может быть, он и в самом деле желает восстановить республику, но в настоящее время не может это сделать: мы подчиняемся его распоряжениям, а он подчиняется обстоятельствам; будучи главой государства, он не представляет себе, чего потребуют от него обстоятельства, а мы не представляем себе, что он думает. Цицерон все еще не утратил надежды на восстановление гражданской общины. Пока что надо ждать и мало-помалу восстанавливать дружеские связи, на которых зиждется общественная жизнь римской общины. И Цицерон старается их восстановить. Он счастлив, что выжил, сохранить жизнь — великое благо, но этого мало; научные занятия тоже не полностью его занимают. Он хочет действовать и потому ведет на редкость интенсивную переписку с людьми, располагающими хоть какой-то властью. Интересны письма его Публию Сервилию Исаврийскому; то был один из немногих представителей старой знати, последовавший за Цезарем, за что получил совместное с Цезарем консульство 48 года. С 47 года Сервилий управлял провинцией Азией. Отец его, Сервилий Ватия, еще до Помпея одержал значительные победы над киликийскими пиратами; он был еще жив; благодаря славе отца и древнему благородному происхождению Сервилий, казалось, мог бы сыграть роль примирителя противоречивых политических сил. Он находился в родстве с Сервилией, матерью Брута, женат на Юнии, которая приходилась Бруту сводной сестрой (или, как полагают другие авторы, племянницей). Честный и талантливый Сервилий прекрасно управлял провинцией, где и оставался вплоть до смерти Цезаря. Цицерон полностью доверял Сервилию и считал его в числе тех, кто будет содействовать восстановлению республики. Пока что Цицерон ждет от него сведений о состоянии Азии, «этого больного члена государственного организма». Было бы, разумеется, преувеличением полагать, что Цицерон организовывал некое «политическое бюро» или тем более «теневой кабинет», но в общем деятельность его шла в этом направлении. Вряд ли просто из любопытства он постоянно стремится составить себе возможно более полную картину того, что происходит в империи Рима. Престарелый оратор не хочет отойти от дел, входивших в прошлом (и, как он надеется, имеющих войти в будущем) в компетенцию сената. Он поддерживает с Сервилием систематическую переписку, под предлогом рекомендации отпущенников, которые занимаются в Азии имущественными делами друзей Цицерона — Тита Ампия Бальба, Курция Постума, Цереллии и других. Рекомендуя того или другого отпущенника, Цицерон ни на минуту не забывает, что в восстановленной республике такой человек, как Сервилий, будет играть немалую роль. В сенате благодаря своему родству с Брутом он войдет в группу, которая объединит старую знать. Дружескую привязанность Брута Цицерон себе уже обеспечил. Дружба Сервилия не менее ценна.
Во многих письмах этой поры Цицерон защищает интересы не отдельных лиц, а целых общин Италии — Волатерры в Этрурии или Ателлы в Кампании. Во времена республики он уже выступал их защитником. И после гражданской войны по-прежнему считает себя их покровителем и честно выполняет свои обязанности. Зачем? Хочет показать, что располагает еще некоторым влиянием? Очень может быть, такой ответ еще раз доказывает, насколько справедлив упрек Цицерону в тщеславии; но вероятнее все же другое, более серьезное объяснение: Цицерон готовит свершение своих планов и стремится привязать к себе узами благодарности возможно больше людей. В 57 году, когда речь шла о возвращении из изгнания, Цицерону очень помогла поддержка провинциальных городов; столь же драгоценной может оказаться она и теперь. А, кроме того, римскому государственному деятелю и консулярию всегда очень важно иметь обширную провинциальную клиентелу. Это — свидетельство его dignitas, а главное — реальная опора в политической деятельности.
Летом и осенью 46 года нашему герою снова пришлось пережить немало горьких минут. В июне Долабелла вернулся из Африки, возобновил супружескую жизнь с Туллией, но вскоре неизбежность развода стала очевидной; молодой женщине, беременной, пришлось, кажется, перебраться в дом отца на Палатине. Она как будто относительно легко переносила свои беды, и Цицерон о ней не беспокоился, хотя видел ясно, что семейная ее жизнь расстраивается. Его заботило, согласится ли зять вернуть приданое Туллии. Развод стал свершившимся фактом, когда в начале ноября Долабелла уехал в Испанию, сопровождая Цезаря, выступившего на борьбу с Гнеем Помпеем, старшим сыном своего давнего противника, разбитого при Фарсале. (По принятой сейчас системе соответствий между римским календарем и современным отъезд состоялся в декабре.) Войне в Испании суждено было продлиться еще почти целый год.
Сын Цицерона Марк жил с отцом в Италии и явно тяготился своим положением; он считал, что настала пора начать жизнь независимого мужчины, и стремился в Испанию, за Цезарем. Для Цицерона то был новый источник неприятностей, такой шаг никак не совмещался с его убеждениями и надеждами. К счастью, молодой человек не стал упрямиться. На следующий год он уехал в Грецию и там, в безопасности, должен был ждать восстановления республики, которого так страстно желал его отец. Впрочем, пока что восстановления республики не предвиделось. Цезарь оставался единственным консулом, других магистратов не выбирали. Рим жил в условиях единодержавия, в зависимости от любого каприза властителя. Война вновь разгорелась в Испании, что усиливало чувство неуверенности, ощущение непрочности. Тотчас после отъезда Цезаря Цицерон отправляется в Тускул, где много читает и пишет, принимает друзей, а иногда обедает у них, что подчас имеет для его пищеварения самые драматические последствия. «Я съел слишком много овощей, — пишет он однажды, — дабы исполнить законы Цезаря против роскоши». В эти последние дни истекавшего долгого года Цицерон вновь обрел некоторое внутреннее спокойствие. Он перестал за себя опасаться. Всю вторую половину ноября он проводит в поездке по Кампании, посещает Кумы, Помпеи, навещает в Стабиях своего друга Пета и через Арпин возвращается в Тускул. Он подумывает о кое-каких перестройках на виллах, устраивает экседры в одном из портиков Тускульской виллы. Для их украшения разыскивает статуи, но те, что воплощают образы, ему чуждые — вакханок или бога войны Марса, покупать отказывается. Он —- мирный философ, что у него общего с этими мятущимися созданиями? Произведение искусства, на взгляд Цицерона, предназначено не только услаждать взоры, оно должно что-то говорить уму и сердцу, излипать в душу мир, возвышать ее до духовного созерцания идеала. Вот почему статуя или картина подобны произведению ораторского искусства: и в том, и в другом человек выражает себя полностью, внутренние диссонансы здесь нежелательны.
С отъездом Цезаря в Испанию новый период начинался в жизни Цицерона и в жизни Рима. После развода с Теренцией Цицерон, казалось, наслаждался одиночеством, впрочем, весьма относительно, поскольку Туллия по-прежнему жила с ним и многочисленные друзья каждый день появлялись в доме на Палатине. Дом этот Цицерон любил, писал, что он доставляет ему не меньше радости, чем загородные резиденции. Здесь, в доме на Палатине, он мог спокойно предаваться ученым занятиям. В отсутствие Цезаря делами в столице ведали Бальб и Оппий, в случае необходимости Цицерон обращается прямо к ним; он, например, исхлопотал другу своему Авлу Цецине, великому специалисту по части прорицаний, разрешение жить на Сицилии, раз уж ему запрещено возвращаться в Рим. Бальб и Оппий рассказывают Цицерону о ходе работы по подготовке Юлиева закона о муниципиях.
Даже и при новом государственном устройстве римские нравы сохраняли силу: казалось совершенно недопустимым, чтобы такой значительный человек, как Цицерон, оставался неженатым. Брак в Риме был делом скорее политическим, чем личным. Особую озабоченность проявляла Постумия, жена Сервия Сульпиция Руфа. Она полагала, что нашему герою хорошо бы жениться на Помпее, дочери Помпея Великого, вдове Фавста Суллы, погибшего в Африке. В Риме мысль эту считали довольно странной: Цицерону едва простили участие в гражданской войне на стороне Помпея, и теперь ему жениться на дочери полководца? К тому же братья ее в Испании ведут войну против Цезаря. Может быть, Постумия считала вероятной победу Гнея и Секста в Испании? Или исходила из того, что в 54 году после смерти Юлии Цезарь сам намеревался жениться на Помпее, дабы укрепить триумвират? Любопытно отметить, что в конце концов Помпея вышла замуж за Луция Корнелия Цинну, в прошлом шурина Цезаря; став победителем, Цезарь неизменно оказывал Цинне покровительство. Сенека писал в «Утешении к Полибию», что Помпея сделала больше многих для установления мира в государстве. Учитывая сказанное, весьма возможно, что Постумия понимала политическое значение брачного союза, который соединил бы Цицерона с бывшей «невестой» Цезаря.
Как бы там ни было, престарелый оратор от этого брака отказался. Отказался он жениться и на Гирции, сестре Цезарева легата, кажется, сочтя ее слишком уж некрасивой. И наконец склонился к кандидатуре своей воспитанницы, юной Публилии. Брак вызвал скандал. Теренция вдруг принялась рассказывать всюду, что Цицерон не устоял против чар юности и именно из-за Публилии развелся с ней. Позже Тирон снял со своего патрона обвинение в развращенности и рассказал, что второй брак Цицерона заключен по финансовым соображениям: будучи опекуном Публилии, Цицерон управлял ее имениями; в случае замужества девушка потребовала бы у него отчета, и оратору пришлось бы выплатить довольно значительную сумму; денег же у него не было, в частности, и потому, что Долабелла находился в Испании и все еще не вернул Туллии ее приданое. И потому, считал Тирон, лучший способ выпутаться из сложного положения — жениться на Публилии.
Может показаться странным, что Тирон видел законное оправдание брака в том, что Цицерон не мог должным образом отчитаться в ведении финансовых дел своей подопечной. Нам, наследникам романтиков, увлечения сердца представляются более простительными, чем корыстные расчеты. Но римляне тех времен смотрели на дело по-другому. О причинах, заставивших Цицерона расстаться с Теренцией, мы говорили. Сам он пишет несколько загадочно, что больше не чувствовал себя в безопасности в собственном доме. Может быть, Теренция еще до развода поддерживала сношения с цезарианцами, на что мог бы указывать ее позднейший брак с Саллюстием? Толкала ли она мужа на какие-то неосторожные шаги? Тут можно только гадать. Точно известно лишь одно: Теренция вывозила из дома мебель и переводила на себя все, что могла, из домашнего имущества. Цицерона и при жизни нередко обвиняли в алчности; впоследствии обвинения были подхвачены Дионом Кассием; он вложил их в уста Квинта Фуфия Калена и излагает его пространную речь в сенате; все, что можно было сказать в 43 году в защиту Антония, и все басни и клеветы, которые в эпоху «Филиппик» обрушивались на Цицерона, все собрано в речи. Кален сообщал также, что Цицерон вскоре развелся с Публилией ради нового варианта — женитьбы на Цереллии, старой женщине, значительно превосходившей ею возрастом, само собой разумеется, с целью завладеть ее наследством. Однако о том, как решал Цицерон денежные проблемы, которые встали при разводе с Публилией, не говорится ни слова. Развод действительно состоялся, но по мотивам вовсе не похожим на те, что представлялись Диону Кассию.
Цицерон провел целый месяц в Палатинском доме в обществе Публилии и Туллии; в средних числах января 45 года дочь его разрешилась от бремени мальчиком. Цицерон в этом месяце пишет, по-видимому, каждый день по нескольку страниц «Гортензия». Цель сочинения — побудить читателей к занятиям философией; Цицерон вдохновлялся «Протрептиком», с которым обратился Аристотель к правителю Кипра Темизону. По мысли Цицерона, «Гортензий» должен служить как бы введением в задуманную им серию философских сочинений. Философия, с самой ранней юности занимавшая важное место в умственной и духовной жизни Цицерона, в 46 году стала играть, как мы видели, особенно значительную роль. Как философ, он не сомневался, что предстоящее обновление римского государства невозможно без возрождения нравственных ценностей, восходивших к Платону, к его ученикам и продолжателям и к тем, кого Цицерон числил среди продолжателей, — к стоикам. С таким ходом мысли мы уже знакомы по «Парадоксам»: возрождение Рима невозможно без Катона.
«Гортензий» не сохранился, но благодаря усилиям нескольких поколений филологов мы можем составить себе о нем некоторое представление. Трактат состоял, по-видимому, из двух частей. Сначала на роскошной вилле Лукулла в Тускуле шла беседа между Цицероном, Лукуллом, Гортензием и Лутацием Катулом; беседа происходила, вероятнее всего, в 62 году. Сперва каждый из собеседников произносил похвальное слово тому или другому виду духовной деятельности — историческим сочинениям, поэзии, красноречию (его прославляет Гортензий), наконец, философии, которую превозносит Катул, ставя ее выше всех остальных и утверждая, что «один трактат об обязанностях стоит большего, чем самая длинная речь в защиту Корнелия». Здесь упомянут процесс мятежного трибуна, которого в 65 году Цицерон защищал с особенным успехом как раз против Гортензия и Катула. Для чего напоминает Цицерон об этом давнем эпизоде? Скорей всего он хочет сказать, что даже на взгляд такого родовитого аристократа, как Катул, философия важнее и нужнее римскому государству, чем самые блестящие речи. Но всему судя, эта мысль определяла взгляд Цицерона на политику в первые месяцы 45 года, Почти прямо он заявляет, что нынешняя его деятельность философа важнее для римского государства, чем былое красноречие.
Мысль, высказанная в диалоге Катулом, вызывает горячие возражения Гортензия. Оратор Гортензий, «римлянин старой складки», замечает, что занятия философией есть для Рима нечто новое, а мудрость в практических делах существовала задолго до философии. Он упрекает философов за неясность, с которой они излагают свои взгляды, ссылается на самого Цицерона и, говоря о его теоретических воззрениях и его ораторской практике, спрашивает, как можно, сомневаясь во всем, принимать в то же время твердые и ясные решения. Философия, следовательно, отнюдь не приносит пользы в реальной жизни гражданской общины.
Затем выступает Цицерон, опровергая Гортензия. Он показывает, что в рассуждениях о философии и в осуждении ее Гортензий пользуется теми самыми философскими методами, которые критикует, Гортензий защищается, он нападает на философов еще более решительно: стоики, несмотря на все рассуждения о блаженстве мудреца, испытывают в жизни те же страдания, что и прочие люди; другие философские школы он тоже подвергает критическому разбору. Вывод Гортензия в том, что философские построения не имеют ничего общего с действительной жизнью. Люди дела приносят несравненно больше пользы, а философия «предназначена скорее на то, чтобы услаждать часы досуга, нежели на то, чтобы помогать людям выполнять их жизненные обязанности».
Здесь, как видим, поставлена проблема, с которой сталкивался Цицерон, размышляя о возможности основать политическую жизнь на учениях философов. Давняя эта идея, сформулированная некогда Платоном, неоднократно обсуждалась в эпоху эллинизма; Цицерон думает так уже в трактате «О государстве». Но римляне издавна предубеждены против философии и никогда пе были склонны принимать всерьез споры записных философов. Предубеждение сохранялось долго — веком позже, выбрав Сенеку в наставники Нерона, Агриппина объясняла, что ему не следует обучать своего воспитанника философии.
Цицерон отвечает Гортензию, что философия венчает все виды человеческого знания в их совокупности, он набрасывает программу воспитания молодых римлян. Участие в общественных делах — главное занятие гражданина, но оно требует самых разнообразных знаний, духовного опыта, основанного на изучении истории, а также изящной литературы, открывающей перед юношей все бесконечные возможности человеческого духа.
Вторая часть сочинения — протрептик, наставление в собственном смысле слова, пространная речь, побуждающая читателя обратиться к изучению философии. Вслед за Аристотелем (автором «Никомаховой этики») Цицерон принимает за исходное самоочевидное положение: каждый человек стремится к счастью. Сенека, заметим кстати, в трактате «О блаженной жизни» утверждал то же. Остается решить, в чем состоит счастье. Существуют ложные ценности — вожделения души, которые на самом деле приносят одни лишь горести. Наши стремления, если нет в их основе философски осмысленного понятия об истинном благе, легко приводят к ложным выводам и поступкам. Отсюда и все беды, которые переживает гражданская община: от стремления к богатству любой ценой, от непомерного честолюбия, от жажды власти и славы, в погоне за которой допускаются самые предосудительные приемы. Цицерон обращается к одному из главных вопросов времени — о причинах гражданской войны. Помпей и Цезарь жаждали славы, которая блистала бы во всей Вселенной. Еще в диалоге «О государстве» Цицерон писал, что человеческая слава не может выйти за пределы малого уголка Вселенной. Насколько можно судить, в «Гортензии» он возвращается к этой мысли. В трактате «О государстве» он утверждал, что имя римлян неизвестно ни за вершинами Кавказских гор, ни за Гангом. Цезарь намеревался в ближайшем будущем доказать обратное, и в Риме, по-видимому, уже поговаривали о его планах. С философской точки зрения планы Цезаря не заслуживали одобрительной оценки, ибо философия учила, что сравнительно со сроками обращения небесных тел жизнь наша предельно коротка; быстротечна любая слава, не основанная на свойствах души человека, а подлинно славен лишь тот, кто живет по законам доблести. Слава его не зависит от внешних побед и свершений. Здесь мы снова встречаем идею, намеченную в «Парадоксах»: счастье — удел лишь того, кто живет жизнью духа и всегда идет прямым путем. И единственное целительное средство от всех бед, которые терпит государство, дает философия, ибо избавляет пас от стремления к внешним целям, оставляет нас один на один со Вселенной. Как верный ученик скептической Новой Академии, Цицерон считает, что полное знание совершенной истины нам недоступно, оно принадлежит лишь богам, но сами поиски истины приносят человеку счастье. Они приближают нас к богам и предвещают жизнь после смерти — если вообще мы можем что-либо знать о посмертном существовании.
Вот над чем размышляет Цицерон в январе 45 года. В середине месяца (день нам в точности неизвестен) на свет появился ребенок Туллии. Вскоре все трое, Цицерон, Туллия и Публилия, уехали в Тускул. Здоровье Туллии не внушало никаких опасений. В середине февраля она умерла. Внезапная смерть дочери потрясла Цицерона. Два месяца спустя он пишет Сульпицию Руфу, что этот последний удар отнял все, что составляло его счастье. Прежде, когда его вынуждали отойти от государственных дел, он находил утешение дома, в разговорах с Туллией. Теперь не осталось ничего. О Публилии больше речи нет. Сразу же после смерти Туллии Цицерон отправил ее в Рим, объявил, что желает остаться один. По-видимому, молодая женщина ревновала его к дочери и испытала некоторое удовлетворение, когда та умерла, — мысль эта была Цицерону невыносима. Родственники Публилии пытались помирить их; Цицерон уклонился и укрылся на время в имении Аттика в Но-ментаиской области, к северу от Рима.
По Риму поползли клеветнические слухи об отношениях Цицерона с дочерыо, сплетники старались увидеть в них инцест. Слухи не имели решительно никаких оснований. Клевета во все времена была оружием в политической борьбе.
Вскоре Цицерон перебрался в римский дом Аттика и погрузился в чтение содержавшихся в его библиотеке сочинений, принадлежавших к особому жанру античной литературы — так называемым «Утешениям». Жизнь в Риме, однако, оказалась невыносимо шумной, слишком много посетителей являлись каждый день к Аттику на поклон. Цицерон снова уезжает, па этот раз в недавно приобретенное имение в Астуре, на полпути между Акцием и Цирцеями, на берегу моря. Неподалеку здесь был лес, настолько дремучий, что в глубину его трудно было проникнуть, и Цицерон уходил туда с раннего утра и возвращался лишь поздно вечером. Оратор читает, размышляет, привычка к постоянному умственному труду спасает его от пароксизмов скорби, хотя на первых порах умственные занятия не утешают скорбь, а лишь вызывают вихрь неуправляемых мыслей. Однажды, правда, докучный посетитель настиг Цицерона в астурском уединении; к нему явился Марций Филипп, отчим юного Октавиана, будущего императора Августа. Цицерона ничто с ним не связывало, и беседа свелась к пустой болтовне; к счастью, визит продолжался недолго. По-настоящему открыть душу Цицерон мог только Аттику, что и делал в письмах от марта 45 года, сохранившихся до наших дней. В одном из них оратор упоминает об «Утешении», которое пишет для самого себя, и о намерении возвести в память дочери святилище с жертвенником.
«Утешение» до нас не дошло, но, как и в случае с «Гортензием», ученым нового времени удалось, опираясь на несколько сохранившихся фрагментов и на некоторые другие произведения, близкие по времени и содержанию (в первую очередь «Тускуланские беседы»), создать более или менее убедительную реконструкцию. По всей вероятности, Цицерон нарушил стоическую заповедь, согласно которой полагалось предоставить времени умерить скорбь, и написал «Утешение» сразу же после смерти Туллии. Тут же, немедленно хочет он найти утешение, читая размышления философов, обнаруженные в библиотеке Аттика. Он читает Крантора, других авторов, обнаруживает у них обычные для темы общие места: умереть молодым — хорошо; жизнь человеческая настолько горестна, что расстаться с ней — благо и т. д. Рассказ о чтении «Утешений» — своего рода введение к книге. Затем Цицерон излагает взгляды различных философских школ — перипатетиков, эпикурейцев, киренаиков, стоиков (в первую очередь Клеанфа и Хрисиппа) — на то, можно ли и надо ли преодолевать скорбь. Цицерон высказывает критические замечания и в конечном счете признает наиболее убедительными аргументы академика Крантора, восходившие к учению Платона. Однако ученые реминисценции служат Цицерону лишь формой для выражения собственных чувств. Читая размышления и описания в сочинениях философов, он каждый раз заново переживал свою утрату. Так, на собственном опыте постигает он проводимое стоиками различие между «скорбью» и «горем». Горе проявляется в выражении лица или в слезах, с ним Цицерон еще может справиться; но скорбь есть состояние души, внутренняя рана, и тут он бессилен. Пытаться освободиться от скорби значит лишиться части души. В скорби душа живет и преображается. Тот, кто отказался от скорби, скажет Цицерон в «Тускуланах», уподобился животному. Скорбь следует принять и затем преодолевать с помощью философии. И не следует соблазняться мыслью Хрисиппа, будто знаки скорби есть приношения, радующие покойного. Не стоит верить народным предрассудкам, согласно которым похоронные обряды нужны, дабы умилостивить души усопших и примирить их с нами. Цицерон это понимает, и все же ему кажется, что, подавляя слезы, он наносит Туллии обиду.
Самым полным источником утешения остается для него учение Платона о бессмертии души. Уже в «Гортензии» эта гипотеза рассматривалась как самая вероятная. Здесь, в «Утешении», не остается никаких сомнений. Души, подобные душе Туллии, не могут погибнуть, как не погибли души великих людей прошлого, хотя бы, например, Сципиона. Цицерон возвращается в круг мыслей и образов мифологической картины, что завершает диалог «О государстве». То, что ранее было надеждой, со смертью Туллии превратилось в уверенность. В памяти встает последняя ночь Катона в Утике, он провел ее за чтением «Федона» и окончил самоубийством.
Согласно наиболее вероятным предположениям, «Утешение» написано между 7 и 11 марта в Астуре. В письме от 11 марта Цицерон делится с Аттиком намерением, которое естественно продолжает мысли «Утешения»: воздвигнуть святилище в память Туллии. Кажется, правда, Цицерон уже обсуждал этот замысел с другом в пору их совместной жизни в Риме. Святилище должно было представлять собой не столько могилу, сколько, как мы бы сейчас сказали, «часовню» — маленький храмик, окруженный колоннадой. Сооружения такого рода греки называли «героон» и возводили их обычно в честь людей, которым приписывалось божественное происхождение, основателей городов, более или менее мифических персонажей, полубогов. Многие философы делали отсюда вывод, что и традиционные божества — не более чем души смертных,, оказавших особенно большие благодеяния человечеству; даже эпикурейцы, которые обычно подчеркивали, сколь огромно расстояние, отделяющее богов от людей, утверждали, что Эпикур носил в душе некоторую божественную потенцию. В таких рассуждениях заключена уверенность: человек высокой духовности не может навсегда исчезнуть, и так же не может исчезнуть существо, подлинно и глубоко любимое. Сохранились надписи на могилах молодых римлянок, в которых выражается уверенность, что они стали богинями, уподобились Венере, Диане, другому божеству. Умерший — не только горсть пепла, в которой сохраняется искра жизни, как полагали римляне в старину. Он обретает собственную жизнь, не знающую материального воплощения, и существует где-то на полпути между прежним местом жизни и обиталищами традиционных богов. Думать так о Туллии Цицерона, бесспорно, заставляли философские представления, но здесь чувствуется и некий новый взгляд на мир, который затем развивался в эпоху империи, и, конечно, глубокая любовь к дочери.
Несколько месяцев Цицерон ищет подходящее место для святилища Туллии. Он думает об Астурской вилле, потом о садах в окрестностях Рима и еще о многих местах, в частности, о рощах Трастевере, где находились и сады Цезаря. По просьбе друга Аттик тоже принимает участие в поисках. Цицерон настаивает на своем замысле, изыскивает средства, но возникают все новые трудности, и упоминания о святилище встречаются в письмах все реже. Примерно с начала лета воцаряется полное молчание. Скорее всего святилище так и не было построено.
Смерть Туллии оторвала Цицерона от работы над философскими сочинениями, он задумал заложить духовные основы государства нового типа. Однако все пережитое заставило его по-иному взглянуть на главные направления философии своего времени. Днем и ночью работает он над созданием свода философских трудов — на протяжении марта еще на Астурской вилле, с 1 апреля у Аттика в Номентанском поместье, в первой половине мая снова в Астуре и после 16 мая в Тускуле, где обстановка не так живо и мучительно напоминала о последних минутах Туллии. На этих виллах он создает сначала диалог, в котором принимают участие Гортензий, Лутаций Катул, победитель Митридата Лициний Лукулл, сам Цицерон. Мы называем его «Учения академиков I». Выбор персонажей не случаен: Цицерон хочет сказать, что самые известные оптиматы, полководцы, одержавшие исторические победы — над кимврами или над Митридатом, отнюдь не избегали философских занятий и хорошо знали учения, разработанные греками; так оно, в сущности, и было, но все же не совсем так. Лукулл действительно слушал лекции Филона из Лариссы, во время азиатских походов держал при себе Антиоха Аскалонского и хорошо владел учением Академии, как Новой, так и Старой. Но этим скорее всего его философские познания и исчерпывались. И можно с уверенностью сказать, что тех речей, которые вкладывает в его уста Цицерон, он никогда не произносил. Цицерон описывает воображаемый разговор, состоявшийся будто бы в 62 году или в 61-м. Таланты же, о которых говорится в диалоге, были в самом деле присущи Лукуллу — необычайная память и мудрость, что помогла ему установить порядок в Азии; провинция долго еще жила установлениями Лукулла (там, впрочем, действовали позднейшие установления Помпея, но о них Цицерон умалчивает, без сомнения, вполне сознательно). Цицерон хочет доказать, что между занятиями философией и активным участием в политической или военной деятельности нет никакого противоречия. Республика в будущем сможет жить опытом великих людей предыдущих поколений, таких, как Лукулл.
Из сочинения «Учения академиков I» сохранилась лишь вторая книга, озаглавленная «Лукулл». Тема беседы здесь — проблема познания: возможно ли достижение истины? Лукулл отстаивает точку зрения Антиоха, примыкающего к стоикам: познание истины возможно; Цицерон же остается верен учению Филона: истина, разумеется, существует, но мы никогда не можем быть уверены, что достигли ее, можно лишь приблизиться к мнению, относительно вероятному, и строить свое поведение в соответствии с ним.
Об окончании обеих книг «Учения академиков I» Цицерон ставит в известность Аттика в письме от 13 мая. Несколько дней спустя Аттик передает ему пожелание Варрона: последний обещал посвятить Цицерону свой трактат «О латинском языке», может быть, Цицерон на основе взаимности посвятит Варрону одно из своих сочинений? Цицерон отвечает, что находится в затруднении, сейчас он работает над трактатом «О пределах добра и зла» и уже обещал посвятить его Бруту, но он может создать новый вариант «Учений академиков», введя Варрона в число участников диалога. В новом варианте не будет ни Лутация Катула, ни Лукулла, ни Гортензия, их места займут сам Цицерон, Аттик и Варрон. Цицерон склонен поступить именно так, ибо по зрелом размышлении не считает удачным вкладывать в уста Катула и Лукулла рассуждения, им вовсе не свойственные, ведь тогда и сами доказательства оказываются менее убедительными, чем хотелось бы. Однако следует вывести таких персонажей, которые отстояли бы во времени достаточно далеко от современности, но свободно владели бы материалом философии. Одно время Цицерон подумывал заменить собеседников в «Учениях академиков» Катоном и Брутом. В конце концов он все же согласился с предложением Аттика. В результате возникли «Учения академиков II» в четырех книгах. Из них сохранилась только первая, да и та не полностью. Проблема, здесь обсуждаемая, — та же, что в первом варианте книги. Варрон отстаивает учение Антиоха, который и в самом деле был его наставником. Цицерон, насколько можно судить, выступал с позиций Филона, то есть умеренного скептицизма. Задача сочинений, однако, не исчерпывалась изложением и критикой определенных философских учений. Она была более сложной — сопоставить мнения философов таким образом, чтобы они в одних случаях подкрепляли, а в других опровергали друг друга. Самое важное для Цицерона — сохранить независимость мысли, избежать правоверной преданности какой-либо одной школе. Поскольку абсолютная истина нам в принципе недоступна, в каждом учении содержится определенная доля правды, на которой можно в каждом случае построить рассуждение in utramque partem, то в пользу одного тезиса, то в пользу противоположного. Так раскрываются все возможности человеческой мысли, все пути к истине, ей доступные.
Одновременно с подготовкой и переделкой «Учений академиков» Цицерон работал над другим сочинением, как бы продолжением и иллюстрацией предыдущего — над трактатом «О пределах добра и зла». Трактат полностью сохранился. Собеседники в «Гортензии» утверждают, что цель каждого человека — достигнуть счастья; естественно задать философам прошлого вопрос: в чем оно? Но каждый из них рассматривал «предел» человеческих стремлений по-своему, и ответ на поставленный вопрос весьма труден. Итак, что же считать высшим благом? Наслаждение? Отсутствие страдания? Может быть, жизнь в соответствии с природой? Но с природой чего? Нашего организма, разума, того и другого? Существовали ведь и другие варианты: кто полагал высшее благо в познании, кто — в созерцании, кто — в добродетели. Написано бесконечное число сочинений о «пределах», где рассматривались бесчисленные и самые различные варианты. Философы словно бы охвачены какой-то манией и состязаются в тонкости определений, они забыли, что задача состоит не в выработке определенных теоретических построений, а в первую очередь в установлении правил и образцов жизненного поведения.
Разнообразные «пределы» Цицерон классифицирует по трем школам, которые господствовали в философии I века до н. э.: эпикурейцы, стоики, академики. Первая книга посвящена изложению философии эпикуреизма, вторая — ее опровержению, в третьей и четвертой также излагается и опровергается стоицизм, пятая содержит учение Академии, и сочинение завершено. Академическая доктрина не опровергнута. Трактат состоит из трех бесед, действующие лица в каждой — другие. В первых двух книгах разговор происходит в 50 году на вилле в Кумах, участвуют в нем, кроме самого Цицерона, два молодых человека, Луций Манлий Торкват и Гай Валерий Триарий. Цицерон относился к ним с большим уважением; оба погибли в гражданской войне. Второй диалог, охватывающий книги третью и четвертую, происходит между Катоном и Цицероном в Тускуле в 52 году. Третий, заключенный целиком в пятой книге, переносит нас в значительно более отдаленную эпоху, когда Цицерон в 79 году путешествовал по Греции. Автор приводит нас в Афины, в священную рощу Академа — места, вызывавшие благоговение каждого последователя Академии. Время и место имеют символический смысл: Цицерону двадцать семь лет, все здесь напоминает Платона, мы как бы пребываем у самых истоков мысли молодого оратора; вокруг друзья, действительно сопровождавшие автора в ту пору — Марк Пупий Пизон, Аттик, Квинт и рано ушедший из жизни двоюродный брат Луций. В начале 45 года в живых не было уже и Пизона, остальные здравствовали. Прошло много лет, люди изменились, сыграла свою роль гражданская война, так что некоторое несоответствие образа прототипу легко извинимо.
Расположение эпизодов не случайно: от идей, ему чуждых, Цицерон постепенно переходит к особенно ему дорогим и близким. Никогда не питал он симпатии к эпикуреизму, считая его вредным для государства и разделяя старинное римское отвращение к мысли о том, что главное в жизни — наслаждение. Предубеждение зародилось еще в III веке до н. э., в пору войны с Пирром, а столетием позже, когда в Риме появились эпикурейцы, они были из столицы изгнаны. Тем не менее у эпикуреизма было немало сторонников, в большинстве, правда, тайных. Убеждение эпикурейцев в том, что политикой заниматься не следует, тоже было неприемлемо для римлян. В новой республике для Эпикура не оставалось места. Цицерон ставит ему в вину недооценку разума и переоценку ощущений, непонимание подлинной природа человека. «Добродетель», то есть высшее в человеке, — не наслаждение, а нравственное совершенство; а оно основано на четырех свойствах души: осторожной мудрости, мужестве, справедливости, самообладании. Эти четыре традиционных добродетели известны со времен Платона и приняты всеми философскими школами. Обретя их, человек достигает высшей доступной ему степени совершенства, которая, конечно, не имеет ничего общего с наслаждениями и довлеет себе, что подтверждают многочисленные исторические примеры: взять хотя бы того же Регула — он предпочел подвергнуть себя самым страшным мучениям, но не изменил данному слову. Эпикур же ставит наслаждение выше нравственности, подчиняя тем поведение человека воле случая, ибо возможность наслаждения зависит от условий, которые нам неподвластны. Между тем чрезвычайно важно стремиться к цели, не зависящей от обстоятельств, по отношению к нам внешних, сохраняя уважение к внутренней самоценности человека. Зависимость от наслаждения, напротив того, предполагает известную пассивность — положение, неприемлемое для римлянина, достойного называться этим именем. История показывает, что все, кто стремился к идеалу, будь то люди искусства, поэты, государственные деятели, вдохновлялись не мыслью о наслаждении, а жаждой абсолюта, совершенства, славы, дающих человеку высшую радость. Так, полным поражением эпикуреизма оканчивается первый диалог.
Тема второго диалога — стоицизм. Разговор ведут Цицерон и Катон, происходит он на вилле Лукулла в Тускуле, где живет Лукулл Младший. Диалог Катона и Цицерона выглядит довольно искусственно — не говоря уж о том, что вряд ли встреча в Тускуле была на самом деле. Введение в диалог Марка Лициния Лукулла, племянника и ученика Катона и сына «великого» Лукулла, не случайно. В описываемое время Лукуллу Младшему двенадцать лет, он носит еще детскую тогу-претексту. Следовательно, Лукулл Младший принадлежит к поколению, которое, как надеется Цицерон, увидит восстановленную республику. Цицерон считает очень важным приобщить мальчика ко всей совокупности познаний и прежде всего к философии, подготовить его к роли, которую ему предстоит играть в государстве. В этом отношении Цицерон и Катон полностью согласны друг с другом. Есть и еще нечто, их объединяющее: оба видят единственно подлинное благо в добродетели. Если так, спрашивает Катон, то почему Цицерон не переходит полностью на позиции стоицизма, ведь стоицизм весь строится на этом положении? Потому, отвечает Цицерон, что стоицизм лишь пересказывает своими словами учения Академии и Аристотеля. Катон возражает: дело обстоит вовсе не так, и в доказательство излагает философию Стой. Ответ Цицерона сосредоточен в четвертой книге. Во многом соглашаясь со стоиками, он не приемлет их отношения к человеку; стоики обедняют человека, сводя целиком к одному только разуму. Катон прав, уподобляя добродетельный поступок движениям плясуна, которые прекрасны сами по себе и не предполагают никакой внешней цели; но и все то, что лежит за пределами такой внутренней самодовлеющей гармонии, далеко не безразлично, по мнению Цицерона. Существует еще «приличие», которое тоже лежит в основе морали, имеющей, однако, внешние мотивы. Замечание продиктовано учением Аристотеля; он устанавливал иерархию человеческих свойств и способностей, как тех, что всецело зависят от души, так и тех, что связаны с потребностями тела. Стоицизм бескомпромиссно суров, и в этом заключена немалая опасность. Философы-стоики, хоть и советуют принимать участие в жизни государства, сами никогда этому совету не следовали, они лишь произносили бесчисленные речи, грубо осуждая все вокруг, и только Панеций в середине II века смягчил их учение, придав ему некоторый оттенок платонизма.
Изложение философии Аристотеля доверено самому старшему участнику беседы — Пупию Пизону; он основывается на провозглашенном Теофрастом принципе «самодостаточности», то есть стремлении всякого живого существа полностью реализовать все, заложенное в него природой. Человек есть существо разумное и общественное, отсюда следует, что нравственно такое его поведение, которое содействует выявлению этой его природы. Все, что содействует самоусовершенствованию, процветанию государства, расширению познаний и составляет «предел», к которому следует человеку стремиться. Идеал, как видим, полностью противоположный идеалу стоиков. «Мы рождены, чтобы действовать», — говорит Пизон, действие же неизбежно предполагает внешний объект, на который оно направлено. Жизнь философа поэтому не может быть сосредоточена только в нем самом. Ее цель — воздействовать на окружающий мир. Наиболее возвышенная форма воздействия осуществляется в пределах общностей, связующих людей, — семьи, дружеского круга, полиса. Общественная мораль таким образом естественно связана с фундаментальными ценностями римской традиции, на которых с незапамятных времен зиждилась семейная и политическая жизнь Рима. Соединение греческой философии с римским общественным опытом привело к тому, что главная добродетель, по Цицерону, справедливость и право в их неразрывной связи; в Греции же первое место обычно отводилось мудрости, то есть добродетели интеллектуальной и в то же время «теоретической». Римская prudentia, считает Цицерон, — основа и источник всех других добродетелей: «Справедливость и право могут соблюдаться лишь человеком, обладающим мужеством и мудростью».
Может ли такой человек быть счастливым, несмотря на все беды, его гнетущие? Он может страдать, может испытывать горечь, но не впадет в отчаяние, не сокрушится духом. Так говорит в диалоге Пизон, и слова его выражают чувства Цицерона после смерти дочери. Философские диалоги этой поры — отнюдь не просто теоретические построения, сконструированные по греческому образцу; при всей учености они — плод глубоких личных раздумий, страданий и опыта.
В конце июня текст диалога «О пределах добра и зла» был передан переписчикам и 10 июля переслан Аттику для публикации. А уже 29 мая Цицерон начал работу над «Тускуланскими беседами», сборником из пяти «чтений» на различные темы, изложенных на вилле в Тускуле перед кружком друзей. Это сочинение также посвящено Бруту. Все пять книг окончены в последние дни августа или, может быть, в самом начале сентября. Творческая энергия Цицерона на протяжении этих месяцев превосходила все человеческие возможности. «Тускулан» ему тоже мало. Философские сочинения, как он считает, недостаточно полно отражают его политические идеи, и он подумывает о создании книг, непосредственно посвященных жизни государства.
Политическое положение тем временем определилось. Битва при Мунде победоносно завершила Испанский поход Цезаря. Помпеянская армия больше не существовала. Гней был убит. Секст бежал. Битва при Мунде произошла 17 марта, но весть дошла до Рима месяцем позже, 20 апреля, накануне праздника Парилий, которым отмечалась каждая годовщина основания Рима. Цезарь отныне — властитель государства. Ходили слухи, что он готовит поход на Восток — отомстить за поражение Красса, смыть бесчестье с имени Рима; подлинная цель была другая: распространить свою власть на весь известный мир, древняя мечта всех великих властителей. Тот же замысел сгубил в свое время Александра Македонского. Пока что Цезарю предстояло преобразовать государство и восстановить порядок; оставить Рим в состоянии разброда, во власти весьма сомнительных личностей было рискованно. Вероятно, Цицерон и Аттик говорили об этом в конце апреля на Номентанской вилле и решили от имени Цицерона направить Цезарю обстоятельное письмо о мерах, которые целесообразно принять. Письмо Цицерон написал 14 или 15 мая по дороге из Астуры в Тускул. Послания такого рода, представлявшие собой, в сущности, небольшие трактаты, были приняты в Греции. Исократ некогда облекал в эту форму свои советы Никоклу, правителю Саламина на Кипре, Зенон с той же целью писал царю Антигону Гонату. В самом Риме Саллюстий дважды обращался к Цезарю с письмами (многие современные ученые считали их поддельными, но теперь выяснилось, что они подлинные). В несохранившемся письме Цицерон, по-видимому, излагал те мысли, о которых шла речь выше; по крайней мере, такое впечатление складывается на основании переписки того времени. Цезарь все еще находился в Испании. Перед тем как отправить письмо, Цицерон показал его Оппию и Бальбу, которые в отсутствие диктатора ведали делами в Риме. Оба отнеслись к письму неодобрительно: в таком виде, считали они, отправлять письмо нельзя. Больше всего, насколько можно судить, оба возражали против упоминания о походе на Восток. Но если о нем не упоминать, пишет Цицерон, письмо сведется к чистой лести и не принесет никакой пользы. Лучше уж тогда хранить молчание.
Отзыв друзей Цезаря вызван их осведомленностью о намерениях Цезаря и добрым отношением к Цицерону — они стремились помешать оратору сделать опрометчивый шаг. Цицерон понимает их намерения, как пишет он Аттику 25 мая; на следующий день, еще раз все обдумав, он окончательно отказывается изменить в письме что бы то ни было; он понимает — Цезарь больше не считает себя просто человеком, он чувствует себя царем; льстить ему Цицерон не хочет. Думать так о Цезаре были все основания. После победы при Мунде, как узнаем мы из рассказа Диона Кассия, сенат принял решение воздать командующему чрезвычайные почести, которые фактически ставили его в положение царя. Сенаторы предоставили Цезарю право соединять в одном своем лице все магистратуры, они распорядились также поставить его статую в храме Квирина, а в пору Торжественных игр изображение его приказали ставить вд колесницу среди изображений богов. Цицерон пишет Аттику: «Разве не заметил ты, что даже великий ученик Аристотеля, при всей его гениальности, при всей удивительной скромности, едва лишь провозглашен был царем, стал спесив, жесток, потерял всякий удерж?» Цезарь, говорит он, находится на том же пути; колесница в процессии на играх, статуя в храме Квирина вскружили ему голову. Восемью днями раньше, узнав, что статуя обожествленного Цезаря будет стоять рядом со статуей Ромула, Цицерон позволил себе кровожадную шутку: пусть лучше Цезарь находится под покровительством Квирина, чем под покровительством Салюты (богини-спасительницы, которая продлевала жизнь). Ведь Ромул, до того как стал богом Квирином, был убит сенаторами на Марсовом поле. На Цезаря ложились пророческие тени. Мысль о смерти тирана впервые появилась на свет.
Раздраженный тем, что письмо его Цезарю не получило одобрения, Цицерон решил вместо него написать некое политическое сочинение и изложить и обосновать в нем те же идеи. Речь шла, как кажется, о диалоге, отнесенном к золотому веку республики, то есть к середине предшествующего столетия. Для работы над сочинением Цицерону понадобились труды Дикеарха (которому столь многим обязан его диалог «О государстве»), и он просит Аттика их выслать, Но, то ли поняв, что момент неподходящий, то ли обнаружив, что не сможет сказать что-либо новое сравнительно со сказанным в 55 году, Цицерон от задуманного сочинения отказался. История с отвергнутым письмом оставила, однако, в душе его глубокий след. На это совершенно ясно указывают «Тускуланы».
«Тускуланские беседы» посвящены пяти вопросам, которые по традиции обсуждались в школах философов. Первая беседа посвящена смерти. Является ли смерть злом? Если эпикурейцы правы и умерший человек перестает что бы то ни было чувствовать, то она не может быть злом, а в некоторых случаях может даже стать благом. Если же душа бессмертна, значит, она божественна по своей природе и, следовательно, расставшись с телом, устремляется к богам в горние пределы, где ее ожидает блаженство. Утверждать здесь с полной очевидностью ничего нельзя, но все же последнее предположение представляется самым вероятным. В ходе этих рас-суждений Цицерон между прочим воздает хвалу «великим мужам», которые, перед тем как уйти из жизни, стараются дать людям законы, определенные установления, оставить след в «делах народных», res publica, подобно тому как поступают добрые отцы семейств, бросая в землю семена деревьев, тенью которых будут наслаждаться их дети и внуки. То был явный призыв, обращенный к Цезарю, заслужить чем-то подобным благодарную память потомков; Цицерон пытается придать смысл его обожествлению. Если Цезарь даст Риму истинные законы, он будет на небесах рядом со Сципионом.
Во второй беседе обсуждается вопрос о страдании. Действительно ли оно есть худшее зло, на которое может быть обречен человек? Конечно, страданий следует избегать, но человек, обладающий волей, даже если они обрушились на него, может восторжествовать над ними, и тем легче, чем более он помышляет о славе. Если же страдания становятся чрезмерны, нас всегда избавит от них смерть. Последнее положение полностью принадлежит стоической философии. Это обстоятельство, однако, не должно исказить для нас подлинный характер «Тускуланских бесед» в целом: в этом сочинении Цицерон не пытается обосновать справедливость своих мыслей ссылками на греческие авторитеты, не излагает в точности то или иное учение греческих философов, перед нами как бы сплав тех учений, пережитых и переосмысленных автором в свете его личного опыта.
В третьей «Тускулане» речь идет о скорби душевной. Проблема встала перед Цицероном после смерти Туллии. Скорбь души питается ложными чувствами. Чтобы иллюстрировать это положение, Цицерон погружается в рассуждение о славе: есть слава подлинная, венчающая честные деяния, а есть и ложная, которая толкает человека любой ценой добиваться магистратур, военного командования, одобрения народа. Рассуждение это содержится в вводной главе и явно намекает на Цезаря. Может быть, и душа Цезаря находится в состоянии болезненного сокрушения?
В четвертой беседе продолжается обсуждение в более широком плане проблемы, поставленной в третьей. Разговор о душевной скорби переходит в разговор о страстях вообще, и Цицерон трактует эту проблему в соответствии с учением стоиков и в первую очередь Хрисиппа. Он соглашается, что страсти проистекают из ложного суждения о внешних обстоятельствах. Избежать ложных суждений помогает философия.
В пятой «Тускулане» ставится вопрос о том, достаточно ли добродетели для счастья — этого предела всех желаний человека. Цицерон обращается к Платону, утверждавшему, что блаженство существует лишь там, где природа существа достигает своего совершенства. Между тем совершенство человека заключено в добродетели, следовательно, без добродетели невозможно счастье. Неправедный человек не может быть счастливым. Для подтверждения Цицерон обращается к доказательствам исторического свойства, приводит в пример тиранов. Он подробно рассказывает о тиране Сиракуз Дионисии. Опираясь на сочинение Филиста, историка правления Дионисия, Цицерон дважды обращался к этому примеру в диалоге «О государстве»: Дионисий — наиболее полное воплощение образа тирана. С помощью интриг и коварства сумел он захватить верховную власть, был человеком деятельным и умным, но добрые его свойства принесли лишь отрицательные результаты. Под его правлением Сиракузы, один из прекраснейших городов мира, перестали быть «народным государством», res publica. Именно в таком положении оказался Рим после победы Цезаря и особенно после битвы при Мунде. В пятой «Ту-скуланской беседе» Цицерон создает образ Дионисия, весьма напоминающий читателю Цезаря. Оба — люди энергичные, деятельные; подобно Цезарю, Дионисий занимался литературой, написал даже трагедию. Оба одиноки: у Цезаря, как и у Дионисия, нет подлинных друзей (последнее вскоре полностью подтвердилось). Мысли эти получили более широкое развитие в трактатах «О предвидении» и «О природе богов». Лишенный возможности писать то, что считает нужным, чувствуя нависший над ним меч тирана, Цицерон все-таки надеется, он ищет примеры в истории и в сочинениях Платона. И все яснее вырисовывается в сознании мысль — душу тирана исцелить невозможно. Единственный выход — обречь его на смерть.
Таков август 45 года. Цицерон не просто излагает учения философов, они становятся частью его существования, он переживает их глубоко лично; в то же время он старается заставить философию говорить языком римского красноречия, вывести ее из узкого круга, где с ней знакомятся по греческим подлинникам. Общественно-политическая жизнь Рима должна основываться на философии и разуме; Цицерон стремится осуществить старинную мечту Платона, которая самому Платону представлялась не более чем утопией. Что не удалось в Сиракузах, может стать реальностью в Риме, — если, конечно, сегодняшний владыка согласится. Ну а если не согласится, его ждет судьба всех тиранов. Об этом исходе думали многие, далеко не один Цицерон.
Гай Требоний — один из самых верных помощников Цезаря. Он сопутствовал полководцу в галльских кампаниях, заменял его в 49 году при осаде Массилии; претор 48 года, Требоний в Риме, действуя разумно и умеренно, сумел предотвратить серьезные беспорядки при обсуждении вопроса о долгах, позже он представлял власть Цезаря в Дальней Испании, но вынужден был покинуть провинцию в связи с бесконечными бунтами и восстаниями, уступив ее помпеянцам, которым именно здесь суждено было пережить последнее поражение в битве с войсками Цезаря. И вот теперь Требоний замыслил убить Цезаря, когда тот возвращался из Испании в конце августа 45 года. Плутарх сообщает, что Требоний поделился своим замыслом с Антонием, который прибыл в Рим до возвращения армии. Антоний отказался принять участие в заговоре, но промолчал, и на последние месяцы года Цезарь сделал Требония консулом-суффектом. Что именно толкнуло Требония на такой шаг, неизвестно. Не было пи ссоры, ни личной неприязни. Но Требоний задумал покушение как раз в то время, когда и Цицерон пришел к заключению, что другого выхода нет — Цезарь все более открыто держал себя как царь.
Без сомнения, уже с августа Цицерон думал о заговоре против Цезаря. Он относился к такой возможности одобрительно, а наиболее подходящим человеком для ее реализации считал Брута. Это видно из ответа Аттику от 17 августа на сообщение о полученном из Цизальпийской Галлии от Брута письме, исполненном радости по поводу того, что Цезарь «переходит на сторону добропорядочных людей» — другими словами, республиканцев. Цицерон пишет, что ничему этому не верит. «Добропорядочные люди» давно уже в подземном царстве. Неужто Цезарь хочет присоединиться к ним? Брут забыл, прибавляет Цицерон, как однажды на какой-то из своих вилл рассказывал, что в роду его было двое тираноубийц — первый консул Брут и Гай Сервилий Ахала, который убил Спурия Мелия, стремившегося к царской власти» Несколькими месяцами позже стали передавать из уст в уста: самим своим родом Брут предназначен избавить Рим от тирании. Но можно ли по-настоящему положиться на Брута? Позже Цицерон скажет, что Брут образцовый воспитанник Академии — он идет то в одном направлении, то в противоположном.
Пока Цицерон полумечтал-полуразмышлял о планах заговора, Цезарь не торопясь двигался к Риму. С ним возвращался из Испании племянник оратора Квинт; в это время он занял какое-то место в жизни Цицерона. После всего дурного, что он рассказывал о дяде, Квинт вздумал обратиться к нему с письменными разъяснениями; нелепое письмо лишь усугубило обиду. День вступления Цезаря в Рим неизвестен. В конце августа в Риме появляются многие из его помощников, так что, по-видимому, сам он находился уже неподалеку от столицы. На 1 сентября назначено заседание сената, где должен присутствовать Цезарь. Цицерона просят принять в нем участие. Он пытается уклониться. Старому консулярию дают понять, что, если он явится, Цезарь будет ему благодарен. Цицерон не придает обещаниям никакого значения, он считает, что Цезарь хочет создать свиту, подобающую «царю» — теперь все чаще Цицерон называет его в письмах именно так. Впрочем, любую возможность выступить на защиту республиканской идеи нельзя упускать.
В это время Цицерон пишет похвальное слово Порции, сестре Катона и жене Домиция Агенобарба, побежденного под Корфинием и убитого при Фарсале. Порция — тетка Брута. Похвальное слово Порции должно было укрепить Брута в тех чувствах, что навевали ему традиции семьи. Экземпляр этого небольшого сочинения Цицерон посылает также сыну Домиция Агенобарба. Он старается всеми способами разжечь ненависть к тирану.
Цицерон не только пишет эти сочинения, не только создает «Тускуланы» и «О пределах добра и зла», в те же дни он переводит еще диалог Платона «Тимей», не исключено также, что несохранившийся перевод «Протагора», обычно относимый к временам молодости Цицерона, был на самом деле выполнен в этот поздний период. По содержанию, по способу рассуждений диалог полностью входит в круг раздумий молодого Цицерона об отношениях между теоретическим знанием и практической деятельностью; но нельзя не видеть также, что сочинение Платона имеет прямое отношение к философскому обоснованию политической деятельности, к образу политика нового типа, занимавшему Цицерона в конце жизни. В словах Протагора он находил формулировки собственных мыслей: «Чтобы город жил, нельзя допустить существование в нем хотя бы одного человека, не ведающего, что такое гражданская доблесть». Столь же близки ему мысли участвующего в диалоге Исократа о том, что гражданская доблесть не может не опираться па знание философии, или высказываемое участниками диалога убеждение, что нет блаженной жизни без знания истины. Возможно, перевод «Протагора» действительно сделан в годы учения, упомянутые мысли относятся к основным положениям учения Академии и бесспорно усвоены Цицероном в молодости, но как тесно связаны они с идеями «Тускулан» и «О пределах»! Что касается «Тимея», Цицерон прямо говорит, что перевод выполнен после завершения работы над «Учением академиков».
Перевод «Тимея» сохранился в отрывках, подчас весьма пространных. Он показывает, в каком совершенстве знал Цицерон греческий язык и как глубоко понимал философию Платона. Возможно, Цицерон не стремился изложить по-латыни весь диалог, а переводил лишь те места, что казались ему особенно важными, опуская многие реплики собеседников, представлявшиеся ему несущественными для понимания основного хода мысли. Его интересует только главное. В кратком предисловии Цицерон сообщает, что проездом в Киликию на Митилене встретил «неопифагорейца» (по сегодняшней терминологии) Нигидия Фигула и обсуждал с ним проблемы «физики», дотоле внимание его не привлекавшие. Под «физикой» здесь надо понимать рассуждения о строении и о происхождении Вселенной, то есть метафизику в гораздо большей степени, чем физику в собственном смысле слова. В первом рассуждении, выбранном Цицероном для перевода, рассматривается противоположность движения и вечности, становящегося и неподвижного, смертного и бессмертного. Мы уже убедились в том, что противоположения такого рода встречаются у Цицерона неоднократно, они фигурируют в «Сне Сципиона», о них идет речь при обсуждении вопроса о бессмертии души в «Тускуланах». «Тимей» примечателен тем, что вечное приводится здесь в связь с понятием Прекрасного, которое Платон рассматривает как одно из начал бытия. Такой ход мысли особенно близок Цицерону; согласие взглядов, по его мнению, влекло за собой согласие душ, а оно неотделимо от Прекрасного и лишь в нем находит подлинное свое воплощение.
В «Тимее» Платон изложил свое учение о происхождении всего сущего. Цицерон (по крайней мере, судя по фрагментам, которыми мы располагаем) передает основное содержание и сочувственно пересказывает, в частности, то, что Платон пишет о «демонах», обозначая их латинским словом этрусского происхождения «лары». Цицерон, как, впрочем, и сам Платон, считает построения, содержащиеся в «Тимее», мифами; показательно, однако, что перевод свой он представляет как своеобразное продолжение беседы с Нигидием Фигулом. Помимо всего прочего, примечательно, что «Тимей» содержит множество пифагорейских реминисценций, учение же Пифагора — часть италийской духовной традиции; в подтверждение обычно говорилось, что царь Нума был учеником Пифагора. Цицерон знает, что это не так, но все же усматривает тесную связь между началами римской мысли и учением великого кротонца. Было известно также, что Пифагор бежал с родного Самоса, где правил тиран Поликрат. Пифагорейцы пытались, не без успеха, добиться, чтобы городами Великой Греции управляли философы, и в этом смысле они выступают как предшественники Платона; переводя «Тимея», Цицерон мог использовать эту тему для обоснования собственных взглядов. Цикл философских трудов, задуманный Цицероном, разрабатывал, главным образом, проблемы морали и почти не касался тал называемой «физики», то есть истории и структуры Вселенной. Цицерон, конечно, ощущал здесь определенный пробел; он взялся за перевод «Тимея», чтобы если не заполнить его, то хотя бы обозначить. Отсюда ссылка на Нигидия, который ставил ему в вину, по словам Цицерона, недостаточное внимание к физическим проблемам.
Неотъемлемую часть природы составляли боги; изучение их тоже входило в область «физики», ведь «физика» происходила от слова «фюсис», которым греки обозначали природу. Этой стороне «физики» Цицерон посвятил особое сочинение в трех книгах «О природе богов». Он начал работать над ним, по-видимому, в конце августа и закончил скорее всего в начале следующего года, во всяком случае, до смерти Цезаря 15 марта 44 года. Цицерон приводит вымышленный диалог, свидетелем которого он якобы был вскоре после возвращения лэ Греции в 77 или 76 году. В начале года во время торжественного собрания латинских городов, некогда объединившихся под главенством Альбы Лонги, сошлись три видных римлянина: Гай Веллей, эпикуреец, Квинт Луцилий Бальб, стоик, и Гай Аврелий Котта, последователь Академии, чтобы обсудить вопрос о природе божественного. В разговоре, как видим, снова представлены все те же три главных философских учения эпохи. Последовательность обсуждения и его план строятся так же, как в диалоге «О пределах добра и зла». В первой книге излагаются взгляды эпикурейцев, которые отрицали вмешательство богов в человеческие дела и видели в них своего рода статистов, погруженных в блаженное безделье и полное бездействие. В разговор вмешивается Котта, дабы опровергнуть подобные взгляды.
Монолог Бальба, в котором излагается теология стоицизма, занимает всю вторую книгу. По мнению стоиков, боги правят миром и пристально занимаются делами людей. Разумное начало, существующее в каждом человеке, не может быть порождением косной материи, оно имеет божественное происхождение. Да и все устройство мира нельзя объяснить, не допустив вмешательства Разума, который порождает растения и животных, умеряет жару и холод, делает возможной самое жизнь. Существование творческого разума явствует из той гармонии, с которой движется небесный свод и светила по нему, Заключительную речь произносит Аврелий Котта; он начинает с критики стоиков и, в частности, говорит, что благодеяния, оказываемые нам богами, с лихвой уравновешиваются несчастьями, которые обрушиваются на голову человека с их же соизволения. Мы видим висящие в храме посвятительные надписи в честь богов, которые спасли моряков во время бури; но тех надписей, что не вывесили погибшие, мы не видим, а их ведь было бы гораздо больше. Котта — понтифик, и говорит он все это не для того, конечно, чтобы подорвать религиозные верования, а потому, что следует, по собственному признанию, «мнению предков и предпочитает то, во что верили великие понтифики Тиберий Корунканий, Публий Сципион, Публий Сцевола, тому, что говорили Зенон, Клеанф или Хрисипп». Существование Рима и судьба его доказывают, что создан он под покровительством богов и что боги на всем протяжении истории города были к нему благосклонны. Убеждение в истинности традиционной религии не требовало доводов разума. И потому последователи Академии и Цицерон в их числе могли сводить концы с концами в рассуждениях на эту трудную и опасную тему. Из рассуждений их вытекало, однако, следующее существенное положение: боги могут обеспечить нам покровительство Фортуны, тем самым успех в наших предприятиях, но обретение мудрости зависит только от нас самих. Мы возводим святилища Разуму, Гражданской Доблести, Доброй Вере (Bona Fides), но истинная их жизнь — в нас самих.
Сочинение и на этот раз посвящено Бруту. Вряд ли оно призвано лишь выразить дружеские чувства автора к племяннику Катона; он выразил их ранее во многих подобных посвящениях. Мы уже знаем, какие надежды Цицерон возлагал на Брута. В трактате «О природе богов» рассеяно немало намеков на неправое счастье неправых людей; такие же встречаются в «Тускуланах»: тиран, например, Дионисий Старший, мог быть счастливым и, несмотря на бесчисленные святотатства, умереть спокойно в своей постели, «передав сыну преступлением добытую власть так, будто она досталась ему по наследству и по закону». Святотатства, свершенные Цезарем, были многочисленны и очевидны: в Массилии он вырубил священную рощу, в Риме завладел священными сокровищами, принесенными в дар храмам или отданными туда по обету, не говоря уж о том, что нарушение законов и война против сограждан сами по себе были величайшим святотатством. Покарают ли его боги за все содеянное?
Помимо темы тирана, в трактате вырисовывается и другая: роль философов в создании нового Рима; они обосновывают доводами разума традиционные римские установления и обычаи, разоблачают «ложные блага», погоня за которыми губит души и разлагает государство, укрепляют давние, отмеченные еще Полибием, опоры республики — богобоязнь и верность обрядам. Вряд ли можно видеть в этом последнем суждении проявление чистого прагматизма, суеверное убеждение в том, что раз в прошлом за тщательно выполненным обрядом однажды последовала победа, то достаточно повторить его скрупулезно точно, чтобы победить снова, что малейшее нарушение ритуала лишает обращение к богам силы. Все, что нам известно об отношении Цицерона к религии, указывает на глубокое и искреннее уважение к богам, боги же неоднократно становились для него источником непосредственного вдохновения. Вспомним о молебне в честь Минервы на Капитолии, которым Цицерон перед отъездом в изгнание отдавал город под покровительство богини. Он поступил так в уверенности, что приводит в действие могучие потусторонние силы, способные преградить путь злодеям, в тот момент, казалось, торжествовавшим победу.
Следующее произведение Цицерона — «О предвидении» (в двух книгах); оно написано незадолго до смерти Цезаря и опубликовано вскоре после нее. Цицерон описывает разговор, который совсем недавно якобы состоялся у него с братом Квинтом на Тускуланской вилле. Отношения между братьями, долгое время весьма натянутые, к весне 44 года действительно улучшились, так что возможность такой беседы и в самом деле не исключена. Обсуждался вопрос: в какой мере следует доверять прорицаниям? — вопрос важный не только сам по себе, но и по его политическому контексту. Мы уже не раз убеждались в том, что Цицерон обвинял Клодия, «народную партию» и самого Цезаря в недостаточном внимании к пророчествам. Цезарь в пору своего консульства презрел предупреждение Бибула о том, что знамения не благоприятствуют задуманному голосованию, провел его и утвердил свои законы. Уважение к божественным знамениям, на взгляд Цицерона, — существенная часть общественной жизни — та, что больше других способствует укреплению порядка. Цицерон на собственном опыте но раз убеждался, что пророчества сбываются. Вопрос о предвидении занимал его не только с государственной, но и с глубоко личной точки зрения.
Трактат построен в виде диптиха, по схеме, выработанной еще Древней Академией. В первой книге Квинт излагает взгляды стоиков: возможность предвидеть будущее существует, она доказывается хотя бы тем, что ее признают все народы. Предвидение может быть двух родов: либо оно основывается на длинном ряде наблюдений, которые проводятся по определенным правилам, либо на вдохновении, на мгновенном озарении, проникающем в душу, когда она освобождается от власти плоти — например, во сне. Для подтверждения своих взглядов Квинт ссылается на случаи из жизни брата, напоминает о чудесных знамениях на Альбанской горе и на Капитолии, благодаря которым Цицерон предугадал заговор Катилины — о них он сам же свидетельствует в поэме «О своем консульстве». Можно, конечно, подумать, что то была лишь дань поэтической условности рассказа, но ведь пророчества сбылись! Квинт приводит множество примеров из недавнего прошлого, показывающих, как пренебрежение неблагоприятными знамениями приводило к катастрофам и поражениям: погиб же Красс под Каррами после того, как выступил из Рима, сопровождаемый проклятием народного трибуна Атея Капитона... Несмотря на то, что сам Марк не разделял взгляды стоиков на пророчества, речь Квинта тем не менее важна для понимания и его взглядов: консулярий признает, что новомодный скептицизм в отношении пророчеств и предвидения будущего в самом деле не раз приводил к беде.
В излагаемой беседе Марк несравненно менее категоричен, чем брат. Он перечисляет доводы, которые обычно приводят скептики, не верящие в пророчества. Многое можно объяснить случайными совпадениями. Толкование снов зачастую зависит от того, что толкователь хочет в них видеть. Боги не имеют к предсказаниям прямого отношения. Вообще следует остерегаться суеверий, которые и так опутывают всю нашу жизнь. Это не значит, что политические деятели могут отказаться от толкования прорицаний. Древние установления должно соблюдать, ибо они основаны на мудрости, лежащей глубже, чем доводы разума, и отказываться от нее — безумие.
Во введении ко второй книге, добавленной после смерти Цезаря, содержится своеобразное прощание с философией, а также краткие выводы из всего сочинения. Позже к перечисленным философским трактатам прибавились еще «О судьбе» и «О старости», однако «теперь, когда ко мне снова обращаются за советами относительно политики, я должен думать прежде всего о государстве, отдать ему все помыслы, все заботы...». Завершение корпуса философских сочинений пришлось отложить.
Трактат «О судьбе» написан после смерти Цезаря. Но еще до мартовских ид появилось сочинение несколько иного жанра — «О старости». Сочинение имеет подзаголовок: «Катон Старший»; это пространная речь, которую старый цензорий произносит в 450 году до н. э., обращаясь к Сципиону Эмилиану и его другу Лелию, в ту пору молодым людям. Катону восемьдесят четыре года, но он несет бремя старости с веселым равнодушием. Книга посвящена Аттику, который был на три года старше Цицерона. Замысел книги достаточно очевиден: Цицерон стремится написать произведение в стиле Ксенофонта, ясность построения и чистота языка должны содействовать впечатлению спокойной и разумной ясности, присущей в представлении Цицерона Катону. Она проистекает из мудрости; Катон практически, в жизни, руководствуется наставлениями философов (изложенными в произведениях Цицерона предшествующих лет — «Гортензии» и других). Катон понял, что счастье зависит от состояния души, а не от обстоятельств; обстоятельства случайны — здоровье или болезнь, богатство или бедность, тем более возраст. Для старого человека существует множество занятий, одно из важнейших — политика; он может в ней существовать не как магистрат или командующий войсками, но прежде всего как советник. Здесь обнаруживается главная потаенная мысль Цицерона: его удручает, что Цезарь не обращается к нему за советом. Видимо, приближенные Цезаря не ценят заслуженного консулярия и не упускают случая заметить, что этот старик, переживший свое время, ничего не смыслит в политическом положении, которое сложилось после гражданской войны. Скорее всего именно так толковали о нем в окружении полновластного диктатора и не в последнюю очередь его собственный племянник. Старый оратор все еще не терял надежды вернуться к политической жизни. «Катон Старший» — красноречивый и внешне спокойный ответ недругам. Кроме того, Цицерон, создав похвальное слово Порции и своему современнику, отдавшему жизнь за дело республики, хотел теперь воздать должное самому прославленному из двух Катонов.
«Катон Старший» означал определенную паузу в работе над серией философских сочинений; Цицерон посвятил этой работе досуг, на который обрекла его тирания Цезаря; пауза длилась несколько месяцев, вплоть до начала работы над трактатом судьбе».
Мы не знаем, какие чувства испытывал Цицерон к Цезарю в глубине души, но внешне отношения их складывались если не дружески, то во всяком случае, вполне корректно. Цицерон присутствовал на заседании сената 1 сентября, возможно даже был в числе тех, кто выехал навстречу Цезарю, морем возвращавшемуся из Испании. Точно это не устанавливается, но бесспорно, что он об этом подумывал. Цицерон старался соблюдать приличия, держал себя как прежде, надеясь таким образом сохранить остатки своего влияния, хотя подобные расчеты были весьма эфемерны. Цезарианцы в большинстве вели себя по отношению к нему вполне дружески. Позже Цицерон скажет: «Не знаю почему, но Цезарь оказывал мне поддержку самым удивительным образом». Цезарь, по-видимому, ценил его образованность, его славу оратора, и вскоре ему пришлось в последний раз услышать речь Цицерона. Дело касалось Дейотара, царя галатов, который некогда принял у себя при дворе двух подростков Цицеролов, Квинта и Марка. Во время гражданской войны Дейотар встал сначала на сторону Помпея, а после Фарсала перешел на сторону Цезаря и предоставил в его распоряжение войска, которые участвовали в битве при Дзеле и содействовали победе диктатора. Цезарь тем не менее разделил земли Дейотара, у царя осталась сравнительно небольшая территория. Через некоторое время внук Дейотара по имени Кастор приехал в Рим просить Цезаря не возвращать Дейотару бывшие его владения; царь же прислал в Рим посольство, чтобы добиться именно такого решения; тогда Кастор заявил, что после битвы при Дзеле Дейотар якобы готовил убийство Цезаря. Дейотар поручил Цицерону защитить его от обвинений внука. Суд происходил в присутствии Цезаря и в его доме. Речь Цицерона, известная под названием «В защиту царя Дейотара», сохранилась, Цицерон считал дело «легким и пустым». Он провел его с обычным своим мастерством, доказав, что обвинение ни с чем не сообразно: царь всегда был верен своим друзьям, обстоятельства граяеданской войны столкнули его было на время (как и самого Цицерона) с истинного пути, но он искупил достойным образом свое заблуждение; смерть Цезаря не принесла бы Дейотару никакой пользы. Но, быть может, замысел родился в порыве ярости, из мести? Нет, слишком явно противоречит он свойствам «царственной души», исполненной мужества, справедливости, серьезности, ума, великодушия, щедрости, милосердия... К тому же Дейотар славится трезвостью — добродетель, которая встречается нечасто среди царей. А ведь каждый знает, сколь умерен и воздержан сам Цезарь...
Говорят, будто кто-то из друзей писал Дейотару, что в Риме на Цезаря смотрят как на тирана. Цицерон возмущен подобными слухами; он напоминает, что Цезарь сумел победить, избежав резни, — пример единственный в истории гражданских войн в Риме. Был ли царь оправдан, мы не знаем, но, вероятнее всего, так. Несколькими месяцами позже он вступил во владение отнятыми было у него землями; решающую роль в возвращении их сыграл Антоний, не оставшийся, впрочем, внакладе.
Цезарь, по-видимому, не питал никаких иллюзий относительно чувств, которые испытывал к нему Цицерон; все более и более убеждаясь в своем всевластии, он полагал, что старый консулярий ему вовсе не нужен. В начале апреля 44 года Цицерон был на вилле одного из близких друзей Цезаря Гая Матия; тот рассказал, как однажды (по-видимому, в декабре 45 года), распорядившись не впускать Цицерона сразу, а заставить его ждать обещанной аудиенции, Цезарь сказал: «Раз Цицерона заставили сидеть там и ждать, можно ли сомневаться, что он на меня сердится. А между тем, если есть на све'и сговорчивый человек, так это именно он. Я, однако же, уверен, что он глубоко меня ненавидит». Так устанавливались лицемерные отношения: Цезарь презирал Цицерона, Цицерон ненавидел Цезаря; при этом Цезарь приглашал Цицерона к себе на обед, а 19 декабря 45 года, во время сатурналий, отправился со всей свитой с визитом на виллу в Кумах. В письме Аттику Цицерон подробно описал посещение. Цезарь приехал с охраной из двух тысяч человек. Кроме них — друзья, расположившиеся в трех столовых залах, отпущенники и, наконец, рабы, и всех, удовлетворенно замечает Цицерон, удалось хорошо принять в соответствии с рангом каждого. За обедом о политике не говорили, разговор вращался только вокруг литературных тем. Цезарь был, как всегда, очарователен.
Цицерон проявлял любезность, хотя сознавал, что к обсуждению серьезных вещей его не допускают, — так оно и было в действительности. Он принимал Цезаря как частное лицо, но по его приказанию пришлось размещать у себя солдат, это вызывало у оратора отвращение, хотя сам по себе незваный гость отнюдь не был ему неприятен. В письме ясно отразилась вся двусмысленность отношений Цицерона с Цезарем: как человек Цезарь по-прежнему оставался ему близким, от всевластного диктатора старый оратор все более отдалялся.
Вскоре Цицерон переезжает в Тускул, а на 11 января его вызывает в Рим Лепид, недавно назначенный начальником конницы и ведавший постройкой на месте старой Гостилиевой курии нового храма Фелицитас — обожествленной Удаче Цезаря, что сопутствовала ему в войнах. В качестве авгура Цицерон должен был принимать участие в церемониях по «десакрализации» земли, где ранее стояла курия; участок представлял собой templum — пространство, посвященное богам. В Рим Цицерон прибыл, однако, в последний день декабря и стал свидетелем скандальной сцены, после которой ему больше всего хотелось убежать на край света; он описывает ее в письме к Манию Курию, другу еще по Патрам. На Марсовом поле собрались трибутные комиции для избрания квесторов; неожиданно объявили, что консул Квинт Фабий Максим, который должен был проводить выборы, скоропостижно скончался. Цезарь тотчас же объявил консулом одного из своих друзей, Гая Каниния Ребила, и тот стал консулом на последний оставшийся день года, на одни сутки. Самое отвратительное, на взгляд Цицерона, то, что трибутные комиции тут же объявили центуриатными, то есть уполномоченными избрать магистрата, располагавшего империем, а ведь для проведения этих двух видов народного собрания требовались разные ауспиции. Цицерон возмущен: нарушение закона, мало того — религиозных установлений, святотатство! Быть может, замечает он, Курию все это покажется смешным, но потому лишь, что он не видел сцену своими глазами. Законы попраны, любые дела вплоть до самых мелких решаются по капризу деспота. Там, где презирают законы, может случиться все.
На протяжении января 44 года Цицерон присутствует на заседаниях сената, следовательно, он находился в числе тех, кто голосовал за присвоение Цезарю чрезвычайных почестей. Если верить Плутарху, он был даже одним из первых, кто предложил их присвоить, хотя предложения его были много умереннее, чем других сенаторов, которые в своем пресмыкательстве потеряли всякий удерж. И Плутарх, и Дион Кассий, оба утверждают, будто враги Цезаря рассчитывали таким образом возбудить против него злобу в народе, тем более что народ в подавляющем большинстве надеялся на возврат к более свободному правлению.
Почести Цезарю пошли чередой после того, как он приказал восстановить сброшенные было с пьедесталов статуи Помпея. Цицерон поздравил диктатора с этим распоряжением и сказал, что, восстановив памятники Помпею, Цезарь поставил памятник себе. По-видимому, Цицерон в числе других голосовал и за сооружение храма Милосердия. Вряд ли, однако, одобрял он другие постановления сената, в частности, те, что воздавали Цезарю почести, дотоле неслыханные, — право постоянно носить тунику и тогу триумфатора (кроме как во время Игр), посвятить Юпитеру Феретрию на Капитолии захваченное им вооружение, как будто он снял его собственноручно с убитого вождя, и другие. Одно из этих постановлений должно было вызвать особое негодование Цицерона: Цезарю присвоили звание Отца отечества, которое получил некогда Цицерон за то, что избавил Рим от угрозы тирании Катилины. Не мог Цицерон одобрить и те меры Цезаря, что явно были рассчитаны на привлечение симпатий толпы: раздачи зерна, пиры для народа, вывод новых колоний ветеранов в Коринф и в Карфаген; особенно смущали Цицерона колонии в Карфагене — та земля была проклята еще при разрушении города, туда нельзя выводить колонии, так указали многочисленные чудесные знамения в эпоху Гракхов.
Римское государство с каждым днем все стремительнее катилось к монархии, со всеми признаками, обычно присущими тирании. Для охраны Цезаря решили создать личную вооруженную гвардию из всадников и сенаторов. Всякий знал, что любой тиран в любом греческом городе начинал именно с создания личной охраны. Учтя это, Цезарь отказался от предложения, но вряд ли отказ его мог кого-нибудь обмануть. Опытные политики понимали: тирания возникает тогда, когда плебс, уставший от всеобщего развала, начинает искать себе хозяина; Цезарь всячески стремился снискать любовь народа, сомнений не было — тем или иным путем он добьется единоличной власти.
Между тем шла подготовка парфянского похода, замысел возник несколькими месяцами раньше, Цицерон тщетно пытался дать Цезарю какие-то советы. Сначала говорили, что цель похода — отомстить за гибель Красса, как, взявши Александрию, Цезарь отомстил за смерть Помпея. Постепенно, однако, цели похода становились все более грандиозными: покорив парфян, Цезарь рассчитывал двинуться в обход Понта Эвксинского (Черного моря) через Гирканию (земли к югу и к востоку от Каспия), перевалить через Кавказские горы, захватить Скифию (на юге Украины), затем Германию и, выйдя к Океану, завершить покорение всего известного в ту пору мира. То был грандиозный, подлинно царский план; из победоносного полководца Цезарь становился «космократом», повелителем Вселенной. Весьма вероятно, что план возник в голове Цезаря во время пребывания в Египте, под воздействием идеологии фараонов. В 45 и 44 годах царица Клеопатра находилась в Риме, она жила среди садов на правом берегу Тибра, на положении то ли возлюбленной, то ли пленницы диктатора, ее окружала подлинно царская роскошь. Постоянное общение с неведомым ранее в Риме образом власти в египетском вкусе должно было утверждать Цезаря в его честолюбивых замыслах, укрепляло их и неведение римских географов относительно подлинных размеров и очертаний стран Востока.
Чтобы осуществить задуманное, Цезарю приходилось, однако, считаться с некоторыми религиозными установлениями. В Сивиллиных книгах было сказано, что лишь царю дано покорить парфян. Такие слухи ходили в народе, говорит Плутарх; правда ли это, никто не знал, так как обращаться к книгам можно было лишь по специальному решению сената. Цезарь, проведя в Альбе Латинские игры, возвратился в Рим; кое-кто из толпы приветствовал его как царя; воцарилось мертвое молчание. Тогда Цезарь воскликнул, что зовут его Цезарь, а не Рекс («Рекс» по-латински «царь», но имя Рекс носила одна из ветвей рода Юлиев). Через некоторое время Цезарь заседал у ростр; пришла делегация сенаторов и сообщила о только что утвержденных новых почестях, ему возданных. Цезарь не встал им навстречу, что было проявлением гордыни и оскорблением высшего органа республики. Разгневанные сенаторы тотчас удалились. Цезарь понял, что совершил ошибку, и пытался объяснить свое поведение нездоровьем, но, поскольку он после этого отправился домой пешком, объяснение никого не убедило. Возможно, виноват в случившемся был Корнелий Бальб — он шепнул Цезарю, что тот должен помнить, кто он, и держать себя, как подобает самодержцу.
Вскоре затем, 15 февраля, произошел известней эпизод на празднике Луперкалий: Антоний, как член коллегии жрецов-луперков, пытался возложить диадему на голову Цезаря, который руководил обрядами, сидя на золотом троне. Цезарь отказался принять ленту, перевитую лавром, бывшую на Востоке символом царской власти. Антоний попытался возложить диадему еще раз. Цезарь снова отказался и, поднявшись с места, приказал отнести диадему в Капитолийский храм. Распоряжение было исполнено, по на следующий день — неизвестно, с ведома Цезаря или нет, — статуи его в городе оказались украшены все теми же злосчастными лентами! Два народных трибуна сорвали диадемы, провели розыск, отыскали тех, кто накануне приветствовал Цезаря как царя, и при бурном ликовании народа заключили их в тюрьму. Это пришлось Цезарю не по вкусу, он назвал трибунов «дураками» и отрешил от должности.
Сомнений в том, что Цезарь намеревается стать царем, больше не оставалось. Фактически власть его полностью совпадала с царской, но он хотел получить и само звание — оно придало бы власти и ее носителю божественный характер. Когда замысел Цезаря обозначился во всей своей непреложности, несколько молодых людей, ранее сражавшихся против Цезаря и впоследствии им прощенных, несмотря на то, что ныне были всецело обязаны ему своим почетным положением, взялись за оружие. Прирожденная ненависть к слову «царь» победила колебания, оказалась сильнее чувства благодарности. Они видели, как закипает вокруг народная ненависть к тирану. В день Мартовских ид, с утра, заговорщики собрались в одной из пристроек к театру, который Помпей некогда возвел на Марсовом поле — в так называемой Курии Помпея. Здесь на это утро назначено было заседание сената. Когда Цезарь в сопровождении свиты входил в здание, один из заговорщиков, по имени Требоний, задержал Антония в дверях. Цезарь прошел в зал, заговорщики окружили его, и он пал под их ударами. Умирая, он, обратившись к Бруту, произнес знаменитые слова: «И ты, Брут...» Может быть, чтобы скрыть нахлынувшие чувства, тот вскрикнул: «Цицерон!» Цицерон действительно находился тут же. На это совершенно определенно указывает фраза в письме Аттику от конца апреля: «...я смог насытить свой взор зрелищем заслуженной гибели тирана». Он воочию видел то, что описал во второй книге «О предвидении» — распростертое на полу тело Цезаря, к которому не подошел никто из врагов, но и никто из друзей. Цицерон — только зритель, он, разумеется, не убивал, но не был ли соучастником? Хотя бы в душе.
Вспомним, как ждал он смерти тирана, как надеялся на нее, как писал вслед за Платоном, что душу тирана может излечить только смерть, и мы поймем, какую радость испытал он тем утром. Тем же днем он писал Луцию Минуцию Базилу, одному из заговорщиков: «Поздравляю тебя и радуюсь сам». Не забудем также, что Цицерон неоднократно напоминал Бруту о его предках-тираноубийцах. К тому же мы видели, как росла в нем ненависть к человеку, который уничтожил республику, который готовил безумный поход, столь противный политике Рима прежде — до авантюр Красса и Помпея. И все-таки одно дело вдохновляться чтением Платона или сиракузских историков, отстаивать установления старинной республики, благодаря которым такие люди, как он, могли играть активную роль в жизни государства, и совсем другое — одобрить убийство человека, неприязнь к которому основывалась лишь на соображениях общих и теоретических.
Позже Брут писал Цицерону, что, стремясь к царской власти, Цезарь поступал так, как поступал, ибо к тому подстрекало его малодушие всех в Риме и Цицерона в том числе. Древние авторы уверяют, будто заговорщики собирались ввести в заговор и Цицерона, но отказались от этой мысли, не будучи по-настоящему в нем уверены. Весьма вероятно, что они даже не делились с оратором своими планами. Но при всем том Цицерон бесспорно оставался в их глазах символом и воплощением того государственного устройства, которое они оплакивали, хотя по молодости своей по-настоящему его и не знали. Выкрикивая в курии имя Цицерона, Брут взывал не к соучастнику заговора, а к совести государства. Он, старый консулярий, и только он сможет воплотить в жизнь мечту, подвигнувшую заговорщиков на содеянное, сможет возродить государство таким, каким они мечтали его видеть, — государство, покоящееся на установлениях, достойных римлянина — и философа.
И заговорщики, и Цицерон, и многие другие в Риме полагали, что со смертью тирана политическая жизнь вернется в русло, по которому текла до начала гражданской войны. Но слишком многое изменила диктатура Цезаря, и невозможно было обратить историю вспять, так, впрочем, бывает оно и всегда — след, который оставляют в людях, в мыслях, обстоятельствах великие войны и революции, неизгладим.
Едва распространился слух об убийстве, смятение охватило город, одни с криками бегали по улицам, другие задвигали засовы и запирались в домах. Жители боялись ярости солдат, во множестве расквартированных в столице и в пригородах. Заговорщики вышли на форум, пытались успокоить граждан. При этом они то и дело ссылались на Цицерона, чье имя было синонимом законности и порядка. Может быть, они надеялись, что оратор сам выйдет на форум и обратится к смятенной толпе, как обращался к ней столь часто в былые дни, в театре или с ростр. Цицерон не вышел, заговорщики, опасаясь мести друзей Цезаря, поднялись на Капитолий и заперлись в храме. Туда пришел к ним Цицерон вместе с другими консуляриями. Начали обсуждать, что делать. Оказалось, что никакого заранее обдуманного плана у заговорщиков пет, они были уверены, что главное — убить тирана, тогда восторжествует общее стремление к свободе, и жизнь государства вернется в былое нормальное русло. Консулами 44 года были Цезарь и Антоний, после гибели Цезаря законная власть оставалась в руках Антония. Что он предпримет? Некоторые из заговорщиков не доверяли Антонию, предлагали убить его тоже, но предложение принято не было; мы видели, что Требоний не дал Антонию войти в курию и оказаться свидетелем убийства Цезаря. Сразу же после смерти Цезаря Антоний исчез. Кажется, он переоделся в чужое платье и в течение двух дней где-то скрывался. Заговорщики предложили Цицерону выступить посредником в переговорах с Антонием. Цицерон отказался: он слишком хорошо знал Антония — пока жизнь его будет под угрозой, он пойдет на любые уступки, но едва минет опасность, нарушит все свои обещания. Наконец Антоний появился. Накануне ночью Лепид со своими солдатами занял форум, заговорщики оказались в положении осажденных. В конце концов Антоний назначил заседание сената на 17 марта в храме Матери-Земли.
Выбор места был не случаен. Принято объяснять так: храм, располагавшийся на Эсквилине, в округе Карен, находился рядом с бывшим домом Помпея, в котором теперь жил Антоний. Более вероятно, однако, что выбор имел и другой смысл. Цезарю еще не были возданы траурные почести, оформление церемонии в сложившихся обстоятельствах стало делом трудным и опасным. Ещо свежи были в памяти похороны Клодия и беспорядки, связанные с ними. Как будет на этот раз? По традиции для очищения дома, который посетила смерть, полагалось принести жертву Церере или Матери-Земле. Так что собрание сената в храме этой богини имело особый смысл. У каждого перед глазами стояло обезображенное тело Цезаря, оно как бы ожидало искупительной жертвы. Цицерон произнес пространную речь, где развивал свои обычные идеи о единении граждан, согласии сословий и спокойствии. Решено было последовать его советам и, дабы успокоить солдат, признать акты Цезаря сохраняющими законную силу. Это означало, что будет проведено намеченное Цезарем распределение земельных участков среди ветеранов. В тот вечер Кассий, главный вдохновитель заговора, обедал у Антония, Брут — у Лепида. Согласие, казалось, вернулось на римскую землю.
На следующий день сенат собрался снова и принял несколько важных решений. Антонию вынесли благодарность за то. что не дал разразиться новой гражданской войне, сенат официально одобрил действия убийц Цезаря и перешел к распределению провинций. Бруту достался Крит, Кассию — Африка, Требонию — Азия, Луцию Тиллию Цимберу — Вифиния и Дециму Бруту — Цизальпинская Галлия. Все шло обычным порядком. Затем возник вопрос о похоронах Цезаря. Антоний предложил прочитать всенародно завещание покойного диктатора и воздать телу его всенародные почести. Если все это не сделать, говорил Антоний, народ может взбунтоваться. Кассий понял таящуюся здесь опасность и выступил против предложения Антония. Брут, однако, посоветовал его принять, и сенат последовал совету.
Достаточно широко известно, как Антоний воспользовался одобрением сената, как сумел вызвать в народе сожаление о Цезаре, а вскоре и ярость против его убийц. Он говорил о подвигах Цезаря, о его щедрости и милосердии. Речь Антония подействовала на толпу — люди подняли на плечи тело Цезаря и посреди форума, неподалеку от храма Весты, устроили погребальный костер. В толпе находился поэт Гелъвий Цинна, его приняли за однофамильца Корнелия Цинну, одного из убийц Цезаря, и тут же растерзали. Реальная власть оказалась в руках Антония, и сенаторы, исполненные страха, смирились. Над домом Цицерона и над ним самим нависла опасность. Ранее Антоний обещал объявить действительными лишь те решения Цезаря, которые были официально приняты до Мартовских ид, теперь он объявлял новые постановления и декреты, выдавая их за подготовленные Цезарем. Видя, что происходит, Цицерон, конечно, понимал, что ни о каком восстановлении республики не может быть и речи, и счел за благо удалиться из Рима. 7 апреля он на вилле Гая Матия в окрестностях столицы, еще через день — в Тускуле, где проводит только одну ночь, после чего едет в Ланувий, в свое верное прибежище Астуру, но не задерживается и здесь. Аттику, оставшемуся в Риме, он пишет каждый день. Поводов для тревоги более чем достаточно. Что делает Секст Помпей? В Рим вернулся юный Октавиан, внучатый племянник Цезаря, — как его встретили? Поговаривают о нехватке зерна — насколько это верно? Цицерон не считает, что Антоний вынашивает какие-либо опасные планы; у него лучше получается заказать обед, пишет он, чем составить заговор против республики. Матий полагает, что все это дурно кончится. Цицерон не разделяет его мнения. Толпа переменчива, всегда во власти мятежных чувств, он ждет, что она успокоится, ловит признаки намечающегося поворота.
11 апреля Цицерон в Астуре, на следующий день — в Фунди. Сохранилось письмо, написанное 14-го в Формиях, но остановка здесь, видимо, была совсем мимолетной, так как следующее письмо он пишет в тот же день в «кабачке» в Синуэссе. Наконец Цицерон добирается до своей виллы в Путеолах, где остается до первых дней мая. Чем объяснить его непрерывные переезды? Во всяком случае, не опасениями: по дороге он получил от Антония весьма любезное письмо — тот просил совета по какому-то малозначительному поводу. По некоторым намекам в письмах, отправленных с дороги, можно предположить, что Цицерон стремился посетить возможно большее количество муниципиев и других городов с целью разобраться в настроениях граждан. Казалось, все рады смерти тирана и счастливы снова обрести свободу. Цицерон хорошо понимает, что о свободе говорить не приходится. Распоряжения Цезаря, пишет он, исполняются с большей готовностью, чем когда-либо раньше. Магистраты, им назначенные, по-прежнему сидят на своих местах. Долабелла по распоряжению Цезаря, бывшего консулом в первые месяцы года, станет суффектом. «О, всеблагие боги, — пишет Цицерон 15 апреля, — тиран мертв, но тирания жива!» И этому, говорит он, не видно конца.
Итак, Цицерон остается на вилле в Путеолах. В эти весенние дни немало видных граждан переселяются из Рима на побережье Кампании — встречи и беседы с ними могут оказаться небесполезными. Цицерон беседует с Гирцием, консулом будущего года, который вступит в должность 1 января, встречается с Филиппом и его зятем Октавианом — его все приветствуют как Цезаря, ибо известно, что по завещанию диктатор усыновил его; тесть же продолжает называть его Октавием, и Цицерон следует его примеру. В письмах упоминаются и другие встречи, в частности, с Бальбом и Пансой — другим консулом следующего года.
Цицерон, находясь вдали от Рима, пытается повлиять на положение, что сложится в столице по истечении срока консульских полномочий Антония. Но не только встречи и беседы политического характера занимают его. Он пишет Аттику, что находит утешение в литературном творчестве. Он оканчивает вторую книгу «О предвидении», работает над трактатом «О судьбе». От трактата сохранилось около половины, он содержит много неясностей; некоторые из современных комментаторов склонны видеть в нем не оригинальное произведение, а перевод греческого трактата — само собой разумеется, утраченного.
Проблема судьбы непосредственно вытекала из возможности предвидения: если событие можно предсказать до того, как оно свершилось, значит, оно еще ранее вписано в порядок вещей и в этом смысле существует. Но тогда человек не обладает свободой воли, и любой его поступок лишен смысла. Такие аргументы принято называть «аргументами лени»: если больной должен умереть, нет смысла звать врача, если же он должен выздороветь, тем менее смысла его звать. Опасный вообще, софизм этот должен был казаться особенно опасным римлянину, в глазах которого деятельность составляет первую обязанность человека.
Эпикурейцы не верили в предвидение, но полагали, что Вселенная подчинена некоторым непреложный законам — законам движения атомов. Чтобы согласовать существование таких законов с существованием свободы, они создали учение об «отклонении»: в своем движении атом обладает способностью отклоняться, пусть минимально, от заданной траектории, в результате чего и происходят его встречи и соударения с другими атомами. Если бы атомы двигались всегда лишь по траектории падения, они двигались бы параллельно друг другу и тем самым не могли бы породить никакого сцепления, то есть ничего ранее не существовавшего, в силу чего отклонение атомов становилось единственной причиной возникновения и существования вещей. Той же свободой отклонения, учили эпикурейцы, обладают и атомы, составляющие наш дух, чем и объясняется своеобразие чувств и поступков человека. Цицерона такое решение проблемы не удовлетворяет, ибо представляется ему противным всякой логике: ведь отклонение не имеет причины, то есть возникает из ничего, следовательно, оно не только не может существовать, но не может даже и быть помысленным.
Последним в трактате рассматривается учение стоиков, несравненно более сложное, поскольку предполагает одновременное существование всеобщего детерминизма, свободы и предвидения. Для стоиков все части Вез ленной взаимосвязаны и воздействуют друг на друга. Отсюда возникло излюбленное ими понятие «симпатии»: если удастся обнаружить хотя бы некоторые из этих взаимных связей, можно по одному какому-нибудь явлению предсказывать другое. Именно так обстоит дело в астрологии, ибо положение светила в данный момент чревато определенными последствиями, причиной которых оно является. Точно так же в природе существует множество явлений, находящихся во вполне очевидной зависимости от других и потому являющихся как бы знаками других. На это Цицерон возражает, что никто не собирается отрицать наличия природных законов, но оно само по себе еще не указывает с необходимостью на существование Судьбы, которая непреложно определяла бы ход Вселенной.
Всем другим Цицерон предпочитает объяснение, которое дает Карнеад; в природе бесспорно действует общий принцип необходимости, которая, однако, не распространяется автоматически на все частные действия или поступки. Так, предмет, предоставленный самому себе, с необходимостью будет падать вертикально, и изменить тут ничего нельзя, но разум человеческий в любой заданной ситуации сохраняет возможность выбора. Выбор обусловлен, разумеется, внутренними свойствами разума, который осуществляет выбор, но последний никогда не предопределен с фатальной однозначностью, сколько бы стоики, начиная с Хрисиппа, ни утверждали обратное. «Если утверждение «Карнеад идет в Академию» справедливо, — пишет Цицерон, — то отнюдь не в силу извечной предопределенности». Карнеад полностью свободен в своих действиях, и каждое из них сохраняет известную меру случайности, даже если порождено определенными склонностями его натуры.
Нетрудно заметить, сколь важен был для самого Цицерона этот анализ в апреле 44 года, тотчас же после убийства Цезаря. Судьба ли судила? На то были некоторые самые общие причины, которые зависели от законов развития государств; Цицерон изложил и проанализировал их в диалоге «О республике», но, как мы имели возможность убедиться, он не верил в фатальную предопределенность их действия и считал, что опытные руководители государства всегда могут противостать им. То, что в общефилософской перспективе казалось Судьбой, при ближайшем рассмотрении оказывалось рядом частных и мелких обстоятельств — принятый или отвергнутый декрет, присутствие или отсутствие какого-либо сенатора в курии, столкновение разнообразных стремлений — словом, маневры политической борьбы вроде тех, к каким, пребывая в Путеолах, пытался прибегнуть сам Цицерон.
Цицерон задумал дополнить трактат «О предвидении» размышлениями о судьбе и предполагал поручить изложение стоических взглядов на эту проблему брату Квинту. Однако «О судьбе» в том виде, в котором сочинение дошло до нас, представляет собой не диалог, а пространную как бы лекцию, «наставление», обращенное к Гирцию. Действие происходит на вилле в Путеолах, на которой как раз в эти дни Гирций так любил бывать. Литературный вымысел оборачивается реальной жизненной зарисовкой или, во всяком случае, приближается к ней. Цицерон рассказывает, что здесь они с Гирцием много говорили о мерах, которые могли бы вернуть в Рим мир и согласие граждан. Рассуждения о судьбе имеют целью углубить рассмотрение этой проблемы, доказать Гирцию, что, как ни велик риск новой гражданской войны, ее можно избежать, если вести политику разумную и осторожную. Гирций был одним из самых преданных цезарианцев. Диктатор сам назначил его консулом следующего года. Поэтому Цицерону так важно было именно его вовлечь в число «добропорядочных людей», республиканцев, партия Цицерона существенно бы выиграла. Гирция как бы атакуют с двух сторон: Брут и Кассий пишут Цицерону, побуждая его сделать все, дабы вернуть Гирция к «благонамеренности»; «я, разумеется, стараюсь изо всех сил, — пишет Цицерон Аттику, — но Гирций очень близок с Бальбом, а Бальб тоже умеет быть красноречивым и убедительным».
В последний день апреля — радостная весть. Антоний знакомился с положением ветеранов в Кампании, и обязанности консула выполнял Долабелла — с великой энергией, чтобы не сказать грубостью, он официально осудил беспорядки на форуме, происходившие двумя месяцами раньше в том месте, где устроили погребальный костер Цезаря. Долабелла распорядился снести колонну, которую было поставили, и собирался замостить эту часть форума, чтобы уничтожить всякий след погребального костра. Тем, кто воздавал Цезарю божеские почести и приносил на этом месте жертвы, Долабелла угрожал смертной казнью. Цицерон в восторге: «О, блистательный Долабелла, которого я так люблю, да, да, люблю моего Долабеллу...» Меры, предпринятые консулом на самом деле (или только в надеждах Цицерона), положили конец постепенному скрытому обожествлению Цезаря; оно в конце концов могло угрожать «освободителям отечества». Дела, кажется, принимают лучший оборот, чем я рассчитывал, — пишет Цицерон. Аттик более сдержан. Он не верит, что Долабелла перешел на сторону Брута; Долабелла не проводит четкую политическую линию, он действует под влиянием минутного настроения, капризно и необдуманно. В начале мая Цицерон выражает опасение, что Антоний готовит государственный переворот с помощью ветеранов Цезаря, — они по его настоянию поклялись, что будут требовать признания действительными всех актов Цезаря. Долабелла не понял — царя больше нет, но у него есть наследник. Цицерон ясно видит: предстоит борьба с Антонием, это его вовсе не радует.
Антоний назначил заседание сената па 1 июня. 17 мая Цицерон покидает Путеолы и с частыми остановками начинает двигаться к Риму. Аттик пишет ему каждый день, сообщая, что происходит в столице. Цицерон тревожится, он боится, что в Риме не будет чувствовать себя в безопасности. Наконец останавливается в Тускуле, выжидает и никак не может решить, что делать. Каково теперь оказаться в городе, где он «знал высший почет и даже рабом был с почетом»? Антоний привел из Кампании целую армию и вступил в столицу во главе ее; сенаторы, даже те, что намеревались присутствовать на заседании 1 июня, разбежались, Цицерон предпочел остаться в Тускуле. Антоний созвал трибутные комиции: не соблюдая никаких обязательных форм, он провел законы по собственному усмотрению. Перераспределил управление провинциями, Бруту и Кассию поручил заняться поставками зерна, первому — из Азии, второму — с Сицилии; новый их статус был значительно ниже установленного предыдущим декретом.
8 июня Цицерон встречается в Анции с Брутом, там же были Юния Терция, жена Кассия и сестра Брута, мать Брута и Юнии Терции Сервилия, Порция, жена Брута, многочисленные их друзья и свита. Кассий прибыл немного позже. Надо было решать, как отнестись к поступкам Антония. Цицерон обдумал все еще по дороге, он советовал принять назначение в Азию: сейчас главное для участников заговора против Цезаря — спастись, остаться в живых. Сохранить им жизнь и возможность действовать, считал он, значит сохранить республику. Кассий заявил, что в любом случае в Сицилию не поедет. Республиканцы были явно растеряны, они не знали, что предпринять, и оплакивали упущенные возможности. Цицерон возвращался после свидания грустным: не выработан реальный план, не продуман ни один серьезный вариант действий на будущее. Больше чем когда-либо хотел он уехать из Италии. Долабелла как раз получил в управление Сирию на пять лет и на тот же срок назвал Цицерона своим легатом; старый консулярий получал право ехать куда сочтет нужным и возвращаться когда захочет. Он мечтал поехать в Афины, где жил его сын, — в город, который, как и прежде, казался
Диалог (его часто озаглавливают по имени главного участника «Лелий») воссоздает золотые годы Римской республики, когда дела государства решались в маленьких тесных группах, члены которых были связаны дружбой. Цицерон знал одного из людей той поры, Сцеволу Авгура, который, как мы помним, был первым его руководителем в юности. Весь рассказ ведется от лица этого старца — рассказ по большей части вымышленный, но не лишенный реальной основы: в диалоге отразились и роль, которую в ту пору играла дружба в делах общественных и личных, и отношения между Сципионом Эмилианом и Лелием — они как бы дополняли друг друга, Сципион был более решителен и предприимчив, а Лелий более проницателен, за что его прозвали Sapiens, то есть Мудрым или, вернее, Хитроумным. Мы помним, что после консулата Цицерон предложил Помпею союз, построенный на тех же основаниях, что дружба Сципиона и Лелия. Помпей почел себя оскорбленным, он считал, что не нуждается ни в чьих советах — убеждение, которое в конце концов привело его к гибели.
Как и во многих других своих философских работах, Цицерон считает добродетель, которой посвящен этот труд, укорененной в природе человека. В диалоге «О дружбе» он говорит о чувстве, в силу которого все существа на земле тянутся друг к другу и образуют сообщества. Философские теории, развивавшие этот взгляд, в диалоге не излагаются — ни Демокрит, ни Аристотель, ни Теофраст и стоики; упоминается один только Эмпедокл, да и то он не назван, а скрыт перифразой «ученый муж из Агригента». Примеры из римской истории, напротив того, приведены в изобилии, а деятели ее, самые разные, названы по именам. Вспомним обстоятельства лета 44 года, когда писался диалог: опираясь на личные дружеские связи, Цицерон пытается выправить положение, которое становится день ото дня хуже в результате действий Антония; Цицерон перетягивает на свою сторону Пансу, Гирция, Бальба, встречается с Филиппом, все так же держащим под своей опекой юного Октавиана; Аттик остается советником оратора и изо дня в день информирует его о положении в столице; в дружеских беседах вроде только что описанной беседы в Анции вырабатываются политические планы. Так что беседа Сцеволы, Лелия и двух его зятьев, которая и составляет диалог «О дружбе», приобретала значение вполне практического политического наставления. Цицерон подчеркивает (явно обращаясь к эпикурейцу Аттику), что дружба возникает не из помышлений о выгоде, практические преимущества являются ее результатом, а не причиной. Аттик заказывает переписку сочинений друга, распространяет их, а также помогает Цицерону в ведении коммерческих дел; Цицерон тоже помогает другу, в частности, как раз в 44 году он добивается аннулирования распоряжения Цезаря о конфискации земель в Эпире и именно в Бутроте, где сосредоточены основные имения Аттика. Однако чувства их друг к другу выходят далеко за рамки взаимных деловых услуг.
Комментаторы не раз изощрялись, стараясь найти греческие источники трактата «О дружбе». Было множество гипотез, некоторые из них выглядят весьма правдоподобно. Однако все они только доказывают, что Цицерон обладал широкой философской культурой и замысел его состоял в том, чтобы теоретически обосновать политическую практику Римской республики в эпоху ее наивысшего расцвета. Сочинение представляет собой назидание современникам и политическую программу. Дружба, какой ее видит Цицерон, какой она нередко бывала в среде римских государственных деятелей вплоть до Гракхов, была внутренне органической чертой римского общества и внешним выражением той pietas, что связывала (по крайней мере теоретически) граждан в единое целое. Дружба, говорит Цицерон, отражает состояние общества как зеркало, не помутневшее от времени.
26 июня Цицерон пишет Аттику, что начал трактат «О славе», к несчастью, утраченный. Работа завершена 3 июля, трактат, видимо, был довольно кратким. В спешке Цицерон поместил в начале его пролог, забыв, что он уже помещен в третьей книге «Учений академиков». В свое время Цицерон написал целую серию прологов, приложимых к самым разным сочинениям, свел их в одну книгу и черпал из нее каждый раз нужный текст. На этот раз память ему изменила; ошибку он обнаружил уже на корабле, который увозил его в Грецию. Тревога вскоре улеглась — Цицерон заменил пролог другим.
Сохранившиеся фрагменты, весьма краткие, показывают, что трактат был насыщен цитатами из Гомера и речь в нем шла об «эвгемеризме» (обожествлении великих людей благодарными потомками). Теория эта и раньше занимала мысли Цицерона. Слава — тема, которая преследовала Цицерона постоянно, которая, по собственному признанию, влекла его с детства. Цицерон стремился к славе на протяжении всей жизни. О славе идет речь в трактате «Об обязанностях», написанном несколько позже. О славе рассуждает он в диалоге «О государстве», в «Тускуланских беседах», проблема истинной славы возникает в «Филиппиках». Тема эта не дает ему покоя. Если Цицерон решил рассмотреть ее специально, в работе из двух книг, то, видимо, считал, что в начале июля 44 года на то были особые причины. Легко представить себе, что Цицерон задумал противопоставить ложную славу истинной. Славу, которую вопреки законной справедливости стяжал Цезарь, славе, основанной на восстановлении поруганных закона и справедливости, славе Освободителей. Цезарь, бесспорно, достиг того, что Цицерон в трактате «Об обязанностях» признает первым основанием славы: любви граждан. Но ведь бывает и дурная любовь, она выражается в мятежах, в насилии, и, может быть, именно к Цезарю относится один из немногих сохранившихся фрагментов: «О, сколь несчастен или, вернее, неразумен тот, о котором люди, его приветствующие, думают хуже, чем те, что приветствовать его не хотят». Слова эти, по всему судя, следует толковать так: сторонники Цезаря, радостно приветствовавшие гражданскую войну, возлагали все надежды на социальную смуту; противники его, подобно самому Цицерону, надеялись, что вопреки всему какие-то остатки республики сохранятся. Следовательно, «О славе» можно назвать пропагандистским сочинением, подобным памфлету или газетной статье, которые в другие времена служили для мобилизации общественного мнения.
К той же категории, по всей вероятности, относится еще один небольшой диалог в манере Гераклида, о котором в те же дни упоминается в письмах Аттику. Он, видимо, должен был содержать речи Освободителей, клеймящие Цезаря и оправдывающие их действия. Предполагалось, что в диалоге примут участие Брут, Требоний, может быть, и другие. Замысел осуществлен не был.
Решив отправиться на Восток, Цицерон колебался в выборе дороги. Брундизий, через который обычно ездили в Грецию, казался ему ненадежным, там собрались ветераны, преданные Антонию. В конце концов он отплыл из Помпей на трех скоростных судах и с частыми остановками двинулся к югу. 25 июля остановились в Вибо Валенция; оттуда Цицерон отправляет Аттику письмо с описанием путешествия: плывут на веслах, северо-северо-восточного ветра нет, хотя в это время года ему полагалось бы наполнять паруса кораблей. Цицерон этому рад — ветер поднял бы волнение, когда корабли пересекали заливы Пестума и Вибоны. Следующая стоянка — у Велии, потом еще одна — неподалеку от Вибоны. Этапы пути примерно те же, по которым Цицерон ехал в изгнание в 58 году с той, однако, разницей, что тогда он двигался наземным путем и очень торопился. Теперь он плывет лениво, с сожалением вспоминает свои уютные виллы, где мог бы сейчас так приятно проводить время вместо того, чтобы тратить его на путешествие, от которого, в сущности, не ждет ничего хорошего, кроме, может быть, свидания с сыном в Афинах. На корабле Цицерон перечитывает свои старые сочинения, пишет. Во время путешествия создано, в частности, последнее его риторическое сочинение — «Топика». 28 июля корабли проходят мимо Регия и берут курс на Сиракузы, Здесь Цицерон проводит у своих знакомцев одну только ночь и на следующий день снова выходит в море, намереваясь теперь уже прямо плыть в Грецию. Но южный ветер заставляет его вернуться в Регий. Там он высаживается и узнает новости из Рима: на 1 августа назначено было заседание сената с участием Освободителей (состоялось ли заседание, Цицерон в момент получения известия не знал). Цицерон решает немедленно возвратиться в Рим, там республиканцы все сильней сожалели о его отсутствии — ведь он был воплощением их политического идеала. Но 17 августа Цицерон высадился в Велии и встретил Брута. Все планы пришлось менять. Антоний вел себя все более угрожающе. Освободители направили ему письмо, в котором в возвышенных выражениях предупреждали от повторения ошибок Цезаря. В заседании 1 августа против Антония выступил Кальпурний Пизон, консул 58 года; Цицерон некогда горячо выступал против Пизона. Но на этот раз Пизон проявил себя «добрым гражданином». Он заявил, что покинет Италию, дом, пенаты, лишь бы не видеть гражданскую общину Рима под игом тирании Антония. Выступление Пизона имело большое значение — он был одним из самых видных цезарианцев, а дочь его — вдова Цезаря. Знаменательно, однако, что остальные сенаторы не поддержали Пизона, и на следующий день он поостерегся появляться в зале заседаний. Как видим, сенаторы после смерти Цезаря не ощутили себя свободными.
21 августа Цицерон прибыл в Тускул; на следующее утро, когда он еще не совсем пришел в себя после путешествия, на вилле появился его друг Требаций, правовед, которого он в свое время рекомендовал Цезарю. Требаций передал письмо от Гая Матия. Сохранились ответ Цицерона и второе письмо Матия — ответ на ответ. Перед нами два драгоценных документа, они вводят нас в круг настроений, породивших убийство Цезаря и развитие политических событий на протяжении лета 44 года. Гай Матий пишет о нападках, которым подвергается за свою преданность Цезарю. Ему ставят в вину, в частности, что он дал молодому Октавиану (его звали Октавий, после усыновления его Цезарем он стал Октавианом) средства на проведение в июле Победных игр, носивших имя Цезаря; игры ввел Цезарь, и они должны были повторяться ежегодно. Магистраты, которым полагалось проводить игры, отказались заниматься ими; тогда, несмотря на явное, неодобрение Антония, Октавиан взялся провести их сам. Именно в ходе игр, проведенных с 20 по 30 июля (и, следовательно, в отсутствие Цицерона), и появилась в небе Рима комета — sidus julium; толпа уверилась, что Цезарь стал богом, комета — его душа, устремляющаяся на небо. Усилия Долабеллы подавить попытки создания культа Цезаря оказались тщетными. Октавиан воздвиг приемному отцу статую, увенчанную звездой, — он показывал таким образом, что разделяет народную веру. Республиканцы возмущались и всячески осуждали и поносили Гая Матия и, конечно, юного наследника диктатора. На это-то Матий в жалуется Цицерону, который всегда был его другом, всегда оказывал ему помощь и, в частности, ввел в окружение Цезаря. Письмо Матия ставило перед Цицероном нравственную проблему во всей ее остроте: все это время Цицерона не было в Риме, с Освободителями он вступил в отношения совсем недавно и не был в числе гонителей памяти Цезаря; Матий обращается к нему как к человеку честному и мудрому, способному правильно оценить положение; он знает о связях Цицерона с республиканцами и просит оправдать его перед ними. Матий допускает, что враги могут покуситься на его жизнь, но особого страха не испытывает. Он думает уехать на остров Родос, удалиться от политики и жить в уединении и ученых занятиях.
Ответ Цицерона не касается политики, он излагает свою нравственную позицию. Повторяет одну из главных мыслей «Лелия»: лучше пожертвовать дружбой, чем нарушить долг перед родиной. В ответном письме Матий развивает другой взгляд на дружбу: дружба для него пе политический союз, каким она была по старинным римским представлениям, а скорее сердечная привязанность» Он отстаивает право на чувство, в котором никому не должен давать отчета. К тому же Матий. не считает, что убийство Цезаря принесло пользу государству, напротив; того, уже в предыдущем письме он писал, что пе ждет после убийства ничего хорошего. Но главное для Матия все-таки в другом. Даже рабы, пишет он, ведают простые человеческие чувства. Почему же отказывать в этом свободному человеку — отказывать в чувстве дружбы, в чувстве благодарности? Итак, перед нами два представления о гражданском долге. Дилемма вставала уже во времена Гракхов; судьи спросили друга Тиберия Гракха Блоссия, согласится ли он поджечь Капитолий, если его друг этого потребует. Блоссий ушел от прямого ответа, он сказал, что мысль о подобном преступлении никогда не придет Тиберию в голову. Матий говорит, что он не из тех, кто рассчитывал извлечь личную выгоду из гражданской войны. Он старался избежать войны, смягчить ее жестокость, ибо выше всех добродетелей ставит доброту и милосердие. Высказывались вполне обоснованные предположения, что Матий был эпикурейцем. Подобно Аттику, подобно Меценату, он жил как бы в тени друга: Аттик был советником и помощником Цицерона, Меценат играл впоследствии ту же роль при Августе, Матий — при Цезаре. В соответствии со своим философским учением они уклонялись от политической деятельности и избегали выступать на первый план. Они вовсе не были равнодушны к другим людям или к человеческому сообществу, обвинять их в эгоизме — явная несправедливость. Люди эти полагали, что в человеческом сердце заложена потребность в общении и повседневная связь с другом есть лучшая возможность удовлетворить ее. Все указывало на то», что no мере ослабления гражданских связей человек начинал создавать свое собственное представление о счастье — вдали от форума, его столкновений, игры честолюбий и интриг, впустую поглощающих силы отпущенной нам жизни. Об этом писал еще Лукреций, и, может быть, не случайно Цицерон содействовал обнародованию его поэмы, хотя и не разделял убеждений автора. Сам Цицерон оставался верен античному идеалу, согласно которому гражданин должен, не щадя сил, стараться, пользуясь образом Лукреция, «до самой крыши дотянуться». Вскоре Цицерон прямо высказал эту мысль в трактате «Об обязанностях». Но на протяжении вот уже полувека все яснее обнаруживалось, какую опасность для гражданской общины Рима таил этот античный идеал. Империя сделалась необъятной, все более рискованно становилось доверять бескрайние провинции и могучие армии одному человеку и ожидать, что, выполнив поручение, он возвратится в город, вновь станет рядовым гражданином и удовлетворится славой, на глазах тающей в дымке прошлого. Рождался новый Рим, где один человек должен обладать достаточной властью, чтобы обеспечить мир и спокойствие, к которым, как говорит Гораций, стремится каждый из нас. Эпикурейское представление о счастье предстояло осуществить принципату. Филодем, рассуждавший о «добром царе», хорошо это понимал, но ни Цицерон, ни Брут, ни Освободители не могли принять. И только после еще пятнадцати лет гражданских войн установилась новая форма общественного равновесия.
В последний день августа Цицерон после пятимесячного отсутствия возвратился в Рим. Въезд его в столицу выглядел как настоящий триумф. Большая толпа ждала оратора у ворот города, стояла по бокам Латинской дороги, и весь день, по словам Плутарха, в дом являлись посетители с приветствиями. Беспокойство, царившее в городе, за лето не развеялось. Солдаты по-прежнему заполняли улицы и площади; курия стояла пустой; Антоний оставался хозяином положения, хотя все знали, что молодой Октавиан ставил на его пути множество препятствий. Октавиан требовал наследство Цезаря и значительные суммы, на которые он был вправе претендовать, Антоний пытался их присвоить.
Антоний назначил на 1 сентября заседание сената, где Цезарю должны были декретировать божеские почести. Это ставило Цицерона в очень неловкое положение. Он не мог одобрить предполагаемые меры, но знал, что выступить против них значило рисковать жизнью. Храм Согласия, где должно было состояться заседание, был набит солдатами, которые заполнили также прилегающие улицы. Друзья оратора (как он признавался в первой филиппике, произнесенной двумя днями позже) предупредили его, что консул не даст ему возможности высказаться свободно, как месяцем раньше говорил Пизон. Цицерон отправил Антонию письмо, где сообщал, что не сможет присутствовать на заседании, утомлен переездом. Антоний пришел в ярость, кричал, что приведет Цицерона силой, разрушит его дом, но, разумеется, даже не пытался привести в исполнение свои угрозы. Заседание прошло без Цицерона; сенат, подчиняясь силе, утвердил предложения Антония, в частности, и такое: в будущем к празднествам по поводу любой победы будет прибавляться еще один день, посвященный победам Цезаря и напоминающий о них.
На следующий день сенат собрался снова. Антония не было. Цицерон присутствовал и произнес первую из четырнадцати речей, названных им в память о Демосфене Филиппиками. Председательствовал на заседании Долабелла, и Цицерон пе поскупился на похвалы его действиям против тех, кто ратовал за обожествление Цезаря. Говорил Цицерон весьма свободно, обвинял Антония в произвольном толковании решений Цезаря, утверждал, что он выдает за окончательные меры, которые диктатор еще только готовил, а некоторые просто выдумывает сам. В речи нет никаких резкостей, местами тон ее становится даже благожелательным, но осуждение политики, проводимой со времени Мартовских ид, выражено в ней недвусмысленно. Речь, видимо, понравилась большинству сенаторов, но практических последствий не имела. Единственный результат состоял в том, что Антоний начал относиться к Цицерону еще более враждебно. Призывы Цицерона вернуться к государственному устройству, которое создало величие Рима, произвели впечатление на слушателей, но никаких конкретных мер оратор не предложил. Антоний опирался на ветеранов и по-прежнему властвовал в городе. Цицерон ясно понимал, что закрыл себе дорогу в курию. Об этом он пишет Кассию, по-видимому, сразу после ответного шага Антония, то есть поело 19 сентября.
В этот день Антоний созвал сенат. Цицерон не явился. Он знал, что консул — отныне его враг, — сидя на своей вилле в Тиборе, готовил с помощью специально приглашенного ритора ответ на первую Филиппику. Представление о речи Антония можно составить на основании второй Филиппики; она не была произнесена, Цицерон написал ее в Путеолах, куда счел за благо уехать примерно 10 октября, ибо 2 октября Антоний на сходке обвинил его в подготовке заговора. Речь Антония 19 сентября наполнена личными нападками на Цицерона; в вводной части Антоний упрекает старого оратора в том, что он пренебрег законами дружбы, не воздал Антонию должное за услуги, им оказанные. Далее следует критика консульства Цицерона; об одобрении, которое заслужило его консульство от самых видных и авторитетных людей Рима, не упоминалось ни одним словом. Вся жизнь Цицерона выставлена в дурном свете: поведение его во время гражданской войны, роль в убийстве Цезаря — уж не Цицерон ли в самом деле вложил оружие в руки заговорщиков? А разве не Антоний, скажет на это Цицерон, преспокойно выслушивал в Нарбоне предложения Требония, помышлявшего убить тирана, и не выдал его? И Цицерон весьма убедительно докажет, что преступление, если его можно так называть, было выгодно в первую очередь Антонию.
Во второй части второй Филиппики, прибегая к тому же методу, которым пользовался в своей речи Антоний, Цицерон разбирает пункт за пунктом жизнь консула: говорит о пороках его молодости, о его любовных похождениях с Гаем Курионом (погибшим в Африке легатом Цезаря), о походах, в которых он участвовал, о магистратурах, которые отправлял подчас самым скандальным образом. Наизнанку оказалась вывернутой вся личная жизнь Антония, его пьянство, обжорство, привычка сорить деньгами, вызывавшая его ненасытную алчность. Непроизнесенная речь кончалась заклинанием, обращенным к Антонию: да примирится он с отечеством, сам же Цицерон всегда будет стоять на страже свободы и готов ради нее пойти на смерть.
Произнести вторую Филиппику в Риме значило бы подвергнуть себя смертельной опасности; Цицерон предпочел показать ее Аттику и, учтя его замечания, опубликовать. Тут было свое преимущество: опубликованная речь обращалась к несравненно более широкой аудитории, и воздействие ее оказывалось более длительным. В письме Кассию Цицерон признает, что защитников республики в сенате немного. Может быть, их станет больше, когда люди прочтут обвинительный акт, обращенный к совести каждого. Освободители далеко от Рима. Хватит ли для спасения государства одного лишь красноречия Цицерона? 9 октября Цицерон еще из Рима пишет своему другу Корнифицию, управлявшему провинцией Африка: мало-помалу все надежды сходятся на Октавиане. Граждане верят, «что он сделает все, дабы заслужить хвалу и славу». Выбор этих двух слов, laus и gloria, не случаен: Цицерон рассчитывал, что юноша станет «добрым гражданином» в мирное время и удачливым полководцем во время войны. 9 октября Антоний отбыл в Брундизий встречать четыре легиона из Македонии; он хочет задобрить их деньгами и привести в Рим, чтобы, как пишет Цицерон, «расположить у нас на шее». Война становилась неизбежной, а восстановление республики отодвигалось в неопределенное будущее. Две враждующие силы вырисовывались вполне отчетливо: с одной стороны Антоний, с другой — покровитель «добрых граждан» Октавиан. Цицерон твердо знал, какой политической линии следовало придерживаться в следующем году. Но надо было дождаться 1 января, смены консулов, а до тех пор — выжить.
Цицерон уезжает из Рима, куда возвратится лишь 9 декабря; он проводит время сначала на своих Кампанских виллах, потом в Арпине, где создает трактат в трех книгах «Об обязанностях». Трактат не был предусмотрен в плане философских сочинений, которым открывалась вторая часть «О предвидении». Три книги трактата посвящены сыну Марку; сын продолжал свои занятия в Афинах, тремя месяцами раньше Цицерону пришлось отказаться от свидания с ним отчасти из-за противного ветра (без сомнения, ниспосланного богами), отчасти из-за срочных политических дел.
Откуда такое сочинение? Откуда сама проблема?
Замысел возник в ходе раздумий над учением стоиков; название изначально предстало перед автором в своем греческом обличье. Первое упоминание о будущем сочинении в письме Аттику от 7 ноября связывается с греческим словосочетанием Πβρι του καθήκοντος, которым широко пользовались в недалеком прошлом наставники «римского стоицизма» Панеций, Гекатон Родосский, Посидоний; оно же встречается и у основоположников Древней Стой — Зенона, Клеанфа, Хрисиппа и других. Но как передать по-латыни καθήκον? В греческом языке это причастие настоящего времени, означающее нечто вроде «подходящий», «приличествующий», «подобающий», следовательно, и «благопристойный». В качестве латинского адеквата Цицерон предлагает officium, которое на первый взгляд не слишком соответствует греческому термину. Officium означает выполнение некоторого труда, но с существенным оттенком — не всякого труда, а выполняемого в помощь кому-либо. Оказывая, например, поддержку другу в суде или участвуя в торжественной церемонии в его семье, выполняешь по отношению к нему officium.
У Аттика такой перевод вызывает возражения. Ему непонятно, каким образом столь глубоко римское понятие может рассматриваться как аналог греческого «подобающее», «благопристойное». В ответ Цицерон приводит множество расхожих выражений, таких, как consulis officium, senatus officium, imperatoris officium, используемых для обозначения «обязанностей» консула, деятельности, «подобающей» сенату или командующему армией. Но тогда естественно спросить, почему не говорить просто о «доблести» командующего или консула, о «совершенстве» в выполнении своего дела — ведь именно этими выражениями пользовался Платон в «Меноне»? Дело в том, что Платон не знал различия, которое в глазах стоиков играло первостепенную роль — различия между реальным практическим содержанием действия и его общей нравственной характеристикой, от содержания более или менее независимой. Слово «подобающий», «благопристойный» относится к первому и только к нему. Доблесть — характеристика мудреца, то есть характеристика деятельности более теоретической, нежели реальной; «подобающее» же или «благопристойное» возникает постоянно, присутствует в жизни каждого, обнаруживается в его поступках, и по отношению к нему эта жизнь и эти поступки и оцениваются. Но как можно в каждом отдельном случае определить «благопристойное»? Подвергая всякий раз действие критике разума: «благопристойное» — это то, что может быть оправдано судом разума.
Исходная точка анализа — природа человека. От животного человека отличает способность к теоретическому постижению действительности; эта способность дополняется в человеке инстинктивным тяготением к сообществу с себе подобными, сначала в семье, потом в гражданской общине. Из этой двуединой природы человека вытекают четыре его основополагающие склонности: к поиску истины; к независимости, то есть к готовности подчиняться лишь тому, кто способен наставить нас к справедливости и пользе; независимость порождает в нас еще одно, третье, свойство — «величие духа», выражающееся в способности стать выше обстоятельств; наконец, последнее
В основе всего построения обнаруживаются, таким образом, четыре основополагающих достоинства, что признавали все философские учения, и те, в частности, на которые Цицерон, по его собственным словам, опирался: философия Академии, аристотелизм и прежде все.о учение стоиков. Потребность в познании соответствовала такой общепризнанной добродетели, как мудрость, восприятие человеческого сообщества как блага — праву и справедливости, чувство независимости и стремление к первенству — мужеству, интуитивная потребность в порядке — самообладанию. В совокупности эти четыре достоинства позволяют нам соразмерять наши действия, подчиняя их перечисленным потребностям.
Цицерон лишь в общих чертах характеризует первое из перечисленных достоинств, толкающее нас к познанию истинного. И, напротив того, обращает пристальное внимание на право и справедливость, устанавливая различие между справедливостью как таковой и милосердием; только в своей совокупности они составляют основу всякого человеческого сообщества. Такое понимание справедливости и права соответствовало взглядам стоиков, но также — и это самое важное — оно опиралось на то инстинктивное чувство, что определяло отношение каждого римлянина к своей гражданской общине. Одна из главных заповедей стоицизма гласила: основная обязанность человека — и мудреца в первую голову — быть полезным. Таков же был долг каждого римского гражданина. Вот почему Цицерон — римлянин — опирается в своем сочинении на учение стоиков. Со времени смерти Катона он испытывает все возрастающую симпатию к этой философской школе, но, кроме того, стоицизм удивительно полно совпадал с полуосознанным традиционным моральным кодексом римлян. В Цицероновом анализе справедливости и права каждое слово, каждый пример связаны с конкретными политическими обстоятельствами последних лет республики, с перипетиями, пережитыми автором, или с событиями гражданской войны.
Когда мы читаем, что одна из причин несправедливости и сознательного стремления нанести вред ближнему есть страх, невозможно не вспомнить события января 49 года. Когда речь заходит об алчности, примером ее в тексте (как и в «Парадоксах») служит Kpacс, в подтексте же — безумные оргии Антония. В книге встречается цитата из Энния, она ведет еще дальше. Одно из действующих лиц у Энния говорит: «В глазах царя ничто не свято, ни верность, ни союз». Можно ли. не вспомнить знаменитые слова Цезаря, перефразировавшие стих Еврипида: «Если нарушать законы, то лишь для того, чтобы стать царем; во всем остальном право следует уважать». Еще яснее намек па Цезаря в тексте, который следует за этой цитатой. Цицерон, не скрываясь, называет имя мертвого диктатора, говорит о его «безрассудстве»; он разрушил порядок в государстве с одной лишь целью — занять первое место, создать «принципат», и нет оправдания злодеяниям, во имя его содеянным. Цезарь допустил ошибку, он положился на расхожие воззрения толпы, а ему следовало подвергнуть свои действия суду разума. Он проявил гениальность и «величие духа» в стремлении к неограниченной власти; такой душе наставления философии еще более необходимы, чем любой другой.
Но не один Цезарь повинен в нарушении справедливости и права. Все, кто потворствовал его замыслу, кто по той или иной причине уклонялся от борьбы за гражданскую общину, не менее виновны. Цицерон, конечно, имеет в виду сенаторов, которые не решаются противостать Антонию и оправдывают свою бездеятельность обилием трудов или преданностью ученым занятиям — Варрон, например, заперся у себя на вилле, погруженный в заботы о птичнике. Может быть, речь идет и об Аттике, Гае Матии, вообще об эпикурейцах? Скорее всего нет: тот же Аттик внимательно следил за всем, что происходило в государстве, и не скупился на вполне практические советы. Вернее, имеются в виду другие люди из окружения Цицерона — те, что упорно держались в стороне от политики и отказывали старому оратору в помощи в борьбе за восстановление республики.
Страницы, посвященные справедливости и праву, полны примеров ив недавнего прошлого, подчас острозлободневных и в большинстве связанных с обстоятельствами, породившими гражданскую войну. Цицерон говорит о ней, исходя из традиционного для римлян понимания войны, согласно которому она требовала неуклонного соблюдения определенных норм справедливости и права даже но отношению к врагу. Вообще важно подчеркнуть, что, как бы ни были разнообразны источники, используемые Цицероном в его трудах, в основе его мысли всегда лежали традиция и духовное наследие Рима.
В первой книге трактата, таким образом, были рассмотрены источники «благопристойного»; вторая книга обращается к проблеме «полезного», где охарактеризованным ранее подлинным нравственным ценностям противопоставляется мораль, основанная на личном интересе; третья книга содержит доказательство того, что благо и польза в конечном счете не противоречат друг другу. Справедливость и закон ясно ассоциировались с республикой, несправедливость и беззаконие — с тиранией. Накануне последней битвы между ними Цицерон определяет и свои личные «обязанности», объясняет и оправдывает свои действия.
Теперь становится ясным, какое место занимает трактат «Об обязанностях» среди философских трудов Цицерона. Ограничиваться изложением общих принципов нравственного существования и изложением классических теорий, эти принципы подтверждающих (как в диалоге «О пределах добра и зла», или, в несколько меньшей степени, в «Тускуланских беседах»), больше нельзя. Настало время действовать, но действие для Цицерона неотделимо от мысли. На протяжении всей жизни Цицерон отстаивает это положение, основывая его на принципе in utramque partem — «с одной стороны — с другой стороны». Несколько лет тому назад он рассматривал в письмах к Аттику всевозможные варианты выбора, перед которым ставила каждого гражданская война. Теперь он анализирует, в сущности, сходную ситуацию, лишь расширяя и возвышая ее до философского уровня. Трактат посвящен Марку — все философские сочинения сороковых годов Цицерон обращал к молодым, к тем, кто будет воссоздавать республику. Кроме того, посвящение сыну вызывало в памяти Катона Цензория. И все-таки главным адресатом книги был сам Цицерон. Он стремился привести в порядок свои мысли, быть может, как-то подбодрить себя, ибо готовился совершить непоправимое — как пишет он сам в конце второй Филиппики (хоть и с несколько излишним пафосом, но совершенно искренне), отдать жизнь за свободу.
В союзе сил, необходимых для борьбы с Антонием и для восстановления республики, не хватало одного звена. В те дни, когда Цицерон оканчивал «Об обязанностях», ему показалось, что недостающее звено найдено. В ноябрьские календы он получил письмо от Октавиана. Юноша сообщал, что раздал ветеранам, поселенным в Казилине и в Калатии в Кампании, по пятьсот денариев каждому, и они обещали ему поддержку; теперь он собирается объехать другие колонии ветеранов и набрать войско, способное противостоять армии Антония. Октавиан прямо выразил желание видеть Цицерона в числе своих союзников. Цицерон уклоняется от прямого ответа. Октавиан посылает еще и еще письма, всякий раз подыскивая новые и вполне убедительные доводы. Он вернется в Рим и отдаст себя в распоряжение сената. В конце концов Цицерон отвечает, что, возможно, тоже поедет в столицу, так как не хочет, чтобы столь важное решение, как вступление в открытый конфликт с Антонием, сенат принял без него. Однако прошло еще несколько дней, а он все не решался рискнуть и возвратиться в Рим. 4 ноября он еще в Путеолах; из писем, которые он каждый день получает от Октавиана, явствует, что тот действует с неослабевающим пылом. Сумеет ли это г мальчик, все время спрашивает себя Цицерон, справиться с труднейшей задачей, перед которой пришлось отступить Бруту и Кассию? Правда, имя его неотразимо. После посмертного усыновления Цезарем он теперь официально зовется Гай Юлий Цезарь Октавиан; популярность приемного отца перешла на сына, и муниципии, через которые пролегает путь Октавиана, встречают его с восторгом, не только в Кампании, но и в Сампии. Подобные вести, казалось бы, побуждают спокойно ехать в Рим, но Цицерон вновь и вновь задается вопросом: соберется ли сенат по зову Октавиана, а если и соберется, решатся ли сенаторы с должной энергией выступить против Антония? К тому же Антоний ведь может и победить и тогда, конечно, даст волю своей мстительности.
Марций Филипп, тесть Октавиана, и Клавдий Марцелл, ставший после женитьбы Октавиана на Октавии его шурином, оказывают на Цицерона непрестанное давление, они требуют, чтобы оратор поставил на службу их делу свое имя и влияние; Цицерон не видит возможности отказать им. Была и другая причина, по которой он вступил в этот союз, во всяком случае, если верить рассказу Плутарха. Однажды, как передавали, Цицерону приснился странный сон: Юпитер собрал в храме на Капитолии всех сыновей сенаторов, обещая назвать того, кому в будущем будет принадлежать власть над городом. Мальчики, облаченные в детские тоги-претексты, собрались и стали ждать. Внезапно двери храма распахнулись, и подростки по одному начали проходить перед статуей бога, сохранявшей полную неподвижность. Когда же приблизился Октавиан, бог простер руку, и все услышали голос: «Римляне, гражданские войны придут к концу, когда этот юноша станет вашим вождем». Никогда ранее Цицерон не видел Октавиана, но несколькими днями позже встретил его на Марсовом поле и сразу узнал. История эта сохранилась во многих вариантах, но во всех говорится, что Цицерону во сне открылась будущая судьба Октавиана.
Позже подобные рассказы вплелись в «венок славы» Августа, но показательно, что во всех действует Цицерон в образе Предтечи, святого Иоанна Крестителя, возвещающего приход Мессии, которого ожидает Рим. Далеко не впервые посещали Цицерона пророческие сны. Он рассказал об этом сам. На этот раз, разумеется, невозможно выяснить, было ли все так, как пишет Плутарх. Никогда не удостоверимся мы также, действительно ли, узнав в толпе юношу из своего сна, Цицерон принял решение стать на сторону Октавиана и забыть обо всем, что говорило против подобного решения: о разрушительном наследии Цезаря (в одном из писем Цицерон признает, что этот аргумент в его глазах особенно весом), о том, что новый Цезарь уже успел возвести статую своему приемному отцу. Но можно ли ставить ему это в вину? Ведь в конце концов сын всего лишь воздал дань уважения к памяти покойного. Как всегда, в уме Цицерона возникают два ряда доводов, одни за, другие против. Нерешительность? Бесхарактерность? Скорее интеллектуальная честность, верность методу мышления, унаследованному от учителей. Ставка была столь велика, а основания для выбора столь неопределенны, что всякое однозначное решение виделось неосмотрительным. Однако вскоре выбор был сделан, и Цицерон начал действовать.
Началось с того, что он позволил себя убедить, будто Октавиан твердо встал на сторону республики. Цицерон в Арпине все еще предавался колебаниям, а юный Цезарь уже появился в Риме и произнес речь на сходке, созванной по ауспициям народного трнбуна Тиберия Каннуция. В своей речи он прямо выступил против Антония, обвинил его в разных злодействах к, в частности, в том, что он лишил граждан свободы. Народ разразился рукоплесканиями. Текст речи Октавиан отправил Цицерону, и тот полностью его одобрил. Цицерон не внял советам Аттика, который убеждал друга оставаться в безопасности в Арпине и повременить хотя бы до вступления в должность новых консулов, а отправился в столицу и 9 декабря въехал в Рим.
Тем временем в тех легионах, на которые Антоний твердо рассчитывал, начались бунты, и, чтобы справиться с ними, он отбыл из Рима. Отправился к своему войску и Октавиан, ибо знал, как нелегко иметь дело с ветеранами, которым все время надо выплачивать все новые и все большие суммы. Дальнейший ход событий зависел в первую очередь от того, какую позицию займут наместники обеих Галлий — Мунаций Планк в Галлии Косматой и Децим Брут, один из убийц Цезаря, в Цизальпинской Галлии. Антоний еще раньше добился позволения сената обменять свою провинцию Македонию на провинцию Децима Брута и теперь ожидал возможности в ней укрепиться. Как поведет себя прежний наместник? Ведь он назначен вполне легально, но полномочия его истекают в последний день года. Цицерон очень этим обеспокоен. Он пишет Дециму Бруту несколько писем подряд, и тот наконец решает не трогаться с места. Пишет Цицерон и Мунацию Планку, убеждая его встать на сторону сената и оказать сопротивление Антонию.
Заседание сената было назначено на 20 декабря. В порядке дня значилось только утверждение мер безопасности, которые следовало принять 1 января в связи с вступлением в должность новых консулов, Гирция и Пансы. Сначала Цицерон не хотел являться на заседание, но в этот день был обнародован эдикт Децима Брута, где объявлялось, что он сохраняет магистратуру за собой, а провинцию свою отдает в распоряжение сената и римского народа. Это означало признание распоряжений Антония незаконными и возвращение res publics, но крайней мере в этих конкретных обстоятельствах, под власть тех, кто по закону должен был ею руководить. Узнав об эдикте, Цицерон поспешил в курию. Когда весть дошла до других сенаторов, они устремились туда же, так что сенат оказался почти в полном сборе и тем самым получал возможность принимать самые ответственные решения. После утверждения порядка дня Цицерон произнес речь об общем политическом положении — так называемую третью Филиппику. В ней он снова обрушился на Антония, повторил обвинения, содержавшиеся во второй Филиппике, и присовокупил похвальное слово тем, кто противостоял тирану, то есть в первую очередь Октавиану и легионам, перешедшим на его сторону, ранее входившим в армию Антония. Цицерон силится возбудить в слушателях ненависть к царскому имени: Антоний — хуже Тарквиния Гордого, он презрел ауспиции, подделал результаты выборов, уничтожил гарантии свободы граждан.
Он заслуживает того, чтобы его объявить «врагом римского народа», то есть поставить вне закона, как в свое время Катилину.
По замыслу Цицерона речь должна была знаменовать начало открытой борьбы против Антония, подобно тому, как речь 8 ноября 63 года, первая Катилинария, объявляла начало открытой борьбы против Катилины. Как и в 63 году, Цицерон обратился к народу и повторил основные положения своей сенатской речи. Второй Катилинарии соответствует четвертая Филиппика, произнесенная вечером того же дня, 20 декабря, на сходке, которую созвал специально для Цицерона преданный ему народный трибун Марк Сервилий. Весть о том, что на сходке выступит старый консулярий, разнеслась по городу. Собралась изрядная толпа. Впервые за долгое время забрезжила надежда на восстановление свободы, сказал Цицерон. Сенат, правда, еще не полностью волен в своих решениях, не располагает былой auctoritas, но чувства сенаторов нам ясны: юридически Антоний еще не враг римского народа, но он враг его по делам своим. Цицерон строит речь на тех же интонациях, что звучали в Катилинариях: он стремится возбудить ненависть к Антонию, разжечь ярость против «разбойника», запятнавшего себя кровью сограждан (имеются в виду мятежные солдаты, которых Антоний приказал казнить). Он говорит о силах, противостоящих консулу (ему еще десять дней будут принадлежать фасцы): прежде всего сенат, твердо решивший положить предел бесчинствам Антония, затем армия Децима Брута, она держит в подчинении Цизальпинскую Галлию, то есть весь север Италии от Апеннин до Альп; и наконец, войско юного Цезаря, растущее день ото дня благодаря перебежчикам. Оратор искусно играет па чувствах толпы, он знает — люди боятся Антония, он ведь все-таки может и победить, но они гордятся именем римлян и помнят о былой славе этого имени; наконец, у каждого гражданина особое чувство вызывает слово «свобода» — Цицерон не случайно приберег его для завершения речи.
Цицерон, естественно, поспешил рассказать обо всем в письме Дециму Бруту; он рассчитывал утвердить наместника в намерении выступить против Антония. Но Антоний понял, что после двух речей Цицерона остается только одно — поставить сенат перед свершившимся фактом. Он напал на Децима Брута и обложил Мутину, город на Эмилиевой дороге; город имел важное стратегическое значение — через него шел путь из Цизальпинской Галлии в Этрурию. Узнав об этом, Октавиан вывел свои войска из Альбы Фуценс (стратегически важного пункта неподалеку от нынешнего Авеццано на водоразделе между Адриатическим и Тирренским склонами Апеннин) и двинулся к границам Цизальпинской Галлии. Гражданская война возобновилась не в последнюю очередь потому, что Цицерон отказался наконец от выжидательной позиции.
1 января сенат собрался при новых консулах, двух цезарианцах — Гирции и Пансе. Заседание состоялось в священном центре римской власти, в храме Юпитера на Капитолии. Выбор места подчеркивал важность и торжественность происходящего. Панса произнес довольно резкую речь; перешли к опросу сенаторов; первое слово получил Квинт Фуфий Кален, тесть Антония. Кален был в прошлом легатом Цезаря, во время гражданской войны сражался под его началом в Галлии и в Италии. Он стоял за сохранение мира. Другу и соратнику Антония мысль объявить его врагом римского народа была, конечно, отвратительна. Рассказывая об этом заседании, Дион Кассий приводит две длинные речи, одну из которых приписывает Цицерону. На самом деле это всего лишь компиляция из отрывков его Филиппик. Вторую речь Дион Кассий приписывает Калену, по она также является фикцией. Бесспорно лишь существование в сенате определенного сопротивления линии Цицерона. Кален выступил глашатаем враждебных Цицерону сил. Затем очередь дошла до Цицерона. Он произнес пятую Филиппику, без труда опроверг доводы Калена и предложил ряд мер. Прежде всего, по мнению Цицерона, следовало принять senatus consultus ultimus, предоставлявший консулам чрезвычайные полномочия и фактически объявлявший гражданскую общину Рима в состоянии войны с Антонием. Кроме того, он предложил воздать почести всем, кто выступил против Антония: Дециму Бруту (будучи направлен сенатом в Испанию, он заключил там мир с Секстом Помпеем), Октавиану — для него Цицерон потребовал места в сенате в ранге претория, права добиваться любых магистратур не ожидая достижения законного возраста, и пропретуры которая давала право на военное командование; тем самым Цицерон ратовал за легализацию положения Октавиана, ведь юноша, в сущности, стал во главе войска без всякого на то законного права. Еще Цицерон считал необходимым признать законным дезертирство солдат из армии Антония. Казалось, сенаторы поддержат предложения Цицерона. Но заседание кончилось, а голосование так и не провели. На следующий день заседание возобновилось в храме Согласия. Выбор места и на сей раз не был случаен — именно здесь Цицерон произнес некогда свою четвертую Катилинарию, и сенаторы приняли тогда решение о казни заговорщиков. Сенат продолжил прения. Предложение о воздании почестей юному Цезарю было принято. Но когда речь зашла о мерах против Антония, народный трибун Сальвий наложил вето, он потребовал предоставить ночь на размышление. В тот же вечер жена Антония Фульвия с маленьким сыном Антонием или, как его называли, Антиллом (в Мартовские иды они были захвачены как заложники окопавшимися на Капитолии убийцами Цезаря), а вместе с ними Юлия, дочь Луция Цезаря, погибшего в проскрипциях времен Суллы и Мария, посетили самых влиятельных сенаторов и умолили не утверждать решений, направленных против Антония, не выслушав его предварительно.
На следующий день, 3 января, вновь состоялось заседание сената. Как отнесутся сенаторы к Антонию? Накануне еще казалось, будто большинство склоняется к предложению Цицерона. Но положение изменилось. Луций Пизон, который 1 августа первым выступил против Антония, переменил позицию: он счел неприличным объявлять врагом римского народа и преступником человека, который еще три дня назад был консулом Рима. Кален поддержал Пизона. Пизон внес предложение, которое могло бы придать всему делу мирный оборот: предоставить Антонию в управление Косматую Галлию, и пусть время утишит страсти. Окончательное решение сенат принял только на другой день: направить к Антонию депутацию из трех членов со следующими требованиями: прекратить осаду Мутины, сохранить за Децпмом Брутом Цизальпинскую провинцию, отвести армии Антония за Рубикон без права подходить к Риму ближе чем на двести миль. В случае отказа выполнить эти требования сенат объявит Антония врагом римского народа. Кроме того, сенат из осторожности принял решение, чтобы один из консулов отправился в армию. И последний пункт решения сената — отменить аграрный закон, произвольно принятый Антонием, и прекратить деятельность комиссии по переделу земельных владений (комиссия состояла из семи членов, а руководил ею брат Антония Луций). Вечером того же дня Цицерон выступил на народной сходке с десятой Филиппикой, в которой сообщил гражданам о мерах, принятых сенатом.
Каковы же были политические планы Цицерона и какую роль он играл в государстве? В тот момент Цицерон, без сомнения, видел главную свою задачу в том, чтобы уничтожить Антония. Антоний, на его взгляд, увековечивал тиранию, нарушал законы, презирал решения сената, стремился любой ценой добыть возможно больше денег, дабы насытить свою безграничную алчность, страсть к наслаждениям и оргиям. Вокруг Антония, считал Цицерон, собрались «дурные граждане», они столь же порочны и к тому же понимают, что не сумеют добиться своих целей, пока в государстве царят мир и порядок. Цицерон называл таких людей дурными, mali, слово это значило «нравственно порочный» и в то же время «противник серьезного, достойного управления государством на основе закона». Именно «дурные люди» вошли в окружение Цезаря во время гражданской войны; они возлагали все надежды на переворот, который уничтожит существующую власть и ее носителей, хотели захватить управление государством, а вместе с ним — огромные прибыли. Не следует думать, что то был жупел, выдуманный Цицероном для вящего устрашения сенаторов и всадников. Подобные люди существовали. Цицерон обвинял их справедливо, но взгляд его был несколько упрощенным. Цицерон пе учитывал целый ряд обстоятельств, в силу которых традиционные республиканские установления были исторически обречены и которые в самом ближайшем будущем привели к установлению в Риме принципата.
В январе знаменательного 43 года Цицерон вел борьбу за достижение сразу нескольких политических целей. Прежде всего он стремился защитить убийц Цезаря от мести сторонников покойного диктатора. Следовало сплотить и противников Цезаря, и людей нейтральных, всех, кто считал амнистию, провозглашенную на следующий день после Мартовских ид, принятой раз и навсегда. Бруту, Кассию и остальным надо было обеспечить военную силу, чтобы их боялись, чтобы они могли противостоять тайным и явным планам противников. Значит, необходимо добиться принятия решений о передаче в их управление соответствующих провинций. А для этого — перетянуть на свою сторону сенатское большинство. Цицерон надеялся на свое излюбленное и самое сильное оружие — красноречие. Каждая из четырнадцати Филиппин была для него сражением, из которого он большей частью выходил победителем, но иногда битва заканчивалась поражением.
Вокруг кишели, двигались, наступали силы, которые он подчас не мог даже распознать, а распознав, не всегда умел оценить по достоинству. В число таких сил входила солидарность родственных кланов. Мог ли, например, Цицерон предположить, что Луций Цезарь, настоявший на отмене аграрного закона, тем не менее станет сопротивляться любым решительным мерам против консула 44 года? А Луций поступал так потому, что был дядей Антония. Политическое поведение Кальпурния Пизона зависело от того, что дочь его, Кальпурния, была последней женой Цезаря. И так далее. А меры, принятые Октавианом против Антония, в сущности, незаконные, сенат утвердил по настоянию Марция Филиппа, тестя молодого полководца. Избавить Антония от наказания старался один из консулов, Вибий Панса, зять Квинта Фуфия Калена, охотно оказывавший услуги тестю. Родственные связи затрудняли деятельность сената, любая мера отвергалась или хотя бы тормозилась по соображениям, интересам государства посторонним. Древняя эта система в золотые времена республики почти не мешала функционированию государства, теперь же создавала препятствия, почти непреодолимые.
В дни кризиса, вызванного заговором Катилины, Цицерон опирался на твердую поддержку всадников, они шумно выступали в его защиту. Может показаться на первый взгляд, что всадники стояли за Цицерона и в пору борьбы с Антонием. Когда сенат заседал в храме Согласия, всадники окружили здание, они требовали отстранить Антония от власти. Однако владельцы банковских контор на Аргилете объединились в компанию, выбрали своим патроном Луция Антония, брата консулярия. и воздвигли ему статую. История не повторяется дважды, и всадники поддерживали теперь Цицерона далеко не с прежним единодушием.
Еще один фактор Цицерон явно недооценил, а он в 43 году сыграл роль несравненно более значительную, чем двадцатью годами раньше. Тогда, в 63-м, римская чернь спокойно сохраняла подчиненное положение и не оспаривала сколько-нибудь серьезно власть сената. Но консульство Цезаря, трибунат Клодия подорвали положение сената; после отъезда помпеянского сената из Рима чернь почувствовала свою силу и в дальнейшем стала уже привыкать к новой роли. В годы, когда Цезарь сражался в провинциях и Римом управлял Антоний, он частенько ставил прямо на голосование толпы те или иные законы; он называл это плебисцитом, утверждения сената не требовалось. Возникала негласная договоренность между жителями города и диктатором, более того, любой победоносный полководец, стяжавший народную любовь и сохранявший власть, мог добиться того же. Городская чернь отнюдь не питала к Антонию той глубокой неискоренимой ненависти, которая владела Цицероном и аристократами (теми, что не были непосредственно с ним связаны). Она и в Цезаре не видела врага и обожествила его. Если бы Антоний и Октавиан договорились, городская чернь поддержала бы их союз. Так оно в скором времени и случилось.
Цицерон пытался восстановить республику своих диалогов — «О государстве», «Катона Старшего», «Лелия»; он мечтал о государстве нерушимых традиции, религиозных обрядов, строгой законности, где уважение к праву ставит преграду произволу, о гражданской общине, где законы поверяются вечными требованиями разума, где природа подчинена духу. В таком государстве делается все, чтобы не допустить влияния страстей на ход государственных дел; государство следует оградить от игры честолюбий, порождающей подкуп и интриги, от алчности, от безудержной жажды наслаждений, а самое важное — от самоуправства правителя, который утверждает произвольные законы, ссылаясь на особые обстоятельства. При республиканском образе правления человек должен быть свободен от слабостей, от неразумия. Совершенного человека не существует, следовательно, никто не должен располагать властью абсолютной, неограниченной во времени, не разделенной по функциям. Такая мера предосторожности была принята, как считали римляне, при установления республики еще в VI веке до н. э. Теперь следовало к ней вернуться. Однако с той поры возникло нечто новое: люди, совершенством своим и гражданской доблестью как бы предназначенные в вожди и «стражи» государства, если пользоваться термином Платона, который Цицерон употреблял особенно охотно. В гражданской общине люди эти подобны разуму в одном человеке. Вот какую роль Цицерон рассчитывал сыграть в той драме, где ему предстояло столкнуться с Антонием. Он рассказал об этом в трактате «Об обязанностях», предусмотрев даже самые мелкие детали политической жизни, например, неприкосновенность частной собственности (на которую покушались аграрные законы, вроде того, который ему в союзе с Луцием Цезарем удалось отменить). В указании на частную собственность слышны отголоски споров, которые веком раньше вызвала деятельность Блоссия Куманского и Тиберия Гракха. Разумеется, пишет Цицерон в трактате «Об обязанностях», собственность не основана на законах природы, но она с необходимостью вытекает из характера и смысла гражданской общины — ведь община охраняет свободу и безопасность граждан. Вот почему неправы те, кто утверждает, будто политика Цицерона была направлена на охрану привилегий богачей, вдохновлялась классовым эгоизмом. Цицерон стремился к стабильности общественных институтов и прежде всего семьи, которая в Риме всегда оставалась живой клеточкой государственного организма.
Для вручения Антонию сенатских решений выбрали делегацию из трех человек. В нее вошли консул 51 года, уже знакомый нам Сервий Сульпиций Руф, пытавшийся в свое время с помощью компромиссов избежать гражданской войны; консул 58 года Кальпурний Пизон, также сторонник мирного разрешения конфликта, чье переменчивое поведение в сенате мы имели возможность наблюдать; наконец, Луций Марций Филипп, консул 56 года, о котором мы не раз упоминали в связи с ею зятем Октавианом. На следующий день три легата покинули Рим. Вернулись они в столицу лишь 1 февраля, один из них, Сервий Сульпиций, умер от болезни в ходе выполнения миссии. Так что ответа Антония пришлось ждать около месяца. За это время каждая из враждующих партий старалась укрепить свои позиции. Цицерон пишет Планку, он настаивает, чтобы Планк четко и прямо заявил себя противником Антония, пишет Дециму Бруту, что вся Италия готова прийти ему на помощь, вызволить из осады, и целые армии уже движутся к Мутине; пишет наместнику Азии Требонию, он, видимо, не успел получить письмо — в эти самые дни Долабелла, захвативший провинцию и на свой лад мстивший мартовским заговорщикам, убил Требония. В другом письме, написанном после возвращения делегации сената, Цицерон так рисует положение: «У нас энергичный сенат, консулярии, одни из которых робки, а другие не слишком умны; большой ущерб нанесла нам смерть Сервия; Луций Цезарь полон самых добрых чувств, но, поскольку он дядя Антония, он не одобряет никаких решительных мер против него; наши консулы великолепны, Децим Брут — человек замечательный. Юный Цезарь не имеет себе равных, и я по крайней мере жду от него еще многого...» Письмо Кассию помечено февральскими календами, то есть написано в самый день возвращения легатов. Цицерон пишет, что миссию свою они выполнили «постыдно». Они объявили Антонию решения, принятые сенатом, он не принял ни одного из них, послы вернулись с ею предложениями и требованиями, равно невозможными. Народ, пишет Цицерон, напротив того, стоит за «правое дело» и полон решимости; что касается самого Цицерона, то, как он сообщает, ему не остается ничего, кроме как стать popularis — человеком народной партии, но такой, прибавляет он, «которая борется за правое дело». Оба письма, и Требонию, и Кассию, начинаются почти одинаково: «Надо было тогда, в Мартовские иды, пригласить на обед меня, тогда бы не осталось объедков». Смысл этих слов очевиден: жаль, что в ту пору заговорщики не убили и Антония. Жестокость? Вовсе нет, самое большее — толика черного юмора; далее следует: «Объедки, которые вы оставили, меня беспокоят — меня, да и многих других тоже».
В январе Цицерон обращается с письмом к наместнику провинции Старая Африка (первой созданной на Африканском континенте из земель, некогда принадлежавших Карфагену) Квинту Корнифицию, убеждая его пе сдавать полномочий, если Антоний попытается назначить ему преемника. Антоний окажется как бы в кольце, ибо, по расчету Цицерона, против него восстанут все западные провинции.
В переписке с наместниками Цицерон готовил Антонию западню, а в курии пытался вдохнуть энергию в отцов-сенаторов. Он выступил около середины января с седьмой Филиппикой в заседании, которое первоначально должно было заниматься незначительными текущими делами, но Цицерону удалось переломить его ход и еще раз привлечь внимание присутствующих к наиболее острым проблемам. Сенаторы, только и мечтавшие договориться с Антонием, явно рассчитывали, что за время, потраченное посольством, страсти улягутся и принятые решения «уйдут в песок». Поэтому Цицерон сразу же начал с того, что опасность отнюдь не миновала, она становится все более грозной, и дело дошло «до последней крайности». Он разоблачает «мир», предложенный Антонием: под именем мира сенату объявляют войну. Достаточно вспомнить, сколь двуличен человек, ныне осаждающий Мутину. Каждый раз, обещая мир, он добивался более выгодного для себя положения в ходе военных действий.
Как мы говорили, ответ Антония был передан сенату 1 февраля. Антоний соглашался отказаться от Цизальпинской Галлии, отказаться от Македонии и распустить армию, но требовал наделить землей его ветеранов и признать законными меры, принятые им, как он утверждал, в соответствии с волей Цезаря. Управление Галлией Косматой, вместе с командованием шестью легионами, се-пат должен был гарантировать ему на пять лет, то есть на весь срок консульства и последующего наместничества Брута и Кассия.
Обсуждение предложений Антония началось в сенате 2 февраля. Общий ход прений нам известен из восьмой Филиппики, произнесенной 3 февраля. Как и прежде, сенат разделился: одни, подобно Квинту Фуфню Калену, явно хотели поддержать Антония, другие, во главе с Цицероном, требовали объявить Антония врагом римского народа. В конце концов сенат проголосовал за компромиссное решение: Антоний не будет объявлен «врагом», но сенат провозгласит государство «в состоянии боевой тревоги», tumultus, и граждане, следовательно, должны подготовиться к войне. Консулам и юному Цезарю вручалась вся полнота власти. Специальным сенатусконсультом признавались недействительными все решения, принятые Антонием во время консульства. Смятение и путаница дошли до предела. В восьмой Филиппике Цицерон пытается извлечь пользу из сложившегося положения. Луций Цезарь, говорит он, стремясь избежать слова «война», bellum, настоял на выражении «состояние боевой тревоги» — tumultus. Но это — игра словами, основанная на ошибке. Слово tumultus но своему прямому смыслу означает немедленное объявление всеобщей мобилизации. Сенаторы хотели смягчить свое решение, а добились прямо противоположного. Цицерон показывает, что решения сената лишены всякой логики. Мир, о котором они хлопочут, оказывается на поверку войной, кое-как замаскированной. На этот раз Цицерону удалось убедить собравшихся: сенат проголосовал за предложенное им решение. В нем объявлялась амнистия солдатам, которые покинут армию Антония до предстоящих Мартовских ид, и устанавливалось, что, напротив того, каждый, кто присоединится к Антонию, будет рассматриваться как выступивший против республики. В решении содержался также намек на то, что, если кто-либо из воинов Антония убьет своего командующего, он может твердо рассчитывать на награду со стороны консулов и сената
Вопреки желанию сенаторов и в первую очередь консуляриев Цицерон мало-помалу сжимал кольцо вокруг своего врага. Преследовать Антония ему теперь стало легче, так как война фактически уже началась. Гирций занял городок Платерну и рассчитывал использовать его как базу для боевых действий против войск, осаждавших Мутину. Октавиан занял Форум Корнелиум на Эмилиевой дороге. Казалось, Антоний обречен и Цицерон вот-вот восторжествует Оттого большинство сенаторов и проголосовало за предложения оратора. Цицерон не слишком ошибался, полагая, что многие из его коллег в курии заботятся больше о своей безопасности, чем об интересах государства.
Из трех послов, направленных месяцем ранее в лагерь Антония, Цицерону был близок только Сервий Сульпиций Руф. Руф полагал, что его присутствие заставит Луция Пизона и Марция Филиппа держаться более твердо, и потому принял назначение, несмотря на начинавшуюся болезнь. Он поехал больным и по дороге умер Можно сказать, что Руф принес себя в жертву долгу. И Цицерон в один из дней после 4 февраля произнес в сенате похвальное слово покойному. Оно известно под названием девятой Филиппики. Еще до речи Цицерона консул Панса предложил воздвигнуть Сульпицию статую на рострах, а Публий Сервилий Исаврийский — возвести гробницу за государственный счет. Цицерон объединил оба предложения и добился, что его другу (а некогда — противнику в процессе Мурены) воздвигли статую на рострах и гробницу на Эсквилине, на краю дороги, ведшей в альбанские земли. Но дело было не только в почестях, выражавших его дружеские чувства к Руфу. В девятой Филиппике есть и более глубокий замысел. В трактате «О государстве», в какой-то мере в «Тускуланах;» и совершенно отчетливо в диалоге «О славе» Цицерон проводит мысль о том, что слава и право на бессмертие — достояние государственных деятелей, хорошо послуживших родине. К их числу и относился Сервий Сульпиции Руф; умеренный противник Цезаря, он отказался в пору гражданской войны последовать за Помпеем и твердо встал на защиту свободы, когда увидел угрозу ей в лице Антония. Пример Руфа, надеется Цицерон, вдохновит сенаторов. На достижение подобной цели не следует жалеть средств и почестей.
К середине февраля обнаружился еще один фронт будущей войны между Антонием и убийцами Цезаря. Цицерон, как мы видели, заметил это еще раньше, о чем и писал Кассию, Требонию и Корннфицию. Брут никогда не относился с излишним доверием к обещаниям Антония, к декрету об амнистии; осенью 44 года он выехал из Рима и отправился на Крит, назначенный ему в качестве провинции, желая опередить Антония, который затем и пытался самовольно отнять у Брута эту провинцию. С Крита Брут съездил в Афины, там он привлек на свою сторону нескольких промагистратов помпеянской ориентации: наместника Македонии Квинта Гортензия (сына оратора), квесторов в Азии и в Сирии, предоставивших в его распоряжение материальные средства; его поддержали также некоторые находившиеся здесь молодые римляне, в числе последних был Марк Туллий, сын Цицерона; он считал себя воином больше, чем философом, что и доказал в битве при Фарсале. К Бруту явился здесь также Гораций и вскоре занял должность военного трибуна. Ватиний, некогда враг Цицерона, с ним помирившийся, передал Бруту город Диррахий и армию, находившуюся под его началом. Когда брат Антония Гай, получивший в управление Македонию без всяких законных оснований, по распоряжению брата, по дороге в свою провинцию вступил в Иллирию, он не смог продвинуться дальше Аполлонии. В десятой Филиппике, произнесенной около середины февраля, Цицерон поддержал предложение Пансы распространить империй Брута на Македонию, Иллирию и Грецию. Сенат утвердил решение. Восток теперь, казалось, надежно защищен от посягательств Антония. Тогда стала окончательно вырисовываться перспектива, с которой вначале никто не хотел считаться — открытая война между главой заговорщиков Мартовских ид и теми, кто провозгласил себя мстителями за Цезаря.
Первым эпизодом войны стало убийство Требония, о котором мы уже упоминали. Долабелла еще при жизни Цезаря не раз проявлял свой неуправляемый бешеный прав. От Антония он получил провинцию Сирию, отнятую у Кассия. Кассию обещал эту провинцию еще Цезарь, и он отказался принять взамен новое назначение — снабжение Рима сицилийским зерном; Кассий отправился в Сирию и остался там. В конце февраля сенату доложили об убийстве Требония, отцы-сенаторы единодушно объявили Долабеллу врагом римского народа. Однако от их единодушия не осталось и следа, когда встал вопрос о том, кто сделает из решения все необходимые выводы и приведет его в исполнение. Цицерон предложил поручить это Кассию, но сенаторы решила, что делом Долабеллы займутся оба консула — после окончания военных действий под Мутиной. Так что выполнение приговора откладывалось на неопределенное будущее. Цицерон отстаивал свое предложение в одиннадцатой Филиппике; столкнувшись с несогласием сената, он написал Кассию — пусть тот сам на месте принимает необходимые меры. Долабелла явился в Сирию, рассчитывая принять на себя руководство провинцией. Но Кассий оказался там во главе римских войск, которые еще со времен Цезаря стояли в Египте. Сенат подтвердил, что провинцией Сирией управляет Кассий. Тогда Долабелла убил в Смирне Требония и объявил себя наместником провинции Азии. Из Азии он попытался вторгнуться в Сирию и на первых порах добился кое-каких успехов, главным образом на море с помощью флота, который ему прислала-Клеопатра. Вскоре, однако, Долабелла вынужден был запереться в Лаодикее. После неудачной вылазки, поняв, что окружен со всех сторон, Долабелла покончил с собой. Передняя и Малая Азия оказались под контролем антицезарианцев. Кассий выступал в роли как бы верховного командующего, а под его началом провинцией Вифинией ведал Тиллий Цимбер, тоже участник заговора Мартовских ид.
Тем временем «партия мира» в сенате продолжала добиваться своего. На Востоке разворачивались описанные события, там выстроились силы, готовые в случае победы цезарианцев возобновить гражданскую войну, а в сенате те же люди, что двумя месяцами раньше ездили с миссией к Антонию, в начале марта предложили снова попытаться договориться с Антонием. На этот раз послами должны были ехать Пизон, Кален, Луций Юлин Цезарь, Публий Сервилий Исаврийский и... Цицерон! Сенат проголосовал за это предложение. Через несколько дней решение отменили, так как против выступили многие сенаторы и, в частности, сам Цицерон. Он произнес двенадцатую Филиппику, где показал, что всякая новая попытка договориться не только бесполезна, но вредна и опасна. Первая попытка не дала ничего, разве что ввела в заблуждение сенат. Еще одна лишит мужества всех, кто борется за свободу в муниципиях и в первую очередь в Кампании, ветеранов и новобранцев в армии, в провинциях. Заключительная часть речи не раз вызывала осуждение современных историков. Цицерон многословно объясняет, почему он лично не может принять участия в предполагаемом посольстве: на протяжении всего последнего времени он был явным врагов Антония, теперь, вступив с ним в переговоры, он как бы откажется от самого себя, и политическая его позиция станет в высшей степени уязвимой, кроме того, поездка в Мутину угрожает его жизни. Цицерон боится? Значит, он трус? Если бы так, он не стал бы, наверное, столь многословно признаваться в подобных малопочтенных чувствах. А Цицерон между тем останавливается на этой теме очень подробно, описывает каждую из трех дорог, ведущих от Рима к Мутине, напоминает, что они пролегают через селения, полные врагов — и государства, и его личных. Опасность вполне реальна, тем более что Антоний уже обещал кое-кому из своих приспешников имущество, которое останется от старого оратора. Гибель Требония показывает, что цезарианцы вообще не слишком высоко ценят человеческую жизнь. Доводы Цицерона вполне обоснованны. Возможно даже, что, включив его в число послов, враги расставили старому консулярию ловушку, надеялись выставить его в невыгодном свете, лишить роли руководителя республиканцев. Без Цицерона партия свободы утратила бы главную свою силу. Цицерон говорит и об этом, без обиняков, в двенадцатой Филиппике. Он снова напоминает, что Антоний и его брат Луций — «разбойники». И не сомневается (так оно и было на самом деле), что смерть его означала бы катастрофу для республики.
Мало-помалу положение прояснялось. В письме, адресованном консулам и написанном вскоре после 15 марта, Антоний четко и ясно излагает свои цели. Он хочет отомстить за смерть Цезаря — об этом он раньше не говорил, делая вид, будто соблюдает декрет об амнистии. Теперь он оправдывает Долабеллу, оправдывает убийство Требония. Антоний понимает стратегию Цицерона: используя силы, находящиеся в распоряжении трех заговорщиков Мартовских ид, Марка Брута, Децима Брута и Кассия, окружить Антония со всех сторон. Чтобы сорвать этот план, Антоний договаривается с Лепидом, который правит Ближней Испанией и Нарбонской Галлией, и с Мунацием Планком, в чьем подчинении находятся Галлия Косматая и Галлия Трансальпийская (за исключением Нарбонской провинции и Галлии Белгской). Оба наместника получили назначения от Цезаря; Антоний подтвердил их полномочия. Узнав, что сторонники примирения берут в сенате верх, оба не торопились вступить на путь, на который толкал их Цицерон, и пока что не выступали против Антония. Каждый из них написал даже сенату письмо (оба письма прибыли 19 марта), в котором обращался к сенаторам с просьбой примириться с Аптонием.
Эти два письма и письмо Антония к консулам доказывают, что конфликт необязательно было решать на поле боя. Надеждой на мирное его разрешение только и можно объяснить медлительность действий под Мутиной. Антоний все откладывал решительный штурм. Он рисковал, но другого выхода не было: если армии республики, предводимые Октавианом и консулами, сомкнутся с армией Децима Брута, численный их перевес окажется таким, что у Антония не останется никакой надежды на победу. Так что политический конфликт все еще не перерос в войну. Но теперь Антоний открыто выступил вождем цезарианской партии и тем прямо противопоставил себя Цицерону. Оба вождя оказались лицом к лицу, и конфликт постепенно сводился к поединку между ними. Исходом поединка могла быть только смерть одного из вождей. Цицерон был заинтересован в том, чтобы события развивались как можно быстрее, Антоний — в том, чтобы их задержать до того момента, когда ему удастся договориться с Планком и Лепидом хотя бы о нейтралитете.
Цицерон лихорадочно действует. 20 марта он пишет Планку, что его долг открыто отмежеваться от «партии разбойников». В тот же день произносит тринадцатую Филиппику, в которой повторяет то, на чем настаивал в предшествующих речах: мир, конечно, весьма желателен, но с Антонием и людьми, его окружающими, он невозможен. Далее следовало довольно двусмысленное восхваление Лепида, в прошлом командующего конницей в армии Цезаря. Лепид, однако, не должен забывать, что по происхождению и связям он ближе к сенатской парши. Кроме того, сенат располагает внушительными силами, и, наконец, сенат опирается на юного Цезаря — появление его на политической арене приносило до сих пор одни лишь успехи, значит, боги по-прежнему не оставляют Рим своим покровительством.
Еще до того, как Цицерон выступил с тринадцатой Филиппикой, сенаторы по настоянию Публия Сервилия Псаврийского высказались против предложений, содержавшихся в письме Лепида. К проекту решения, предложенного Сервилием, Цицерон прибавил абзац, в котором сенат благодарил Секста Помпея за поддержку в трудную годину и напоминал о славе Помпея Великого. Итак, борьба вновь принимала прежний характер — открытого столкновения между помпеянцами и цезарианцами. Сражение под Мутиной, по сути дела, должно было определить, кто станет победителем, Цезарь или Помпей.
Военные действия вступили в решающую фазу в последние дни марта. Октавиан по-прежнему занимал Имолу, Вибий Панса двинулся по Кассиевой дороге, дошел до Флоренции, оттуда, вероятно через Пистойю и Поррецкий перевал, прошел долиной Рено и неприметными горными тропами проник в ущелья, выходившие в долину реки Панаро. Гирций, еще ранее без боя занявший Болонью и Галльский Форум, отправил в распоряжение Пансы два легиона, которые прикрывали бы его движение по горным ущельям. Но когда 14 апреля Панса вышел на равнину неподалеку от Галльского Форума, он сам и оба легиона, высланных ему на помощь, столкнулись с отрядами выступившего им навстречу Антония. Поначалу Антоний, казалось, одержал победу, Панса был тяжело ранен, но через несколько часов па поле боя появился Гирций, и легионы Антопия обратились в бегство. Октавиан между тем охранял свой лагерь — он и впоследствии не раз воевал только так. Сначала в Рим пришла весть (видимо, 18 апреля) только о поражении Пайсы. Тремя днями позже, в праздник Парилий, когда отмечался день рождения Рима, Цицерон описывает в письме к Бруту всеобщую панику в городе; аристократы с женами и детьми собрались ехать к Бруту. Спокойствие восстановилось 20 апреля, когда стал известен исход сражения. 21 апреля сенат собрался в храме Юпитера Капитолийского (что, как мы отмечали, придавало собранию особую торжественность), и Сервилий Исаврийский предложил назначить благодарственные молебны богам на несколько дней и отменить чрезвычайное положение, как бы введенное ранее декретом о tumultus, «состоянии боевой тревоги». Цицерон сказал, что война не кончена, Антоний может еще оправиться от поражения. Он произнес последнюю из дошедших до нас Филиппин, четырнадцатую (всего их, как кажется, было не менее семнадцати). В пей он, в частности, воздавал хвалу и почести юному Цезарю. В цитированном выше письме Бруту он объяснил свою позицию: «Юный Цезарь по самой природе своей необычайно нам ценен. Когда он войдет в полную силу, да даруют нам боги управлять им и с помощью знаков доверия и почестей держать его в подчинении так же легко, как нам удавалось до сих пор!» Боги не откликнулись па упования Цицерона, решение их оказалось совсем иным, и приведенные слова звучат мрачным пророческим юмором. Но пока что — победа, Цицерон с радостью сообщает о ней Бруту. Толпа восторженно приветствует вождя сената, сопровождает его на Капитолий и на ростры. Дело не в удовлетворенном тщеславии, пишет он Бруту. Цицерона действительно взволновал порыв сограждан, их благодарность, их единство. Ему казалось, что наконец воплотился в жизнь вечный его идеал — «согласие сословий».
Но еще до конца года победа оказалась вырванной из рук сенатской партии, Антоний и Октавиан стали властителями Рима, а самому Цицерону предстояло умереть от ножа наемного убийцы.
Хотя Цицерон объявил о поражении армии Антония в ходе первых боев под Мутиной, борьба за город между легионами Антония с одной стороны и Гирция и Октавиаиа — с другой, продолжалась. Пансу, раненного дротиком в бок, перенесли в Болонью, где он умер. План Антония, подсказанный его советниками, состоял в том, чтобы пробиться в Мутину и занять оборону там, но вопреки этому плану 25-го или 26-го числа решающее сражение развернулось на подступах к городу. Был момент, когда Гирций ворвался во вражеский лагерь и вел бой возле шатра Антония, но был убит. Октавиан бросился вперед, сумел поднять и унести тело консула, но Антоний вскоре снова овладел лагерем. Продолжать далее осаду Мутины оказалось невозможно. Антоний это понял, он отступил за Альпы на соединение с Лепидом и Планком. Ожидал он также и подкреплений, двигавшихся из Пицена; с ними и с дополнительными силами, которые Антоний рассчитывал получить от Планка и Лепида, он надеялся снова перейти в наступление. -
Тем временем Цицерон после двухмесячной борьбы добился наконец от сената объявления Антония и его солдат врагами римского народа. Теперь окончательная победа близка, считал он, так пишет он Бруту, пересказывает содержание сенатусконсульта и прибавляет, что солдаты Антония, по его мнению, начнут разбегаться и устремятся на Восток, где либо сами сдадутся Бруту, либо он сумеет взять их в плен.
Октавиан заключил союз с Антонием, предав и Цицерона и сенат. Как это произошло, во многом неясно, прежде всего потому, что древние историки всегда пристрастны, говоря об Августе. Во всяком случае, сенат допустил крайнюю бестактность: назначенные юному Цезарю почести значительно уступали тем, что были назначены Дециму Бруту; Цезарь оказался как бы в подчинении у Брута. Молодой человек понял (и, по-видимому, не без оснований), что ему отводится роль слепого орудия, его используют, а затем найдут способ устранить. Аппиан приводит речь, с которой якобы обратился к юному Цезарю умирающий Панса. По версии Аппиана, Панса поведал юноше, что он и Гирций всегда оставались преданы памяти Цезаря, согласились они выступить против Антония лишь тогда, когда тот проявил беспримерную и недопустимую наглость. Однако они ни в коей мере не собирались помогать Цицерону и его сторонникам восстанавливать власть помпеянцев. Весьма вероятно, что речь вымышлена, она содержит лишь анализ положения, каким оно сложилось к концу апреля 43 года, сделанный постфактум. Октавиан, судя по всему, вовсе не нуждался в чьих-либо объяснениях, он отлично разобрался в ситуации. С той поры как Цезарь представлял его Цицерону, будущий император успел набраться опыта. Упорный, волевой, скрытный, честолюбивый, скорее всего, убежденный в том, что боги назначили ему участь, которая поднимет его над всеми смертными, он действовал в критический момент решительно и точно. В свое время он поступал так же, когда вопреки советам самых умудренных и опытных друзей сумел добиться наследства Юлия Цезаря. Октавиан понимал, что после победы сенат подчинит его старинной системе ограниченных определенным сроком магистратур. Его исключительные достоинства не будут в должной мере оценены. Союз с Антонием сулил несравненно более радужные перспективы — предстояло радикальное изменение старых установлений, замена годовых магистратур чрезвычайными, дававшими магистрату власть, пусть на ограниченном участке, но с неограниченными полномочиями. Октавиан в этом союзе выступал как продолжатель дела своего обожествленного приемного отца; какое-то время он рассчитывал идти рука об руку с Антонием, но, конечно, предвидел, что рано или поздно так или иначе от него отделается. Может быть, тогда столь ясного плана у Октавиана и не было. Но дальнейшая его деятельность шла именно по этой линии, так что есть все основания приписывать ему подобные намерения. Октавиан начал искать сближения с Антонием, он радушно принимал солдат и командиров армии Антония, по каким-либо причинам оказавшихся отрезанными от своих. Оставлял их у себя, еслп они того хотели, если же предпочитали вернуться к Антонию, отпускал — вопреки распоряжению сената, объявившего их врагами римского народа. В плен под Мутиной попал друг Антония Деций, Октавиан отпустил его. Деций спросил, какие чувства к Антонию испытывает Октавиан, тот ответил, что проявил свои чувства достаточно ясно, умные люди не могут их не понять, а глупцам все равно не растолкуешь.
Цицерон ожидал, что Децим Брут погонится за Антонием и захватит его в плен. Брут сам обещал это вскоре после второй битвы при Мутине в письме, датированном 29 апреля. «Я не дам Антонию оставаться в Италии, — писал он. — Я тут же начинаю его преследовать». Далее в письме он просит Цицерона принять меры, чтобы помешать присоединиться к Антонию Лепиду и Азинию Поллиону (Поллион в прошлом легат Цезаря, ныне он управлял Дальней Испанией и располагал тремя легионами). И Лепид, и Поллион вели двойную игру. В письме от 16 марта Поллион уверял Цицерона, что ему ничто не дорого так, как свобода, Антоний ему отвратителен и все его симпатии на стороне Октавиана. Однако, продолжал он, донесения из Южной Испании перехватывают на заставах Лепида, и их приходится доставлять морем. Сведения от Поллиона поступали с таким опозданием, что воздействовать на него из Рима оказывалось невозможным. Лепид тоже еще 20 мая уверяет Цицерона в своей преданности. В письме, датированном этим числом, он сообщает, что Антоний встал лагерем непосредственно рядом с ним и каждый день к нему являются оттуда перебежчики. На самом деле положение Антония было вовсе не таким тяжелым, как его изображал Лепид. Легионы, на которые он рассчитывал, прибыли во главе с Вентидием Бассом, и между тремя командующими — Лепидом, Планком и Поллионом, — от которых фактически зависел исход войны, уже шла оживленная дипломатическая переписка. Намечалось деление римского мира, которое вскоре обнаружилось открыто: Востоком владели Кассий и Брут; силы Запада в недалеком будущем сплотились, перегруппировались и перешли в наступление. На Востоке — убийцы Цезаря (которых некоторые все еще продолжают называть Освободителями), на Западе — друзья и легаты Цезаря во главе провинций, куда он их назначил. Между тем и другим лагерем — Октавиан, наследник и приемный сын диктатора и в то же время, как ни парадоксально, защитник сената и помпеянцев. Как только юный Цезарь перейдет из одного лагеря в другой, все здание государства, вся политическая структура, которую столь осторожно и продуманно создавал Цицерон, рухнет. Власть над римским миром перейдет к новым людям.
В окружении Цицерона только один человек понял, сколь неустойчиво сложившееся равновесие. Аттик сделал все, чтобы обеспечить относительно благополучное будущее. За последний год мы не располагаем ни одним письмом Аттика к Цицерону и ни одним Цицерона к Аттику — оба друга находились в Риме. В «Жизнеописании Аттика» Корнелий Непот описал, как держал себя Аттик, несколькими годами раньше переживший уже одну гражданскую войну; тогда он не понес никакого ущерба и продолжал оказывать помощь своим друзьям. В конце апреля казалось, что воинское счастье окончательно изменило Антонию, — сенат объявил врагами римского народа его самого, солдат, за ним последовавших, и многие в городе питали к нему ненависть, но немало было и таких, что присоединились к врагам Антония в расчете кое-что выиграть. В этих условиях Аттик, друг Цицерона и Брута, оказывает покровительство Фульвии и маленькому Антиллу, чье имущество и даже жизнь оказались под угрозой. Против Фульвии было возбуждено огромное количество дел, Аттик выступал на ее стороне в судах, выступал ее поручителем, выплачивал взысканные с нее деньги, давал в долг без процентов и обязался покрыть непредвиденные расходы, так как Фульвия приобрела имение и теперь под поручительство Аттика продолжала им пользоваться. Корнелий Непот подчеркивает: в ту пору, то есть между апрелем и июлем, не было никаких оснований думать, что положение Антония улучшится. Историк, кажется, недооценил проницательность Аттика, он оказался не таким тонким политиком, как его герой. Но нельзя не видеть и другой стороны дела — верность друзьям, готовность помогать им в самых трудных обстоятельствах, стремление к добру вытекали как из самой натуры Аттика, так и из философии, которую он исповедовал.
Цицерон в эти месяцы, напротив того, полон ярости против Антония; он — противник любого проявления жалости или снисхождения к нему. 17 апреля, когда исход первого сражения между войсками Пансы и Антония еще не был известен, Цицерон пишет Бруту, что доброта — плохая политика. Брут ранее написал ему, что надо было «скорее препятствовать возникновению гражданских войн, чем мстить врагам, в них побежденным». Брут, подлинный ученик Академии, всегда склонен видеть правоту и неправоту каждой стороны. Цицерон отвечает, что доброта лишь умножает гражданские войны, Брут же проповедует всего лишь «внешнее подобие доброты», и несравненно предпочительнее «спасительная суровость». Он прибавляет, что молодым людям вроде Брута предстоит быть особенно бдительными: «Вам не всегда придется иметь дело с тем же народом, с тем же сенатом, с тем же его руководителем». Такое суждение в тот момент показывает немалую проницательность. Цицерон предвидит, что ради сохранения республики придется выдержать в будущем не одну атаку не слабее тех, что приходилось выдерживать в прошлом.
Безжалостный и свирепый, Цицерон требует смерти Антония, так же как некогда жаждал смерти Катилины. Сравнительно с теми днями, когда он произносил речь «В защиту Марцелла» и осыпал похвалами Цезаря за его милосердие, какая перемена, не правда ли? Что же, Цицерон отстаивал разные принципы в зависимости от того, принадлежал ли к числу побежденных или победителей? Был труслив после поражения и жесток после победы? То было бы поспешное, несправедливое и, главное, очень внешнее умозаключение.
Выше мы пытались показать, что милосердие Цезаря, которое Цицерон восхвалял в речи, к нему обращенной, вытекало из самых глубин римского народного сознания, соответствовало политическим условиям момента и тому царственному облику, который диктатор стремился себе придать. Но в апреле 43 года римское государство находилось совсем в другом положении. Гибель Цезаря вовсе не означала восстановления порядков, существовавших до гражданской войны. Казалось, сама кровь тирана источает тиранию. Надо было вырвать корни зла — так, выкорчевав дерево, приходится все дальше и дальше зарываться в недра земли, чтобы вырвать оставшиеся корешки, из которых вновь может вырасти дерево. Если по лени или по слабости не уничтожить корешки, новые гражданские войны неизбежны. Во времена Цезаря такая политика была не нужна, никто не собирался лишать государство людей, которые последовали за Помпеем, это привело бы к гибели всего римского племени. Теперь же, весной 43 года, опасность тирании воплощал один-единственный человек; друзья, его окружавшие, были всего лишь «разбойники», люди незначительные, их смерть ничем не грозила государству. Цицерон презрительно упоминает о них в Филиппинах. Он считает их просто преступными ничтожествами, а милосердие к ним — слабостью. Те же взгляды Цицерон высказывал в трактате <06 обязанностях»: милосердие и доброта, конечно, похвальные качества, но когда речь заходит о государственных делах, им следует предпочесть суровость, «без которой управлять государством невозможно». Руководители государства, заключает он, вынуждены карать не по злобе, а из чувства справедливости.
Мысль о необходимости соразмерять милосердие с ответственностью перед государством, так что милосердию как таковому не остается места, имела два источника — стоическую философию и политическое положение в Риме. Стоики, как известно, рассматривали милосердие как слабость — оно предполагает отказ от первоначально принятого решения и таким образом приводит человека в противоречие с самим собой. Цицерон отказывается следовать за Брутом и вообще за скептической линией Академии и предпочитает наставления Панеция и стоицизма в целом. Письмо Бруту отчетливо выявляет эволюцию Цицерона к стоицизму, начальную ее фазу мы обнаруживаем уже в «Парадоксах». Причина ясна: чем значительнее роль, которую играет Цицерон в руководстве государством, тем больше убеждается он в необходимости быть суровым. В нем словно бы просыпается дух Катона. Мы не найдем у Цицерона прямых ссылок на героя Утики, но влияние его принципов представляется очевидным.
Но есть, однако, существенное различие между Катоном и Цицероном. Катон в любой ситуации требовал скрупулезного исполнения законов; Цицерон, столкнувшись с Антонием и с теми, кто представлялся ему сообщниками Антония в его преступлениях, решил уничтожить этих людей любой ценой, не заботясь о законности. Значит, Цицерон действует как Клодий, который тоже любой ценой добивался изгнания врага. Но законы Клодия, на взгляд Цицерона, никогда не выражали интересы государства, они были и оставались «разбоем»; государство же, стоя на страже подлинных своих интересов, имеет право защищать себя любыми средствами. Ретроспективный взгляд на развитие событий 58 года в самом деле подтверждал такую оценку: Клодий провел свой закон только благодаря личной заинтересованности Цезаря; и все же он не добился бы успеха, если бы консулам не были обещаны выгодные провинции; Клодий привел своих головорезов на форум и на Марсово поле, над трибутными комициями нависла угроза мятежа черни, и только поэтому они утвердили предложенный им текст закона. То было извращение законности, и Цицерон не без оснований считал ответственными за него нескольких человек; Цезарь, который не уважал требования авгуров, вынудил своего коллегу отказаться от участия в государственных делах, превратил консулат в прикрытие диктатуры. Тем самым Цезарь поставил себя вне закона, за что и поплатился в Мартовские иды. Да и вообще Цезарь в борьбе с Помпеем шел против законов республики и разрушал ее. Добиваясь возвращения Цицерона из изгнания, Помпей действовал в строгом соответствии с законами; проведенный Клодием плебисцит был направлен лично против одного человека и потому недопустим с правовой точки зрения; этому нелегальному плебисциту Помпей противопоставил центуриатный закон, опираясь на который и призвал к голосованию граждан муниципиев; но своему числу, по влиянию в государстве они были несравнимы с мятежной чернью коллегий, которую согнал на голосование Клодий. Б последний год жизни, вспоминая все эти события, Цицерон мог сказать себе: несмотря ни на что, он поступил правильно, последовав за Помпеем; Фарсальский разгром, поражения в Африке и в Испании с точки зрения права ничего не доказывали, напротив, после каждой победы Цезарь все больше ставил себя вне правовой структуры государства. Старый консулярий, сумевший некогда спасти государство, не прибегая к гражданской войне, и еще раз доказать, что «тога сильнее оружия», был и теперь исполнен решимости не допустить повторения авантюры Цезаря. Он справится с Антонием, и тогда надо будет восстанавливать государство, изменить законы, чтобы правление, основанное на насилии, стало невозможным; короче, Цицерон лелеял все те же планы, которые надеялся провести в жизнь сразу после своего консульства. То была целая программа, цель ее — положить конец периоду упадка государства и гражданских войн. Еще в одной из Катилинарий Цицерон сказал: добившись владычества над миром, обезопасив себя от внешней угрозы, Рим, подчиняясь закону, общему для государств и отдельных людей, неизбежно впал бы в оцепенение бездеятельности; именно для того, чтобы спасти его от этой участи, Фортуна приняла облик Распри. В дальнейшем мысль о том, что кризис гражданской общины Рима порожден внутренними процессами, что «Рим распался под собственной тяжестью», другие высказывали неоднократно и в более отчетливой форме. Но Цицерон не видел здесь никакой фатальной обреченности; он считал, что Рим может быть исцелен от кризиса вполне конкретными средствами: надо уничтожить мятежных заговорщиков, а потом выработать и утвердить «добрые законы». А лучше тех законов, благодаря которым Рим стал властелином мира, в истории не было. Об этом Цицерон писал в трактате «О государстве». Он показал также, что мудрость и энергия законодателей способны изменить фатальный порядок исторических циклов; важнейший долг руководителей общины, делом доказавших свою проницательность и мудрость, — создавать законы, следить за их применением и строго обуздывать всякого, кто ради своих частных интересов попытается нарушить действие государственных установлений. Таков, как нам кажется, был в ту пору ход мыслей Цицерона, благодаря ему оратор оказался на вершине власти, его взгляды получили поддержку и сочувствие народа; лишенный единства деморализованный сенат покорно принимал решения, им предложенные. На плечи старого консулярия ложилась громадная ответственность: он отдавал себе в этом отчет и твердо верил, что лучший образец, которому надо следовать в сложившихся обстоятельствах, — его собственный консулат; ведь он сумел тогда почти без ущерба для государства избежать гражданской войны, восстановить законность и порядок. Вот как, по-видимому, объясняется настойчивость, с которой Цицерон постоянно говорит о своем консулате; но уже с античных времен в этом видят только доказательство его тщеславия. Конечно, тщеславие играло определенную роль в самооценке стареющего человека; он элегически вспоминает события двадцатилетней давности, время своего расцвета, но несправедливо и неумно представлять себе Цицерона, погруженного в пустые воспоминания, драпирующегося в претексту, которая давно уже стала всего лишь парадной одеждой.
В те дни не один Цицерон возвращался мыслью к 63 году. Оба консула погибли под Мутиной, и в Риме ходили упорные слухи, что Цицерон примет консульское достоинство во второй раз. Слухи дошли и до Брута, который стоял лагерем под Диррахием. 15 мая Брут поздравляет друга: «Я кончил было это письмо, как пришла весть об избрании тебя консулом. Что ж, мне уже видится подлинная законная республика, черпающая силы в себе самой».
На самом деле консулы, призванные заменить Гирция и Пансу, еще не были избраны. Согласно Аппиану Октавиан, которому сенат ранее присвоил звание претора, высказал желание быть выбранным консулом с соблюдением всех формальностей. О своем желании он поведал и Цицерону, предложив взять его в коллеги. Молодой человек, если верить тому же Аппиану, держался весьма скромно, он ходатайствовал о присвоении консульского звания только затем, чтобы иметь возможность достойным образом проститься со своим войском и выполнить обещания, данные ветеранам. Что касается управления государством и ведения дел, он предоставит их Цицерону, человеку более мудрому и опытному. Был ли Октавиан искренен? Может быть, в какой-то степени. Однако, став консулярием в республике, вновь обретшей свободу, он после устранения Антония мог рассчитывать занять в сенате одно из первых мест, ведь он, разумеется, не отказался от своих честолюбивых замыслов. Антоний по-прежнему стоял во главе армии, ослабленной неожиданным поражением под Мутиной, но все еще достаточно грозной, а Лепид пока что не перешел на его сторону. Так что момент был выбран удачно: стать консулом, легализовать свое положение — первый шаг, затем Октавиан мог надеяться сделаться руководителем сената, и тут соперником его был только Цицерон.
Цицерон не отказался от предложения Октавиана. Как утверждает Аппиан, он сообщил в сенате о переговорах, которые ведут Поллион, Лепид и Планк; чтобы противостоять мятежным замыслам наместников западных провинций, сенату нужна поддержка единственного, если не считать Децима Брута, человека, на это способного, то есть юного Цезаря. Следовательно, надо избрать его консулом. Сенат не был полномочен избирать кого бы то ни было в консулы, но мог позволить Октавиану выставить свою кандидатуру, хоть он и не достиг официально необходимого возраста, и поддержать его на выборах. Центурии, бесспорно, не выступят против рекомендаций сенаторов. Однако, продолжал Цицерон, чтобы юный Цезарь не совершил какой-либо легкомысленный шаг, опасный для государства, хорошо бы поставить рядом с ним человека, умудренного годами и опытом, доверив ему как бы роль ментора. Сенаторы, по словам Аппиана, без труда поняли, кто имеется в виду, и посмеялись над непомерным честолюбием оратора. Сенаторы, позволим себе заметить, поступили не слишком умно; не одно лишь мелочное тщеславие двигало Цицероном, план его, как показало будущее, содержал в себе возможность разумного решения проблемы.
В сенате и в общественных кругах, к нему примыкавших, существовала целая партия, поставившая себе целью нарушить союз Октавиана и Цицерона. В нее входили прежде всего те, кого продолжали называть помпеянцами. Брут в письмах к Цицерону того периода не раз предостерегал: добиться уничтожения Антония — дело славное и полезное, но воздавать столько почестей Октавиану неосторожно и неразумно. В письме Децима Брута Цицерону из Эпоредии, датированном 24 мая, рассказан эпизод, ярко рисующий политическую обстановку. Брут пишет, что некий Сегулий Лабеоп (из других источников неизвестный) был недавно у юного Цезаря; речь зашла о Цицероне; Октавиан сказал, что ему не в чем упрекнуть старого консулярия, кроме фразы, которую приписывала ему молва: будто бы Цицерон, говоря об Октавиане, заметил, что следует «молодого человека хвалить, воздать ему множество почестей и вознести». Острота заключалась в двусмысленности последнего глагола, означающего и «вознести на вершину славы» и «вознести на небеса», то есть убить. Фраза, по всей вероятности, подлинная, Цицерон никогда не мог удержаться от подобного остроумия; во времена Цезаря он даже опасался, что, зная его слабость, люди припишут ему какое-нибудь острое словцо, задевающее Цезаря. Однако тогда он успокаивал себя мыслью о том, что Цезарь достаточно хорошо его знает и всегда сумеет отличить подлинные его слова от тех, что ему приписывают. Выше мы упоминали о сборнике острот Цицерона, некоторые из которых дошли до нас.
Так или иначе, Лабеон распространял слухи, будто солдаты злы на Цицерона, считают его ответственным за задержку в выплате денег, им обещанных. Лабеон, по-видимому, не сам это выдумал. Он выполнял поручение людей, заинтересованных в ссоре Цицерона с Октавианом; они-то и повторяли всюду злосчастную фразу Цицерона. Цицерон ни разу не опроверг слухи, не отказался от своих слов. Какой смысл он в них вкладывал? В каких обстоятельствах произнес? Было ли то всерьез высказанное признание циничного политика? Скорее всего нет. Естественнее представить себе, что Цицерон отвечал какому-нибудь помпеянцу, но одобрявшему похвал, которые вождь республиканской партии расточал преемнику тирана. Ответ вырвался необдуманно, оратор не учел резонанса, который он вызовет, и последствий, которые повлечет. В сущности, то, на что намекал Цицерон, устроило бы и цезарианцев и помпеянцез. О причинах, по которым это устраивало первых, мы уже говорили. Что до вторых, они по-прежнему видели в Цицероне зачинщика Мартовских ид, а потому союз с Октавианом представлялся им противоестественным. Чудом казалось уже и то, что союз этот вообще существовал, что па протяжении нескольких месяцев юный Цезарь вел по поручению сената войну против людей, которые должны были бы считаться его друзьями. Один только политический гений Цицерона мог совершить подобное чудо, но теперь в результате борьбы клик и закулисных маневров в сенате союз оказался под угрозой.
Когда встал вопрос об избрании новых консулов, против Цицерона выступили все. Можно, конечно, сказать, что это нетрудно было предвидеть, что Цицерон совершил политическую бестактность, пытаясь с помощью Октавиана спасти республику, или, точнее, покончить с Антонием и рассчитывая затем создать новый политический строй, в новой форме воспроизводящий старый. Между тем другого выхода не было. Цицерон делал ставку на молодого Октавиана в надежде, что он окажется «добрым гражданином». Но пропасть, разделявшая цезарианцев и помпеянцев, была слишком глубока, переустройство римского государства неизбежно, и Цицерон одной своей волей не мог остановить неудержимый ход событий. Установление монархии можно было отодвинуть во времени, его нельзя было избежать. Лепид перешел на сторону Антония 29 мая; восемью днями раньше он отправил Цицерону письмо, в котором уверял его в своей преданности. 30 мая он официально донес, что его солдаты отказываются сражаться против легионов Антония и вынуждают его вступить с Антонием в союз. Планк присутствовал при братании армий и описал то, что видел, в письме Цицерону от 6 июня из Куларона. Он просил подкреплений. С той же просьбой обратился к сенату Децим Брут. Еще несколько месяцев Планк и Поллион сохраняли верность республике. Они изменили в сентябре, когда Октавиан официально заключил союз с Антонием.
На протяжении лета шли переговоры между различными политическими группировками. Цицерон понимал, какое складывалось положение. Он обратился к Бруту, считая, что роль его в дальнейшем течении событий может стать решающей: Брут располагал войском на Востоке, а кроме того, мог в случае необходимости в любой момент вторгнуться в Италию. В середине июля Цицерон пишет Бруту о своих тревогах: внутренняя угроза нарастает, гибель Пансы серьезно ослабила силы, противостоящие» Антонию; юному Цезарю внушают, чтобы он решительно требовал присвоения себе консульского звания. Децим Брут не сумел воспользоваться плодами победы. Лепид колеблется, и у Антония есть время, чтобы перетянуть бывшего начальника Цезаревой конницы на свою сторону. Брут должен как можно скорей вмешаться в ход событий, и Кассию следует сделать то же: только они двое готовы до конца бороться за свободу, «сообразуясь более с собственным мужеством и величием души, чем с реальными обстоятельствами».
Давление на Октавиана оказывают «злоумышленные письма», как скорее выразительно, нежели внятно, пишет Цицерон. Вероятно, письма шлют цезарианцы, друзья Антония; они надеются, что будущий неслыханно молодой консул положит конец преследованию Антония и изменит политику государства. Цицерон уверен в том, что письма эти влияют на Октавиана, он прямо пишет, что юный Цезарь пока следует его советам, но вряд ли долго еще будет его слушать.
С тех дней, когда Цицерон рассчитывал на второй консулат совместно с Октавианом, положение, как видим, существенно изменилось. Сенат не поддержал предложение Цицерона, совершив политическую ошибку, которой немедленно воспользовались цезарианцы. Если бы Октавиан и Цицерон стали консулами, положение могло бы еще выправиться. Тщеславие юного Цезаря оказалось бы удовлетворенным, он, может быть, не стал бы тогда возлагать все надежды на государственный переворот. Нелепое упрямство сенаторов, их далеко не впервые вырвавшаяся наружу зависть к Цицерону заставили Октавиана искать поддержки у Антония, толкали к противозаконным действиям. В июле сенат постановил: консульские выборы состоятся в январе следующего года; решение откладывалось, вопрос лишался срочности самым нелепым, самым губительным образом. К тому же сенаторы не нашли ничего лучшего, как разрешить Октавиану официально домогаться претуры на предстоявших комициях (тогда как в самый острый момент они же присвоили ему звание претория, то есть официально согласились рассматривать его в качестве сенатора, уже прошедшего претуру!); затем, когда он обычным законным порядком получит эту магистратуру и исполнит на протяжении положенного срока обязанности, с ней связанные, он сможет ходатайствовать о консулате, но только по истечении законного срока между обеими магистратурами. Так что Октавиан мог надеяться стать консулом лишь на 39 год. Рассказывая о решениях сената, Дион Кассий (единственный наш источник в этом случае) упоминает еще об одной бестактности, совершенной чуть раньше или чуть позже — хронология здесь неясна: чтобы наградить солдат юного Цезаря за победу под Мутиной, сенаторы разделили их па разряды: некоторым полагались знаки отличия и денежное вознаграждение, другие не получили ничего. Расчет, говорит Дион Кассий, состоял в том, чтобы посеять в армии рознь и распри. На деле же недовольными оказались все, а армия еще теснее сплотилась вокруг молодого полководца, тем более что посланцы сената обратились к войскам через его голову. Подобные действия имели бы смысл в эпоху Пунических войн, теперь они были верхом бестактности.
В какой мере ответствен Цицерон за эти решения сената? Принимал ли он участие в их подготовке? Прямого ответа на вопрос в письмах нет. Можно предположить, что у него не было возможности выступить против них, но он, без сомнения, ясно понимал, к чему они приведут. В одном из писем Бруту он говорит, что республика стала игрушкой в руках тех, кто владеет армией. Все зависит от каприза солдат и от наглости полководца. Значит, сенат утратил всякий моральный авторитет. 15 июля Цицерон пишет Бруту: война возобновилась — в первую очередь из-за Лепида (несколькими днями раньше сенат объявил его тоже врагом римского народа). Конечно, есть армия юного Цезаря, «исполненная добрых намерений», в сложившейся ситуации она более или менее бесполезна. Более того, она занимает Цизальпинскую Галлию и тем создает дополнительную угрозу Риму; Бруту необходимо срочно возвратиться в Италию. Следовательно, у Цицерона не осталось никаких иллюзий относительно роли, которую в ближайшие месяцы будет играть Октавиан. Цицерон просит Брута не отпускать Марка в Рим, оставить его в своей армии — единственное достойное положение в надвигающейся войне. Вскоре, пишет он, все граждане Рима, достойные этого имени, соберутся под знаменами Брута. Кажется, трудно быть более проницательным. А между тем нас без конца уверяют, будто старый консулярий до самой смерти но мог разглядеть реальные очертания событий.
Конечные цели Цицерона не изменились: он как прежде стремится восстановить общественно-политическое равновесие в государстве. А этого можно достигнуть только в условиях мира. До сих пор он рассчитывал добиться своего с помощью вооруженных сил, что были сначала как бы частным порядком, а затем на законных основаниях отданы под командование юного Цезаря. Лепид изменил, армия Децима Брута, хотя теоретически сохраняет поддержку Планка и с еще меньшей вероятностью Поллиона, больше не внушает доверия — она малочисленна, командующий не отличается способностями; появление на театре военных действий Брута и Кассия стало жизненно необходимо. Рассчитывать на Октавиана больше не приходится, хотя, если бы Брут и Кассий не тянули так долго и были бы уже в Италии, юный Цезарь, может быть, вел бы себя иначе. Цицерон верит: республиканцы добьются победы, их полководцы, действуя во имя своего прошлого и своих убеждений, вернут сенату его права, распустят мятежные армии, сохранят народные собрания в их законных пределах, и жизнь государства возобновится в мире и достоинстве.
В конце июля Октавиан предъявил сенату ультиматум. Консульство должно было узаконить его действия, обеспечить ему более высокое положение сравнительно с Антонием. Оно дало бы ему чрезвычайное командование, которое необходимо на случай появления в Италии легионов Брута и Кассия. Октавиан не мог больше ждать. Честолюбие и опасения за свою жизнь равно заставляют его действовать. Он отправил к сенату делегацию солдат, они объявили, что не станут сражаться с войсками, которые некогда возглавлял Цезарь. К этому солдатские депутаты присовокупили просьбу о выплате им обещанного денежного вознаграждения и требование дать консульство Октавиану. Далее последовала знаменитая сцена: сенаторы, как обычно, хотели было уклониться от прямого ответа, они сказали, что должны подумать, обсудить; тогда один из центурионов обнажил меч и сказал: «Если не вы, то вот кто сделает его консулом» — и указал на меч. Дион Кассий склонен видеть в словах центуриона совет сенату. Менее известен ответ Цицерона. Как и прежде в острых ситуациях, он вырвался необдуманно, и словами этими он подписал себе смертный приговор. Цицерон ответил: «Если дошло до таких просьб, вы получите то, чего добиваетесь». Дион Кассий считает, что Цицерон дал совет армии. Совет-предсказание, внушенный старому консулярию богами? Он, кажется, сам не отдавал себе отчета в пророческом смысле своих слов и, по всей вероятности, видел в них сарказм, направленный против сенаторов; их хитрости и проволочки на его глазах сделали неизбежным столкновение, которого Цицерон так долго старался избегать. Была тут и ирония отчаяния, смутный отзвук знаменитой фразы «жребий брошен», произнесенной Цезарем при переходе через Рубикон.
Эта речушка еще раз сыграла роль в истории. Когда солдатская делегация вернулась в лагерь Октавиана, он решил двинуться на Рим. И, в свою очередь, перешел Рубикон. Впрочем, на этот раз обошлось без легенд и рассказов — история не любит повторять слишком эффектные сцены. Октавиан повел войска к югу. Он договорился с Антонием и Лепидом. Был создан «Союз мстителей». Возмездие за смерть Цезаря стало лозунгом, той единственной программой, на которой объединились Антоний, Лепид и Октавиан, Во главе враждебной армии стояли действительно убийцы Цезаря: Децим Брут, Марк Брут и Кассий. Расчеты, связанные с наново начинавшейся войной, оставались в тайне, а лозунг отмщения был необычайно выгоден Октавиану. Он выступал как сын погибшего героя, мститель за отца, то есть воплощение pietas — чувства, которое всегда имело огромное значение в глазах римлян; оно считалось одной из опор гражданской доблести еще с тех дней, когда Эней на плечах вынес Анхиса из пылающих развалин Трои. Антоний и Лепид оказывались не более чем помощниками нового Цезаря, в определенном смысле его подчиненными. Отныне какой бы облик ни приняло возрожденное государство, оно навсегда было связано с памятью о человеке, которого многие называли Божественным Юлием. Поднималась буря и неизбежно должна была снести старую республику. Цицерон понял и это. В середине июля он пишет Бруту, что в прежних гражданских войнах, какая бы сторона ни одержала верх, сохранялась «некоторая форма республики»; теперь, если победят «мстители», гражданская община перестанет существовать, Рим покорится властителю. События развивались по иной, новой, логике, и Цицерон это видел. Новая логика окончательно обнаружилась в политике Октавиана, во время его консульства в 42 году. Она предполагала уничтожение всего, что еще оставалось от республиканского порядка, уничтожение армий, стоявших на Востоке и в Италии; затем следовали проскрипции, физическое уничтожение защитников республики и в первую очередь, в качестве главной жертвы — Цицерона.
Октавиан подошел к Риму во главе своих легионов; сенаторы поспешили вынести ему деньги для выплаты солдатам и разрешили Октавиану выставить свою кандидатуру в консулы. Смятение овладело городом. Думали, что Рим будет взят штурмом, и каждый старался припрятать самое ценное. Сенаторы поняли наконец, сколь слепы и глупы они были, но поздно. Ни одного легиона не могли они выставить против Октавиана. Сенат затягивал вызов войск из Африки, и теперь они находились только еще на пути к столице. Меры, принятые ранее против Антония, казались сенаторам цепью ошибок, и они горько раскаивались. Почести, оказанные юному Цезарю, тоже ничего не дали, так как сенаторы ведь не решились согласиться на те, которые могли его удовлетворить. Теперь сенаторы готовы были дать молодому полководцу все, чего он пожелает, и Цицерон, как пишет Алпиан, перестал посещать заседания сената. Шаг, предпринятый Октавианом, старый консулярий переживал остро и болезненно, как свое поражение. В одном из писем он пишет, что поручился за молодого человека, представил его борцом за дело сената, и вот теперь Октавиан обратил оружие против него же, поступил ничем не лучше, чем мятежники былых времен, чем Цинна или Сулла. Цицерон знал причины, по которым его политика потерпела крах: колебания и мелочная зависть «отцов республики» погубили республику, ведь это они не решились воздать должное приемному сыну их жертвы и врага. Цицерон тогда смотрел на дело трезвее других, а теперь, вопреки логике и справедливости, его же винят во всех бедах, которых можно было бы избежать, если бы сенаторы до конца следовали его советам.
Но старый человек, так долго стоявший у кормила государства, все еще не терял мужества. Он не ходил на заседания, где охваченные ужасом сенаторы без обсуждения удовлетворяли все требования Октавиана, но тотчас же стал настаивать на создании системы обороны Рима. Пришла весть, что африканские легионы вот-вот высадятся в Остии. Могло ли то быть простой случайностью? Разве не ясна воля богов? В порыве патриотизма сенаторы отказались от всех своих постановлений и призвали к защите города всех граждан, способных носить оружие. Город был разделен на участки, во главе каждого поставлен претор: по одному у каждого моста через Тибр и один на Яникуле, где хранились деньги, предназначенные на выплату жалованья солдатам. Октавиан не стал атаковать Яникул, он обошел город и встал на возвышенности, одним из отрогов которой был Квиринал, неподалеку от Коллинских ворот — в том самом месте, откуда некогда Сулла с боем прокладывал себе путь в город. Не было даже никакой видимости сражения. Толпа граждан всех сословий вышла навстречу юному Цезарю, заверила его в своей преданности, приветствовала и молила о милосердии. Говорят, будто Цицерон присоединился к этой толпе; победитель, заметив его, весьма иронически поблагодарил, но сказал, что из всех его друзей он появился последним. Но сомнения и колебания вновь овладели гражданами в ту же ночь — распространился слух, что два легиона Октавиана изменили ему и перешли на сторону республики. Существует версия, согласно которой Цицерон немедленно созвал сенаторов и даже встречал каждого у входа в курию. Однако известие о мятеже оказалось ложным, все разошлись, и Цицерон в носилках отправился к себе. Октавиан выступил из Рима — все должны видеть, что сенат изберет его консулом свободно, по собственной воле.
Началась своего рода юридическая комедия. По закону народное собрание для выборов консулов в подобных условиях должен созвать интеррекс. Но назначить интеррекса разрешалось, только если в городе и в государстве не осталось ни одного курульного магистрата и «ауспиции принадлежат отцам-сенаторам». Но дело явно обстояло не так. Тогда центуриатные комиции созвал и провел претор Квинт Галлий. Другой находившийся в Риме претор, Марк Цецилий Корнут, покончил с собой. На протяжении более полувека семья Корнутов неизменно стояла на стороне сенатской партии. Подчиниться диктату молодого Цезаря, уронить честь семьи Марк Цецилий не захотел.
Итак, правовые нормы, худо ли, хорошо ли, были соблюдены, и 19 августа в консулы избрали Октавиана, а в качестве коллеги его — Квинта Педия, его двоюродного брата и легата Цезаря во время Галльской войны. Верх одержали цезарианцы, причем самые крайние, и, без сомнения, вскоре предстояла война с Освободителями. Когда Октавиан после избрания в консулы вступал в город, боги ниспослали ему благое предзнаменование: в небе появились двенадцать ястребов, столько же, сколько, как уверяли летописцы, пролетело над головой Ромула при основании города. То была подлинно весть о «новом рождении Рима».
Консулы сразу же предложили законы, которые должны были подготовить установление нового строя. Октавиан провел куриатный закон, утверждавший усыновление его Цезарем, что означало освящение действий покойного диктатора и полное уподобление с религиозной и с правовой точки зрения приемного сына родному. Октавиан становился членом familia Цезаря, он занял место в бесконечной преемственности рода, начинавшегося с Анхиса и Венеры и достигшего высшей точки в Божественном Юлии. Аппиан приводит и не столь мистическую причину, по которой понадобилось утверждать усыновление в куриатных компциях: новый Цезарь официально становился патроном многочисленных отпущенников своего приемного отца, люди они были влиятельные и богатые, отныне Октавиан мог спокойно на них опираться. Оба объяснения не противоречат, а дополняют друг друга: установленная комициями связь Октавиана с familia Цезаря, вполне очевидно, имела практический смысл и тем не менее в основе своей оставалась актом религиозным и нравственным и немало помогла будущему Августу на долгом его пути к единоличной власти.
По другому закону, предложенному Педием, отменялись все санкции против Долабеллы и признавалось законным убийство Требония. Тогда же Октавиан роздал деньги, которые завещал народу Цезарь, выплата их до сих пор откладывалась. Средства были взяты из тех сумм, что сенат определил на войну с Антонием. Так новый Цезарь обеспечил себе поддержку народа; от имени своего коллеги он провел Педиев закон, учреждавший специальный трибунал для суда не только над людьми, непосредственно участвовавшими в убийстве Цезаря, но и над всеми, кто был или мог быть причастным к убийству. Дион Кассий уверяет, что закон был направлен в первую очередь против Секста Помпея, который все еще оставался как бы символом помпеянской партии. Однако на деле под действие его мог подпасть всякий, кого сторонники Октавиана сочтут своим врагом. Цицерон явно входил в число таких людей. Октавиан, однако, его успокоил; сохранился отрывок письма, с которым Цицерон обратился к новоиспеченному консулу, из письма явствует, что консул разрешил старому консулярию не присутствовать на заседании сената; Цицерон пишет, что рассматривает разрешение как снятие с него всех обвинений и как возможность в будущем строить жизнь по своему усмотрению. По-видимому, Октавиан был искренен. Можно предположить даже, что он питал к Цицерону то уважение, которое каждый настоящий римлянин испытывал к старым людям, может быть, чувствовал и благодарность и, конечно, восхищался великим оратором и самым значительным мыслителем своего времени. Возможно, уже тогда понимал Октавиан, как Цицерон «горячо любил отечество».
Квинт Педий тем временем настоял на отмене закона, объявлявшего Антония и Лепида врагами римского народа; тогда Планк и Поллион также отказались поддерживать сенат. Децим Врут, видя, что больше нечего рассчитывать на вчерашних союзников, попытался добраться до восточных провинций и присоединиться к Бруту. Но выбрал слишком трудный путь — пришлось форсировать Рейн и двигаться через земли германцев; провести этим путем целую армию оказалось невозможно. Децим Брут объявил солдатам, что они могут, если желают, разойтись по домам. Оставил лишь охрану примерно из пятисот человек, но и эти вскоре тоже почти все разбежались.
Децим Брут остался едва ли не в полном одиночестве, амил, вождь одного из варварских племен, взял Децима Брута в плен в горах к северу от Аквилеи. Камилл известил Антония. Тот приказал казнить Децима. Камилл исполнил приказ и отослал Антонию голову несчастного полководца.
Октавиан давно уже вступил в переговоры с Антонием, но официально все еще оставался его врагом. Союз существовал, но Октавиан не спешил признать его всенародно. Неопределенность была ему на руку, он старался договориться с Антонием на возможно более выгодных условиях. В начале октября он двинулся со своей армией по побережью Адриатики на север, делая вид, будто идет сражаться с Антонием. Численность армии Антония к тому времени существенно возросла, так что сражение, пожалуй, было маловероятным. Военные действия и не начинались; вместо того в конце месяца Октавиан, Антоний и Лепид встретились на каком-то островке — большинство историков считает, что речь идет об острове на реке Рено к северу от Бононии (современная Болонья). Здесь-то и был заключен триумвират — союз, объединивший трех цезарианцев; они разделили между собой власть и обещали оказывать друг другу поддержку, как некогда Помпей, Красс и Цезарь. В отличие от них, однако, триумвиры представили гарантии соблюдения взятых обязательств, а главное, выразили намерение превратить в дальнейшем триумвират в законную верховную магистратуру. Но в первую очередь, заявили они, необходимо уничтожить всех, кто способен оказать им сопротивление. Триумвиры составили первый список из двенадцати или, может быть, семнадцати имен (точную цифру не мог назвать уже Аппиан). Одним из первых в списке стояло имя Цицерона.
В своем «Жизнеописании Цицерона» Плутарх утверждает, будто Октавиан в течение двух дней боролся за то, чтобы исключить из списка имя Цицерона, но вынужден был уступить настояниям Антония, на сторону которого встал и Лепид. В наши дни многие историки сомневаются в правдоподобности этого рассказа, а между тем он вполне заслуживает доверия. Антоний и Фульвия яростно ненавидели автора Филиппик, в этом можно не сомневаться. Основания для ненависти были и у Лепида: именно Цицерон добился объявления его врагом римского народа и отказался при этом хоть как-то обеспечить будущее его детей, презрев просьбы Брута — их дяди и Сервилии — их бабки. Октавиан, напротив того, вполне мог быть доволен Цицероном — оратор немало сделал, чтобы удовлетворить честолюбие юного Цезаря. Возможно, он питал к старому консулярию чувство, которое римляне называли pietas; мы о нем уже говорили: pietas связывала магистрата с коллегами, квестора с консулом, легата с командующим. Но Антоний и Лепид, должно быть, сказали Октавиану, что сами они ради государственной необходимости идут на крайние жертвы: Лепид согласился включить в список собственного брата Павла, Антоний — дядю Луция Цезаря. Тут важна сама постановка вопроса, она указывает на отношение Октавиана к Цицерону как к близкому родственнику. В конце концов ему пришлось уступить и принести старого оратора в жертву. Борьба, однако, принесла Октавиану некоторую пользу: получалось, что Антоний и Лепид попрали самую древнюю и самую священную из римских нравственных заповедей, Октавиан же изо всех сил отстаивал ее. Образ Октавиана — мстителя за отца, борца за его обожествление, получал еще одно подтверждение.
Триумвиры договаривались о совместных действиях, армии их стояли на равнинах Бононии, потом триумвиры вернулись в Рим и собрали трибутные комиции, которые должны были вручить им на пять лет чрезвычайные полномочия «по устроению республики». Цицерон все это время оставался в Тускуле с братом и племянником. Пришла весть о создании триумвирата, и они поняли, что жизни их грозит опасность. Проскрипционные списки не были еще окончательно утверждены, но Квинт Педий вопреки воле Октавиана обнародовал первые семнадцать имен. Цицерон решил бежать на Астурскую виллу — там, казалось, легче будет защищаться, а в крайнем случае можно ускользнуть от убийц на любом корабле, отходящем на Восток. Братья двинулись к Астуре в носилках, но Квинт обнаружил, не взял с собой самых необходимых вещей, он решил, что успеет заехать за ними в Арпин и распрощался с Марком. Больше братья уже не виделись.
В Астуре Цицерон взошел на корабль, доставивший его в Монте Чирчио, здесь он вдруг передумал и посуху вернулся в Астуру. Отсюда он сначала направился было к Риму, как будто намереваясь вернуться в столицу, затем изменил намерение и вновь оказался на вилле. На следующий день опять сел на корабль, добрался до своего имения в Гаэте и там заночевал. Когда корабль подходил к пристани, над храмом Аполлона, возвышавшимся над побережьем, с громким карканьем поднялась стая ворон. Птицы опустились на палубу судна — одни продолжали каркать, другие остервенело клевали снасти. Потом они всю ночь кружили над домом, где ночевал Цицерон. Одна ворона влетела в комнату, села на постель и пыталась клювом стянуть покрывало, закрывавшее лицо старика. Слуги перепугались — птицы, считавшиеся вестниками Аполлона, стараются помочь их патрону, а сами они даже и не пытались это сделать. Впрочем, Цицерон наотрез отказался от помощи слуг, чуть ли не силой усадили они его в носилки и понесли к морю. Тотчас после их ухода появились солдаты, они высадили дверь и стали допытываться у оставшихся слуг, где Цицерон. Те отвечали, что не знают. Отпущенник Квинта по имени Филолог, которого Цицерон учил и воспитывал, сказал, что патрон, наверное, сейчас на тропе, ведущей через лес к берегу моря. Солдатами командовал трибун по имени Попилий и подчиненный ему центурион Геренний, которого Цицерон когда-то спас от обвинений в отцеубийстве. Опередив других, Геренний бросился напрямик по тропе и догнал носилки. Увидев его, Цицерон велел носильщикам остановиться и, высунувшись, внимательно посмотрел Гереннию в лицо. Подоспели солдаты. Даже они отвернулись, чтобы не видеть, как Геренний убивает Цицерона. Он отрубил голову и руки убитого; их доставили Антонию, и он велел выставить их на рострах. Цицерон был убит 7 декабря, через двадцать лет и два дня после казни сообщников Катилины.
Квинт и его сын погибли несколькими днями позже.
Плутарх не сомневался, что Цицерон пал жертвой Антония. Он не только приводит слова престарелого Августа о великом ораторе, но рассказывает также следующее: после победы при Акцие принцепс сделал сына Цицерона Марка своим коллегой по консульству; именно тогда статуи Антония, возвышавшиеся на форуме и повсюду в городе, были сброшены со своих пьедесталов; почести, некогда ему возданные, признаны недействительными, и принято постановление, согласно которому никто в роде Антониев не мог впредь носить имя Марка. «Так, — заключает Плутарх, — дому Цицерона доверили бессмертные боги последней карой покарать Антония».
На морском берегу в нескольких милях от уединенной Астурской виллы от удара меча центуриона, посланного Антонием, оборвалась жизнь Цицерона. Несколькими годами раньше в той же Астуре боролся он со скорбью и сумел обрести новые силы после смерти дочери. Геренний был когда-то обвинен в убийстве отца. Глубоко символическое совпадение: в дни борьбы с Камилиной Цицерона назвали Отцом Отечества; в последние месяцы жизни он снова стал как бы отцом и в курии, и в гражданской общине Рима. Слово «отец» имело для каждого римлянина глубокий смысл, окружено было мистическим ореолом. Такое представление сохранялось на протяжении нескольких веков. Рука отцеубийцы нанесла смертельный удар человеку, который защищал его перед судом, добился оправдания и как бы стал его отцом. Биографы Цицерона обычно говорят о черной неблагодарности Геренния. Но еще важнее символический смысл драмы, разыгравшейся на морском берегу. Совершено отцеубийство — самое чудовищное, самое немыслимое из всех преступлений. В юношеской речи в защиту Росция из Америи Цицерон напомнил, что афиняне отказались даже предусмотреть в своем праве достойное наказание за такое преступление. И вот — Рим осиротел. Ему нужен другой отец. Им стал Октавиан Август, но титул Отца Отечества он решился принять лишь через сорок лет, во 2 году до н. э. Августу было тогда шестьдесят с лишним лет от роду, то есть почти столько же, сколько Цицерону в момент гибели.
Смерть настигла Цицерона, когда он, по всему судя, решился покинуть Италию. Несколько дней он колебался. Точно так же и раньше, после смерти Цезаря, он никак не мог решиться уехать в Грецию, даже поднялся на борт корабля, даже доплыл до Леукоптеры и... вернулся. Невозможно было оторваться от родной италийской земли. С каким восторгом приветствовал он ее поля и нивы, когда вернулся из изгнания! Всякий раз, когда приходилось расставаться с родиной, он изыскивал предлог, чтобы этого не делать, истолковывал любое, самое незначительное происшествие как дурное предзнаменование. Говорят, плавание по морю всегда вызывало у Цицерона ужас и отвращение. Это правда: он боялся бурь, с трудом выносил неудобства, связанные с путешествием по морю. Но ведь он не хотел покидать родные берега и когда море спокойно, а ветер попутный — так оно, кстати говоря, было и в декабре 43 года. Если не считать юношеских поездок по Греции, Цицерон расставался с родиной, только подчиняясь закону. Закон Клодия изгнал его из Италии, а закон Помпея отправил управлять Киликией. Он не сомневался, что присутствие его в Риме спасает государство от гибели. Удивительное тщеславие, говорят историки. Скорее чувство отца, который боится надолго покинуть свое дитя. Разумеется, были и практические причины, мы о них уже говорили, — Цицерон понимал, что политика делается в Риме. Но ведь многие для умножения своего политического престижа по нескольку лет управляли отдаленными провинциями или воевали в отдаленных странах, добиваясь триумфа. Цицерон же был уроженец Арпина, сельский житель, крестьянин и потому так крепко привязан к родной римской земле. Глубокое чувство родины продиктовало Вергилию его «Георгики», и в этом смысле можно считать Цицерона предшественником Вергилия. Август в своей последующей деятельности тоже как бы осуществлял патриотическую мечту Цицерона — недаром так добивался он поддержки со стороны жителей колоний и муниципий, всех бесчисленных городов и городков Италии. Цицерон одним из первых раздвинул рамки города-государства, которому предстояло вобрать в себя Италию, а потом и весь тогдашний мир.
Консерватор до мозга костей, накрепко связанный с традициями родины — малой родины, Арпина, и большой — республики римлян, он сумел духовно оправдать всемирно-историческую миссию Рима, которую Помпей и Цезарь осуществляли огнем и мечом. Помпей добивался славы покорителя Востока, утверждал римские знамена на южных окраинах тогдашнего мира, замирял Испанию; Цезарь, выйдя однажды к берегам Океана, готовился двинуться на завоевание стран, где «рождается солнце»; Цицерон в это время писал «Об ораторе», «О государстве», «О пределах добра и зла», писал «Тускуланы» и «Об обязанностях»; в создании империи сочинения его сыграли не меньшую роль, чем походы обоих завоевателей. Они открывали перед умственным взором новый образ мира и человеческого сообщества. Рим из аристократической республики превращался в монархию, а Цицерон сочинениями, речами, всей своей жизнью закладывал фундамент, на котором философы, мастера красноречия, ученые толкователи древних рукописей принялись возводить здание новой культуры. Им это удалось — по крайней мере на два тысячелетия.
В жизни и творчестве Цицерона заложено противоречие между широтой его взглядов, охватывающих весь мир, и узостью его «муниципального» мировоззрения. Вслед за своим дедом он скорбит по поводу введения тайного голосования в народных собраниях: оно, на его взгляд, открывает возможность для разного рода злоупотреблений, а, главное, подрывает господство «лучших» — оптиматов; располагая наибольшими материальными возможностями, духовным авторитетом, влиянием на граждан, они способны по-настоящему заботиться об интересах республики и вести ее вперед. Цицерон защищает достоинство и авторитет сената, он видит в нем своего рода «муниципальный совет» Рима, хоть и клеймит неповоротливость сенатского сословия и осуждает распри, парализующие деятельность сената. Цицерон потерпел поражение тогда, когда непреложно выяснилось, что система не работает: мелочность и глупость сенаторов, непостоянство черни, бросающейся ив одной крайности в другую, родственные союзы сводят на нет усилия Цицерона. Л ведь Рим, может быть, избавлен был бы от новой гражданской войны, если б сенаторы согласились уступить Октавиану ту роль, на которую хотел определить его первоприсутствующий сената, «принцепс», вождь, первый среди равных, человек, чья власть покоилась на единственном основании — на искусстве слова. Такое положение не могло держаться долго. Цицерон своими речами одерживал победы в сенате, и тотчас Клодий или Антоний подстрекали наемников, и бурный мятеж губил дело.
В трактате «О государстве» Цицерон убедительно показал, сколь необходим был Риму «кормчий республики», princeps, но никогда он не призывал к насильственному захвату власти. Оратор всегда проповедовал уважение к порядку и закону. Цицерон вдохновлялся идеями Платона, его идеальным государством. Но в отличие от Платона у Цицерона была надежда осуществить мечту, ведь такое почти совершенное государство существовало на протяжении целого века в Риме Сципионов. Там, в Риме Сципионов, Цицерон видел воплощение идеальных ценностей, всегда его привлекавших — там цвела щетинная дружба, подобная той, что связывала Лелия и Эмилиана, там в ученых занятиях и мирном труде протекала жизнь старых людей, они возделывали свои наделы, читали сочинения философов и историков и не опасались, что явится какой-нибудь разбойник и отнимет все их достояние, а заодно и жизнь. Но Рим, в котором жил Цицерон, утратил счастливое равновесие. И он стремился к устроению государства, которое было бы в состоянии сохранить относительную гармонию образующих его сил. Быть может — кто знает? — если бы удалось победить Антония, идеал Цицерона начал бы осуществляться еще при его жизни. Осуществить его ценой огромных усилий сумел только Август, чье правление дало римлянам «мирный досуг в сочетании с достоинством», о котором мечтал Цицерон.
Одной из опор империи стал «муниципальный» строй жизни, о котором мы не раз рассказывали на протяжении этой книги. Каждый провинциальный город воспроизводил облик Рима — Рима золотых лет республики, к которому всегда была обращена мысль Цицерона: его Капитолий, базилики, курию и, что важнее всего, его обычаи и традиции, его систему ценностей. «Краткое наставление по соисканию магистратур», которое Квинт некогда написал для брата, теряло свой смысл в самой столице империи, но полностью сохраняло его в любом городе, где каждый знал каждого и находил удовольствие в том, чтобы, встретив человека на форуме, приветствовать, назвав его по имени. Обыватели, простые и деятельные, составляли основу империи, бесчисленные городки стояли твердо, империя их поддерживала, спасала от бед и варваров, и, пока было так, бескрайняя держава и ее провинции жили в спокойствии и мире. Благодаря Цицерону муниципальный дух сохранился надолго. Каждый местный оратор, выступая в столице провинции перед трибуналом наместника или перед де-курионами в родном городке, равнялся на Цицерона, старался подражать ему. И отзвук речей великого оратора выводил грошовые тяжбы за пределы ничтожных городков и сел, придавал им достоинство и мощь. Благодаря им, этим провинциальным ораторам, Цицерон на протяжении веков оставался символом и воплощением римской культуры. Постоянные ссылки на его сочинения лишний раз доказывают духовное единство мира империи. И духовное ее единство было немыслимо не только без долго еще жившей веры в римских богов-спасителей, в гений императоров, но и без веры в могущество цицероновского слова.
Всю жизнь Цицерон оставался верен искусству поэзии. Он писал стихи всегда — и в молодости, и после консульства. И это не лишено глубокого смысла. Поэтическое видение создает единый и вечный мир, простирающийся от земли до неба, от созвездий и круговращения Вселенной до Мариева дуба в родном Арпине, от Минтурн до болот вокруг Гаэты, где, также включенный в проскрипции, скрывался Марий. Мы говорили, что, как нам кажется, любовь Цицерона к италийской земле отозвалась в «Георгинах» Вергилия; к тому же Вергилию обращается наша мысль и при виде восторга, с каким Цицерон обратился к переводу или, вернее, к переложению поэмы Арата. Оба латинских поэта видят звездное небо, царящее над нашим миром, оно определяет смену времен года, в которой отражается величественный ритм Вселенной. Движение Солнца, как и движение созвездий, подчинено законам, выражающим божественное начало жизни. Железная непреложность, с которой совершается движение Вселенной, внушало бы ужас, если бы не столь внятна, столь открыта была она познающему разуму человека, если бы рядом с необходимостью Цицерон не видел свободу. Представление Цицерона о свободе не слишком отличается от представления стоиков. Свобода, по Цицерону, тоже предполагает смирение перед волей богов, но в отличие от стоиков Цицерон исходит из способности человека воздействовать на окружающий мир. Боги философии Цицерона подобны философам скептической Академии, они тоже видят все «за» и все «против» и предоставляют людям выбирать один из двух открывающихся перед ними путей: бороться за укрепление государства или способствовать его распаду, утверждать доблестными делами «добрые законы» или отдаваться под власть «дурных» и разрушительных. Души тех, кто выбрал первый путь, растворяются после смерти во Вселенской Душе, которая правит миром, сохраняет равновесие и тем спасает его.
Только музы способны приподнять завесу над таинственным бытием мирового Града. С поразительной простотой и высокой наивностью Цицерон слагает стихи о собственном консульстве, ибо убежден, что в тот год проник в замыслы богов-покровителей Рима и сумел содействовать их осуществлению. Разговоры о смешном тщеславии здесь неуместны и оскорбительны. Тщеславие — лишь самая внешняя форма, самое несовершенное отражение постоянно жившего в душе Цицерона чувства смирения перед необходимостью бороться и действовать. Обращаться к богам, моля их указать, как бороться и как действовать, — далеко не то же самое, что неумеренно возносить самого себя.
Может быть, кто-то скажет, что образ нашего героя, с одной стороны, слишком христианский, с другой — слишком произвольный, придуманный. Между тем предложенное толкование опирается на определенные данные. В их число входит прежде всего вера Цицерона в предзнаменования — в знамение, явленное перед декабрьскими нонами, в пророческий сон в Атине по дороге в изгнание, в сон греческого гребца накануне Фарсальской битвы и во многие другие.
Цицерон живет в том же духовном пространстве, что его сограждане, он разделяет их верования. А вера в предзнаменования — залог веры в то, что события на земле разворачиваются не случайно, что они подчинены порядку и логике, которые никто, кроме богов, в них внести не может.
Сохранению божественного порядка и осуществлению божественной логики можно и должно содействовать. Может и должен содействовать им человек, смиренно внемлющий знамению, которое ему дано. Самые мрачные пророчества могут быть отвращены — искуплены, как говорили римляне, — с помощью соответствующих обрядов. Мы рассказывали, как Цицерон, покидая на волю богов бесконечно дорогой ему Рим, освятил на Капитолии статую Минервы, богини, которой был особенно предан. Сознательно или нет, он повторял тот искупительный обряд, которым здесь же, на Капитолии, был освящен храм Разума после разгрома римских армий в 217 году на берегах Тразименского озера.
Теперь надо сказать о том, что историки называют нерешительностью Цицерона. Доказательством ее считают боязнь казнить заговорщиков в 63 году и бесконечные колебания в 49-м, перед тем как присоединиться к армии Помпея. Слабохарактерность, говорят они, неспособность принять решение. Всегда нелегко установить разницу между привычкой к длительным размышлениям и недостатком воли. Цицерон сложился под воздействием скептической философии Академии, он всегда начинал с рассмотрения всех сторон проблемы. Диалектика Диодота приучила его формулировать то, что на языке математиков называется гипотезой, рассматривать любой вопрос всесторонне, как совокупность данных. Нам кажется, что размышления такого рода доставляли Цицерону удовольствие, были для него умственным наслаждением. Но видеть проблему в форме уравнения — значит, видеть два равно возможных решения, со всеми выводами, вытекающими из каждого. Оставалось лишь сделать выбор. И тут разум оказывался бесполезным; выбор могло подсказать только сердце, и в конце концов он оказывался иррациональным. Встать на сторону Помпея Цицерона заставило то, что мы сегодня назвали бы порядочностью, чувством чести; невозможность нарушить fides, воспоминание об оказанных услугах, потребность прислушаться к мнению сограждан. Ни один из этих мотивов нельзя назвать разумным, рациональным. В похожей ситуации Катон считал непреложными совсем другие принципы. Но в ту пору Цицерон ни в коей мере не был Катоном, только в последние месяцы жизни, ощутив всю привлекательность стоической философии, он отбросил колебания, склонился к самым суровым решениям и встал на путь, о котором писал в «Тускуланах», — отдать жизнь за республику. Но на этот путь можно встать только единожды.
Иррациональное и страстное начало в мысли Цицерона и в его деятельности напоминает роль, что отведена в диалогах Платона поэзии и мифу. Далеко не случайно всю жизнь так глубоко чтил Цицерон основателя Академии. Действие таких трактатов, как «Об ораторе» или «О государстве», перенесено в эпоху Сципиона, оно погружено в атмосферу мифа, которая вся лучится величием и славой; в эту атмосферу невольно погружается читатель. История Рима обретает поэтический тон. И снова перед нашим умственным взором встает Вергилий, снова возникает восходящая к Энею галерея великих римлян, носителей самых прославленных, самых громких имен истории города. В диалогах Цицерона люди той поры, как и сам автор, исполнены сознания исторической преемственности. Не один Цицерон остро осознавал ценность легенды и мифа, традиции и преемственности. Столь же чутки к ней были Аттик, Варрон и другие писатели и мыслители времени. Но их стремление к восстановлению традиции опиралось скорее на разум и знание, чем на чувство и сердце.
Как многие его современники, Цицерон испытывал желание заняться историей, о чем не раз говорил в письмах. Он даже приступил к работе, собирал материалы, составлял планы, но всякий раз по тем или иным причинам отказывался от своего замысла. Намерения эти тем не менее показательны сами по себе. В годы крушения республики и ее ценностей возникла потребность в самооправдании. Цицерон указал на те стороны общественной жизни, где следовало искать возможность такого самооправдания. Через несколько лет оно прозвучало в «Истории Рима от основания города» Тита Ливия, в «Энеиде» Вергилия. Этим созданиям римского гения проложил путь Цицерон. Он первый вывел целую галерею героев римской истории, показав их и в самой достоверной повседневности, и во всем величии их мыслей и подвигов. Не случайно так часто говорил он о том, что оратор должен знать историю. Не для того, чтобы обнаружить еще один источник, из которого можно черпать декоративные детали, забавные анекдоты или назидательные примеры, а чтобы в речах своих открывать слушателям мир, и тот, что их окружает, и другой, совсем на него непохожий, мир цветущей республики, который Цицерон страстно хотел навсегда сохранить живым.
Вот почему Цицерон — провозвестник империи. Она была внутренне неотделима от монархии, Цицерон это предчувствовал. Через полвека связь стала явной. Всей душой ненавидя единоличное правление, он готовил его торжество, создавал его идеологию. Он прочил Октавиана на роль «кормчего республики»; описывая идеальное государство, Цицерон доказывал, что кормчий республике нужен. Противоречие это отражает конфликт между теоретическими построениями Цицерона и глубинными импульсами его личности. Именно из этого противоречия родился принципат и принял ту форму, которую принял. В 27 году сенат поднес новому Цезарю щит, выписав на нем главные добродетели принцепса — гражданская доблесть, справедливость на основе права, милосердие и pietas, то есть то сочетание философских понятий и национальных ценностей, которые Цицерон пытался утвердить за двадцать лет до того. Современные историки слишком часто, недопустимо упрощая, характеризуют философское творчество Цицерона как эклектическую популяризацию, Они забывают, что Цицерон предпринял грандиозную попытку поставить в новую перспективу и заново рассмотреть многовековую традицию философских школ. Без философских сочинений Цицерона мышление римлян, политическое в своей основе, никогда не отозвалось бы на призывы с далекого Востока. Цицерон продолжал и развивал дело Сципиона Эмилиана и Панеция. Им пришлось преодолевать сопротивление людей, которые, понимая значение греческой культуры, все же предпочитали знакомить с ней лишь немногих, тех, кто владел языком Эллады. Цицерон против таких воззрений боролся всю жизнь. Он понимал и прямо говорил: перевод греческих философских учений и их ключевых понятий на латынь — не просто проблема поиска словарных соответствий. Перевод — включение греческой философской мысли в тот образ мира, что отражен в языке римлян. Цицерон стремился не к распространению знаний, а к изменению мышления народа. Он был подлинным новатором и революционером, этот самый консервативный из консервативных римлян. Жизнь, им прожитая, навсегда отмечена противоречием между стремлением вернуться в мир своего детства и своей юности, в мир утраченной гармонии и последовательным, на разуме основанным стремлением создать новый образ человека, которым и жила культура на протяжении стольких последующих веков.
110 Консулы: Марк Минуций Руф, Спурий Постумий Альбин.
Рождение Тита Помпония Аттика.
106 Консулы: Гай Атилий Серран, Квинт Сервилий Цепион.
3 января: рождение Цицерона.
29 сентября: рождение Помпея.
105 Консулы: Публий Рутилий Руф, Гней Маллий.
Весна: пленение Югурты.
6 октября: две консульские армии разбиты кимврами и тевтонами под Араузионом в Галлии.
104 Консулы: Гай Марий (во второй раз), Гай Флавий Фимбрия.
1 января: триумф Мария в связи с победой над Югуртой.
Вторая война с рабами в Сицилии.
103 Консулы: Гай Марий (в третий раз), Луций Аврелий Орест.
Рождение Квинта Цицерона (?)
102 Консулы: Гай Марий (в четвертый раз), Квинт Лутаций Катул.
Осень: поражение тевтонов под Аквами Секстиевыми.
Поэт Архия приезжает в Рим.
101 Консулы: Гай Марий (в пятый раз), Маний Аквилий.
Лето: поражение кимвров под Верцеллами.
Война с рабами в Сицилии.
100 Консулы: Гай Марий (в шестой раз), Луций Валерий Флакк.
Маний Аквилий завершает войну с рабами в Сицилии.
Отъезд Квинта Цецилия Метелла Нумидийского в добровольное изгнание. Убийство «мятежных трибунов» Сатурнина и Главции.
Рождение Цезаря.
99 Консулы: Марк Антоний (оратор), Авл Постумий Альбин.
Возвращение Метелла Нумидийского.
98 Консулы: Квинт Цецилий Метелл Непот, Тит Дидий.
97 Консулы: Гней Корнелий Лентул, Публий Лициний Красс.
96 Консулы: Гней Домиций Агенобарб, Гай Кассий Лонгин.
Птолемей, царь Кирены, завещает свое царство Риму.
95 Консулы: Луций Лициний Красс, Квинт Муций Сцевола.
Первые выступления Гортензия.
94 Консулы: Гай ЦелиЙ Кальд, Луций Домиций Агенобарб,
93 Консулы: Гай Валерий Флакк, Марк Геренний.
92 Консулы: Гай Клавдий Пульхр, Марк Перпенна.
Обвинительный приговор Публию Рутилию Руфу.
Цензорским указом запрещена деятельность латинских риторических школ.
91 Консулы: Луций Марций Филипп, Секст Юлий Цезарь.
Трибунат Марка Ливия Друза.
Сентябрь: убийство Ливия Друза.
Резня в Аскуле и начало Союзнической войны.
12 сентября: полемика Филиппа с оратором Крассом.
18 сентября: смерть Красса,
90 Консулы: Луций Юлий Цезарь, Публий Рутилий Луп.
17 марта, в праздник Либералий, Цицерон надевает мужскую тогу.
Начало учения Цицерона у Муция Сцеволы Авгура.
89 Консулы: Гней Помпей Страбон, Луций Порций Катон.
Цицерон в армии консула Помпея.
9 декабря: Помпеев закон о предоставлении латинского гражданства союзным городам Цизальпинской Галлии.
9 декабря: Плавтиев Папириев закон: предоставление полного римского гражданства всем италийцам, живущим к югу от Рубикона и подчинившимся власти Рима.
Декабрь: взятие Аскула.
88 Консулы: Луций Корнелий Сулла, Квинт Помпей Руф.
Массовое убийство римлян и италийцев, жителей городов Малой Азии, по приказу Митридата Евпатора. Армия Суллы стоит лагерем под стенами Рима. Выступление ее на Восток.
Трибунат Публия Сульпиция Руфа.
Бегство Гая Мария в Минтурны.
Цицерон в Риме посещает занятия Федра и Филона.
87 Консулы: Гней Октавий, Луций Корнелий Цинна.
Смерть Квинта Катула, Марка Антония (оратора), братьев Гая и Луция Цезарей. Взятие Рима армией Цинны.
После смерти Сцеволы Авгура Цицерон переходит в число учеников Квинта Муция Сцеволы, великого понтифика.
Молон в Риме.
86 Консулы: Луций Корнелий Цинна (во второй раз), Гай Марий (в седьмой раз).
Январские иды: смерть Гая Мария.
Посидоний в Риме в составе Родосского посольства. Цицерон переводит «Экономику» Ксенофонта, «Феномены» Арата.
«О нахождении материала»
85 Консулы: Луций Корнелий Цинна (в третий раз), Гней Папирий Карбон.
84 Консулы: Гней Папирий Карбон (во второй раз), Луций Корнелий Цинна (в четвертый раз).
83 Консулы: Луций Корнелий Сципион Азиатик, Гай Юний Норбан Бальб.
Сулла в Италии.
6 июля - пожар уничтожает Капитолийский храм,
82 Консулы: Гай Марий Младший, Гней Папирий Карбон (в третий раз).
Смерть Квинта Муция Сцеволы, великого понтифика.
1 ноября: победа Суллы в битве у Коллинских ворот Рима.
Декабрь: Сулла объявлен диктатором. Проскрипции. Убийство Папирия Карбона Гнеем Помпеем в Сицилии.
81 Консулы. Марк Туллий Декула, Гней Корнелий Долабелла.
Победа Помпея (над остатками армии марианцев) в Африке.
1 июня: конец проскрипций.
Молон во второй раз в Риме.
«В защиту Квинкция».
80 Консулы: Луций Корнелий Сулла Феликс (во второй раз), Квинт Цецилий Метелл Пий.
Начало царствования Птолемея Авлета.
Конец года: «В защиту Росция из Америи»,
79 Консулы: Публий Сервилий Ватия Исаврийский, Аппий Клавдий Пульхр.
12 марта: триумф Помпея.
Сулла отрекается от власти.
Веррес — пропретор в Киликии (как легат Гнея Корнелия Долабеллы).
Цицерон в суде выступает защитником Титинии против Гая Скрибония Куриона.
Отъезд Цицерона в Грецию.
78 Консулы: Марк Эмилий Лепид, Квинт Лутаций Катул.
Март: смерть Суллы.
77 Консулы: Децим Юний Брут, Мамерк Эмилий Лепид Ливиан. Возвращение Цицерона в Рим.
Цицерон женится на Теренции (?).
Отъезд Помпея в Испанию на борьбу с Серторием.
76 Консулы: Гней Октавий, Гай Скрибоний Курион.
Квестура Цицерона: он приступает к исполнению магистратских обязанностей 5 декабря в Лилибее, в Сицилии.
«В защиту актера Росция» (?).
75 Консулы: Луций Октавий, Гай Аврелий Котта.
Веррес — городской претбр в Риме.
74 Консулы: Луций Лициний Лукулл, Авл Аврелий Котта.
Лето: возвращение Цицерона в Рим. Цицерон выступает в качестве защитника в процессе Скамандра. Митридат переходит в наступление в Малой Азии.
73 Консулы: Марк Теренций Варрон Лукулл, Гай Кассий Вар.
Начало восстания Спартака.
Лукулл ведет войну с Митридатом в Малой Азии.
Веррес приступил к управлению Сицилией в качестве наместника.
72 Консулы: Луций Геллий Попликола, Гней Корнелий Лентул Клодиан.
Процесс Стения.
Смерть Сертория.
71 Консулы: Гней АвфидиЙ Орест, Публий Корнелий Лентул Сура.
Разгром восстания Спартака.
29 декабря: второй триумф Помпея.
«В защиту Марка Туллия».
70 Консулы: Гней Помпей Магн, Марк Лициний Красс.
Рождение Вергилия.
Избрание Цицерона в эдилы.
Январь: завершение наместничества Верреса в Сицилии.
«Дивинация против Цецилия».
5 августа: первая сессия суда над Верресом.
69 Консулы: Квинт Гортензий Гортал, Квинт Метелл Критский.
Цицерон — эдил. В качестве эдила трижды устраивает игры.
«В защиту Фонтея».
«В защиту Цецины» (?).
68 Консулы: Луций Цецилий Метелл, Квинт Марций Рекс.
Конец ноября: самое раннее письмо в сохранившейся «Переписке» Цицерона.
67 Консулы: Гай Кальпурний Пизон, Маний Ацилий Глабрион.
Лето: избрание Цицерона в преторы.
Помолвка Туллии с Гаем Кальпурнием Пизоном Фруги.
«В защиту Матриния».
«О проекте закона Габиния».
Закон Луция Росция Отона, по которому 14 рядов в театре отводились для всадников.
66 Консулы Маний Эмилии Лепид, Луций Волкаций Тулл
Претура Цицерона
Квинт — кандидат в эдилы
«В защиту Клуенция»
«О Фавсте Сулле»
Так называемый «заговор Красса»
«О предоставлении империя Гнею Помпею»
28 декабря речь «Против олигархов»
65 Консулы Луций Аврелий Котта Луций Манлий Торкват.
«В защиту Гая Орхивия»
«В защиту Квинта Галлиона»
«В защиту Гая Корнелия»
Июль рождение сына Марка Смерть отца Цицерона
64 Консулы Луций Юлий Цезарь, Гай Марций Фигул.
«В защиту Квинта Муция Орестина»
«В защиту Фундания»
Речь «в беленой тоге»
«Краткое наставление к соисканию магистратур».
Июль избрание Цицерона в консулы.
Замужество Туллии
63 Консулы Марк Туллий Цицерон, Гай Антоний Гибрида
1 января речь против аграрного законопроекта Рулла (в сенате)
2 января речь против аграрного законопроекта Рулла (к народу)
Май или июнь «В защиту Гая Рабирия»
Июнь(?) обмен провинциями с Антонием Цицерон защищает в суде Гая Кальпурния Пизона
Триумф Лукулла
23 сентября Цицерон сообщает в сенате о возможном существовании заговора
20—21 октября Марк Красс Марк Марцелл и Meтелл Сципион передают Цицерону письма, где ему угрожают смертью
22 октября сенат голосованием принимает закон о чрезвычайном положении
6—7 ноября Катилина в доме Публия Порция Леки
8 ноября покушение на Цицерона Первая Катилинария (в сенате)
9 ноября вторая Катилинария (к народу).
Конец ноября <В защиту Мурены»
3 декабря арест аллоброгов
Третья Катилинария (к народу) «Чудо» явленное Доброй Богиней
5 декабря четвертая Катилинария Казнь заговорщиков
62 Консулы Децим Юний Силач Луций Лициний Мурена
1 января речь в сенате против Метелла Непота Конец января Катилина убит в Пистории (ныне Пистоя)
Начало лета «В защиту поэта Архия >
Цицерон покупает дом Красса на Палатине
«В защиту Корнелия Суллы»
Осень Помпей высаживается в Брундизии
61 Консулы Марк Пупий Пизон Кальпурниан, Марк Валерий Мессала Нигер
Цезарь — пропретор Дальней Испании
Май процесс Публия Клодия
28—29 сентября третий триумф Помпея
60 Консулы Луций Афраний Kвинт, Цецилий Метелл Целер
Март Цицерон пишет по-гречески «Историю моего консульства» и по латыни — поэму «О своем консульстве»
Сборник «консульских речей»
Возникновение Первого триумвирата
Июнь Цицерон защищает Квинта Метелла Пия Сципиона Назику
Июль Цезарь избран консулом
59 Консулы Гай Юлий Цезарь, Марк Кальпурний Бибул
Январь аграрный закон
Цезарь вопреки воле сената пересматривает контракты с откупщиками «В защиту Квинта Минуция Терма>
«В защиту Гая Антония Гибриды >
«В защиту Флакка»
10 декабря начало трибуната Публия Клодия
58 Консулы Луций Кальпурний Пизон Цезонин, Авл Габиний
Январь законопроекты Клодия
Февраль новые законопроекты Клодия — <0 казни римского гражданина» и о консульских провинциях,
10 марта отъезд Цезаря в Галлию
11 марта отъезд Цицерона
13 марта разграбление его дома
17 апреля Цицерон в Брундизии
29 апреля Цицерон в Диррахии
23 мая Цицерон в Фессалониках
Начало июля Птолемей Авлет изгнан подданными
I июня Луций Нинний Квадрат вносит предложение вернуть Цицерона
4 июня Квинт Цицерон возвращается по завершении наместничества в провинции Азия
II августа раб Публия Клодия покушается на жизнь Помпея
Сентябрь в Галлии Публий Сестий выступает перед Цезарем в защиту Цицерона
29 октября заявление трибунов в защиту Цицерона
57 Консулы Публий Корнелий Лентул Спинтер, Гай Цецилий Метелл Непот
1 января Луций Котта выступает в сенате с требованием вернуть Цицерона
1 или 2 мая в храме Чести и Доблести сенат принимает постановление в пользу Цицерона
9 июля Помпей выступает в сенате в защиту Цицерона
5—13 июля Аполлоновы игры овации зрителей при упоминании имени Цицерона
4 августа закон о возвращении Цицерона принят голосованием Отплытие Цицерона из Диррахия,
5 августа высадка Цицерона в Брундизии
4 сентября Цицерон перед Капенскими воротами Рима
5 сентября благодарственная речь в сенате.
7 сентября благодарственная речь перед народом. Сенатское постановление возлагающее на Помпея ответственность за снабжение столицы зерном.
29 сентября «О своем доме»
58 Консулы Гней Корнелий Лентул Марцеллин, Луций Марций Филипп
20 января Публий Клодий — эдил
2 февраля Публий Клодий обвиняет Милона в нарушении закона «О насилии>
12 февраля женитьба Аттика на Пилии
11 февраля речь в защиту Луция Кальпурния Бестии
11 марта «В защиту Сестия»
Март Птолемей Авлет выезжает из Рима в Эфес
4 апреля «В защиту Целия»
Обручение Туллии с Фурием Крассипом
5 апреля Цицерон выступает в сенате против закона «О землях в Кампании»
15 апреля свидание триумвиров в Лукке «Об ответе гаруспиков»
Конец июня <0 консульских провинциях»
Июль (август?) «В защиту Бальба»
Ноябрь возвращение Катона
Конец года поэма «О моем времени» в трех песнях
55 Консулы Гней Помпей Магн (во второй раз) Марк Лициний Красс (во второй раз)
До 22 апреля восстановление на престоле Птолемея Авлета
Апрель, встреча Цицерона с Помпеем в Кумах.
Вторая половина июля. «Против Пизона».
Лето Цезарь переходит за Рейн.
Сентябрь (?) поход Цезаря в Британию.
Конец ноября отъезд Красса в Сирию.
Работа над <Об ораторе».
54 Консупы Луций Домиций Агенобарб, Аппий Клавдий Пульхр
Февраль Цицерон читает поэму Лукреция Май* в Кумах, а затем в Помпеях Цицерон начинает работу над трактатом «О государстве».
2 июня Цицерон выступает в Риме в защиту граждан Реате.
Июль (?) речь в защиту Мессия Речь в защиту Марка Ливия Клавдиана
Конец августа. «В защиту Планция», «В защиту Ватиния».
Начало сентября: смерть Юлии, матери Марка Антония.
23 октября первый процесс Габиния, речь Цицерона «В защиту Рабирия Постума». «В защиту Скавра» Октябрь восстание эбуронов в Галлии. Резня в Адуатуке.
53 Консулы: Марк Валерий Мессала, Гай Домиций Кальвин
12 июня: разгром римлян под Каррами Гибель Красса.
6 ноября: триумф Гая Помптина в честь победы над аллоброгами.
52 Консулы Гней Помпей Магн (в третий раз), сначала без коллеги, затем с Квинтом Цецилием Метеллом Пием Сципионом.
Январь всеобщее восстание в Галлии
20 января убийство Клодия по приказу Милона
4 апреля суд над Милоном. «В защиту Анния Милона».
Цицерон защищает Марка Савфея.
Работа над диалогом «О законах».
61 Консулы Сервий Сульпнций Руф, Марк Клавдий Марцелл.
Январь Цицерон добивается осуждения Мунация Планка Бурса
Февраль — март начало царствования Клеопатры VII Филопатры
Март Цицерон назначен наместником в Киликии.
Апрель Цицерон на пути в Киликню.
5 мая Цицерон в Аквине
14 июня Цицерон на Акции
Середина июля: Цицерон на Делосе.
22 июля прибытие Цицерона в Эфес.
13 октября сражение у Амана.
17 декабря взятие Пинденисса
50 Консулы Луций Эмилий Павл, Гай Клавдий Марцелл, сын Гая.
11 февраля Цицерон в Лаодикее
Обручение Туллии с Долабеллой (брак состоялся в июле).
Смерть Гортензия.
30 июля Цицерон покидает Киликию и всходит на корабль в Иссе
14 октября прибытие Цицерона в Афины.
Начало ноября Цицерон в Патрах.
24 ноября прибытие Цицерона в Брундизий.
9 декабря беседа Цицерона с Помпеем в Помпеях
49 Консулы Гай Клавдий Марцелл, сын Марка, Луций Корнелий Лентул Крус
4 января прибытие Цицерона в Рим.
12 января Цезарь переходит Рубикон.
13 января Цезарь занимает Фанум.
15 января Антоний в Арреции
17 января Помпей оставляет Рим.
18 января Цицерон уезжает из Рима в Формии.
2 февраля Туллия, Теренция и Помпония в Формиях.
21 февраля Цезарь занимает Корфиний.
28 марта встреча Цицерона с Цезарем в Формиях
31 марта Марк надевает мужскую тогу
19 апреля Цезарь под Массилией.
17 мая Туллия производит на свет ребенка за два месяца до срока.
7 июня Цицерон выезжает в Грецию к Помпею
48 Консулы: Гай Юлий Цезарь (во второй раз), Публий Сервилий Ватия Исаврийский.
9 августа Фарсальская битва.
Цицерон в Патрах, затем в Брундизии.
2 октября Цезарь в Александрии
47 Консулы Квинт Фуфий Кален, Публий Ватиний
15 мая Цезарь овладевает Александрией.
12 июня Туллия приезжает в Брундизий.
2 августа победа Цезаря под Дзелой
25 сентября прибытие Цезаря в Брундизий; встреча с Цицероном
Развод Цицерона с Теренцией (или в начале 46 го)
25 декабря Цезарь отплывает в Африку.
46 Консулы Гай Юлий Цезарь (в третий раз). Марк Эмилий Лепид
Март — апрель работа над диалогом «Брут»,
Середина апреля «Парадоксы стоиков»,
6 апреля победа Цезаря при Тапсе
Середина апреля самоубийство Катона в Утике,
«Похвальное слово Катону».
Лето работа над «Оратором», «О наилучшем виде ораторов», «Подразделения речей»
Начало сентября «В защиту Марцелла»
23 сентября — 3 октябри» игры в честь победы Цезаря
Октябрь развод Туллии.
«В защиту Лигария».
Декабрь, отъезд Цезаря в Испанию.
45 Консулы: Гай Юлий Цезарь (в четвертый раз), без коллеги, Затем Квинт Фабий Максим, Гай Требоний, Гай Каллиний Ребил.
Январь рождение сына Туллии и Долабеллы.
Работа над «Гортензием».
Середина февраля смерть Туллии. Цицерон в Астуре,
7—11 марта «Утешение».
17 марта победа Цезаря при Мунде
Конец августа возвращение Цезаря в Рим.
Май «Учения академиков» (Первые и Вторые).
Июль «О пределах добра и зла»
Август «Тускуланские беседы».
Конец августа «О природе богов».
Сентябрь «Похвальное слово Порции»
Перевод «Тимея».
Октябрь пятый триумф Цезаря Ноябрь процесс царя Дейотара
19 декабря Цезарь посещает Цицерона в Кумах.
44 Консулы: Гай Юлий Цезарь (в пятый раз), Марк Антоний.
Январь на Празднестве Латинских Городов Цезаря приветствуют как «царя»
15 февраля Антонии возлагает на голову Цезаря царскую диадему.
15 марта убийство Цезаря.
До 15 марта «Катон, или О старости», «О предвидении».
16 марта Долабелла — консул
17 марта заседание сената в храме Матери-Земли.
20 марта погребальный обряд — соясжение тела Цезаря
8 июня встреча в Анции Брута, Кассия и других заговорщиков.
Работа над «Лелием, или О дружбе».
26 июня работа над «О славе» (окончена 3 июля)
20—30 июля Погребальные игры памяти Цезаря. Появление кометы Цезаря
21 июля отплытие Цицерона в Грецию. На корабле — работа над «Топикой».
28 июля остановка в Регии (Реджио дн Калабрия).
17 августа по дороге в Рим Цицерон останавливается в Велии, где встречается с Брутом.
21 августа Цицерон в Тускуле.
31 августа возвращение в Рим
2 сентября первая Филиппика.
19 сентября ответ Антония.
9 октября Цицерон уезжает из Рима, пишет вторую Филиппику
Цицерон в Кампании пишет «Об обязанностях».
1 ноября Цицерон получает письмо Октавиана.
2—11 ноября Цицерон объезжает Путеолы. Синуес-су, Аквин, Арпин.
9 декабря Цицерон в Риме.
20 декабря третья Филиппика, в сенате.
20 декабря четвертая Филиппика, к народу.
43 Консулы Гай Вибий Панса, Авл Гирций
1 января первая редакция пятой Филиппики.
4 января сенат направляет посольство к Антонию.
3 февраля восьмая Филиппика
4 февраля (?). девятая Филиппика
15 февраля (?) десятая Филиппика.
8 марта (?) одиннадцатая Филиппика.
10 марта (?) двенадцатая Филиппика.
20 марта тринадцатая Филиппика
14 апреля первое сражение под Мутиной.
21 апреля четырнадцатая Филиппика.
25 или 26 апреля Антоний обращен в бегство.
Гирций убит
29 мая Лепид присоединяется к Антонию.
Конец июля Октавиан требует консульства.
19 августа Октавиан избран консулом (вместе с Квинтом Педием).
19 августа Планк и Поллион присоединяются к Антонию.
Конец октября свидание в Бононии. Образование Второго триумвирата.
27 ноября Титиев закон об учреждении «коллегии триумвиров по устроению республики», Цицерон в Тускуле
7 декабря гибель Цицерона.
В указатель введены все встречающиеся в тексте книги личные имена (включая мифологические), кроме имен, входящих в состав развернутых сравнений и метафор, бегло упомянутых имен, имен персонажей, информация о которых практически отсутствует. Римские имена, состоящие из трех частей имени собственного, родового и прозвища и состоящие из двух частей имени собственного и родового, даны в указателе под родовым именем Имена персонажей, получивших историческую известность по когномену, как Цезарь, Сципион, Брут и т. д., приводятся по когномену с отсылкой к родовому имени (например, «Цезарь, см Юлий Цезарь, Гай»), без даты, кроме специально оговоренных, до нашей эры В спорных случаях предпочитался вариант, принятый в т. н Малом Паули («Der kleine Pauly Lexikon der Antike», Stuttgart Munchen, 1964—1975). Август, см Юлий Октавиан Август, Гай Августин Блаженный, Аврелий (354—430), крупнейший христианский геолог и философ, церковный деятель один из т. н отцов церкви — 310
Аврелии Котта, ветвь плебейского рода Аврелиев — 88, 89 Аврелий Котта, Гай (124—74), консул (75), понтифик, оратор и политический деятель, друг народного трибуна Ливия Друза (см), действующее лицо в трактате Цицерона «О природе богов» — 76, 84, 88, 89, 155, 414, 415
Аврелий Котта, Луций, брат предыдущего, консул (65) цензор (64), автор закона о перераспределении судебной власти в пользу всадников и плебеев, противник Катилины позже сторонник Цезаря (44) — 89
Аврелий Котта, Марк (не Авл)[3] - брат Гая и Луция консул (74) участник Третьей Митридатовой войны, осужден за вымогательство (67) — 89. 147
Автроний Пет, Публий (? — до 46), римлянин, избранный консулом на 65 год, но не допущенный к должности за происки и подкуп, участник заговора Катилины, осужденный и изгнанный из Рима (62) —185, 202, 235
Агатин, сицилиец, пособник Верреса, автор ложного обвинения в адрес Стения (см), подзащитного Цицерона (72) — 127
Агенобарб, см Домиций Агенобарб
Агриппина Младшая (Юлия Агриппина) (15 н э — 59 н. э) дочь Германика и Агриппины Старшей, мать императора Нерона, жена императора Клавдия — 395
Азиний Поллион, Гай (76 до н э — 4 н э), народный трибун (47), консул (40), сторонник Цезаря в гражданской войне, наместник в Дальней Испании (44—43), присоединившийся к Антонию (43); известный историк, поэт и оратор — 215, 468, 475. 477, 479, 484
Азиций, подзащитный Цицерона по обвинению в убийстве Диона из Александрии (см) — 251, 252
Аквилий Галл, Гай (? — до 44). римский всадник, претор (66), известный юрист — 83
Аквилий, Маний (? — 88), консул (101), полководец, подавивший Второе Сицилийское восстание рабов — 118, 119
Акций, Луций (170 — после 86), римский поэт, автор трагедий — 84, 87, 271
Александр Македонский (356—323), царь Македонии с 336 года, знаменитый полководец древности — 25, 143, 149, 217, 328, 406 Алкмена, жена греческого царя Амфитриона, возлюбленная Зевса; мать Геракла; героиня комедии «Амфитрион» Плавта —- 92
Альбий Оппианик, Стаций, всадник из Ларина; отчим Клуенция, обвиненный им в отравлении; Признан виновным (74) и умер в ссылке — 124, 125, 128
Альфен, Секст, римский всадник, проскрибированный Суллой — 82
Амбиориг, вождь галльского племени эбуронов, инициатор ан-тиримского восстания галлов (54), подавленного Цезарем — 289
Ампий Бальб, Тит, народный трибун (63), друг Помпея и его сторонник в гражданской войне; историк — 268, 375, 389
Амфиарай, мифологический герой, предсказатель, одаренный бессмертием; почитался как бог — 123
Аиней Лукан, Марк (39 н. э. — 65 н. э.), римский поэт, автор поэмы «Фарсалня, илн О гражданской войне», содержащей описание событий 49—48 годов — 341, 359, 386
Анней, Марк, легат Цицерона в Киликии (51/50) — 325. 326, 328 Анней Сенека, Луций (ок. 4 до н. э — 65 н. э.). философ-стоик; воспитатель и советник Нерона; консул (55/56 н. э.) — 271, 276, 365 374, 392, 395
Анний Милон, Тит (? — 48), народный трибун (57); демагог; сторонник оптиматов; организатор убийства Клодия; изгнан из Рима (52); инициатор неудавшегося выступления против Цезаря (48) —
239, 242, 245, 249—250, 253, 255, 257, 258, 265. 291, 294, 295—299, 353, 361, 365
Антигон Гонат (ок. 320—239), царь Македонии (283—239) — 406
Антиох I (не II) (7 — до 31), царь Коммагены (Сирия) — 281, 326
Антиох Аскалонский (ок. 120 — ок. 68), известный философ Академической школы, ученик Филона из Лариссы, наставник Цицерона — 91, 97—99, 101, 105, 147, 274, 324, 400, 401
Антонии, плебейский род — 488
Антоний Антилл, Марк (? — 30), старший сын Антония и Фульвии, казнен >по приказу Октавиана — 453, 470
Антоний, Гай, средний брат триумвира, легат Цезаря (49); наместник в Македонии (43); казнен по приказу Брута (42) — 461
Антоний Гибрида, Гай, сенатор, коллега Цицерона по консульству (63), цензор (42), дядя триумвира — 30, 32, 166, 170, 171, 179, 180, 182, 183, 187, 191, 196, 203, 204, 223, 224, 226, 305
Антоний Кретик, Марк (? — ок. 72), сын оратора Антония, отец триумвира, претор (74), наделенный имперяем для борьбы с пиратами и использовавший власть для грабежа провинций; умер после неудачного нападения на о. Кипр — 119, 170
Антоний, Луций, младший брат триумвира, народный трибун (44), консул (41); противник Октавиана в гражданской войне — 53, 454, 455, 463
Антоний, Марк (143—87), консул (99), цензор (97); один из вождей аристократической партии в сенате; видный оратор и теоретик красноречия — 44—45, 48. 73, 119, 273, 275, 377, 378
Антоний, Марк (82—30), народный трибун (49), консул (44); римский полководец, легат и друг Цезаря; член Второго триумвирату (43) — 46, 338, 339, 341, 352, 358, 360, 362, 364, 379, 388, 393, 410, 420, 424, 426—429, 432, 433, 434, 436, 438, 441—443,’ 446, 447 — 471, 472, 473, 475, 477, 478, 480, 481, 484—486, 487, 490, 491
Анхис, возлюбленный Афродиты, отец Энея, в ночь падения Трои вынесенный сыном на плечах из горящего города — 481, 483
Аполлон (Феб), олимпийский бог, сын Зевса, охранитель закона и порядка, бог-прорнцатель, покровитель искусств, основатель городов — 131, 139, 487
Аполлоний Молон (I в до н. э ), ритор с о. Родос, дважды посетивший Рим (87 и 81); наставник Цицерона — 64. 66, 77, 93. 164, 105, 117, 213, 272
Аппиан (до 100 н. э. — 70-е гг. II в. н э), греческий историк, автор «Римской истории», охватывающей период от основания города до начала II в. н. э. — 288, 467, 474—475, 482, 485
Апулей Сатурнин, Луций, дважды народный трибун (103, 100); один из лидеров народной партии; автор ряда демократических законов; убит в ходе политической борьбы (100) — 55, 176, 177, 178, 179
Арат (ок. 315 — ?), греческий поэт, представитель так называемой «дидактической поэзии»; автор поэмы «Явления» — 69, 70—72, 116, 216, 492
Ариобарзан III, царь Каппадокии (Малая Азия) (52—42) — 326, 327, 330
Ариовист (? — до 54), германский полководец, предводитель племени свебов, подчинивший себе часть Галлии; разбит Цезарем (58) — 240
Арист Аскалонский, афинский философ Академической школы, брат Антиоха Аскалонского — 324
Аристотель (384—322), древнегреческий философ и ученый — 36, 49, 62 68, 75, 97, 98, 101, 211, 220, 255, 269, 300, 301. 309, 315, 377, 380, 393, 395, 404, 407, 434
Аристофан (446 — ок. 385), древнегреческий поэт-комедиограф — 271
Аррий, Квинт (? — 71), претор (73), назначенный (72) пропретором в Сицилию вместо Верреса (см. ) и не занявший этой должности из-за участия в войне со Спартаком — 132
Артемида, в греческой мифологии дочь Зевса, сестра Аполлона, богиня охоты, защитница женского целомудрия; ей аналогична римская Диана (см.) — 101
Архелай (? — 55), жрец из города Команы в Малой Азии, муж царицы Египта Береники (см.) — 277, 327
Архелай, жрец из города Команы, сын и преемник предыдущего, организатор заговора, направленного против царя Каппадокии, Ариобарзана III (см); разоблачен Цицероном (51) — 327 Архий, см. Лициний Архий, Авл
Архимед (287—212), великий математик, изобретатель боевых машин, астроном, физик, убит римским воином во время взятия Сиракуз — Ц2, 116, 374
Асконий Педиан, Квинт (ок, 9 до н, э. — ок. 76 н. э,). римский историк, автор комментария к речам Цицерона (64—57 н. э.) — 22, 62, 164, 166, 288, 295
Атей Капитон, Гай, народный трибун (55), представитель сенатской оппозиции Крассу и Помпею — 277, 417
Атенион, раб-киликиец, предводитель Второго Сицилийского восстания рабов (104—100); убит подавившим восстание консулом М. Аквилием (см.) (101) — 118, 119
Атенодор (I в.), уроженец Тарса, философ-стоик, наставник Катона Младшего — 365
Атенодор (I в.), сын Сандона, философ-стоик — 365
Аттал III (Филометор), последний царь Пергама в Малой Азии (138—133); в 133 году завещал свое царство Риму — 33, 148
Атталиды, династия царей Пергама (283—133) — 331
Аттий Вар, Публий (? — 45), участник гражданской войны на стороне Помпея — 385
Аттий Тулл (V в. до н. э.), согласно легенде вождь италийской народности вольсков, принявший (ок. 491) изгнанного из Рима Кориолана — 41
Аттик, см. Помпоний Аттик Тит
Аттилий Регул, Марк (? — 250), дважды консул (267, 256), полководец в Первой Пунической войне — 403
Аттилий Серран Гавиан, Секст, народный трибун (57), выступивший против законопроекта о возвращении Цицерона из изгнания — 241, 248
Афина, богиня мудрости и справедливой войны, исполнительница воли Зевса, покровительница ремесел; в Риме отождествлялась с Минервой (см.) — 377
Афраний, Луций (? — 46), консул (60); военачальник; приверженец Помпея, участник гражданской войны на его стороне — 347
Афродита, богиня любви и красоты, плодородия, вечной весны и жизни; в Риме почиталась под именем Венеры — 113
АцилиЙ Глабрион, Маний, претор (70), консул (67), понтифик, проконсул в Вифинии и Понте (66), участник Третьей Митридатовой войны — 135, 151, 154
Вальб, см. Луцилий Бальб, Квинт; Корнелий Бальб. Луций Бебий, Марк (? — ок. 66), сенатор (74) — 124
Беллиен, Луций, сторонник Суллы, по его приказу совершивший убийство (81) и осужденный за это в 64 году — 159
Беллона, в римской мифологии богиня войны, считавшаяся матерью, а иногда сестрой или кормилицей Марса, также богиня подземного мира — 175
Береника, царица Египта, дочь Птолемея XII Авлета. возведенная на престол после его изгнания (58), казнена отцом, вернувшимся с помощью римлян к власти (55) — 251, 268, 277, 327
Бибул, см. Кальпурний Бибул
Блоссий, Гай, друг и сторонник Тиберия Гракха, философ-стоик — 439, 457
Бостар, житель Сардинии, в убийстве которого обвинялся (54) Марк Эмилий Скавр, подзащитный Цицерона — 288 Брут, см. Юний Брут
Бурриен, городской претор (83), сторонник Мария — 83 Валерий Катулл, Гай (ок. 87 — ок. 57), римский поэт-лирик 209, 215, 251
Валерий Левин, Марк (? — 201), консул (210); военачальник, участник Второй Пунической войны — 112, 114
Валерий Максим (I в. н. э.) римский писатель, автор сборника «О замечательных деяниях и изречениях» — 143
Валерий Мессала Корвин. Марк (ок. 64 до н. э. — 13 н. э.), сын консула (61). консул (31), триумфатор (27), авгур; первоначально республиканец, затем сторонник Антония, затем Октавиана: оратор, писатель, покровитель поэтов — 93
Валерий Мессала Нигер, Марк (ок. 104 — ок. 50); понтифик; консул (61); цензор (55—54); оратор, адвокат — 207, 269
Валерий Мессала Руф, Марк (ок. 103—27/26), консул (53), авгур; легат Цезаря (48—45) — 281, 282, 290
Валерий Триарий, Гай (? — 48), командующий флотом Помпея в гражданской войне; действующее лицо в трактате Цицерона «О пределах добра и зла» — 402
Валерий Триарий, Публий, оратор, обвинитель на процессе Марка Эмилия Скавра (54) — 288
Валерий Флакк, Луций (? — ок. 54), военачальник и политический деятель; противник Катилины (63); друг и подзащитный (59) Цицерона — 223, 225, 226
Варгунтей, Луций, сенатор; участник заговора Катилины (63) — 189, 202
Варен, Луций, землевладелец; подзащитный Цицерона в связи с обвинением в убийстве (79) — 129
Варрон, см. Теренций Варрон Марк
Ватиний, Публий (ок. 95 — ?), народный трибун (59). консул (47); преданный сторонник и легат Цезаря; подзащитный Цицерона (54) — 26, 224, 255, 266, 267, 284, 358, 461
Веллей, Гай (? — ок. 70), сенатор; изображен Цицероном в трактате <0 природе богов» как последователь эпикурейской философии — 414
Венера, римская богиня садов, отождествленная с греческой Афродитой и считавшаяся богиней любви и красоты, матерью Энея (см.), родоначальницей и покровительницей римлян — 399, 483
Вентидий Басс, Публий (98 — ?), сенатор (ок. 47). народный трибун (46 или 45), консул (43). сторонник Цезаря, затем Антония; полководец, триумфатор (38) — 469
Вергилий Марон, Публий (70—19), крупнейший римский поэт; автор «Энеиды», «Буколик», «Георгик» — 72, 215, 489, 492. 494, 495
Веррес (Старший), Гай, отец наместника Сицилии Верреса —128, 131, 136
Веррес, Гай (ок. 115—43), пропретор в Сицилии (73—71). обвинявшийся в злоупотреблении властью (обвинитель на суде — Цицерон) — 22, 30, 32, 75 90, 109, 110, 116. 119, 120, 123. 125 — 128,
129, 130—142. 143. 148, 155, 156, 157
Верцингеториг (ок. 82—46), вождь галльского племени арвернов; глава восстания галлов против Рима (52); разбит Цезарем и казнен — 297
Веста, в римской мифологии богиня священного очага городской общины, курии, дома, культ которой отправлялся жрицами-весталками — 427
Веттий Скатон, Публий, руководитель восстания италийской народности марсов (90) — 56
Вибий, глава откупной компании в Сицилии (71) — 136
Вибий Панса, Гай (? — 43), сенатор, народный трибун (51); консул (43); сторонник Цезаря в гражданской войне; противник Антония; погиб при Мутине (43) — 429, 434, 450, 452, 455, 460, 461, 465, 467, 474. 477
Вибуллий Руф. Луций, друг Помпея и его сторонник в гражданской войне — 259
Внзеллнй Акулейон, Гай, римский всадник, дядя Цицерона с материнской стороны, друг оратора Красса — 48
Волкацнй Тулл, Луций, консул (66) — 342, 343
Волумний Евтрапел, Публий, римский всадник, корреспондент Цицерона, сторонник триумвира Антония — 72
Габиний, Авл (? — 47), народный трибун (67); консул (58); один из вождей популяров; легат и сторонник Помпея, а затем и Цезаря — 149—151, 227, 228, 232, 233, 238. 240, 241, 244, 249, 254, 260. 261, 276, 277, 283, 285, 286, 287, 305, 352
Гадес (Аид), бог подземного мира и царства мертвых — 100 Галлий, Квинт, претор (65), подзащитный Цицерона (66) — 161. 162
Галлий, Квинт, сын предыдущего, претор (43) — 483
Гальба, см. Сульпиций Гальба, Сервий
Ганнибал (247—182), полководец, командующий силами Карфагена во Второй Пунической войне (218—201) — 56, 112
Гекатон Родосский, философ-стоик, ученик Панетия — 443
Гельвий Цинна, Гай, поэт, друг Катулла, убитый после похорон Цезаря толпой, принявшей его за одного из заговорщиков, Корнелия Цинну, претора (44) (см.); по другой версии, убит был Цинна — народный трибун 44 года — 428
Гельвия, мать Цицерона — 47, 48, 70
Гераклид Понтийский (ок. 390—310), философ Академической школы, автор диалогов — 436
Геренний, центурион, убийца Цицерона (по Плутарху «Цицерон», 48) — 487, 488
Геренний, Гай, народный трибун (60); сторонник Клодия — 218
Гермагор из Темна, выдающийся греческий ритор II в. — 68
Германик, Юлий Цезарь (15 до н. э. — 19 н. э.), приемный сын императора Тиберия, знаменитый полководец, дважды консул (12 н. э., 18 н. э.) — 72
Гиерон II (307/306—215), царь Сиракуз; союзник Рима в войнах с Карфагеном — 112, 113, 114, 116
Гиероним (? — 214), внук Гиерона II. царь Сиракуз (215—214); сторонник Карфагена во Второй Пунической войне — 112
Гирций Авл (? — 43). друг и полководец Цезаря, продолжатель его «Записок»; консул (43); военачальник; противник Антония в гражданской войне; погиб при Мутине (43) — 350, 358, 365, 373,
375, 429, 432, 434. 450. 452, 460, 465—467. 474
Гирция. сестра Авла Гирция. которую прочили в жены Цицерону после его развода с Теренцией (46) — 392
Главк, герой греческих легенд; Главк Понтийский — морское божество — 50, 51
Главция, см. Сервилий Главция,
Гай Глобул, см. Сервилий Глобул
Гомер, легендарный древнегреческий эпический поэт, которому приписывается авторство «Илиады», «Одиссеи» и других произведений — 57, 61, 345, 435
Гор, в египетской мифологии божество, воплощенное в соколе; борющийся с силами мрака бог света; покровитель царской власти — 217
Гораций, Публий, единственный из трех легендарных братьев Горациев, уцелевший после боя с враждебной им семьей Куриацием и убивший свою сестру, которая оплакивала погибшего в бою жениха из рода Куриациев (ок. 667); освобожден от наказания по просьбе народа — 80, 81, 177
Гораций Коклес, согласно традиции римлянин, в одиночестве защитивший мост через Тибр от врагов Рима этрусков — 370 Гораций Флакк, Квинт (65—8), знаменитый римский поэт, автор од. сатир, эподов — 279, 440, 461
Долабелла, см. Корнелий Долабелла
Гортензий Гортал, Квинт (114—50), консул (69), выдающийся оратор и судебный деятель, сторонник оптиматов — 74—76, 78, 83, 104, 133 — 135, 138, 140, 142, 149, 154, 160, 164, 177, 192, 202, 226, 249, 252 283 288, 290, 295, 322, 367, 393, 394, 395, 399, 401
Гортензий Гортал, Квинт (? — 42), сын оратора Гортензия, участник гражданской войны на стороне Цезаря, после его смерти присоединившийся к Бруту; казнен после поражения при Филиппах — 461
Гракхи, см. Семпроний Гракх, Тиберий; Семпроний Гракх, Гай Гратидий Марк (? — 102), брат Гратидии (см.); оратор и политический деятель, сторонник демократических реформ — 44—46, 48 Гратидия, жена М. Туллия Цицерона, деда оратора — 44. 45
Дарий III (Кодоман) (ок. 380—330), последний царь древнеперсидского государства Ахеменидов (336—330) — 25
Дейотар (? — 40), царь Галатии; сторонник Рима в войнах с Митридатом VI; союзник Помпея в гражданской войне; подзащитный Цицерона (45) — 326, 327, 419, 420
Деметра, в греческой мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия, сестра и супруга Зевса; в римской мифологии ей соответствует Церера (см.) — 99, 100, 114
Деметрий, сириец, ритор из Афин (I в.) — 102
Деметрий I Полиокрет (ок. 337—283), македонский царь (306— 286) из династии Антигонидов; полководец, изобретатель осадных машин — 104
Демокрит (ок. 460 — ок. 370), древнегреческий философ-материалист, один из первых представителей атомизма — 434
Демосфен (ок. 384—322), афинский оратор и политический деятель — 96, 217, 378, 379, 441
Деций, Публий, сторонник Антония (43) — 468
Дикеарх (вторая половина IV в. — начало III в.), уроженец Мессаны (Сицилия); философ-перипатетик, ученик Аристотеля: историк и географ — 220, 300, 303, 408
Диана, римская богиня растительности, родовспомогательница, олицетворение луны — 399
Диоген, раб Клеофанта (см.) — 124
Диодот (? — 59), философ-стоик, друг и учитель Цицерона — 63, 66, 67, 71, 77, 78, 143, 316, 494
Дион из Александрии, философ Академической школы, прибывший с политической миссией в Рим (56), где был убит — 251, 258, 268
Дион Кассий (Кассий Дион Коккеян) (ок. 155 — после 229). римский историк, автор «Римской истории», охватывающей период с древнейших времен до 229 н. э. — 143, 151, 152, 153, 170, 177 224, 230, 267, 345, 392, 393, 407, 422, 452, 478 480, 484
Дионисий Галикарнасский (вторая половина I в.), греческий ритор и историк, живший в Риме (30—8); автор «Римских древностей» и ряда сочинений по риторике — 213
Дионисий из Магнесии, ритор, которого посетил Цицерон в 78 году — 103
Дионисий Младший, тиран Сиракуз (IV в 7 изгнанный с родины и ставший учителем в Коринфе — 377
Дионисий Старший (Дионисий I) (ок. 430—367), тиран Сиракуз (406 — 367), — 115, 409, 410, 415
Добрая Богиня (Bona Dea), римское божество покровительница женщин и женского целомудрия дарующая благо и счастье — 194, 205 209 218, 258
Долабелла, см Корнелий Долабелла Публий
Домиций Агенобарб Гней (? — 81), зять Цинны противник Суллы объявленный им вне закона (82) участник гражданской войны на стороне марианцев побежден Помпеем (81) ~ 95
Домиций Агенобарб Луций (? — 48), консул (54), один из лидеров аристократической партии в сенате, противник Цезаря в гражданской войне — 231. 239. 256 257, 266 267, 278 282 294 296 341, 347 355 412
Домиций Кальвин, Гней, народный трибун (59); дважды консул (53, 40) понтифик военачальник, триумфатор (36); первоначально противник Цезаря затем его сторонник в гражданской войне — 281, 282 290
Друз, см Ливий Друз
Дуроний, друг и доверенное лицо Милона (см Анний Милон) —298
Дракон (VII в), афинский законодатель чье имя стало нарицательным — 306
Евн (? — 132), раб-сириец родом из Апамеи, организатор Первого Сицилийского восстания рабов (136/35—132), подавленного консулом П Рупилием 117
Еврипид (485—406), знаменитый афинский трагик — 446
Елена по преданию, прекрасная жена спартанского царя Менелая похищенная троянцем Парисом, что послужило поводом к Троянской войне — 68
Зевксис (V в. — начало IV в), прославленный греческий художник — 68
Зевс, в греческой мифология верховное божество, глава олимпийской семьи богов, породитель всего живущего, покровитель родовой общности людей — 52, 71, 116 216, 377
Зенон из Китиона (о Кипр) (333/332—262), греческий философ, основатель стоической школы в Афинах (ок 300) — 09, 371, 406, 415 443
Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча), в христианских представлениях последний в ряду пророков — предвозвестников прихода Мессии — 449
Исократ (436—>338), знаменитый афинский оратор — 406 Кален, см Фуфий Кален
Каллиопа, муза покровительница эпической поэзии и науки — 215, 219
КальвиЙ Цицерон, Гай, народный трибун (454J — 44
Кальпуриии, плебейский род — 229
Кальпурний Бестия, Луций, народный трибун (62); сторонник Катилины активный противник Цицерона — 185
Кальпурний Бестия, Луций, плебейский эдил (57), друг Сестия? подзащитный Цицерона (56) — 253, 254
Кальпурний Бибул, Марк (не Луций) (? — 49/48), сенатор, коллега Цезаря по консульству (59), зять Катона, сторонник консервативно аристократической партии в сенате 219, 223, 227. 239, 252, 256 326. 327, 332, 336, 416
Кальпурний Пизон, Гай консул (67), военачальник сторонник оптиматов друг и подзащитный Цицерона (63) — 176 182, 195
Капьпурний Пизон Фруги, Гай (? — 57), квестор (58), зять Цицерона - 90. 229. 236 245
Кальпурний Пизон Цезонин Луций (? — после 43) консул (58) цензор (50) тесть Цезаря противник гражданских войн последователь эпикурейской философии проконсульство его в Македонии (57—55) вызвало осуждение Цицерона — 110, 227 228 229 230 232 241 244 247, 254, 259 261 268 270 277 293 305 359 371 381 437, 441 453 455 457 460 463
Кальпурния дочь Кальпурния Пизона Цезонина жена Цезаря (59) — 227. 293 455
Камилл (Камул?), вождь кельтского племени взявший в плен Децима Брута и казнивший его по приказу Антония — 485
Канний Галп Луций (? — 44), народный трибун (56) сторонник Помпея подзащитный Цицерона (56) — 268
Каниний Ребнл, Гай, сторонник и легат Цезаря консул (45) избранный на последний день года вместо умершего Фабия Максима — 421
Каннуций Публий современник Цицерона оратор участник про цесса Оппианика (см) (74) — 124
Каннугий Тиберий народный трибун (44) противник Антония и сторонник Цицерона — 449
Карнеад (ок 214—129) греческий философ основной представитель так называемой Новой Академии — 35 62 96 Р7 216 316 431
Кассий Лонгин Гай (/ — 42) народный трибун (49) сторонник Помпея в гражданской воине, один из организаторов заговора против Цезаря (44), возглавивший затем вместе с Брутом (см) войска респубчиканцев после поражения при Филиппах покончил с собой — 327 361 427 432 433 441, 442 4J8 455 458 459 461, 462, 464 469 477, 480 481
Кассий Лонгин, Квин? Г — 47), народный трибун (49) авгур сторонник Цезаря — 338
Кассий Лонгин Луций представитель партии оптиматов и соперник Цицерона на консульских выборах (64) участник заговора Катилины (63) - 166 185
Кастор внук царя Галатии Дейотара (см) обвинивший его в покушении на жизнь Цезаря (45) — 419
Кастор, один из мифологических близнецов Диоскуров, сыновей Зевса — 240
Катилина см Сергий Катилина Луций Катон см Порций Катон Катул. см Лутаций Катул Катулл см Валерий Катулл
Квинкций Гай - брат Публия Квинкция, подзащитного Цицерона — 78
Квинкций Луций, народный трибун (74) защитник Оппианика (см), сторонник популяров — 125 128 130 153
Квинкций, Публий, подзащитный Цицерона (81) — 77—79 81—83
Квинтилиан, см Фабий Квинтилиан Марк
Квирин, бог — покровитель народного собрания римлян мирная ипостась Марса позже отождествлен с Ромулом (см) — 407
Кибела (великая мать богов) богин
Кир Старший (?—529), персидский царь, представитель династии Ахеменидов, основатель древней персид
Киферида, актриса, вольноотпущенница Волумния Евтрапела — 72
Клавдии, старинный патрицианский род. имевший плебейские ответвления — 201, 205
Клавдий Марнелл, Гай (7 — 40), консул (50), противник Цезаря; шурин Октавиана (первый муж его сестры Октавии) — 293, 321, 380, 381, 448
Клавдий Марцелл, Марк (?—45), сенатор, консул (51); сторонник аристократической партии, противник Цезаря — 120. 187, 368, 380. 381, 382, 384, 386, 471
Клавдий Марцелл, Марк (ок. 270—208), римский народный герой,
5 раз консул (222, 215, 214, 210, 208), полководец во Второй Пунической войне — 112, 120, 134
Клавдий Пульхр Аппий (? — до 48), претор (57); консул (54); цензор (50); авгур; брат Публия Клодия (см.) — 178, 241. 250, 278, 281. 282, 288, 305, 320, 323. 329, 331, 333
Клеанф из Асса (Мисия) (331/30 — ок. 232/81), философ-стоик, ученик и преемник Зенона — 397, 415, 443
Клеопатра VII (69—30), царица Египта (51—30); дочь Птолемея XII (Авлета), последняя представительница династии Птолемеев (см.), возлюбленная Цезаря, затем жена Антония — 423, 462
Клеофант, врач Клуенция (см.), главного персонажа так называемой речи Цицерона «Против Клуенция» (66) — 124
Клодий, Луций, сторонник Антония (43); народный трибун (42) — 323
Клодий Пульхр, Публий (ок. 92—52), народный трибун (58); сторонник Цезаря и один из главных врагов Цицерона; вождь римского плебса; убит Милоном — 163, 201, 205—210, 211, 218, 221, 222, 224, 227—235, 237—243, 244. 245, 247—251, 253-255, 257—259, 261, 265—267, 270, 276, 278, 283, 284. 288, 290, 291, 292, 294—297, 304. 307, 320, 342, 343. 363, 416, 427, 456, 472, 473, 489, 490
Клодия (ок. 94 — ?), сестра Публия Клодия, жена Метелла Целера (63—59) — 209, 218, 224, 256
Клуенций Габит, Авл (103 — ?), римский всадник; истец на процессе Скамандра (74); подзащитный Цицерона по обвинению в отравлении (66), 102, 124, 125, 160
Клуенция, дочь Сессии, сестра Клуенция (см.) — 124
Копоний, Гай, претор (49), командующий флотом Помпея (48)—356
Кора (Персефона), богиня плодородия и подземного царства; дочь Деметры и Зевса, супруга Аида — 114 Кориолан, см. Марций Кориолан
Корнелий Бальб, Луций, уроженец Гадеса, консул (40), приближенный Цезаря и его поверенный в общественных делах; подзащитный Цицерона (56) — 219. 264, 348, 360. 391, 406, 424, 429, 432 434
Корнелий Бальб (Младший), Луций, племянник консула (40), сторонник и военачальник Цезаря; триумфатор (19) — 348
Корнелий, Гай, друг Авла Габиния и его коллега по трибунату (07), противник оптиматов, подзащитный Цицерона (65) по обвинению в оскорблении величия римского народа — 161, 164, 394
Корнелий Гай, римский всадник, участник заговора Катилины (63) — 189, 202
Корнелий Долабелла, Гней, сторонник Суллы, консул (81); проконсул в Македонии (80—78), обвиненный Цезарем в вымогательстве и оправданный благодаря защите Котты и Гортензия — 81
Корнелий Долабелла, Гней, претор (81), проконсул в Киликия (80—79), осужденный за вымогательство — 82, 88, 131
Корнелий Долабелла, Публий (69—43), народный трибун (47), консул (44); зять Цицерона; первоначально сторонник Помпея, затем Цезаря, затем республиканцев — 332, 333, 334, 352, 355, 356, 357, 362, 363 375, 388, 389, 390, 392, 429, 432, 433, 438, 441, 458, 462, 464, 484
Корнелий Лентул Крус, Луций (? — 48), консул (49), противник Цезаря — 339, 348, 355
Корнелий Лентул Марцеллин, Гней, консул (56), сторонник оптиматов, представитель оппозиции Первому триумвирату — 2$3, 265, 268
Корнелий Лентул Спинтер, Публий (? — ок. 47); консул (57); понтифик; оптимат; сторонник Помпея в гражданской войне: корреспондент Цицерона — 239, 241, 242, 251, 252, 253, 255, 259, 262, 267. 260, 284
Корнелий Лентул Сура, Публий, консул (71); участник заговора Катилины; казнен по приговору сената (63) — 185, 193 Корнелий Мерула, Луций, жрец, консул (87), сметавший Пинну на этом посту, после захвата Рима войсками Мария покончил с собой (87) — 76
Корнелий Непот (? — ок. 27), римский писатель и историк, друг Катулла, Аттика и Цицерона — 279, 344, 469 470
Корнелий Сулла, Луций (138—78), консул (88); полководец, победитель Митридата (84); руководитель консервативно-аристократической партии в гражданской войне (83—82); диктатор Рима (82—79) — 26. 27, 56—59, 63, 68, 72—74, 76—78, 81—82, 84—86, 88, 91, 93—95, 97, 101, 102, 106, 107, 123, 126, 130, 131, 134, 140, 143, 1401, 147, 149, 150, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 167, 171, 176. „ 180, 185. 186, 189, 197, 198, 214, 273, 341, 359, 361, 383. 453, 482
Корнелий Сулла, Публий (7 — ок. 45), племянник Суллы-диктатора, обогатившийся на проскрипциях; подзащитный Цицерона и Гортензия по обвинению в причастности к заговору Катилины (62); сторонник Цезаря в гражданской войне — 143, 185, 201, 202, 362
Корнелий Сулла, Фавст (до 86—46), сын диктатора Суллы; зять Помпея и его сторонник в гражданской войне — 158, 159, 161, 163, 269, 293, 391
Корнелий Сципион Африканский Старший, Публий (ок. 235— 183), полководец во Второй Пунической войне, дважды консул (205, 194), цензор и принцепс сената (199), знаток греческой культуры — 105, 311, 370, 413
Корнелий Сципион, Публий (? — 212), консул (218), младший брат Гнея Корнелия Сципиона Кальва, отец Сципиона Африканского Старшего; полководец во Второй Пунической войне — 370
Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший, Публий (ок. 185—129), полководец в Третьей Пунической войне, триумфатор, дважды консул (147, 134), цензор (142); противник реформ Гракхов. поклонник греческой культуры, сплотивший вокруг себя кружок писателей и философов — 73, 77, 102, 127, 134. 147, 201, 204, 286, 300—302, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 370, 418, 434, 491. 496
Корнелий Тацит, Публий (ок. 58 г. н. э. — после 117 г. H. э.); знаменитый римский писатель-историк; автор «Истории» (ок. 105— 111), неоконченных «Анналов» (112—117 н. э.) и других произведений — 276
Корнелий Цетег, Гай, сенатор (63), участник заговора Катилины, казнен по решению сената (63) — 185
Корнелий Цинна, Луций, сын предыдущего, шурин Цезаря, пре тор (44), обычно включается в число участников заговора против Цезаря — 392, 428
Корнелий Цинна, Луций (? — 84), римский военачальник и политический деятель, четырежды консул (87—84) один из главных сторонников Мария в гражданской войне — 73, 74, 150, 185, 482
Корнелия, дочь Метелла Пия Сципиона, в первом браке жена Публия Лициния Красса (55—53), затем жена Помпея Великого (52—48) — 290, 293
Корнелия (? — 68), дочь Цинны, первая жена Цезаря (ок. 85— 68). мать Юлии (см ) — 150
Корнифиций Квинт, народный трибун (69), претор (66) кандидат в консулы на 63 год — 166, 206, 207
Корнифиций, Квинт (? — 42), сын предыдущего, сторонник и военачальник Цезаря, затем противник триумвиров (43—42), поэт и оратор, друг Цицерона — 387, 442, 458, 461
Коруиканий, Тиберий, консул (280) полководец, первый плебей, ставший великим понтификом (254/3) юрист — 415
Koттa, см. Аврелий Котта
Крантор из Сол (Киликия) (ок. 340/35—275), философ, первый комменхатор Платона — 397 Красс, см Лициний Красс
Ксенокл из Адрамита (И — I вв), знаменитый ритор из Азии, которого посетил Цицерон (78/77) во время поездки на Восток — 104
Ксенофонт (ок. 430 — ок 355), греческий писатель, историк и философ, ученик Сократа, военачальник и политический деятель — 69, 70, 331. 418
Ктесифонт, афинский государственный деятель, сторонник Демосфена — 379
Куриации, легендарные боатья из Альба-Лонги, погибшие в бою с братьями Горациями из Рима (ок 667) — 80, 177
Курий Дентат, Маний (? — 270), римский полководец и государственный деятель, триумфатор, трижды консул v-90 275, 273). цензор (272), признанный образец римлянина старой складки — 42 Курий, Квинт, сторонник Катилины (63), выдавший планы заговорщиков — 186, 189
Курий, Маний, римский торговец из Патр (Ахайя), дважды оказавший гостеприимство Цицерону (50 48) — 357, 421 Курион, см Скрибоний Карион
Курций Педуцеан, Маний (или Гай) народный трибун (57), претор (50) — 239
Курций Постум, Марк, друг Цицерона, претор (46 или 47). первоначально сторонник Цезаря, затем (44) — Октавиана — 389
Лабиен, Тит (ок 99—45) народный трибун (63) автор обвинения в адрес Гая Рабирия легат Цезаря в Галлии (58—51). сторонник Помпея в гражданской войне (49—45) — 171, 175 — 177, 356
Лары, в Риме души умерших, божества — покровители домашней жизни, а также перекрестков и околотков — 169, 170. 413
Левий, римский лирический поэт (конец II в. — начало I в), автор шуточной переработки греческих мифов (Erotopagenia) — 51
Левин см Валерий Левин
Лелий Мудрый, Гай (ок 190 — после 129), друг и соратник Сципиона Африканского Младшего, консул (140), сторонник аристократической партии в сенате, оратор, знаток философии и поэзии — 73, 102, 201, 309, 418, 434, 435, 461
Лелнй, Децим, народный трибун (54), сторонник Помпея в гражданской войне — 226
Лелия (ок. 160 — ?), старшая дочь Гая Лелия, жена Муция Сцеволы Авгура — 73
Лений Флакк, Марк, житель Брундизия, оказавший гостеприимство изгнанному из Рима Цицерону (58) — 236 Лентул, см Корнелий Лентул Лепид, см Эмилий Лепид
Лесбия, героиня любовной лирики Катулла, прототипом которой послужила Клодия (см ) — 209
Либер, римский бог вина, виноделия, плодородия, покровитель искусств, аналогичен греческому Дионису — 154
Либера, римская богиня плодородия, супруга Либера — 154
Ливий Андроник, Луций (III в), римский драматический поэт, автор латинских комедий и трагедий, ориентированных на греческие образцы — 271
Ливий Друз Клавдиан, Марк (? — 42), подзащитный Цицерона (54), сторонник аристократической партии в сенате, покончил с собой после поражения при Филиппах — 284
Ливий Друз, Марк (ок. 124—91), народный трибун (91), автор ряда демократических реформ, убит политическими противниками — 55
Ливий, Тнт (59 до н э. — 17 н э), выдающийся римский историк, автор «Истории Рима ог основания города» — 40, 112, 271, 276 495
Лигарии, Квинт, почпсянец, подзащитный Цицерона (46), участник заговора против Цезаря (44) — 385—387
Ликург, легендарный основатель спартанского законодательства (IX — VIII вв) — 306
Лисии (ок. 459 — ок. 380), знаменитый афинский логограф — 379
Лицинии Лукуллы ветвь плебейского рода Лициниев — 65 Лициний Архий, Авл (ок 118 — после 62), греческий поэт из Антиохии (Сирия), поселившийся в Риме (102), друг и подзащитный (62) Цицерона — 43, 60, 64—66, 71, 204, 205, 214, 264
Лициний Красс Дивес, Марк (ок. 115—53), дважды консул (70, 55), цензор (65), сулланец (83—82), нажившийся на проскрипциях: участник Первого триумвирата (60), назначен проконсулом в Сирию (54), вторгшись в Парфию, погиб с большей частью своего войска — 25—26, 31, 129, 130, 143, 146, 163, 165, 166, 175, 180, 182,
188, 192, 195, 198, 201, 205, 207, 210, 212, 218, 219, 223, 225, 227, 229 240, 246, 252, 253, 254, 257, 258, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 276, 278, 280, 283, 285, 289, 291, 303 371, 406, 417, 423. 425, 446, 485 Лициний Красс, Луций (140—91), консул (95), цензор (92), крупнейший оратор скоего времени, участник диалога Цицерона «Об ораторе» — 48, 55 60, 273—275, 315, 378
Лициний Красс, Публий (ок. 85—53), младший сын триумвира легат Цезаря в Галлии (57), полководец — 266, 289, 290, 293
Лициний Лукулл, Луций (117—56), консул (74), полководец в войнах с Митридатом, триумфатор (63); сторонник аристократической партии в сенате — 147—149, 151, 153, 154, 183, 184, 192, 204, 205, 213, 226, 229, 235, 248, 252, 372, 393, 400, 401, 404
Лицчний Лукулл, Марк (116 — после 56), брат Луция Лициния Лукулла приемный сын Теренция Варрона; консул (73), военачальник, триумфатор (71); понтифик (57); активный сторонник партии оптиматов в сенате — 164, 247, 248
Лициний Лукулл, Марк (ок. 64—42), сын консула (74), ученик и племянник Катона; сторонник республиканцев (44—42); погиб при Филиппах (42) — 403, 404
Лициний Макр Кальв Гай (82 «— после 54), оратор и поет, друг Катулла — 251
Лициний Мурена, Луций (ок. 105 — 7), консул (62); обвинен в подкупе (63), оправдан благодаря защите Цицерона (речь «В защиту Мурены»), Красса и Гортензия — 147, 183, 184, 192, 200, 206, 235, 373, 461
Лициний Сацердот, Гай, городской претор (75), кандидат от партии оптиматов на консульство (63) — 166 Лукан, см. Анней Лукан Лукулл, см. Лицииий Лукулл
Лукреций Кар, Тит (ок. 97—55), римский поэт и философ, автор поэмы <0 природе вещей» — 312, 313, 439
Лукцей, Луций, городской претор (67), друг Помпея и Цицерона; историк — 251, 268
Лусций, Луций, центурион Суллы, обогатившийся на проскрипциях (82), приговорен к смерти (64) — 159
Лутаций Катул, Квинт (ок. 150 — 87), консул (102), полководец, участник войны с кимврами, противник Мария в гражданской войне — 73. 77, 83, 162, 247, 248, 249
Лутаций Катул, Квинт (ок. 121—61/60), сын предыдущего; сенатор, понтифик, консул (78); цензор (65); один из вождей аристократической партии в сенате ~ 106, 154, 160, 163, 164, 190, 195, 198. 393, 399—400, 401
Луцилий Бальб, Квинт, философ-стоик, персонаж трактата Цицерона «О природе богов» — 414
Луцилий, Гай (ок. 180—103), римский поэт-сатирик, близкий к кружку Сципионов — 38, 73. 279
Ма, малоазийская богиня плодородия, аналогичная Кибеле (см ) — 277, 327
Магий Цилон, Публий (? — 45), друг Клавдия Марцелла, консула (51), убивший его и покончивший с собой (45) — 384
Май, Анджело (1782—1854), итальянский кардинал, знаток и исследователь античной литературы, впервые обнаруживший целый ряд текстов древних авторов, в т. ч. Цицерона — 310
Макробий, Амброзий Феодосий (первая половина V в. и. э J, римский грамматик, комментатор Цицерона — 318, 355
Манилий, Гай, народный трибун (66), предложивший предоставить Помпею командование в войне с Митридатом, подзащитный Цицерона (65) — 151, 153, 159, 160
Манлий, Гай, центурион Суллы; сторонник Катилины. организатор вооруженного выступления в Этрурии (63); разбит прн Пнстории (62) — 189, 190, 191, 197, 221, 226
Манлий Торкват, Авл, претор (70), легат Помпея (B7J и его сторонник в гражданской войне (49—42) — 320, 321
Манлий Торкват, Луций (ок. 108 — ок. 54), консул (65); друг Аттика, противник Катилины (63) — 202
Манлий Торкват, Луций (ок. 90—46), сын предыдущего; сенатор; сторонник Помпея в гражданской войне; действующее лицо в трактате Цицерона <0 пределах добра и зла» — 202, 402 Марии, римский плебейский род — 45
Марий, Гай (ок^ 158—86), семь раз консул (107, 104—100, 86), выдающийся полководец, реформатор армии, победитель Югурты и кимвров, вождь народной партии и главный противник Суллы в гражданской войне 83—82 гг. — 26, 44, 55, 57—61, 65, 66, 72. 73, 77, 83, 126, 150, 151, 177, 178, 234, 242, 246. 453
Марий (Младший). Гай (109—82), приемный сын и преемник Мария, консул (82), разбит в Пренесте войсками Суллы (82) — 58, 68 Марий Гратидиан, Марк, сын Марка Гратидия (см ), усыновленный братом Гая Мария, народный трибун (87), сторонник Циныы, убит Катилиной по приказу Суллы (82) — 45, 162, 163, 166
Марий, Марк, друг и корреспондент Цицерона — 271, 272. 297, 354
Марс, в римской мифологии первоначально бог — хранитель гражданской общины, затем бог войны — 390 Марцелл. см Клавдий Марцелл Марцеллин, см Корнелий Лентул Марцеллин
Марций Кориолан, Гай, по древнеримской легенде, патриций, полководец, изгнанный из Рима и перешедший на сторону вольсков (ок. 491) — 43
Марций Рекс, Квинт (? — ок. 63), консул (68). военачальник, противник Катилины — 151, 188, 191, 197, 206
Марций Фигул, Гай, консул (64); сторонник казни участников заговора Катилины (63) — 169
Марций Филипп, Луций (ок 136 — ок 75), народный трибун (104), консул (91), цензор (86), противник законов Ливия Друза — 55
Марций Филипп, Луций (ок 102 — после 43), консул (56), сын предыдущего, отчим Октавиана Августа — 261, 268, 397, 429, 434, 448, 455, 457, 460
Матии, Гай (ок. 100 — ?), сторонник Цезаря, друг и корреспондент Цицерона — 358, 420, 428, 438, 439, 446
Матиний, Публий, поверенный Брута в Саламине (Кипр) (56— 50) — 329
Матриний, Децим, подзащитный Цицерона (68) — 158
Мелий Спурий, согласно традиции римский всадник, заподозренный в стремлении к царской власти и убитый Сервилием Ахалой (439) — 411
Меммий, Гай (ок. 98 — ок 46), народный трибун (66); первоначально сторонним Помпея, затем Цезаря осужден за подкуп и изгнан из Рима (52); поэт и оратор, знаток философии, покровитель литераторов — 231, 239, 281, 282, 290, 313, 324
Менений Ланат, Агриппа (? — 493), консул (503); полководец, оратор — 368
Мерула, см. Корнелий Мерула, Луций Мессала, см. Валерий Мессала Метеллы, см. Цецилии Метеллы
Меценат, Гай (Цильний Меценат, Гай) (70—8), римский всадник, приближенный императора Августа, писатель и покровитель искусств — 47, 345, 439
Милон, см Анний Милон
Минерва, в римской мифологии богиня государственной мудрости, покровительница ремесел и искусств, аналогичная греческой Афине (см.) — 155, 232, 416, 493
Миноб, легендарный критский царь, создатель могущественной державы — 306
Минуций Базил. Луций (7—43), легат Цезаря (53. 52) и его сторонник в гражданской войне, затем участник заговора против него <44) _ 425
Минуций Терм, Авл, подзащитный Цицерона (59) — 223
Минуций Терм, Квинт (ок. 100 — после 35), сенатор (73), народный трибун (62), пропретор в Азии (51/50), сторонник Помпея в гражданской войне; друг и корреспондент Цицерона — 198. 332
Минуций Терм, Марк, претор (81), наместник в Азии (80), в штабе которого Цезарь начал свою военную карьеру — 150
Митридат VI Евпатор (ок. 132—63), царь Понта, трижды воевавший против Рима (89—84, 83—81, 74—64) — 26, 58, 59, 62, 63, 64, 95, 104, 119, 147 —149 151. 153, 154, 159, 183, 186, 199, 248, 277, 303, 326, 400
Музы, богини — покровительницы искусств и наук —71, 214, 216. 262, 345
Мунаций Планк Бурса, Тит (42); народный трибун (52); сторонник Помпея, затем Цезаря — 295, 297, 298
Мунаций Планк, Луций (между 90 и 85 — после 15). консул (42). цензор (22); легат Цезаря; наместник в Косматой Галлии (44— 43), сторонник Антония в гражданской войне, перешедший затем на сторону Октавиана — 450. 457, 464. 467, 469, 475, 477, 479, 484
Мурена, см. Лициний Мурена, Луций — 57
Мустий, Гай (? — до 70), римский всадник, откупщик; подзащитный Цицерона (74) — 126
Муттинес, командир-ливиец, участник Второй Пунической войны на стороне Карфагена, выдавший римлянам Агригент (210) — 112, 113
Муций Орестин, Квинт, народный трибун (64), сторонник популяров (не подзащитный Цицерона) — 161, 164—166
Муций Сцевола (Авгур), Квиит (ок. 170—87), консул (117); авгур; знаток философии и права — 54—55. 61. 67. 73, 78. 83, 273. 314, 434, 435
Муций Сцевола (Понтифик). Квинт (ок. 140—82), выдающийся юрист и оратор; народный трибун (106), консул (95), великий понтифик; убит марианцами (82) — 73, 76
Муций Сцевола. Публий (? — до 115), народный трибун (141); консул (133); великий понтифик (130), выдающийся юрист — 415
Муция, дочь Муция Сцеволы Понтифика, жена Помпея Великого (ок. 80—62), мать его сыновей Секста и Гнея — 205, 225.
Невий, Секст, обвинитель Публия Квинкция (см.) (81) — 78—79, 82, 83
Невий, Сервий, обвинитель Титинии Котты, подзащитной Цицерона (75) — 89
Нептун, в римской мифологии первоначально бог источников и рек, затем бог морей, аналог греческого Посейдона — 257
Нерон, Клавдий Цезарь Август Германик (первоначально Луций Домиций Агенобарб) (37 н а. — 68 н. э.), римский император (54 н. э. — 68 н. э.) — 22. 395
Нестор, легендарный царь Нилоса, участник Троянской войны, отличавшийся опытностью и рассудительностью — 359
Нигидий Фигул, Публий (ок. 100—45), сенатор; сторонник Помпея в гражданской войне; друг Цицерона, философ-неопифагореец, грамматик, знаток астрологии и религиозных установлений — 194, 413, 414
Никокл (? — до 353), царь Саламина на Кипре с 374 года — 406
Никомед IV Филопатор (? — 74), последний царь Вифинии (94— 74); завещал свое царство Риму — 148
Нинний Квадрат, Луций, народный трибун (58), сторонник возвращения Цицерона из ссылки — 228, 238—240
Нума Помпилий согласно традиции второй римский царь (715 — 673) — 307, 308, 310, 370, 413
Октавиан, см. Юлий Октавиан Август, Гай Октавий, Гней (? — 87), оптимат, коллега Цинны по консульству (87), изгнавший его из Рима; убит марианцами — 73
Октавия Младшая (ок. 70—11), старшая сестра Октавиана, внучатая племянница Цезаря; в первом браке (54—40) жена Гая Клавдия Марцелла, во втором (40 — 32) — триумвира Антония — 293 Опгшаник, см. Альбий Оппианик, Стаций
Оппий, Гай, всадник, преданный сторонник и уполномоченный Цезаря (54—44), после его смерти перешедший к Октавиану — 280, 321, 360, 365, 373, 391, 406
Орест, мифологический герой, сын Клитемнестры, убивший по велению Аполлона мать и ее возлюбленного, мстя им за убийство своего отца Агамемнона; герой трагедий Эсхила, Софокла. Еврипида — 87
Орхивий, Гай, коллега Цицерона по претуре (66) и его подзащитный (65) — 161
Панеций (ок. 185—109), философ с. о. Родос, глава стоической школы в Афинах (129—109) — 77, 313 318, Збб', 404, 443, 472 Панса, см Вибий Панса
Панург, раб Гая Фанния Хэреи (см.), актер, убитый Квинтом Флавием (до 76) — 108, 109
Папирий Карбон, Гней, народный трибун (92); трижды консул (85, 84, 82); сторонник Цинны; вместе с Марием Младшим глава армии популяров (82) — 131
Папирий Пет, Луций, друг и корреспондент Цицерона — 72, 376, 388, 390
Патрон (I в.), философ-эпикуреец, глава эпикурейской школы в Афинах (70—51) — 324
Педий, Квинт (ок. 88—43), племянник Цезаря, коллега Октавиана по консульству (43), автор закона о наказании убийц Цезаря — 483, 484, 486
Педуцей, Секст (? — ок. 49), пропретор в Сицилии (75), сослуживец Цицерона — 119, 120
Пелей, греческий герой, по воле Зевса вступивший в брак с нереидой Фетидой — 215
Перикл (ок. 490—429), выдающийся афинский государственный деятель и полководец, автор ряда демократических ресЬоом — 96 Персей (212—165 или 162), последний царь Македонии (179— 168), глава антиримской коалиции в Третьей Македонской войне (171 — 168) — 169
Пет, см. Автроний Пет
Пизон см. Кальпурний Пизон, Пупий Пизон Пилия, жена Помпония Аттика (56) — 263
Пинарий Натта, Луций, родственник Клодия, понтифик, освятивший земельный участок Цицерона — 248
Пирр (319/18—272), царь Эпира (306—302, 297—272), воевавший с Римом (280 — 275) — 403
Пифагор Самосский (VI в. до н. э.), прославленный греческий философ и математик — 95, 308, 413
Плавт, Тит Макций (ок. 250—184), знаменитый римский поэт-комедиограф — 92
Плавтий Гипсвй Публий, сторонник Помпея, кандидат в консулы (53) — 290, 291
Планк, см. Мунаций Планк Планции, римский род — 283
Планций, Гней, римский всадник, народный трибун (56); сторонник Помпея в гражданской войне; друг и подзащитный (54) Цицерона — 49, 59, 114, 121, 237, 245, 283, 284
Платон (428/27 —349/48), крупнейший греческий философ, основатель Академии, в силу чего в древности последователи его учения нередко назывались академиками — 24, 36, 40, 63, 67, 70, 97, 99, 100, 103, 106, 111 259, 260, 262, 263, 272, 273, 275, 276, 306, 308, 309—311, 313, 318, 377, 393, 394, 397, 398, 402, 403, 409, 410 412, 413, 425, 444, 457, 490, 494
Платор из Орестиды, житель Македонии, убитый Пизоном Цезонином (57/56) — 259
Плутарх (ок. 47 н. э. — ок. 127 н. з.), греческий писатель и историк, автор «Сравнительных жизнеописаний» — 44, 47» 50, 59, 66, 90, 92 93, 105, 120, 122, 141 — 144, 146, 160, 170, 175, 194, 199,
206, 209, 254, 267, 277, 295, 354, 356, 362, 366, 386, 387, 388. 410,
421. 422, 423, 440, 448, 449, 485, 487—488 Победа (Виктория), богиия победы — 137
Полибий (ок. 200 — после 120), греческий историк, живший и писавший в Риме, автор «Всеобщей истории» в 40 книгах (сохранилась не полностью) — 213, 220, 264, 300, 303, 308, 313, 392, 416 Полнкрат (? — 522), тиран Самоса (ок. 538—522) — 413
Помпей Великий (Магн), Гней (106—48), римский полководец и политический деятель; трижды консул (70, 55, 52); участник Первого триумвирата (60); вождь оптиматов и противник Цезаря в гражданской войне (50—48) — 26, 31—32, 56, 62, 64, 94, 95, 107, 108, 126. 129, 130, 134, 140, 146, 149 — 154, 156, 159, 164, 165. 172. 175, 178, 182, 186, 196—201, 204—205, 207, 217, 218, 219, 221, 223, 226, 226, 229—231, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 250—254, 256. 258—260, 264—271, 276, 278, 282, 283—287, 288, 289, 290—298, 305. 309, 319, 320, 322, 326, 330—332, 334, 335, 337—341, 342—347, 348—340, 351—352, 354—356, 357, 359, 364, 360, 373—374, 380, 383, 385—387, 388, 391, 395, 400, 419, 422, 423, 424, 425, 427, 434, 461, 465, 471, 472—473. 485, 489, 4£3
Помпей Вифинский, Квинт (ок. 108—48), друг Цицерона; квестор (74), осуществивший присоединение Вифинии; сторонник Помпея Великого в гражданской войне — 64
Помпей Магн, Гней (? — 45), старший сын Помпея, сторонник отца в гражданской войне, после его смерти возглавивший вместе с братом Секстом войска противников Цезаря; после поражения при Мунде (45) взят в плен и убит — 357, 390, 406
Помпей Магн, Секст (между 68 и 66—35), младший сын Помпея Великого, его сторонник в гражданской войне; противник Второго триумвирата, получивший по решению сената командование флотом; разбит полководцем Октавиана Агриппой (36) — 355, 391, 406, 428, 453, 465, 484
Помпей Руф, Квинт, претор (63), посланный в Капую для предотвращения возможнЬЙс выступлений сторонников Катилины
Помпей Руф. Квин г, народный трибун (52), сторонник Помпея Великого -г- 295
Помпей Страбон, Гней (? — 87), отец Помпея Великого: консул (89), полководец В Ьоюанк^скоЙ войре, триумфатор — 56, 162
Помпея, вторая жена Цезаря (67-02) — 205
Помпея, дочь Помпея Великого, в первом браке жена Фавста Суллы, во втором — Луция Корнелия Цинны, шурина Цезаря — 293, 391, 392
Помпонии, старинный плебейский род — 67
Помпоний Аттик, Тит (110—32), римский всадник, самый близкий друг Цицерона — 60, 67, 68, 91, 94, 96, 99, 100, 147, 167—168, 203—205, 207, 209, 210, 211—213, 216, 219—221, 224, 225, 227, 234, 235, 236, 237—238, 239. 241, 243, 249, 257, 262, 26з! 265, 269, 277. 278, 289, 290, 298, 313, 314, 318, 320—322, 324, 325, 328, 330. 334, 335, 336, 337. 340—348, 350. 352, 353, 355, 357, 360, 361, 364, 366—368, 371. 396—399, 400, 401, 402, 405—408, 411, 418, 420, 425, 428, 429, 432—437, 430, 442, 443—444, 446, 450, 469—470, 494
Помпония (ок. 106 — ?), сестра Помпония Аттика, жена Квинта Цицерона, брата оратора — 167, 263, 320, 336, 340, 344 Помпония (51 — ?), дочь Аттика и Пилии — 336
Помптин, Гай, пропретор в Нарбонской Галлии (61), победитель аллоброгов; триумфатор (53); легат Цицерона в Киликии (51) — 290. 322, 328
Понтий, Луций, житель Требулы в Средней Италии (в других источниках — Требия), дважды оказавший гостеприимство Цицерону — 322
Попилии, плебейский род — 234
Попилнй Лена, Гай, бывший подзащитный Цицерона, руководивший в качестве военного трибуна его убийством (43) — 487 Порций Катон Гай, народный трибун (56), друг Клодия — 253, 265
Порций Катон (Старший), Марк (Катон Цензорий) (234—149), римский политический деятель и писатель; консул (195); цензор (184); авгур; поборник староримских нравов — 43, 73. 192, 300, 306, 379, 418, 419, 447
Порций Катон (Младший), Марк (95—46), народный трибун (62); правнук Катона Старшего, оратор и философ-стоик, один из идейных вождей сенатской аристократии; покончил самоубийством после поражения помпеянцев — 184, 191 — 192, 195, 198, 205. 207, 211 — 212, 218, 219 222, 224, 231—232, 260, 266, 267, 269, 283, 296. 319, 325, 331, 333, 347, 351, 356. 357, 360, 361, 362, 365—366, 373—375. 393, 398, 401, 403. 404. 412, 415. 445, 472, 494.
Порций Лека, Марк, участник заговора Катилины (63) — 189, 202
Порция, дочь Катона Младшего, в первом браке жена Калъпур-ния Бибула, во втором — Брута (45—42) — 366
Порция (? — 45), сестра Катона Младшего, жена Луция Домиция Агенобарба — 412, 418
Посидоний (Родосский) (ок. 135—51), прославленный в древности философ-стоик, ученик и последователь Панетия, наставник Цицерона — 77, 104, 105, 213
Постумий, Гай, гаруспик (жрец), предсказавший Сулле его победы (89 и 83) — 57
Посту мия, жена Сульпиция Руфа, консула (51J — 391 Протагор из Абдеры (ок. 480 — ок. 410), древнегреческий фило соф, основатель школы софистов — 412
Птолемеи (Лагиды), царская династия в эллинистическом Египте (350—30), завоеванном римлянами при Клеопатре VTI (ем.) — 148, 231
Птолемей IV Филопатор (ок. 240—204). царь Египта (221 — 204) — 114
Птолемей XII (Авлет) (ок 111—51), царь Египта (80 — 51) изгнан ный подданными (59) и возвращенный на престол римлянами (55) — 251—252, 254, 266, 276 — 277, 285
Публилия, воспитанница, а затем жена Цицерона — 392— 393, 396
Пупий Пизон Фруги (Кальпурниан), Марк (Кальпурний Пизон) (? — ок 47), консул (61), легат (67—62) и сторонник Помпея оратор — 61, 62, 64, 95, 97, 207, 208, 402, 404, 405
Рабирий, Гай сенатор, привлеченный к суду (63) ла участив в убийстве народного трибуна Сатурнина (100), подзащитный Цицерона — 170 — 171, 175—179, 181, 183, 188, 217, 230
Рабирий Постум, Гай, приемный сын Гая Рабирия финансист, заимодавец Птолемея Авлета (см), подзащитный Цицерона (54), в дальнейшем сторонник Цезаря — 286, 287
Регул, см Аттилий Регул
Ромул (VIII в), легендарный основатель и первый царь Рима — 189 307, 370, 407, 483
Росций Галл, Квинт (? — до 62), популярный римский актер, подзащитный Цицерона (ок 76) — 83, 84, 87, 108, 109
Росций Отон, Луций, народный трибун (67), автор закона о почетных местах всадников на представлениях в цирке, главный персонаж речи Цицерона «В защиту Отона» — 175, 276
Росций, Секст (Младший), всадник из италийского города Аме-рии, подзащитный Цицерона (80) — 84—89, 93, 162, 191, 488 Росций, Секст (Старший), отец Секста Росция Младшего (см ) — 85
Росций Фабат, Луций (? — 43), народный трибун (55) посредник между Цезарем и Помпеем (49) — 340 Рулл, см Сервилий Рулл
Рупилий, Публий (? — 129), консул (132), подавивший Первое Сицилийское восстание рабов — 117
Рутилий Луп, Публий, народный трибун (56), сторонник Помпея — 256
Рутилий Руф, Публий, консул (105), легат проконсула в Азии (94), осужденный за вымогательство по ложному обвинению откупщиков (92) философ стоик, историк, оратор — 102, 103, 306
Савфей, Марк, сторонник Милона, подзащитный Цицерона в связи с обвинением в причастности к убийству Клодия (52) — 296
Саллюстий Гней друг Цицерона, сопровождавший его в изгнание (58) — 234, 286
Саллюстий Крисп, Гай (86—34), народный трибун (52), цезарианец, знаменитый римский историк демократического направления, автор «Заговора Катилины» (42/41), «Югуртинской войны» (ок 40), «Истории» (39-35) — 26 62, 93, 143 187, 190, 193 195, 268 270. 295, 362, 364, 392 406
Сальвий (? — 43), народный трибун (43), первоначально сторонник Антония, затем Цицерона — 453
Сальвий (Трифон) (? — 102), раб италийского происхождения, предводитель восстания сицилийских рабов (104) — 117
Салюта (Салюс) римская богиня здоровья благополучия, процветания — 407
Сассия, мать Клуенция, жена Оппианика (см) — 124 Сатурн, римское божество, аналог греческого Кроноса. олицетворение неумолимого времени, бог золотого века, века изобилия, свободы и равенства — 257, 295
Сатурнин, см. Апулей Сатурнин Луций
Светоний Транквилл, Гай (ок 70 н э — го^ле 122 н
СегулиЙ Лабеон, римлянин, распространявши! чухи призв^ч ные разрушить союз Цицерона и Октавиана (43) в остальном н известен — 475, 476
Селевкиды, папская династия, правившая (312—64) на Ближнем и Среднем Востоке — 26 331
Семпроний Гракх Гаи (153—121), народный трибун (123/12^' младший брат и последователь Тиберия Гракха, убитого как и он, в ходе политической борьбы — 73 142 150 172 —1^4 247, 305 3( о 422, 435 439
Семпроний Гракх, Тиберий (? - 133), народный трибун (13 сторонник и автор ряда демократических реформ. Убит в ходе политической борьбы — 73 142 150, 172—174 247 305 368 422 4°г 439, 457
Сенека, см Анней Сенека
Сервий Туллий (традиционно 578—535), шестой римский царь с именем которого связывается реформа римской конституции — 28, 43
Сервилии, римский род — 85
Сервилий Ахала, Гай, согласно традиции убийца Спурия Мечи заподозренного в стремлении к царской власти (4С9) — 411
Сервилий Ватия Исаври~~гШй, Публий (1 4—44), цензор (55 5^ консул (79), военачальник покоритель Исавр» л т,л умератор (71) — 388
Сервилий Ватия Исазричскии Публий (ок 94 — ?), сын предыдущего, сенатор дважды консул (43 41), сторонник Цезаря (50—44), затем Октавиана — 261, 269, 388 389 460 463 465 4С6
Сервилий Глав1.тия, Гай популярный оратор, народный трибун (101), один из лидеров народной партии. Убит вместе с Сатурнином (см) (100) — 55 134
Сервилий Глобул, Публий народный трибун (67), сторонник аристократической партии в сенате — 164
Сервилий, Марк, народный трибун (44), союзник Цицерона в борьбе против Антония легат Брута и Кассия (43—42) — 451
Сервилий Рулл, Пубтчи, народный трибун (63), сторонник популяров, автор аграрного законопроекта отклоненного вследствие вмешательства Цицерона — 171 172, 173—175, 219
Сервшия (ок 100 — 7), в первом браке жена М Юния Брута мать Марка Брута, убийцы Цезаря во втором браке (77—61) жена Децима Юния Силана, сводная сестра Катона Мпадшего — 321, ЗСЭ 366, 388 433, 486
Сергий Катилина, Луции (ок 108—62), сулланец, участник так называемого «первого > (63) и организатор < второго» (63) заговора с целью государственного переворота разоблачен Цицероном —32, 45 59, 162, 163 166 167 170 171 178 180 1^2- 191 193 194 — 199, 202, 203, 209, 208, 209 211 212, 214 224 225—227 235 256, 291, 309, 313, 322, 333 383 417 422 451 455 471 487, 4 3
Серторий, Квинт (123—72) полководец Мария организатор восстания в Испании, направленного против сулланского правительств
146, 147 153, 156, 264, 303
Сестий, Публий (ок 95 — 7), народный трибун (57) друг и подзащитный Цицерона (56) (речь «В защиту Сестия>) противник К" дия участник гражданской войны первоначально на стороне Помпея, затем Цезаря — 331. 239, 240, 245. 253, 254, 265, 256, 284, 305 Сивилла, легендарная прорицательница, предсказания которой, по преданию, составили содержание так называемых Сивиллиных книг — 185, 252, 258, 278, 423
Силан, см. Юний Силан Децим
Ситтий, Публий (? — 44), всадник из Нуцерии (Кампанья). заподозренный в причастности к заговору Катилины, бежавший в Африку и ставший там командиром наемников; сторонник Цезаря в гражданской войне — 165, 185
Скавр, см. Эмилий Скавр, Марк
Скамандр вольноотпущенник Гая Фаб£иция (см.), подзащитный Цицерона по обвинению в попытке отравления Клуенция (74) — 123—126, 128, 160
Скапций, Марк, поверенный Брута, защищавший его интересы на Кипре (56—50) — 329—331
Скрибоний Курион, Гай (ок. 125—53), народный трибун (90), консул (76). военачальник, триумфатор (73); оратор; противник Цезаря — 89
Скрибоний Курион (Младший), Гай (ок. 84—49), сын консула (76), народный трибун (50); первоначально враг, а затем союзник и полководец Цезаря — 291; 338; 351; 353; 385, 442
Сократ (ок. 470—399), древнегреческий философ — 100; 102; 263; 299, 309; 412
Солон (ок. 640—560), древнегреческий законодатель, создатель конституции Афин — 306
Софокл (497—406), знаменитый древнегреческий трагик — 96, 271
Спартак, фракиец, гладиатор из Капуи, вождь восстания рабов (73—71); побежден ^Крассом и погиб в бою (71) — 129, 132, 139, 147, 186
Стасей, философ-перипатетик, наставник Пупия Пизона (ок. 92) —>62, 66, 67
Стендаль (Анри Мари Бейль) (1783—1842), французский писатель — 318
Стений, знатный сицилиец; защитник Сицилии от Помпэя (82); ограблен, обвинен и приговорен к казни пропретором Верресом (72); подзащитный Цицерона — 126—128, 132 Стилон, см. Элий Стилон Преконин, Луций Сулла, см. Корнелий Сулла, Луций
Сульпиций Гальба, Публий, оптимат, претендент на должность консула 63 года — 166
Сульпиций Гальба, Сервий, консул (144), оратор — 103 Сульпиций Гальба, Сервий, претор (54) первоначально сторонник Цезаря, затем участник заговора против него — 290
Сульпиций Руф, Публий (124—88), народный трибун (86), сторонник демократических преобразований; убит по приказу Суллы как союзник Гая Мария (88) — 58, 68
Сульпиций Руф, Сервий (ок. 106—43), консул (51), выдающийся представитель республиканского правоведения — 58, 183, 192, 343, 381, 384, 391, 396, 457, 458. 460, 461
Сульпиций Руф, Сервий, сын консула (51), посредник между Цезарем и Помпеем в гражданской войне — 321, 330, 332
Сцеволы, ветвь древнего плебейского рода Муциев — 76
Сцилла, мифологическое чудовище, жившее на берегу узкого пролива, отделявшего Сицилию от материка, и губившее проплывающих мореходов — 51
Сципионы, см. Корнелий Сципион Африканский Старший* Корнелий Сципион Африканский Младший
Тарквиний Гордый. Луций согласно традиции последний (седьмой) римский царь (534—510), правитель-тиран, изгнанный подданными — 451
Тарквиний, Луций, сторонник Катилины, раскрывший сенату планы заговорщиков (63) — 194, 195
Татий, Тит, легендарный сабинский царь, захвативший Капитолий и правивший вместе с Ромулом — 189
Тацит, см. Корнелий Тацит, Публий Тесей, легендарный афинский царь и герой — 306 Теллус, римская богиня земли и ее производительных сил —257, 427
Темизон, кипрский царь, которому адресован «Протрептик* Аристотеля — 393
Теофраст (ок. 371 — ок. 287), древнегреческий естествоиспытатель и философ, ученик Аристотеля — 269, 404, 434
Теренций Афр, Публий (ок. 195—159), известный римский комедиограф, член кружка Сципионов — 38, 72, 73
Теренций Варрон Лукулл, Марк, см. Лициний Лукулл. Марк Теренций Варрон, Марк (116—27), римский писатель и ученый-энциклопедист — 63, 143, 240. 279, 356. 357, 365. 366, 373, 400, 401. 446, 494
Теренция, в первом браке (между 80 и 77—46) жена Цицерона, мать Туллий (ок. 76) и Марка (65); во втором браке жена историка Саллюстия (см), в третьем — Мессалы Корвина (см.) — 47, 52. 89—93, 109, 143, 163, 167, 182, 194, 209, 214, 234, 236, 237, 243. 299. 333, 335, 336, 340, 351, 353—354, 357, 363, 364, 391, 392
Тигран I, царь Армении (95 — ок. 55), союзник Митридата в войне с римлянами; после поражения — вассал Рима (66) — 149 Тигран (Младший), сын Тиграна I (см.), пленник Помпея, освобожденный Клодием (58) — 237, 238
Тиллий Цимбер, Луций (? — 42), сторонник Цезаря, затем участник его убийства (44); наместник в Вифинии (44), союзник Врута и Кассия в гражданской войне — 427, 462
Тнмей из Тавромения (IV—III вв.), историк, автор труда по истории Сицилии — 115
Тираннион (? — ок. 26), греческий грамматик — 147
Тирон, см. Туллий Тирон
Титнння Котта, подзащитная Цицерона — 88. 89
Торкват, см. Манлий Торкват
Требаций Теста, Гай (ок. 84 до н. э. — ок. 4 н. э.), юрист; друг Цицерона; сторонник Цезаря в гражданской войне; позже приближенный Августа — 279, 380, 438
Требоннй, Гай (? — 43), народный трибун (55). консул (45); сторонник триумвиров, цезарианец; затем участник заговора против Цезаря; убит Публием Корнелием Долабеллой — 269, 410, 411, 424, 426, 427. 436, 442, 458. 461, 462, 463, 464. 484
Триптолем, афинский царевич, которого богиня плодородия Деметра научила искусству землепашества и снабдила зернами пшеницы — 99
Туберон, см. Элий Туберон
Туллии, старинный римский, по всему судя, плебейский род — 44, 46
Туллий Декула, Марк, консул (81) — 78
Туллий, Луций, легат Цицерона в Киликии (51) — 328
Туллий, Марк, землевладелец, подзащитный Цицерона (71) — 128—130
Туллий Тирон, Марк (до 103—4), вольноотпущенник, друг и секретарь Цицерона — 47, 274, 292, 334—336, 357, 392
Туллий Цицерон, Квинт (102—43), младший брат оратора; сторонник Помпея з гражданской войне; убит во время проскрипций
(43) — 47, 48» 53, 54, 55. 95, 9в, 144, 162, 164, 167, 194, 205. 210, 216, 225, 236—238, 249, 250, 259—261, 263, 278, 279, 286, 287—289, 290, 306, 312, 314, 318, 320, 328, 334, 335, 340, 341, 344, 350, 351, 353, 356—358, 359, 360, 402, 416, 417, 419, 431, 486, 487, 491
Туллий Цицерон, Квинт (66—43), племянник Цицерона; убит вместе с отцом во время проскрипций (43) — 167, 335, 340. 344, 351, 353, 357, 358, 360, 411, 486, 487
Туллий Цицерон, Луций, дядя оратора — 45, 48, 53
Туллий Цицерон, Луций (? — до 68), сын предыдущего, двоюродный брат оратора — 45, 48) 95, 136, 138, 402
Туллий Цицерон, Марк, дед оратора — 42—46, 48, 49
Туллий Цицерон, Марк (? — 64), римский всадник из Арпина, отец оратора — 42, 45—47, 49
Туллий Цицерон. Марк (65 — ?), сын оратора; понтифик, консул (30); участник гражданской войны на стороне Помпея (49—48); сторонник Брута; позже приближенный Октавиана — 52, 167. 182, 335, 340, 349, 350, 351, 353, 357, 379, 390, 419, 443, 447, 461. 479, 487 Туллия (ок 76—45), дочь Цицерона; в первом браке жена Кальпурния Пизона Фруги (63—57), во втором — Фурия Крассипа (56 — ок. 51), в третьем — Публия Корнелия Долабеллы (50 — 4G) — 90-91, 237, 239, 243, 263, 287, 311. 321, 330, 332, 340, 351, 352, 353. 354, 355, 357, 363, 375. 389, 390, 391. 392, 393, 396, 397—399, 409
Умбрен, Публий, вольноотпущенник Лентула Суры, участник заговора Катилины (63) — 193
Урания, муза — покровительница астрономии — 214—216 Фабий Квинтилиан, Марк (ок. 35 н. э. — ок. 96 н. эЛ. судебный оратор, наставник и теоретик красноречия; автор трактата «Наставление в ораторском искусстве» — 24, 129, 223
Фабий Максим, Квинт (? — 45), консул (45), легаг Цезаря — 421
Фабий Пиктор, Квинт (ок. 254 — ?), сенатор, участник Второй Пунической войны; историк, автор «Анналов» — 213
Фабий, Публий, ветеран Суллы, землевладелец; обвиняемый на процессе Марка Туллия (см.), подзащитного Цицерона (71) — 128
Фабия, сводная сестра Теренции (невестка Цицерона); весталка (ок. 73 — ок. 58) — 89, 163, 166. 194, 196, 209
Фабриций, Гай, гражданин муниципия Алетри; друг Оппианика (см.), обвиненный Клуенцием в попытке отравления (74) вместе со своим вольноотпущенником Скамандром, подзащитным Цицерона — 123—125
Фавоний, Марк (ок. 90—42), поклонник и друг Катона Младшего, участник гражданской войны на стороне Помпея, затем республиканец; казнен Октавианом после битвы при Филиппах — 222, 260 Фавста, жена Анния Милона — 298
Фадий Галл, Тит, народный трибун (57), выступивший за возвращение Цицерона из ссылки — 239 Фаниат, вольноотпущенник — 323
Фанний Хэреа, Гай, истец на процессе актера Росция (см.) (ок. 76) — 108, 109
Федр (ок. 140—70), философ-эпикуреец, наставник Цицерона — 62, 63, 66, 67, 324
Фелицитас, римская богиня удачи, счастливой судьбы, благополучия — 421
Феокрит (конец IV в. — первая половина III в.), знаменитый греческий поэт, основатель европейской традиции буколической литературы — 115
Фетида, морская богиня (нереида) выданная Зевсом за смертного Пелея; мать Ахилла — 215
Фидес, римская богиня верности клятве, закону, договору —257
Фидий (вторая половина V в.), крупнейший греческий скульптор — 377
Филипп II (ок. 082 — 336), македонский царь (359—336); полководец; отец Александра Македонского — 378
Филист (ок. 430—356), сиракузский историк и государственный деятель, автор труда по истории Сицилии — 115, 409
Филодем (I в.), философ-эпикуреец и поэт-эпиграмматист — 345, 359, 376, 440
Филолог, вольноотпущенник Квинта Цицерона, брата оратора; воспитанник Цицерона, выдавший его убийцам — 487
Филон из Лариссы (160/59 — ок. 80), греческий философ Академической школы, живший в Риме с 88 года; друг Цицерона — 62. 67, 70, 97, 274, 299, 400, 401
Филотим, вольноотпущенник Теренции, жены Цицерона — 298, 363, 364
Флавий, Квинт, житель города Тарквиниев, убивший актера Па-нурга (до 76), участник процесса Квинта Росция Галла (см.), подзащитного Цицерона — 109
Флавий, Луций, народный трибун (60), предложивший аграрный законопроект в пользу ветеранов Помпея; претор (58) — 221. 222, 237, 238
Фламиний, Гай (? — 217), народный трибун (232). дважды консул (223, 217), цензор (220); выдающийся (хотя и неудачливый) государственный деятель, военачальник эпохи Второй Пунической войны — 229
Фламиний, Гай, житель Арреция (Этрурия), присоединившийся к Катилине (63) — 191
Флора, богиня цветов и весеннего цветения — 154, 155 Фонтей, Маний (не Марк), пропретор в Нарбонской Галлии (74— 72, не 76—74), подзащитный Цицерона по обвинению в вымогательстве (69) — 32; 156, 157
Фортуна, богиня случая, удачи — 153, 155, 374. 386, 415, 473 Фульвий Флакк, Марк (9 — 121), консул (125), триумфатор (123), народный трибун (122); сторонник Гракхов — 247
Фульвия (9—40), в первом 6jaKe жена Публия Клодия, во втором — Скрибония Куриона Младшего, в третьем — Марка Антония-триумвира — 294, 453, 470, 486
Фульвия, любовница Квинта Курия (см.) — 186, 187 Фурии, в римской мифологии богини мщения, обитающие в подземном царстве (соответствуют греческим эриниям) — 87
Фурий Крассип. второй муж дочери Цицерона Туллии (с 56 г.) — 263, 277, 281, 321
Фуфий Кален, Квинт (? — 40), народный трибун (61), консул (47); логат и сторонник Цезаря, затем Антония; противник Цицерона — 46; 358, 392. 393, 452, 453, 455, 459, 463
Хелидона, наложница Верреса — 132
Хрисипп из Сол (281/77—208/04), афинский филоеоф-стоик — 313, 397, 409, 415, 431, 443
Хрисогон, вольноотпущенник и фаворит Суллы, обогатившийся на проскрипциях; автор ложного обвинения в адрес Росция из Америи (см.), подзащитного Цицерона (80) — 85, 86, 89 Цезарь, см. Юлий Цезарь, Гай
Цезенния, жена Цетщны, подзащитного Цицерона — 158
Цезетий, Публий, квестор Верреса в Сицилии; противник Цицерона — 138
Целий Кальд, Луций, квестор (50), сменивший Цицерона на посту наместника Киликии (50) — 334
Целий Руф, Марк (до 84—48), ученик, корреспондент и подзащитный (56) Цицерона; оратор; народный трибун и сторонник Милона (52), затем цезарианец (49—48), погибший при неудавшейся попытке переворота (48) 158, 223, 251, 25^, 253, 254( 256, 332, 335, 339, 353, 361, 362, 365
Цереллкя, пожилая римлянка, знакомая Цицерона — 389, 393
Церера, богиня земледелия и плодородия — 137, 154, 155, 239, 240, 427
Цецилии Метеллы, ветвь обширного плебейского рода Цецилиев — 26. 85, 86, 89, 142, 205, 222, 203
Цецилий Басс, Квинт, сторонник Помпея в гражданской войне, инициатор антицезарианского восстания в Сирии (47) — 387
Цецилий, Квинт, римский всадник, зять Катилины, убитый по его приказу во время сулланских проскрипций — 162
Цецилий Корнут, Марк (? — 4&), городской претор (43), заменявший отсутствующих консулов Гирция и Пансу и покончивший с собой при вступлении Октавиана в Рим — 483
Цецилий Метелл Кретик, Квинт (? — после 54), консул (69), понтифик; полководец, покоритель Крита; представитель сенатской олигархии — 135, 137, 188
Цецилий Метелл, Луций (? — 68), преемник Верреса в должности пропретора Сицилии (69), вовсул (68) — 137—139
Цецилий Метелл. Луций, сын предыдущего, народный трибун (40), противник Цезаря — 351, 360
Цецилий Метелл, Марк, претор (69), сторонник Beppeca — 135, 137
Цецилий Метелл Нелот, Квинт (? — ок. 55), народный трибун (62), консул (57), сторонник и легат Помпея *— 196—200, 223, 239.242, 249, 250, 334
Цецилий Метелл Нумидийский, Квинт, консул (10&), полководец в Югуртинской войне, триумфатор (106), цеизор (102); оптимат, противник аграрного закона Сатурнина, удалившийся в добровольное изгнание (100), но вскоре вернувшийся к политической экявни в Риме (99) — 55
Цецилий Метелл Пий, Квинт (? — 64/63), сын Метелла Нуашда!й-окого; консул (80), сторонник и военачальник Суллы, участник войны с Серторием (см.), триумфатор (71); великий понтифик — 107, 156, 164
Цецилий Метелл Пий Сципион Нааика, Квинт, щаоемвый сын Метелла Пия; народный трибун (59), консул (52), противник Цезаря, участник гражданской войны на стороне Помпея; после поражения при Фапсе (46) покончил с собой — 187, 222, 290, 293, 386
Цецилий Метелл Целер, Гай (? — ок. 59), брат Метелла Неирта;
претор (63), консул (60), авгур; сторонник аристократической партии в сенате — 177. 178, 183, 188, 189, 196, 199, 209, 218, 221. 23»
Цецилий Нигер, Квинт, квестор Верреса в Сицилии (72); претендент на роль подставного обвинителя в деле Верреса (70) — 134 Цецилий Руф, Луций, народный трибун (63), выступивший против аграрного закона Сервилия Рулла (см.); сторонник Помпея в гражданской войне — 174
Цецилий. Стаций (? — ок. 168), римский комедиограф — 87 Цецилия Метелла, дочь консула (142), сестра Метелла Нумидий-ского, мать Лициния Лукулла, консула (74J — 85
Цецина, Авл, подзащитный Цицерона (69) по делу о наследстве — 157, 158
Цецина, Авл сын предыдущего; друг и корреспондент Цицерона; сторонник Помпея в гражданской войне — 391 Цинна, см. Корнелий Цинна, Гельвий Цинна
Цирцея, в греческой мифологии волшебница с острова Эя — 51 Эбуций,. претендент на наследство в деле подзащитного Цицерона Цецины (69) — 158
Элии Ламии, ветвь знатного плебейского рода Элиев — 249 Элий Лиг, народный трибун (58); сторонник Клодия, противник Цицерона — 238
Элий Стилон Преконин, Луций (ок. 154—90), первый римский грамматик, философ-стоик, наставник Цицерона и Варрона — 63, 89 Элий Туберон, Квинт, сенатор (ок. 31); сын Луция Элия Туберона, юрист — 385, 386
Элий Туберон, Луций, друг Цицерона, историк и философ; сторонник Помпея в гражданской войне — 56. 385
Эмилиан, см. Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший, Публий
Эмилий Лепид, Маний, консул (66) — 164, 342
Эмилий Лепид, Марк (? — 77), отец триумвира; консул (78). инициатор вооруженного выступления, направленного сначала против сулланских законов, а в дальнейшем — против сената — 106— 108, 119
Эмилий Лепид, Марк (ок. 90 — 12), дважды консул (46, 42); великий понтифик; военачальник; участник Второго триумвирата (43); лишен триумвирских полномочий Октавианом (36) — 188, 421, 420. 464, 465. 467—469, 475. 477, 479. 481. 484, 486
Эмилий Павел, Луций, старший брат триумвира Лепида, консул (50) — 188, 486
Эмилий Скавр, Марк (163/62—89/8), консул (115), цензор (109), принцепс сената со 115 года и выдающийся оратор — 46, 58 Эмилий Скавр, Марк, сын предыдущего, претор (56), подзащитный Цицерона (54) по обвинению в злоупотреблении властью на посту пропретора Сардинии (55); понтифик — 58, 281, 282, 288
Эмпедокл из Агригента (ок. 483/82 — ок. 423), древнетреческий философ, поэт, врач, политический деятель — 434
Эней, легендарный защитник Трои и родоначальник римлян, которому посвящена «Энеида» Вергилия — ИЗ, 494
Энний, Квинт (239—169), римский поэт и драматург, автор эпической поэмы «Летопись» («Анналы») — 57, 61, 214, 215. 446
Эпикур (341—270), знаменитый древнегреческий философ, основатель эпикурейской школы — 63, 68, 96. 211, 313, 324, 371, 384, 399, 403
Эр, сын Армения, действующее лицо в диалоге Платона «О государстве» (614В) — 310
Эсхил (ок 525—456), древнегреческий поот драматург, автор трагедий — 271
Эсхил из Книда, ритор из Азии, которого посетил Цицерон (78) — 103
Эсхин (390/89—315), знаменитый афинский оратор и государственный деятель, противник Демосфена — 379
Юба (? — 46), царь Нумидии {ок. 50—46), союзник помпеянцев в гражданской воине, после поражения при Тапсе (46) покончил с собой — 385, 386
Ювенций Латеренский, Марк (? — 43), претор (51), обвинитель Гнея Планция (см), подзащитного Цицерона (54), сторонник консервативно-аристократической партии в сенате — 283
Югурта (160—104), нумидийский царь (118—105), после долгой войны с Римом (111 —105) побежденный Марием — 26, 34, 44. 151, 235, 315
Юлии, древний патрицианский род — 280, 423 Юлий Октавиан Август, Гай (63 до н э — 14 н э). поинцепс и император (27 до н э. — 14 н. э ), фактический создатель Римской империи — 23, 29, 32, 37, 186, 213, 215, 257, 279, 280, 315 321, 382, 397, 428, 429, 434, 438 439, 440, 443, 448 — 453, 455, 456, 458, 460, 464—467, 469, 474 — 486, 488, 489, 490, 491, 495
Юлий Цезарь, Гай (100—44) диктатор, полководец, завоеватель Галлии; известен также как оратор и писатель — 25—27, 29, 31, 38, 46, 52, 58 72, 147, 150, 151, 159 165, 169, 175 — 178, 182, 183 188 195 — 196, 198, 199, 204 — 207, 208, 210, 212 — 214, 219. 221, 222 228, 229 — 231, 232, 233, 237 — 240, 245 — 247, 254—257, 259 — 261, 264 — 266, 269, 270, 277—283, 284 285, 286, 287, 289, 290, 291 — 294, 296 — 297, 304, 305 307, 309, 314 321, 322, 326, 328, 331—334 335, 337 — 364, 366—369, 371 — 375, 379 379 — 388, 390 — 392, 395, 399, 406 — 411, 414, 415, 416, 418—429 431, 432, 435, 436—439, 440—442 44G, 449 452, 453, 454 — 456, 459. 461—462, 464—465. 468—469, 471 472, 473, 476, 480. 481, 483 — 485, 488, 489
Юлий Цезарь, Луций (? — 87), консул (90), цензор (89), отец консула (64) и Юлии, матери триумгира Антония, убит марианцами (87) (не во время суслсшских проскрипций) — 453
Юлий Цезарь, Луций (7 — 40), сын консула (90), консул (и4), дуумвир на процессе Рабирил (63), дядя триумвира Антония — 160, 170, 177. 340. 455, 457, 458, 463 486
Юлий Цезарь, Луций (? — 46) сын консула (64), сторонник Помпея в гражданской войне, после поражения помилован Цезарем, но вскоре затем убит — 384
Юлия (7 — 68), тетка Цезаря, лена Мария (112) — 384 Юлия (? — после 53), дочь Луция Юлия Цезаря, консула (90), сестра консула (64), в первом браке жена Марка Антония Коетика, мать триумвира Антония во втором браке (после 71—63) жена Публия Корнелия Лентупа Суры — 170, 453
Юлия (ок 76—54), дочь Цезаря и Корнелии, жена Помпея Великого (59 — 54) — 225, 287, 288, 391
Юний Брут, председатель суда на процессе Скамандра (см) (74) — 125, 128 130, 160
Юний Брут Альбин, Децим (ок 81 — 43), первоначально сторонник и легат Цезаря, затем участник заговора против него; наместник в Цизальпинской Галлии (44) противник Антония в гражданской войне — 427, 448, 450—453, 458, 464, 467. 468. 470, 472, 474 475. 477, 479, 480, 481, 485
Юний Брут Децим (ок 120 — ок. 63), сторонник Суллы; консул (77); причастен к заговору Катилины (63) — 193
Юний Брут, Луций согласно традиции патриций, возглавивший восстание римлян против царя Тарквиния Гордого (см ), основатель республиканского строя в Риме и первый консул (509) — 411
Юний Брут, Марк, адвокат Публия Квинкция (см) при первом разборе дела — 83
Юний Брут, Марк (? — 77), отец Марка Брута, убиицы Цезаря, народный трибун (83), основатель колонии в Капуе, противник сулланских законов, казненный Поспеем — 81, 82, 111
Юний Брут, Марк (85—42), вождь заговора против Цезаря глава республиканцев в борьбе со Вторым триумвиратом оратор и политический деятель, зять Катона и друг Цицерона — 321, 329—331, i>61, 366—36^, 373, 374, 377, 378, 388, 389, 401, 406 411, 412. 415, 424, 425,
Юнона, одна из верховных богинь, супруга Юпитера, покровительница брака, материнства, женского начала, ей соответствует греческая Гера — 155
Юпитер, в римской мифологии верховное божество, бог неба, царь богов, соответствующий греческому Зевсу, покровитель земледелия, бог войны и победы позже бог власти и мощи римского государства — 60, 88, 116, 155, 189, 194, 215 232 243, 252, 257, 315, 422, 448
Оригинал книги П. Грималя насыщен латинскими терминами. Большинство из них переведено на русский и включено в текст настоящего издания без примечаний и пояснений. В данный указатель введены лишь те, которые выражают глубинные понятия жизни и культуры, настолько специфические для Древнего Рима, что прямой однозначный перевод их невозможен и требует пояснений. Понятия, смысл которых достаточно полно раскрыт в авторском изложении, в указателе почти не комментируется. Указания на источники и литературу, естественно, не являются исчерпывающими и не носят рекомендательного характера — включались лишь тексты и публикации, относительно легко доступные читателю-неспециалисту, могущие служить иллюстрацией к данным здесь объяснениям.
adulescentia — юношеский возраст; adulescentulus — юноша, молодой человек. Смысловая доминанта обоих слов связана не с возрастом как таковым, а с общественным положением и общественным самоощущением: adulescentulus — уже полноправный член общества, но еще стоящий в самом начале карьеры, приступающий к делу своей жизни, но еще не добившийся признания. Обычно это человек 20—30 лет, чаще всего —* от 20 до 24 — 103; 108.
agri publici (ед. число — ager publicus) — государственный земельный фонд. Римское государство обладало рядом общинных черт; одна из них — сохранение в общинном владении части завоеванной земли, участки которой могли передаваться гражданам на различных условиях, но обычно в ограниченную собственность. Захват земель гос. фонда в полную собственность был одним из способов обогащения римской знати, противозаконным, нарушавшим принцип общинного равенства и вызывавшим протесты и осуждение. — 90; ИЗ; 173.
altercatio — прения сторон в суде в форме вопросов и ответов. — 125.
auctoritas — влияние, власть, авторитет. Специфически римское понятие, указывающее на неполное отделение в Риме^ госу-дарственно-правовой сферы от социальной и нравственной, от традиций и норм повседневной жизни народа. Означало власть данного лица, основанную на уважении к нему, к его положению в общине и вкладу в ее процветание. Хотя auctoritas отличалась от юридически оформленных видов власти, а нередко и противопоставлялась им, они обычно соединялись в одном лице. — 55; 58; 217; 343; 451 (См.: Егоров А. Б. Рим на грани апох. Л., 1985, с. 99—100; Машкин Н. А. Принципат Августа. М.—Л., 1949, с. 370—373 (обзор литературы); Magdelain A. Auctoritas principls. — Р„ 1947.)
augurium salutis — гадание о благосклонности богов к римскому государству. — 178.
bellum — война. — 459.
boni (ед. число — bonus) — добропорядочные граждане. Типичное для Рима соединение в одном термине собственно политического, социального и морального содержания. Boni — люди зажиточные, приличные, значит — незаинтересованные в переменах, отстаивающие исконные римские традиции и консервативные взгляды; слово, во многом синонимичное слову «оптиматы» (см. в тексте книги). — 208; 228; 340; 373. (См. Цицерон. В защиту Публия Сестия, 96—101; Утченко С. JL Кризис и падение Римской республики. М., 1965, с. 156—167; Wirszubski Ch. Audaces. Journal of Roman Studies 1961.)
dementia — милосердие (обычно по отношению к заслуживающим наказания). Означая согласие вышестоящего облегчить судьбу нижестоящего, понятие это противоречило фундаментальным ценностям республиканского Рима — jus «справедливости, оспованной на праве», и lex «закону», согласно которым лишь народ мог простить преступление и облегчить участь виновного. Clementia стала как бы государственной добродетелью с началом империи и обычно фигурирует в контексте clementia Сае-saris — «милосердие Цезаря» именно потому, что выражала узурпацию принцепсом прав йародного собрания; включается в число исконных римских добродетелей задним числом, преимущественно поэтами, лиш£ с эпохи Августа. — 307. (См.: Сенека. О милосердии; принцип clementia ясно выступает в речах Цицерона «В защиту Клавдия Марцелла» и «В защиту Квинта Лигария»; ср. известную драму П. Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа» (1639).
commentarli (ед. число — commentarius) рабочие, деловые записи; заметки; commentarius consulatus — в данном случае — в значении «неприкрашенный рассказ о консульстве». — 213; 216.
commentariolum petltionis — краткое наставление к соисканию выборных должностей. — 144.
concilium plebis — плебейская сходка. Римская гражданская община некогда делилась на патрицианскую, как считалось, исконную в Риме, и плебейскую, как считалось, пришлую. Они долго находились между собой в антагонистических отношениях, и лишь постепенно различия между ними стерлись, сохранившись, однако, в некоторых пережитках. Одним из таких пережитков и была плебейская сходка — собрание плебеев, на которое патриций официально не допускались; оно избирало плебейских магистратов (в первую очередь таких первостепенно важных, как tribuni plebis —см. в тексте), судило мелкие преступления и принимало рошения о плебисцитах. — *232; 238.
concordia ordinum — согласие сословий. — 134; 305.
constantia — постоянство. С конца II в. до н. э. и особенно интенсивно в эпоху Цицерона в Риме шло освоение ключевых нравственно-философских попятил хреческой философии и включение их в римскую систему ценностей; constantia — верность своим принципам и млениям, нравственная стойкость, была одним из них. — 343.
cum senatui gratias egit — букв.: когда воздал благодарность сенату — условное название одной из речей Цицерона. В принятом русском переводе — «Речь в сенате по возвращении из изгнания». — 244. (См.: М. Туллий Цицерон. Речи в двух томах, т. II. М., 1962, с. 43—56.)
cum suffragio — усеченная форма термина civitates cum suffragio (или, соответственно, — sine suffragio) — города, племена или народы, получившие
decus — собственно, имеется в виду не decus, a decorum — приличие, пристойность, достоинство — четвертая главная добродетель в соответствии с трактатом Цицерона «Об обязанностях» (см. гл. книги). Представляет собой перевод греческого слова acocpQOGuvTi — спокойная и уравновешенная рассудительность, основанная на благочестии и умеренности (см. выше пояснение к constantia). — 111.
dignitas — достоинство, почет, с акцентом на тех проявлениях этих свойств, ко юры о присущи положению римского магистрата и вообще римского гражданина, честно выполнившего свои обязанности пород общиной, которая его заслуги признала и вознаградила. — 25; 27, 31; 38; 55; 58; 111; 197; 227; 305; 359; 389. (См.; Цицерон. В защиту Публия Сестия; Тацит. История I, I; Earl D. The Moral and Political Tradition of Rome, 1984, pp. 57—58.)
divinatio — предварительный этап уголовного процесса, на котором судьи определяют, кому из ряда претендентов быть обвинителем. — 134.
famiiia — семья, с включением в нее рабов, отпущенников и в известной мере клиентов. (См.: Смирин В. М. Римская famiiia и представления римлян о собственности. — В кн.: Быт и история в античности. М., 1988, с. 18—40). — 28; 483.
felicltas — счастье, удача. В отличие от греч. тихл и римск. fors (fortune), означавших лишь счастливый случай, везение, felicitas была спутницей человека, избранного богами для успешного решения задач, перед ним вставших, — в первую очередь государственных и, в частности, военных. Она, однако, оставалась спутницей человека лишь до тех пор, пока он своим умом, энергией и деятельностью доказывал, что достоин ее. Felicitas была обожествлена (дни чествования — 1 июля и 9 октября) ей ставили храмы (начиная со II в. до п. э.), своей felicitas приписывали полководцы одержанные победы. (См.: Цицерон.
О предоставлении империя Гнею Помпею, 47; Ювенал. Сатиры VII, 190; б л. Августин. О вер! ограде Божьем, XVIII, 23; Scullard Н. Н. Festivals and Ceremonies of the Roman Republic. - L., 1981) — 95.
tides — доверие, верность, честность; моральная гарантия выполнения договоров, обязательств, законов; обожествлена с древнейших времен римской истории (чествовалась 1 октября). (См.: Цицерон. Об обязанностях. I, 7 и III, 29; Scullard Н. Н. указ. соч. — см. felicitas pp. 189—190). — 35; 133; 307; 383; 494.
fortitude — храбрость, твердость, крепость. — 36.
fldes publica или Fides populi Romani — tides (см.), распространенная на обязательства Римского государства и римского народа. Весьма древний храм ее находился на Капитолии. — 177.
gravitas — величие, серьезность, достоинство. В соответствии с римскими представлениями — эталонное свойство римского магистрата. — 74.
honestum — букв.: честное, порядочное, внушающее уважение; в философии стоицизма и Цицерона — высшее нравственное благо. Как отмечалось (см. constantia), римская система ценностей в конце республики содержала как бы два историко-культурных пласта: исконно римские понятия (см. auctoritas, fides) и понятия греческой философии, распространившиеся среди идеологов и интеллигенции (см. constantia, decus). Именно последние, впервые в Риме, подробно проанализированные в поздних диалогах Цицерона, составили в I—II вв. основу синкретической греко-римской нравственной философии — honestum (перевод греческого xoxa/tov) — занимало среди них главное место. — 97; 343, 344, 346, 349. (См.: Цицерон. Об обязанностях, кн. I; У т ч е н к о С. JI. Две шкалы римской системы ценностей. — «Вестник древней истории» (в дальнейших ссылках — ВДИ), 1972, Лг2 4, с. 27 и след.)
Honos et Virtus — в сущности, единое обожествленное попятив: военная Доблесть, признанная общиной и окруженная в ней Почетом. Храмы в ее честь возводились начиная с III в. до н. э., в частности, Гаем Марием (см. именной указатель), чаще всего в связи с военными победами. — 242. (См.: эпитафии дву\ Публиев Корнелиев Сципионов (II в. до н. э.). — В кн.: Линдсей В. М. Краткая историческая грамматика латинского языка. М., 1948, с. 155, след.
hostis — враг Рима (в отличие от inimicus — личный врат).
Человек, признанный hostis (обычно в составе формулы hostis populi Roman) — врагом римского народа, тем самым объявлялся вне закона. См. в главе ДУШ сенатские дебаты об объявлении Антония hostis. — 383.
humanitas — человечность, обычно со включением в это понятие образованности, тонкого вкуса; перевод греч. (piAavftgojua. В этической системе Цицерона — одна из главных духовных ценностей (см. honestum). — 24; 38; 66; 71.
hypomnema (греч.) — заметка, выписка, записка. — 213.
Imperium Romanum — imperium — высшая власть, присвоенная магистрату на основе специально принятого закона, опирающаяся на военную силу и осуществляемая вне Рима, т. е. обычно на покоренных (или покоряемых) территориях. Отсюда — imperium Romanum как совбкупность покоренных земель; в этом смысле данное словосочетание употреблялось и при республике, хотя государственно-правовым термином стало лишь в I в. н. э. — 34, 36.
inquilinus — недавний житель Рима; пришлый, чужак; часто в смысле «снимающий квартиру (ибо не имеет в Риме своего дома)». — 190.
in utramque partem — в любую из двух сторон. Разработанная греческими софистами техника словесного искусства, благодаря которой можно было доказать справедливость одного тезиса, а затем другого, противоположного. — 70; 161; 401; 447.
Jus — коренное понятие римского права, означавшее определенную законами совокупность прав (или каждое отдельное право) гражданина — как бы конкретно ограниченное юридическое пространство, в пределах которого человек обладает полной правовой автономией. — 274; 301; 383. (Цицерон. О законах. 1,12— 33; см.: Meslin М. L’Homme Romail des origines au 1 siecle de notre ere. Paris, 1978, p. 22.)
jus provocationis — право гражданина апеллировать к народному собранию для обжалования решения магистрата, в частности, при смертном приговоре. — 383.
jus verrinum — игра слов, встречающаяся в одной из речей Цицерона; разъяснение см. в тексте. — 131.
justitia — юстиция, право, совокупность норм, юридических и моральных, основанных на jus (см.). На основании разъяснения на с. 382 книги justitia передана в переводе двумя словами: «право и справедливость» (иногда: «справедливость, основанная на праве»), — 36.
laus u gloria — хвала и слава. Словосочетание, встречающееся особенно часто в эпиграфических и литературных текстах эпохи республики, прославлявших военные подвиги аристократов. — 443. (См.: Harris William V. War and Imperialism in Republican Rome 327—70 В. C. — Oxford, 1986 pp. 17—32. Сводка материала там же — на с. 261—262.)
ludens — играя, играющий. Автор приводит это причастие по-латыни в расчет^, что читатель услыпшт здесь намек на название весьма популярной капитальной культурологической работы Й. Хёйзинга «Homo ludens» («Человек играющий»), 1938.— 370.
libertas — свобода в ее специфически римском понимании — характеристика правового статуса самостоятельного и независимого гражданина (см. ius), обеспечиваемого республиканской конституцией. — 81; 191; 2Й.
См.: Тацит. Анналы II, 4, 3; Бартошек М. Римское право. М., 1989, с. 205. Wirszubski Ch. Libertas as a Political Idea at Rome... — Cambridge, 1950.
majestas — величие; усеченная форма выражения majestas populi. Romani — «величие римского народа». Понятие, делавшее сакрально, нравственно, юридически недопустимыми какие-либо действия, направленные на нанесение военного, гражданского или морального ущерба римскому государству. Соответственно lex majestatis, «закон о величии (римского народа)», сурово карал любые действия такого рода. — 152; 164.
См.: Дигесты (Свод гражданского права), кн. 48, титул IV «К Юлиеву закону о величии».
mail — дурные (граждане). Понятие противоположное boni (см.), - 454.
miseratio — выражение соболезнования. Часть судебной речи, рассчитанная на то, чтобы выавать у слушателей сострадание к обвиняемому. — 79.
obnuntiatio — сообщение о дурных предзнаменованиях. — 239
officium — обязанность, усердие, услуга, долг (перевод греч. тахаФпхоУта — обязанности). В нравственной философии Цицерона — долг по отношению к государству, одна из главных категорий его этической системы. — 443; 444. (См.: Цицерон. Письма к Аттику XVI, 14, 3; см. также выше пояснения к словам constantia, honestum.)
oratiuncula — уменьшительное и пренебрежительное производное от слова oratio — «речь». — 295.
otlum — отдых, праздность, досуг .(обычно — посвященный ученым занятиям). В идеале жизнь римлянина республиканской норы была целиком посвящена служению государству — в молодости и зрелости па гражданском и военном поприще, в старости, на досуге — на литературном поприще, путем создания про-ивведений, имеющих политическое или воспитательное значение. Обеспечение продуктивного досуга в старости — otium cum dig-nitate (покой в сочетании с достоинством) — было не только одной иэ главных забот на протяжении жизни, но также показателем стабильности, «благоустроенности» государства. — 271; 305. (См.; Цицерон. Речь в защиту Публия Сестня. 98; его же.
Катон Старший, или О старости, 1—31; Межерицкий Я. Ю. Iners otium. — В кн.: Быт и история в античности. М., 1988, с. 41— 68; Гаспаров М. JL Поэзия Катулла. — В кн.: Катулл. Книга Стихотворений. М., 1986, с. 167 и след.)
Parens — см. Pater Patriae.
Paterfamilias — отец семейства. — 28.
Pater Patriae — Отец Отечества. Почетное наименование, присвоенное Цицерону в 63 году после подавления им заговора Катилины (подробнее см. во вступительной статье). Начиная с Юлия Цезаря, присваивалось многим императорам. Смысл его состоял в том, что народ как бы уподоблялся семье, а носитель звания — отцу, paterfamilias (см.), находившемуся с членами ее в тесных патриархальных отношениях и в то же время располагавшему над ними непререкаемой властью. Примечательно, что при создании Российской империи Петр I принял римское по происхождению звание Отца Отечества (1721 г.) — 29. (См.: Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати Цезарей. Божественный Август, 58.)
perduellio — 177.
Пе*)1 тог xa#r|xovtog — о дол!е; см. выше пояснение к слову officium — 443.
pietas — благочестивое уважение. Одна из самых древних и важных добродетелей в римской шкале ценностей. Означала вер-пость человека своим обязательствам по отношению к коллективу — семье, общине, государству^ его традициям и установлениям. При расхождении между обязательствами перед pietas и перед письменным законом предпочтение отдавалось первым. — 29; 80; 383; 435; 486; 495. (См.: Машкин Н. А. Принципат Августа. М.—JI., 1949, саг. с. 302, где приведен текст эпитафии римского ветерана, прославляющей pietas; ВДИ, 1970, № 3, с. 74.)
popularis — доступный любому гражданину, гласный, принадлежащий к так называемой народной партии. — 458.
populus — народ, совокупность граждан одной общины, рассматриваемая как ее гражданский коллектив, носитель суверенитета и субъект международного права; народ есть воплощение государства, которое называлось у римлян res publica — «дело народа». Соответственно представленный народным собранием, народ составлял высшую законодательную власть общины, представленный народным ополчением — воплощал ее военный потенциал. — 300; 344; 345. (См.: Цицерон. О государстве 1, 39— 53; Тит Ливий II, 1—8; Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977, с. 7—41; Nicolet С. Le metier de citoyen dans la Rome republicaine. 2-e ed. — P. 1976.)
praefectus fabruni — руководитель ремесленников и рабочих (в армии и в провинциях). Такого руководителя римский магистрат в провинции обычно подбирал из числа молодых членов местных зажиточных семей. Для префекта то было начало карьеры, нередко кончавшейся значительными должностями в Риме, на протяжении которой он оставался связан с выдвинувшим его магистратом и преданным ему. — 235; 264.
praevaricatio — тайное содействие противной стороне в суде, сговор. — 284.
princeps, principes civitatis, principes — первый человек (первые люди в государстве, главенствующие члены общины, народа, племени). Изначально неформальное обозначение наиболее знатных и богатых людей, признанных способными иредставлят:» гражданский коллектив и (или) руководить им. Позже — обозначение «первоприсутствующего», т. е. наиболее авторитетною (см. auctoritas) сенатора. При империи принценсом назывался правитель государства. — 202; 368; 372; 490. (См. статью princeps в кн.: Реальный словарь классических древностей по Любкеру. — Спб., 1885; S>me R. The Roman Revolution, 1У56, pp. 149—161.)
privilegium — закон, относящийся к одному лицу. — 238.
prudentia — мудрость, состоящая гласным образом в благорг-зумнои рассудительности и спосооьости учитывать последствии поступков и действии, предвидеть оудущее. Одно из нравственных понятий, заимствованных римлянами и, в частности, Цицероном из греческой философии (см. выше constantia и honestum).— 36; 237; 405.
reciperatores — члены особой судебной коллегии, котора. рассматривала не терпящие отлагательства имущественные Дела. — 128.
religio (мн. число — re’igiones) — справедливость, благоче-стие, благоговейное отношение к богам, выражающееся в правильно проведенных обрядах. Специфически римское понятно (слово religio не имеет точных соответствий ни в древнегреческом, ни в других языках), принципиально отличное от богопо-читапия у варваров, обозначаемого словами superstitio — «суеверие» и formido — «гнетущий страх». — 156; 307. (См.: Цицерон. О природе богов. II, 3, 8; его же. Об ответе гаруспиков, 9, 19; Гораций. Оды III, 6, 5 и след.; Сб. История философии и вопросы культуры. М., 1975, с. 66—67.)
res publica — букв.: народное дело; государство, республика (римлян). Римское государство, особенно в республиканскую пору, несло в себе множество пережитьов общинной организации ч семейно-родовых отношений и потому не было всецело и собственно правовой структурой. Обозначая свое государство кеи «народное дело», римляне имели в виду этот его характер. Кроме того, слово res означало объект права, которому противополагался человек (люди) как субъект права. Поэтому словосочетание res publica указывало также на подчинение государственных дел (res) воле народа (publica — прилагательное, производное от populus «народ») — 116; 309; 344, 378; 408; 409; 450.
См. Цицерон. О государстве I, 39 и след.; Тацит. История 1, 16, 1; Светоний. Жизнеописание 12 Цезарей. Божественный Юлин 78, 2; Вестник Древней истории 1989 №
гех — царь, деспот, повелитель (иногда не переводится, а передается русскими буквами: реке). Носитель неограниченной верховной власти, не опирающейся на эакон и демократические институты, и в этом смысле противоположный римскому магистрату, т. е. правитель варварского или восточного типа, чуждого и враждебного римскому строю жизни. — 209.
См. Светоний. Жизнеописание 12 Цезарей. Божественный Юлий 79; Егоров А. Б. Рим на грани эпох. — Л„, 1985, с. 16—25; Межерицкий Я. Ю. Модели единоличного правления в идеологии раннего принципата. — В кн.: Античная гражданская община.— М., 1984, с. 104—115.
saepta — ограда на Марсовом поле в Риме, в которой проводились избирательные собрания граждан. — 280.
sapiens — мудрый; прозвище друга Сципиона Младшего Гая Лелия — персонажа позднего диалога Цицерона «Лелий, или О дружбе». — 434.
sapientia — разум (в первую очередь — разум, опирающийся на широкую образованность и знание философии). — 76; 237.
senatusconsultum ultimum — сенатское постановление, дававшее высшим магистратам чрезвычайные полномочия (в том числе неконституционные) «ради спасения республики». См. Тит Ливий XXXIX, В-19.
senex — старик. Первоначально — применительно к человеку от примерно 45 до 60 лет; позже и в основном — старше 60.
subturpicula — (словарная форма — subturpiculus) — стыдноватый, несколько вроде бы и позорный. — 262.
suffragium (cum suffragio, sine suffragio — см. пояснение к словосочетанию cum suffragio).
temperantia — умеренность. Одна из добродетелей, рассматриваемых в трактате Цицерона «Об обязанностях» — см. пояснение к словам constantia и honestum. — 36; 111.
templum — храм, место для храма и вообще священный участок земли, в частности, тот, с которого жрец-прорицатель (авгур) наблюдал небесные знамения. — 421.
tumultus — смятение, беспорядок, мятеж, бунт. — 459; 460;466.
turpis — безобразный, постыдный, непристойный. В языке Цицерона слово это окутано определенными философскими обертонами, которые заставляют переводить его как «подлый». Оно входило в знаменитую формулу стоической философии «не существует никакого блага, кроме нравственно прекрасного (honestum), и никакого зла, кроме подлости (turpe) (Цицерон. О пределах добра и зла, II, 38). — 212.
utile — полезное. В этической системе Цицеропа — все, что приносит выгоду, удовлетворение потребностей, практическое преимущество. В этом смысле utile противоположно honestum (см.), и лишь в нем и через него входит в истинное благо только то, что honestum, может быть подлинно utile — 346.
См. Цицерон. Об обязанностях. Ц, 3, 9 — 10. III, 4, 20.
vir bonus — честный муж, добропорядочный гражданин. В римской традиции — главная ценностная характеристика римского гражданина. Изначально и вплоть до эпохи Цицерона bonus в этой формуле означал в первую очередь «умелый», «хороший хозяин», «дельный гражданин,* опытный в общественных делах». Чисто нравственный смысл («муж добра») это выражение приобретает с I в. н. э. — в частности, у Сенеки. — 70.
См. Цицерон. Катон Старший, или О старости 38; Michel, А. Les rapports de la rhetorique et de la philosophic dans l’oeuvre de Ciceron. — P., I960, pp. 11—19.
virtus — доблесть — военная, гражданская и нравственная. На протяжении истории Рима акцент смещался с первого из этих определений ко второму (I в. до и. э.), а затем — к третьему (I в. н. э.). Высшая и самая общая добродетель римского гражданина. — 60; 61.
См. Луцилий. Из неизвестных книг, фрагмент 27 (в кн.: Римская сатира. — М., 1989, с. 386); Цицерон. Лелий, или О дружбе. 100—103. ср. его же. Тускуланские беседы, кн. 5; ВДИ, 1970, № 3, с. 75—76.
vixerunt — отжили. Знаменитое восклицание Цицерона после казни сообщников Катилины, обращенное к толпе римских граждан. — 196.