Михаил Колесников
Миклухо-Маклай
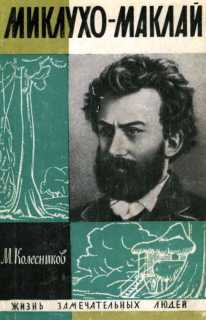
Посвящается
Марии Колесниковой
Инспектор Петербургского университета небрежно перелистал «Дело вольнослушателя физико-математического факультета Николая Миклухи» и без видимого интереса пробежал глазами последнюю; страницу, «…подвергался аресту, сидел в Петропавловской крепости… исключен из гимназии… состоя вольнослушателем, неоднократно нарушал во время нахождения в здании университета правила, установленные для этих лиц…» Дальше длинный перечень нарушений, а внизу листа — красными чернилами: «…исключить без права поступления в другие высшие учебные заведения России…»
Захлопнув папку, инспектор откинулся на спинку плюшевого кресла и уставился поблескивающими лупами очков на Миклуху, который молча, с независимым видом стоял здесь же.
Какой, надменный, самоуверенный взгляд у этого юнца! И что за дурная манера держать руки за спиной! Будто прячет булыжник или нож… Откуда только берутся они, с таким вот холодным спокойным взглядом? Что заставляет их устраивать шумные манифестации, кричать о бесправии народа, требовать демократической конституции, а главное, подвергать себя риску?…
Сей Миклуха, если верить доносу, на недавней студенческой сходке больше всех орал о «зверствах царских палачей в Польше», а потом призвал начать сбор денег «в помощь жертвам произвола». Оно и понятно: мать — полька. Одно время была близка к кружку Герцена — Огарева. Три брата ее приняли участие в польском восстании. Яблочко от яблони недалеко катится…
И хотя инспектор знал, что пожертвования «на польское восстание» собирались по всей России, ему казалось, что здесь, в университете, одним из главных зачинщиков этой крамолы является все тот же Николай Миклуха, автор злых карикатур на начальство и поставщик запрещенной литературы.
Ему нет еще и восемнадцати, а уже побывал в переделках!
Участие в студенческих демонстрациях… Петропавловская крепость… Поделом! Таких нужно лишать дворянства и… в Сибирь, в Сибирь…
Молчание Миклухи раздражало инспектора. Пора кончать! Он нервно поправил очки, вытер платком лысину и нарочито официальным голосом произнес:
— Господин Миклуха! Довожу до вашего сведения: за неоднократное нарушение установленных порядков вы исключены из университета без права поступления в другие русские университеты. Отныне посещение занятий вам воспрещается. Извольте явиться к санкт-петербургскому обер-полицмейстеру!.. Там же получите документы…
Инспектор снова вытер платком лысину. Он знал, что последует за его беспощадными словами: вопросы, бесконечные вопросы, увертки, грубая ложь. «Нарушал порядки?… Что господин инспектор имеет в виду? Здесь кроется какое-то недоразумение. Я уже докладывал… Я могу назвать лиц, которые подтвердят…»
Вот тогда-то инспектор, не повышая голоса, разъяснит все…
Но Николай Миклуха не задавал вопросов. Только тверже стали губы, резче обозначился властный изгиб бровей. В суженных темно-голубых глазах мелькнуло легкое презрение.
— Значит, документы я должен получить у обер-полицмейстера и там же дать подписку? — спросил он ровным бесстрастным голосом.
— Да, у обер-полицмейстера! Такими, как вы, должна заниматься полиция… — взревел инспектор. В тоне вопроса ему послышалась издевка.
Николай Миклуха неожиданно улыбнулся и, не простившись, вышел. Лишь очутившись за воротами университета, он почувствовал, как дрожат руки и колени от нервного возбуждения. Исключен, не проучившись и полгода! Навсегда закрылись двери в мир науки… Он задохнулся от ненависти к инспектору, к подлому укладу университетской жизни, к тем незримым и вездесущим подлецам, которые отращивают ухо, чтобы не проронить ни единого крамольного слова, к жалким людишкам, строчащим доносы, подобострастно вытягивающимся при упоминании высочайшего имени. Убогие канцеляристы, несчастные кроты, живущие милостью начальства! Какое отношение имеете вы к науке?…
Миклуха понуро брел по набережной. Куда идти? Как сказать матери обо всем? Поймет ли она на этот раз? Только бы не видеть ее скорбного лица, горькой складки у губ и укоряющих глаз. Мама, бедная мама… Сколько огорчений за короткое время: смерть мужа, так и не выслужившего пенсию, изгнание сына из гимназии, а теперь из университета. Но ведь именно на него, Николая, больше всего было надежд. Маленькая слабая женщина с больными от беспрестанного напряжения глазами: она даже по ночам чертит карты — единственная возможность заработать кусок хлеба. На руках у нее пятеро детей, пять вечно голодных ртов: Сережа, Володя, Оля, Мишук и он, великовозрастный шалопай. Она никогда не жалуется на резь в глазах. Тихая, ласковая, не желающая причинить им ни малейшего беспокойства, она говорит: «Резь пройдет. Доктор заверил…» И только когда она садится за чертежи, резче обозначается складка у ее решительного упрямого рта. Где-то в Белоруссии у нее родные. Но когда они предлагают помощь, мама отказывается. Не принимает она подачек и от родных покойного мужа. «Я все сама… — отвечает она. — Наше горе никого не должно касаться…» Ей нет еще и сорока, но вечные тревоги за детей и заботы наложили морщины на лицо.
Кто вселил в тебя этот беспокойный дух, Николай Миклуха? Почему все, что творится в мире, касается тебя, возмущает или радует? Почему ты суешь нос во всякое дело, требуешь правды и справедливости? Почему ни одна студенческая сходка не проходит без твоего участия, и ты, зная, что глухую стену все равно не прошибить лбом, с восторгом бросаешься на эту стену? Были люди и старше и опытнее тебя, а чем они кончили? Казематы крепости, ссылка, Сибирь, вечное поселение, кандалы, чахотка… Что изменится оттого, что кучка таких же юнцов, как ты, прочитает роман «Что делать?» или «Рефлексы головного мозга»? Может быть, ты не дорожишь спокойствием матери и тебе доставляет удовольствие каждый раз приносить ей огорчения? Брат Сергей всего лишь на год старше тебя, но в нем нет подобного легкомыслия: он готовится стать кормильцем семьи, помощником матери. Все твои увлечения, громкие фразы о справедливости и независимости кажутся ему вздорными и даже опасными. Ему нет никакого дела до Чернышевского и Добролюбова. Он мечтает стать юристом, чтобы зарабатывать на жизнь. Ты — любимец матери и знаешь это. Тебе она прощает всегда то, чего не простила бы Сергею и Володе. Большая часть домашних хлопот лежит на плечах Оли, — Мишук еще слишком мал, чтобы быть помощником, но и он с недетской серьезностью иногда говорит матери: «Когда я вырасту, то сам буду чертить карты; у вас не будут болеть глаза…» А Володя мечтает стать моряком. Он кладет под подушку «Фрегат «Палладу» Гончарова, записки Литке, Коцебу, Дюмон-Дюрвиля. Николай тоже прочитал эти книги, но тяга брата к морю ему непонятна. Быть военным моряком, носить мундир… Нет, что угодно, только не мундир! Какое дело Николаю Миклухе до неведомых островов, затерянных в океане, где обитают папуасы, альфуры или как их там?… Все это, может быть, и романтично, но слишком уж иллюзорно, призрачно. Здесь, среди тяжелых каменных домов Петербурга, и океан и острова, населенные людоедами, кажутся нереальными.
Кроме того, все острова и материки уже открыты. А после путешествий Дарвина, Уоллеса, Гумбольдта не так-то уж много осталось и на долю натуралиста. Коллекционировать бабочек, описывать тропические травки и цветочки… Может быть, это и очень нужно для науки! Но Николаю Миклухе нужны еще никем не открытые материки. Ему нужно самое трудное, почти непосильное для человека дело, которое могло бы стать целью всей жизни. Есть свой материк у Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Есть свой материк у Сеченова и Боткина. Открыл свой материк Чарлз Дарвин — контуры этого материка уже ясно обозначены в его нашумевшей книге «Происхождение видов путем естественного отбора».
Впрочем, рассуждать сейчас о вершинах науки бессмысленно. Гораздо важнее получить документы у обер-полицмейстера. Наукой будут заниматься другие. Материк Миклухи отодвинулся в такую даль, что к нему не дойти и до седых волос.
Николай Миклуха не замечал пронизывающего февральского ветра. Старое пальтишко не грело, пальцы ног одеревенели. В другое время он прибавил бы шагу, но сейчас все потеряло какой бы то ни было смысл. Сквозь морозный туман проступал шпиль Петропавловской крепости — «тихой пристани» для всех ищущих неизведанных материков. Там в одиночных камерах томились Чернышевский и Писарев — гордость мыслящей России. Вид Петропавловской крепости всегда вызывал у Николая острое воспоминание. Багряный ветреный вечер. Карета останавливается в дальнем углу двора крепости. Гимназиста Миклуху и других участников студенческой демонстрации ведут к высокой кирпичной стене. Это Зотов бастион. Распахивается тяжелая дверь. Арестованных впихивают в камеру. Запах тлена, сырости. Кромешная тьма.
— Мы в толще стены, — говорит кто-то из студентов. — Окон нет. Здесь ждали казни декабристы…
Слух об аресте и двухдневном пребывании в Петропавловской крепости дошел до ушей начальства: в прошлом году, при переходе из шестого класса в седьмой, Николая Миклуху исключили из гимназии.
Чиновники и жандармы ничего не забывают…
Николай по давней привычке, почти неосознанно, остановился у Академии художеств, возле каменных сфинксов. Очень часто, когда становилось тяжело, он приходил сюда. С академией была связана детская мечта стать художником. Страсть к рисованию заронил отец, сам увлекавшийся живописью. Он даже пригласил художника Ваулина давать детям уроки рисования. Самым способным учеником оказался Николай. «Что может быть прекраснее человека, его лица? — говорил Ваулин. — Учитесь изображать человека, пристальней вглядывайтесь в лицо. Художник должен знать анатомию так же хорошо, как хирург Пирогов». Ваулин не признавал экспрессии, он требовал точности. «Вы знаете, что такое антропология? — спрашивал он. — Вот когда повзрослеете, тогда узнаете. Портретист — тот же антрополог. Отличать брахикефала, то есть «короткоголового», от долихокефала — «длинноголового» — для художника так же важно, как и для антрополога. Познавать красоту человеческого тела я учился у профессора сравнительной анатомии и физиологии Медико-хирургической академии Карла Максимовича Бэра, известного антрополога!»
Ваулин пророчил Николаю будущность живописца, поражался его наблюдательности и меткому глазу, свел кое с кем из художников и был искренне огорчен, когда ученик подался «по ученой части».
…Каменные сфинксы рождали представление о знойной пустыне, о пирамидах, о сверкающем Ниле и высоких папирусах с бледно-зелеными зонтиками длинных и узких листьев. Африка, Калахари, Замбези, Конго — от этих слов исходит сияние. Может быть, в эту самую минуту по неисследованным дебрям Африки пробирается со своей экспедицией великий путешественник, благородный защитник чернокожих Давид Ливингстон. Миклуха видел его портрет и часто думал о нем. Простое усатое лицо, суровые глаза под клочковатыми бровями, взъерошенные бакенбарды… Сын обедневшего фермера, безработный ткач Давид Ливингстон… Человек, выбившийся из самых низов…
«Дети работников гораздо умнее, солиднее, особенно во всем практическом; они меньше боязливы и осторожнее. То, что с ними делает необходимость, того нам надобно достигать волею», — так писал своему сыну Герцен. Мать Миклухи, Екатерина Семеновна, была близко знакома с семьей Александра Ивановича. Где-то, не то во Флоренции, не то в Париже, живет таинственная Тата, или Наталья, старшая дочь Герцена, сверстница Николая. Иногда Тата присылает Оле свои рисунки, и Николай не может не отметить, что они сделаны искусной рукой. Наталья — художница. Есть и ее фотография. Красивая, вполне оформившаяся девушка в простеньком платьице. Она наперечет знает все семейство Миклух и в каждом письме кланяется также своему сверстнику Николаю. Тата не сомневается, что рано или поздно они повстречаются с Николаем, рисунки которого ей также нравятся. Наталья лишилась матери, когда ей было всего лишь восемь лет. Живет она вдали от отца с младшей сестрой. Оля Миклуха в подражание Тате хочет стать художницей.
В каждом, даже в маленькой Оле, теплятся грезы о прекрасном…
Бедные, бедные сфинксы! Как, должно быть, холодно и неуютно вам в хмуром оледенелом Петербурге! Каменные дома стоят темные, угрюмые, словно нахохлившиеся. Если бы хоть на миг раскрылось серое тяжелое небо и там, вдали, совсем неожиданно, как в волшебной сказке, сверкнула бы ослепительная лазурь! Если бы в лицо пахнуло свежими океанскими ветрами, а перед изумленным взором закачались бы высокие пальмы… Но нет чудес. Нужно идти к обер-полицмейстеру…
Когда Николай Миклуха вернулся домой, Екатерина Семеновна сразу же догадалась, что случилось недоброе. Он без утайки рассказал все. Вначале 'слова упрека готовы были сорваться с ее губ, но она сдержалась, как сдерживалась всегда в подобных случаях, и постаралась успокоить сына. Он сидел, обхватив голову руками, подавленный, убитый. Практичный материнский ум и на этот раз нашел выход.
— Я мечтаю о том, чтобы ты получил техническое образование, стал инженером и поступил на завод, — сказала она. — Такое образование можно получить и за границей. Инженер — прекрасная специальность, у нее большое будущее…
— Но у нас нет денег! — почти выкрикнул он. Сейчас проблеск малейшей надежды был почти невыносим, мучительнее самого жестокого отчаяния.
— Ты не должен об этом думать. Деньги найдутся. Правда, тебе придется вести там очень скромный образ жизни, может быть, иногда отказывать себе в самом необходимом.
— Я готов голодать и работать как вол! — воскликнул Николай в порыве благодарности. — Вы еще не знаете меня, мама… Хоть спать на гвоздях… Екатерина Семеновна улыбнулась:
— Поверь мне, что я тебя лучше знаю, нежели ты сам себя. Как видишь, безвыходных положений не бывает.
Николаю хотелось расцеловать мать, прижаться, как в детстве, к ее груди. Но подобные нежности не были приняты в суровой семье Миклух.
Лицо его горело, глаза горячечно блестели. Ночью он почувствовал себя плохо. Пришлось вызвать врача.
Петр Иванович Боков считался домашним врачом этой семьи. Красивый, ласковый, он обладал типичной русской чертой распространять вокруг себя уют и доверчивость, располагать к себе. Он был любимцем детей, и здесь его запросто называли «дядей Петей». Сейчас следовало успокоить встревоженную Екатерину Семеновну. Но, обследовав больного, Боков сокрушенно покачал головой. Картина ясна: крупозное воспаление легких! Николай метался в бреду. Рыжеватые кудри рассыпались по подушке. Худая узкая рука безвольно свесилась с кровати. Петр Иванович смотрел на эту руку и подавленно молчал. Да и что утешительного можно сказать матери? Он утешал несколько лет, когда лечил мужа этой женщины, главу семьи Николая Ильича Миклуху. Тяжело больному чахоткой Николаю Ильичу он старался тогда внушить волю к жизни. Но Николай Ильич умер на сороковом году, оставив большое семейство без средств к существованию. Конечно, сырой, промозглый климат Петербурга меньше всего способствовал выздоровлению.
И все же у Бокова остался тяжелый осадок на сердце.
Нет, утешать нельзя. И он сказал суровую правду.
— Положение очень серьезное. Сердце слабеет, а температура ползет вверх. Кроме того, сильное нервное потрясение. Буду наведываться…
Прописав лекарства, он ушел. А Екатерина Семеновна, скорбная, убитая горем, уселась у изголовья больного сына. В комнатенке было почти темно. В голландке потрескивали дрова. За тонкой перегородкой негромко переговаривались дети. Но вот и они притихли. Только гулкий звон копыт по мостовой за окном…
Екатерина Семеновна сидела, скрестив руки на коленях, ее широко открытые глаза сосредоточенно всматривались в фотографию покойного мужа, освещенную ночником.
Невеселые думы завладели матерью пятерых детей. Как жить дальше? Нужда, беспросветная нужда, и никакой надежды на будущее. Дети пока плохие помощники. Да и удастся ли вывести их всех в люди?… Больше всего хлопот доставляет Коленька. Неуравновешенный, вспыльчивый, упрямый. Весь в отца…
Очень часто, оставшись наедине со своими мыслями, Екатерина Семеновна уносилась в прошлое. Вот и сейчас воспоминания нахлынули на нее.
…Родилась она в состоятельной семье ветерана Отечественной войны 1812 года подполковника Беккера, служившего в Низовском полку. Она приходилась внучкой доктору Беккеру, присланному прусским королем к последнему королю польскому, при котором он и состоял лейб-медиком. Матерью Екатерины Семеновны была полька Л.Ф. Шатковская. Шестнадцатилетней Кате прочили в мужья молодого, красивого князя Мещерского, частого гостя в их доме. Но именно в это время Екатерина Семеновна познакомилась с инженером-строителем Петербургско-Московской железной дороги Николаем Ильичом Миклухой и полюбила его.
Николай Ильич был лет на десять старше Кати Беккер. Не мог похвастать он ни богатством, ни знатностью рода.
О так называемом дворянском происхождении Миклух сохранились предания. О себе Николай Ильич рассказывал, что происходит он из запорожских казаков. Потомственное дворянство будто бы было пожаловано его деду Степану, который, состоя в одном из казацких малороссийских полков, отличился в русско-турецкой войне при взятии Очакова. Степан получил чин хорунжего, а затем по ходатайству генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского — и дворянство.
Николай Ильич родился в 1818 году в Стародубе Черниговской губернии. С отличием окончил Нежинский лицей, тот самый, где еще были свежи воспоминания о Гоголе.
Юноша мечтал о техническом образовании, но семья была настолько бедна, что о дальнейшей учебе не приходилось и думать. Потомственные дворяне Миклухи перебивались с хлеба на квас и не всегда по праздникам ели борщ с мясом. Николай Ильич рвался в Петербург. Однако собрать денег на дорогу так и не удалось. Тогда он решил проделать весь путь от Стародуба до столицы Российской империи пешком. Оборванный, голодный, без гроша в кармане очутился он в Петербурге. И здесь ему повезло: он поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения и блестяще окончил его в 1840 году. Молодого инженера направили на строительство Петербургско-Московской железной дороги, где он возглавил прокладку самого тяжелого по природным условиям северного участка трассы. Строители вязли в болотах, тысячами гибли от голода и холода. Николай Ильич жил в палатке. В таких же палатках ютились семьи рабочих и крепостных, согнанных из окрестных деревень.
Деятельный, мужественный, сильный, этот человек увлек Екатерину Семеновну, и она, полная самых невероятных надежд, стремившаяся вырваться из-под опеки родных, сразу же ответила согласием, когда он попросил ее руки. Она повсюду следовала за мужем, ютилась в палатках и в крестьянских избах, безропотно переносила все тяготы скитальческой жизни. Сперва появился Сережа, а год спустя, 17 июля 1846 года, в селе Рождественском близ Боровичей Новгородской губернии родился Коля.
После переезда в Петербург семья увеличилась: появились Владимир, Ольга и Михаил. В 1851 году Николай Ильич получил чин инженер-капитана, и его назначили начальником пассажирской станции и вокзала Петербургско-Московской железной дороги, которую он только что построил. Семья поселилась прямо в здании вокзала, на втором этаже. Это была шумная, беспокойная жизнь: день и ночь паровозные свистки, толпы пассажиров, галдеж, выкрики извозчиков. Но все-таки, наконец, появился свой угол. Всегда строгий, озабоченный, Николай Ильич словно оттаял: теперь он много шутил, иногда выезжал с семьей за город, обзавелся обширной библиотекой. Он решил всерьез заняться воспитанием детей. По его мнению, дети должны были хорошо овладеть иностранными языками, познакомиться с историей и литературой, заниматься живописью и музыкой. «Галушки сами в рот не полезут, — говорил он, — найму-ка вам учителей!» И нанял. Большое значение придавал он физической закалке и воспитанию воли у своих малышей. «Воля и выдержка!» — любил повторять он. А по вечерам читал стихи Тараса Шевченко, Лермонтова, которого особенно любил, отрывки из «Фауста» и «Манфреда». Екатерина Семеновна, неплохо игравшая на стареньком фортепьяно, стремилась привить детям любовь к музыке.
Больше всего заботился Николай Ильич о здоровье детей. Сырой климат Петербурга внушал опасения. Сам Николай Ильич покашливал давно, но не придавал тому значения. Потом несчастье обрушилось на семью: Николай Ильич тяжело занемог. Врачи нашли туберкулез легких. Он лежал на диване высохший, бледный — даже светлые усы приобрели болезненный зеленоватый оттенок.
В декабре 1857 года он умер. Перед смертью тосковал по своей родной Украине, по цветущим подсолнухам у белых хаток и широкой степи, где в синем небе звенят жаворонки. Уже в бреду тихо произнес: «Мамо», — и скончался. Сознание утраты было невыносимо.
Начались годы бедствий. Пришлось продать мебель и снять более скромную квартиру в доме Глазунова по Большой Мещанской. Старших мальчиков Екатерине Семеновне удалось устроить в училище при лютеранской церкви Святой Анны, где преподавание велось на немецком языке. Предполагалось, что таким образом дети согласно воле покойного Николая Ильича смогут в совершенстве овладеть одним из иностранных языков. Но ничего из этой затеи не вышло. Коля взбунтовался и наотрез отказался ходить в немецкую школу. Знакомый матери, студент юридического факультета Петербургского университета Валентин Валентинович Миклашевский взялся подготовить мальчиков для поступления в гимназию. Подготовка пошла впрок, и Коля в 1858 году сдал экзамены в третий класс 2-й санкт-петербургской гимназии.
То было бурное время. Бунты крепостных. Ожидание «воли». «Реформу» 19 февраля 1861 года крестьяне встретили новыми восстаниями. Не прекращались волнения и студенчества в Казанском, Московском, Петербургском университетах. Екатерина Семеновна с тревогой следила за сыновьями. Коленька всегда возвращался с улицы взбудораженный, восторженный, рассказывал, как студенты оттеснили полицейских, как ему доверили пачку листовок и он разбрасывал их повсюду. Гнетущая тревога в душе Екатерины Семеновны все нарастала и нарастала. Особенно усилилась она, когда разразилось польское восстание. Полтора года сопротивлялись повстанцы громадной армии, и это не могло не вызвать симпатий, восхищения по всей России. На их сторону перешло несколько сот русских солдат и офицеров, был создан «Комитет русских офицеров в Польше». В университетах студенты открыто снаряжали своих товарищей, пожелавших принять участие в событиях. На помощь полякам пришли добровольцы из Франции и Италии. А когда восстание было потоплено в крови, волна жестокого шовинизма и произвола прокатилась по стране. Задела она и семью Миклух: Колю исключили, а Екатерине Семеновне угрожали высылкой из Петербурга. Теперь вот новые беды обрушились на слабую, истерзанную заботами женщину. И никому, никому во всем огромном Петербурге нет дела до ее беды. Разве что Бокову?… Он решительно отказывается от гонорара за лечение.
Екатерине Семеновне известно кое-что о Бокове. Впрочем, об этом знают все, вплоть до Третьего отделения: Петр Иванович — друг и личный врач Чернышевского. На его глазах был арестован Николай Гаврилович. Но еще до ареста Чернышевского, в октябре 1861 года, был схвачен жандармами сам Боков. Его обвиняли в составлении и распространении прокламации «Великорусе», хотели сослать на каторгу. Но прямых улик не оказалось, и Бокова вынуждены были отпустить на поруки. И после всего этого он не побоялся навестить Чернышевского в Петропавловской крепости.
— Ирония истории, — рассказывал Петр Иванович Екатерине Семеновне, поглаживая роскошную черную бороду, — тот же самый жандармский офицер, который сопровождал гроб с телом Пушкина из Петербурга в Михайловское, арестовал Чернышевского и отправил его в каземат Петропавловской крепости…
Это Боков после исключения Коленьки из гимназии пытался устроить его в Медико-хирургическую академию. Но в академию вольнослушателей не принимали.
…Петр Иванович каждый день навещал больного. Через неделю кризис миновал, и дело пошло на поправку.
— Еще недели три придется полежать в постели, — говорил Петр Иванович. Но Николай не хотел мириться с этим.
— Мы попусту теряем время, — возмущался он, — нужно как можно скорее добиться разрешения на выезд за границу…
И Екатерина Семеновна хлопотала. Ходила по бесчисленным инстанциям. Ее мольбы, робкие просьбы за сына, казалось, способны были бы расплавить железо. Однако сердца чиновников растопить еще никому не удавалось. Ей неизменно отвечали: нет! Молодому человеку, которого только что вышвырнули из университета без права поступления в другие высшие учебные заведения, нечего делать за границей. Такие люди, вырвавшись из России, предпочитают больше не возвращаться под надзор полиции, а основывают вольные типографии, печатают революционные прокламации — становятся заклятыми врагами самодержавия.
Положение создавалось безвыходное. Николай нервничал. Лежал на кровати и часами молчаливо смотрел в потолок. Препоны, запреты, рогатки… Неужели так будет всегда? И только Бокову удавалось вывести его из состояния апатии. Веселый, никогда не унывающий, он заражал всех своим оптимизмом, и при взгляде на него невольно думалось, что все как-нибудь образуется. Для Николая Петр Иванович был человеком, близким к его кумиру, к кумиру всей революционно настроенной молодежи — Чернышевскому.
Сохранилось иллюзорное, как сон, воспоминание. Как-то одиннадцатилетний Николай вызвался проводить Бокова. Кажется, на Большой Морской они повстречали человека в люстриновом пиджаке, читавшего на ходу книгу. Человек так был увлечен своим занятием, что Петру Ивановичу пришлось окликнуть его дважды. Оба остановились и весело заговорили. Смысл разговора трудно было уловить, и Николай принялся разглядывать незнакомца. Тот был небольшого роста, худощав, белокур, гладко выбрит. Сквозь сильные стекла очков в золотой оправе близоруко глядели голубые глаза. Николая поразили некая угловатость лица этого человека, его белые нервные руки, его манера говорить с усмешечкой, со скрытой иронией, потупясь, словно он собирался толкнуть вас в живот своим широким лбом. Иногда улыбка освещала его лицо, и оно становилось странно привлекательным, почти красивым. Нет, такое лицо, если взглянешь на него хоть однажды, никогда нельзя забыть…
— Мой друг Николай Миклуха! — неожиданно представил Боков. — Сын того самого Миклухи, строителя железной дороги, о коем говорил вам и Николаю Алексеевичу. Мечтает стать художником или врачом.
Лицо незнакомца вновь преобразилось, сделалось суровым. Он исподлобья взглянул на мальчика и неожиданно сказал:
— Будь честен, Николай Миклуха!
Что-то беспощадное, оголенное было в этих словах незнакомца. Словно холодный ветер ударил в грудь.
— Кто это? — почему-то шепотом спросил Николай, когда незнакомец скрылся за углом.
— Николай Гаврилович Чернышевский!..
За время болезни Николай особенно сбилизился с Боковым. Очень часто они спорили. Статьи Добролюбова, Писарева, «Рефлексы головного мозга» Сеченова, «Естественная история мироздания» Фогта, «Антропологический принцип в философии» Чернышевского… Двадцатишестилетний Боков увлекался не меньше своего восемнадцатилетнего оппонента.
Рассказы Петра Ивановича о Чернышевском были откровением. Миклуху удивляло одно обстоятельство: Чернышевский не обладал ни обаятельной внешностью Герцена, ни воинственным видом Гарибальди; по словам Бокова, не отличался он и ораторским даром. Ничего в нем не было от величественных героев древности. Сухощавый человек небольшого роста, бесконечно близорукий, способный из-за этой самой близорукости погладить муфту вместо кошки и поцеловать чужую женщину вместо своей жены, самоуглубленный, рассеянный, язвительный, колкий, насмешливый, способный весь вечер сидеть в кабинете за работой, пока в доме веселятся гости, — чем он покорил целое поколение людей, заставил трепетать врагов при одном упоминании его имени? Где кроется загадка его безграничного обаяния, почти колдовского воздействия на массы? Как сумел он, человек незнатного происхождения, родившийся в провинциальной глуши, за какой-нибудь десяток лет выдвинуться в первые ряды, стать властителем дум и чаяний? Где кроется та сила, с помощью которой отставной титулярный советник Чернышевский потряс Россию?
После ухода Бокова Николай размышлял. Статьи Чернышевского… Уничтожающий сарказм, сознание собственной силы, блестящее изложение самых запутанных вопросов… Каждое слово, как шип, вонзается в сердце. На каждой странице развертывается беспощадный мир человеческих отношений и страстей, открывается неведомая философия ожесточенной борьбы, обнажаются истоки истинно прекрасного; а на страницах такого будоражащего романа «Что делать?» почти с математической точностью выведена формула сокровенного смысла жизни: «От самого человека зависит, до какой степени жизнь его наполнена прекрасным и великим… Пуста и бесцветна бывает жизнь только у бесцветных людей». И не было вопроса, на который не дал бы ответа этот всеобъемлющий ум. Будто разверзлась бездна, и все, что было сокрыто мраком — и прошедшее, и настоящее, и будущее, — все предстало в своем естественном виде. Отныне все обретало конкретность.
От самого человека зависит… Но что делать, если тебе закрыли пути в будущее? Ты хотел быть таким, как Рахметов, а по мановению руки инспектора и обер-полицмейстера превратился в «неблагонадежного». Все те люди, перед которыми ты преклонялся и которым стремился подражать, «государственные преступники»! Все те книги, по которым учился дерзать, объявлены безнравственными, потрясающими основы и находятся под строжайшим запретом…
Как писал мятежный друг Чернышевского Михаил Михайлов, сосланный в Сибирь:
Преданность вечна была в характере русского люда.
Кто ли не предан теперь? Ни одного не найдешь.
Каждый, кто глуп или подл, наверное, предан престолу;
Каждый, кто честен, умен, предан, наверно, суду.
Помощь пришла от Бокова. На квартире Миклух собрался целый консилиум врачей — приятелей Петра Ивановича. Было составлено обстоятельное медицинское заключение: оказывается, только горный воздух Швейцарии или Шварцвальда может исцелить Николая Николаевича Миклуху. Климат Петербурга ему явно вреден.
А через неделю безмерно счастливый Николай уже потрясал заграничным паспортом «по болезни». Дорога в будущее была открыта. В корзину со своими скромными пожитками он сунул запрещенный роман Чернышевского «Что делать?».
Весной 1864 года Николай Миклуха появился в Германии. Как-то в конце июня, мрачный и подавленный, сидел он в многолюдном парке неподалеку от Гейдельбергского замка. Он думал о предмете, о котором не любил думать: о деньгах. Презренные зильбергроши и талеры! Как они нужны именно теперь!..
Молоденькие немочки бросали насмешливые взгляды на худого бледного юношу в потертом черном сюртуке, важные прусские бароны-студенты с неизменными хлыстами в руках небрежно наступали ему на ноги и, не извинившись, шествовали дальше.
Человек в старой, заплатанной одежде не имеет права на внимание. «Мой черный сюртук почти совсем разлезается, — написал Миклуха матери в далекий Петербург, — оказывается: зашиваешь какую-нибудь дыру, а нитка крепче сукна; и зашивать — это увеличивать дыру. Я положительно не знаю, как мне свести концы с концами; я с трудом починил свой пиджак. Если можно, пришлите нитки и пуговицы». Нужно платить за лекции, за каморку, за стол, за молоко. Ботинки совсем расхудились. Хорошо, что Миклашевский уступил свои поношенные за полцены. А во время каникул все же придется нанять учителя английского языка и уплатить ему целых четыре рубля. Только все платить и платить!..
За май истрачено почти девятнадцать рублей серебром!.. Можно было бы, конечно, издержать и меньше: отказаться, например, от некоторых лекций, сократить дневной рацион. Молоко, разумеется, роскошь. Но врачи прописывают его как лекарство: болезнь не прошла бесследно — болит грудь, появился сухой кашель. Если бы подыскать работу, какую угодно работу… Но в маленьком немецком городке, переполненном нищими студентами и беженцами из Польши, искать заработка — бесполезная трата времени.
Он рвался на свободу, хотел быть хозяином своей судьбы; но о какой независимости можно говорить, если даже пуговицы ему должны высылать из Петербурга? Он представил, как эти пуговицы совершают длительное путешествие. Да, пуговицы пересекут границу, и, может быть, какой-нибудь из немецких таможенных чиновников пожелает осмотреть посылку… и будет весьма озадачен; а возможно, он, этот тупой чиновник, даже попробует пуговицы на зуб: не кроется ли здесь чего-либо недозволенного? А потом за Николаем Миклухой на всякий случай установят полицейский надзор: эти русские дьявольски изобретательны, и от них можно ожидать всего!..
Он иронизировал, но ощущение грусти и полного бессилия не проходило. Казалось бы, все устроилось именно так, как он того хотел. Его всегда манили тайны философии, и вот он поступил на философский факультет Гейдельбергского университета, похоронив тем самым материнскую мечту о заводе и инженерском звании. Особого пристрастия к технике Миклуха никогда не питал. Пусть Екатерина Семеновна негодует. Он уже вправе распоряжаться собой. И разве затем рвался он из Петербурга, чтобы, очутившись здесь, вдали от ненавистных карьеристов, ищеек и доносчиков и став хозяином своей судьбы, избрать дорогу, которая под силу любому рядовому человеку? Он, может быть, всегда стремился посвятить себя единственному в своем роде делу, которое потребует от него всех мыслимых и немыслимых возможностей.
В Гейдельберге его приняли хорошо. Он сразу же разыскал своего бывшего воспитателя поляка Валентина Валентиновича Миклашевского, заканчивавшего юридическое образование в Гейдельберге. Миклашевский быстро уладил все с квартирой, и Миклуха мог с головой уйти в занятия.
Старинный университетский городок Гейдельберг имел свои славные традиции. Здесь, в университете, не одному поколению студентов читали лекции знаменитые на весь мир Бунзен и Киргоф, открывшие метод спектрального анализа, великий физиолог Гельмгольц, а также юристы, историки, политикоэкономы и философы Гейсер, Блунчли, Целлер, Миттермайер, Цёпфель и другие. Здесь в лаборатории Бунзена несколько лет назад работал Сеченов, здесь же в домашней лаборатории вел свои исследования Дмитрий Иванович Менделеев. В Гейдельберге хорошо знали и знаменитого врача Сергея Боткина, и известного ботаника Андрея Бекетова, и химика, а впоследствии признанного композитора Бородина. Русская колония в Гейдельберге беспрестанно пополнялась новыми людьми.
Вскоре Миклашевский свел Миклуху со своими друзьями — эмигрировавшими из Польши повстанцами.
Это был великий день: Николай Миклуха увидел тех, кто сражался вместе с Сигизмундом Сераковским, Траугуттом, кто близко знал Ярослава Домбровского и Валерия Врублевского!..
— Сераковского казнили, Траугутт схвачен, весь Жонд Народовы арестован, — говорили Миклухе. — Но вы еще услышите о Ярославе Домбровском. Это человек железной воли и редкого ума. Его приговорили к пятнадцати годам каторги, но он бежал из пересыльной тюрьмы и теперь скрывается…
Кончилось тем, что Миклуха вступил в польское общество эмигрантов и всерьез занялся польским языком. Екатерина Семеновна недоумевала: «Ты пишешь, что берешь уроки польского языка, да зачем тебе знать этот язык? Лучше английский или французский, чтобы знать его хорошо, там уроки не дороги. А польский все равно ты не будешь хорошо знать, да зачем он?»
Днем — лекции, а по вечерам они с Миклашевским подыскивают квартиры для польских беженцев или же идут на собрание общества и принимают самое деятельное участие в жарких политических спорах. До глубокой ночи горит свет в комнатушке Миклухи. Лекции надо осмыслить: бездна знаний — физика, химия, медицина, математика, история, философия, политическая экономия.
Как жаль, что пока он еще не свободно владеет языком и некоторые лекции приходится записывать то по-немецки, то по-русски. А чтобы читать Дарвина, Гексли, Уоллеса, необходимо знать английский…
Жизнь, полная интересов научных, политических… До сих пор отдельные партизанские отряды в Польше продолжают сопротивляться царским войскам. Домбровский на свободе…
Миклуха не сомневался, что скоро получит свободу и узник Алексеевского равелина Чернышевский. Жандармам так и не удалось собрать обвинительный материал. Даже сам арест великого демократа был возмутительным кощунством, издевательством. И эти негодяи, затопившие кровью Польшу, Литву, Белоруссию, подавившие с невероятной жестокостью крестьянские бунты, в анонимках смели обвинять Чернышевского: «Неужели мы не видим Вас с ножом в руках и в крови по локоть?»
Еще никого не любил Миклуха так, как Чернышевского. Иногда Чернышевский казался ему человеком будущего, занесенным ураганом времени в XIX век. Его колоссальная эрудиция восхищала. Каким, должно быть, внутренне одиноким чувствовал он иногда себя…
И неожиданно пришло письмо от матери: «19 мая Чернышевскому читали приговор: он высылается на 7 лет в Сибирь. На днях он уезжает, т. е. его увозят…»
Николай Миклуха ощутил прилив дурноты. На сердце легла щемящая боль, глухая пустота. Значит, все кончено… Каторга, вечное поселение… Неужели это был только луч, на мгновение осветивший темное царство палачей и негодяев?… Неужели навсегда останутся и произвол, и кандалы, и ничем не прикрытое рабство, и грубое попрание человеческого достоинства?…
Он уронил голову на стол и зарыдал.
В этот вечер он должен был идти на собрание эмигрантского общества. Но после страшной вести из Петербурга политические споры панов, благополучно унесших ноги из Польши, показались ему пустой болтовней, тратой дорогого времени. Польское эмигрантское общество в Гейдельберге являло собой довольно пеструю смесь: в него входили и «белые» и «красные», и те и другие с довольно оригинальным образом мыслей: они ратовали за сохранение помещичьего землевладения. Правда, имелось здесь и левое крыло «красных» — всего два человека. Они-то и разъяснили Миклухе смысл событий в Польше.
Что общего у Миклухи с этими людьми, изощряющимися в отвратительном национализме, слепо ненавидящими все русское?… Сейчас нужно думать о том, как помочь Чернышевскому. Пусть помощь будет скромна, но он обязан помочь… Кроме того, найдутся сотни других, таких же, как Миклуха… Так было, когда собирали средства на похороны Добролюбова.
Николай Миклуха сделался необщительным, угрюмым. В письме матери он сообщал о своем намерении помочь деньгами Чернышевскому и просил прислать его портрет.
Екатерина Семеновна угадала, что творится в душе сына, но она не могла себе представить, где он возьмет денег. Она писала: «…ты никогда не жил один и не доставал денег, и поэтому не знаешь, как трудно добываются деньги и как скоро можно их истратить. Знаю твой характер: ты прежде сделаешь, а потом пожалеешь, может быть, да уже поздно. Не сердись на меня за эту фразу, да это правда. Положим, что люди большею частью так поступают. Деньги для Чернышевского можешь высылать, когда хочешь, да все же нужно быть осмотрительным по возможности…»
Портрет Чернышевского ему прислали — это была плохонькая фотография из «Основ политической экономии» Милля. С этой фотографии Миклуха нарисовал портрет.
Гораздо сложнее обстояло дело с деньгами. Презренных талеров просто невозможно было нигде достать. Он довел себя до изнурения, экономя каждый грош. Раздобыл небольшой заказ от гравера по меди. В результате скопить удалось так мало, что можно было прийти в отчаяние. Нужда делает человека беспомощным.
Николай Миклуха сидел в гейдельбергском парке и мучительно думал, на чем еще можно сэкономить. Воскресный день клонился к закату. Обычно он любил подобные предвечерние часы: снопы света золотят шпили старинных башен, воздух словно наполняется дремой, где-то, может быть в ресторане, играет музыка; гаснут солнечные блики на дорожках парка. В своих рисунках он стремился передать колорит немецкого городка. Рисунки отсылал сестре Оле в Петербург. Неожиданно он порывисто поднялся: эврика! Презренные талеры найдутся. Решено: скоро заканчивается летний семестр, и можно возвращаться в Петербург. Но в Питер он не поедет. Расходы на дорогу слишком велики. Он останется в Германии, заберется куда-нибудь в горы, где жизнь сравнительно дешева, хотя бы в тот же Шварцвальд. Целебный воздух, да и глаза нужно поправить — отвратительная резь не проходит…
А в итоге сэкономленные деньги! Мать советует быть осмотрительным. Вот и прекрасно! В Петербурге ему сейчас делать нечего. Он приедет туда только в том случае, если твердо будет уверен, что полиция и чиновники, через месяц-два, опять выпустят его за границу. Но кто в это смутное время может дать подобную гарантию?…
На время каникул он уехал в Шварцвальд. Поселился в маленькой гостинице, затерянной в горах. Наконец-то желанное одиночество! Молчаливый хозяин, пожилая приветливая хозяйка, двое работников. А до Фрейбурга не меньше пяти часов ходьбы. В горах полное безлюдье.
И он наслаждался одиночеством. Поднимался до рассвета и отправлялся в путь. Исходил почти весь южный Шварцвальд, взошел на самую высокую его точку — гору Фельдберг, любовался Альпами, Вогезами, цепью Юры. Чуть было не забрался в Швейцарию, чтобы взглянуть на величественную Юнгфрау, где, если верить Байрону, стоял замок Манфреда, но побоялся дороговизны и вернулся. Наметил экскурсию на Рейнский водопад, к Боденскому озеру. Ходил очень много, часов по десяти в день. Сидя на каком-нибудь утесе, думал свои думы.
Вот уже полгода, как он покинул Петербург, родных, друзей. Если бы не постоянная нужда, недоедание, жизнь можно было бы все-таки назвать сносной. Поработал он изрядно. Физика, химия, математика… Гораздо хуже обстояло дело с философией. Миклуха стремился постичь тайны философии, человеческую мысль в ее высшем проявлении. Философия казалась ему наукой такой же точной, как математика. Он надеялся познать сокровенное, овладеть языком богов. Кант убедил его в непознаваемости «вещи в себе»; Фихте легко разбил все доводы Канта и доказал, что никакой «вещи в себе» вообще не существует, а единственной реальностью является человеческое «Я», творец всего сущего; Шеллинг объявил природу всего лишь несозревшей разумностью и доказал, что высшее начало не может быть ни субъектом, ни объектом, ни тем и другим одновременно, но исключительно лишь абсолютной тождественностью. Гегель с его «абсолютной идеей» опроверг их всех. А Шопенгауэр вопреки Канту утверждал, что «вещь в себе» познаваема, но эта таинственная «вещь в себе» есть не что иное, как воля — не имеющее основания абсолютное, слепо и бесцельно действующее начало. Наука, по его мнению, есть деятельность, направленная не на познание, но на служение воле; художественная интуиция превыше всего, она есть достояние гения…
Не легко было проглотить всю эту премудрость. А в результате — всего лишь через полгода — холодное разочарование. Создавалось впечатление, будто некие незримые перегородки, некая оболочка мешают мысли этих философов вырваться на простор и увидеть реальную жизнь во всем ее многообразии.
Безусловно, все философские системы были определенными ступенями познания, не считая беллетристического философствования Артура Шопенгауэра, который привлекал Миклуху не своими взглядами, а литературным мастерством и остроумием. «Аристократы духа», «жизнь, как бесконечная цепь страданий», призыв к аскетизму — все это не могло не вызвать улыбки у полуголодного студента, вынужденного воленс-ноленс быть аскетом. В сочинениях отдельных философов было больше гениальных догадок, нежели точного знания. А Миклуха стремился к точному знанию, ему нужен был основательный фундамент.
Разгадку ограниченности великих философов давал опять же Чернышевский: это была классовая ограниченность. Даже Фейербах с его антропологическим материализмом не смог преодолеть определенного барьера.
Классовая ограниченность сказывалась и в отношении философов к человеку, к устройству общества. Для Миклухи это был своеобразный критерий полноценности того или иного мыслителя. Если в философской системе он находил элементы обскурантизма, догматизма, реакционные предрассудки, презрительное отношение к социальным преобразованиям, его интерес к учению падал.
Гегель объявлял немцев «избранной» нацией, принижал славянские народы и ни во что не ставил народы Востока; народ для него был «бесформенной массой», действия которой «стихийны, неразумны, дики и ужасны». Шеллинг объявлял философию служанкой религии. Фихте, тот самый Фихте, который гордо восклицал, что «если князья станут рабами, то они научатся уважать свободу», под конец стал утверждать, что человек и его дела ничтожны и что нет иного бытия, кроме бога. А великий Кант ограничивал область знания, чтобы дать место вере…
И только Чернышевский был открытым атеистом, заклятым врагом расизма и подлинным революционером во всех областях знания и общественной жизни. Но что есть человек? На этот проклятый вопрос убедительно не ответил ни один философ.
Помимо Чернышевского, Миклуху больше всего привлекали представители утопического социализма Сен-Симон, Фурье, Роберт Оуэн. Их мечты об обществе, где не будет угнетения человека человеком, где все трудятся и получают все для здоровой жизни и всестороннего развития, были близки и понятны. Миклуха составил подробный конспект, который можно было бы назвать научным планом устройства «рационального» общества. Слова «социализм» он, по примеру Оуэна, в своих конспектах избегал. «Социализм» — это то, от чего приходят в дикую ярость ищейки и жандармы. Все было переосмыслено: картина «рационального общества» обретала вполне конкретные черты.
Но как печально, что Миклуха не родился ни философом, ни экономистом! После всех философов все самое нужное для своего времени уже сказал Чернышевский. Миклуху влечет конкретное дело, практика. Ему сдается, что все утверждения философов подчас держатся на довольно зыбком основании, мыслителям иногда недостает конкретных фактов. И даже величественный Кант, в голове которого умещалась целая вселенная с ее развивающимися туманностями, больше опирался на интуицию, нежели на факты. Факты, факты, те самые факты, которые добываются самоотверженностью и тяжким трудом… Как сказал Писарев: «Слова и иллюзии гибнут — факты остаются».
Разочаровавшись в философских системах, Миклуха думал, что только медицина, имеющая своим материалом тело человека, его мозг, его нервную и кровеносную систему — весь сложный таинственный организм, может с исчерпывающей полнотой ответить: что же есть человек? Медицина — это прежде всего практика, это скрупулезно накопленные факты, это опыт. Анатом больше верит своему зоркому глазу, нежели умозрительным гипотезам, он добывает неопровержимые факты — самое ценное для науки. Есть еще сравнительная анатомия — увлекательная наука, изучающая закономерности строения и развития отдельных органов путем их сопоставления у животных разных систематических групп.
Не так давно Миклуха с удовольствием прочитал работу Бэра. И в этой работе поразили слова; они вклинились в мозг: «Если тело народа однажды развилось известным образом, то для его изменения нужно относительно весьма долгое время… Без сомнения, это изменение происходит в некоторых странах медленнее, чем в других».
Тело народа!.. Это была совершенно новая, поразительно свежая категория. У каждого народа есть свое тело. Перед мысленным взором Миклухи проходили типы людей: русские, украинцы, поляки, немцы, англичане, французы, негры. Во всем этом крылось какое-то искушение. Тут была совершенно незатронутая область, целый материк новизны, неизведанного.
И никто еще не изучал то, что Бэр назвал «телом народа». Еще никто не сопоставил «тело» одного народа и «тело» другого народа. До сих пор некоторые ученые вынуждены пробавляться побасенками невнимательных и недобросовестных наблюдателей. Даже сверхэрудированный Бэр вынужден делать свои выводы об альфурах и папуасах на основании сообщений путешественников и мнений других антропологов, не бывавших в тех краях.
Николая Миклуху всегда привлекала медицина. Нет, время, проведенное в Гейдельберге, он не считал зря потраченным. Но тут он понял, что пора избрать ту область, которой можно посвятить себя всего. Этим делом будет медицина. Медицина не ради самой медицины, а ради той большой цели, которая начинает все яснее вырисовываться перед ним.
Как-нибудь он дотянет зимний семестр. А потом можно будет податься в другое место, хотя бы в тот же Лейпцигский университет на медицинский факультет. Кстати, в Лейпциге жизнь подешевле… Пора, пора сменить обстановку!..
А как же деньги для Чернышевского?
Удалось сэкономить сто восемьдесят рублей — целое состояние! И это только благодаря тому, что Николай отказался от поездки на родину. На родину, в Варшаву, отправился другой человек: Валентин Валентинович Миклашевский. Ему-то и вручил Миклухе эти сто восемьдесят рублей. Миклашевский найдет способ, как переслать их сибирскому узнику.
Так думалось. Но совсем недавно Миклуха получил письмо из Варшавы. Тон письма был малоутешительный. Многое приходилось вычитывать между строк. Восстание окончательно подавлено, уныние охватило даже самых стойких. Отважный Траугутт и другие руководители восстания недавно повешены. Деньги для Чернышевского так и не удалось передать: каждый опасается за свою голову. Конечно, он, Миклашевский, постарается придумать что-нибудь. Но если ничего не получится, то не позднее октября он перешлет эти злополучные сто восемьдесят рублей обратно в Гейдельберг…
Из благородной затеи ничего не вышло. И никогда не узнает великий демократ Чернышевский, пребывающий в тоскливом одиночестве в далеком Кадаинском руднике близ монгольской границы, об этой попытке нищего студента Николая Миклухи.
Екатерина Семеновна, мать Н.Н. Миклухо-Маклая.
Николай Ильич Миклуха — отец
Н.Н. Миклухо-Маклай в 15-летнем возрасте. С портрета художника Ваулина.
Брат Владимир.
Сестра Ольга.
Брат Михаил.
…Пожалуй, во всей Германии не найдешь более унылого города, нежели Лейпциг. Он оживает лишь во время ярмарок. И студенты здешнего университета резко отличаются от гейдельбергских: они объединены в корпорации, им неведомы разгул и бесшабашность. Утром и вечером дома — одинаковые порции чая с сухарями, обед — в студенческой кнейпе, куда по вечерам не пускают никого, кроме студентов той корпорации, которыми она снимается на год.
В этом-то скучном городе в один прекрасный день и объявился новый студент со странной, непривычной для слуха фамилией — Миклухо-Маклай. Никто не мог определить, человеку какой национальности принадлежит она. Строили разные догадки.
Миклухо-Маклай не входил ни в одну из корпораций. На улицах появлялся редко. Его видели только в аудиториях и коридорах университета. Новый студент прилежно занимался медициной. Он был нелюдим, не искал знакомств.
Но однажды студенты были удивлены не совсем обычным фактом: Миклухо-Маклай появился в ресторане. Он пил вино, смеялся и о чем-то оживленно разговаривал с молодым русским князем Мещерским, по каким-то делам приехавшим из Иены в Лейпциг. Оказывается, они земляки! И Миклухо-Маклай не перс, не турок, как предполагали вначале, а русский.
— Один вид этого дрянного Лейпцига вызывает у меня зубную боль, — говорил Мещерский Миклухо-Маклаю. — И что за фантазия — поселиться здесь? Иена — другое дело… А вообще-то паршивая заграница надоела до тошноты.
Они сразу же прониклись доверием друг к другу. Вспомнили общих знакомых по Петербургу, а потом оказалось, что их семьи связаны каким-то очень отдаленным родством.
— Ваша новая фамилия меня сперва озадачила, — признался Мещерский. — О Миклухе из Гейдельберга я слышал ранее. А здесь вдруг встречаю некоего Миклухо-Маклая.
— Не подумайте, что я решил пооригинальничать и специально придумал себе столь замысловатый псевдоним, чтобы подурачить добрых людей. Это наша родовая фамилия. Откуда взялась она? По-видимому, дело обстояло так: во всех малороссийских поселениях каждый, помимо официальной фамилии, имеет еще кличку, «уличное» прозвище. Один из предков в разветвленном роде Миклух носил ушастую шапку — малахай, или, по-местному, «махалай», «махлай». Отсюда и пошло прозвище — Махлай. Фамилия и прозвище постепенно слились. А так как слово «махлай» имеет еще и другое значение — «олух», «недотепа», то мой прадед Степан, хорунжий казачьего полка, человек весьма самолюбивый, под казенными бумагами стал подписываться «Миклухо-Маклай» вместо «Миклуха-Махлай». Лихой вояка прадед Степан был героем моего детства. Я всегда представлял себе его на коне, в широченных шароварах, в епанче, с люлькой в зубах. Одним словом, вылитый Тарас Бульба.
Миклухо-Маклай… Мне нравится эта двойная фамилия. Я решил принять ее. Кроме того, в Петербурге недолюбливают Николая Миклуху.
В Петербург Миклуха больше не вернется. Туда вернется Миклухо-Маклай, человек, получивший образование за границей, может быть, уже в какой-то степени известный в научных кругах. У меня с некоторых пор появилась одна весьма интересная мысль, вернее — зародился грандиозный план. Известность сама по себе мне не нужна. Но для того чтобы заставить других прислушиваться к моему голосу, я должен добиться ее любой ценой. Я обязан обратить на себя внимание — в противном случае мой великолепный план останется только планом…
Затем заговорили о последних событиях, о Траугутте, Домбровском, Чернышевском, Герцене.
Князь Мещерский был таким же нищим студентом, как и Николай Миклуха. Прореха на рукаве пиджака князя была стыдливо заштопана черными нитками. Оба испытывали рабскую зависимость от родных.
А как сказал Фихте: «Если князья станут рабами, то они научатся уважать свободу».
Обоих волновала судьба Чернышевского. Миклуха рассказал о своей неудачной попытке помочь узнику. В глазах Александра Мещерского блеснули слезы, он порывисто схватил руку Николая и сказал:
— Вы благородный человек! Я преклоняюсь перед вами. Мой долг — помочь вам. В Лейпциге известности вы не добьетесь: здесь никому нет дела до вас. Завтра же мы едем в Иену. Я познакомлю вас со знаменитым Эрнстом Геккелем. Он читает специальный курс — «Теория Дарвина о родстве организмов». Там же читает лекции по сравнительной анатомии известный Карл Гегенбаур… Это как раз то, что вам нужно.
О профессоре кафедры зоологии Иенского университета Эрнсте Геккеле Миклухо-Маклай уже слышал. Это был ярый приверженец учения Чарлза Дарвина. Его пылкие воинственные лекции привлекали студентов всех факультетов.
— Он совсем молодой, — говорил Мещерский. — Ему всего лишь тридцать два года. А уже защитил докторскую диссертацию. Сейчас трудится над «Общей морфологией организмов»…
Да, это именно тот человек, о встрече с которым мечтал Николай Миклуха. Он не стал долго раздумывать.
Еще до начала зимнего семестра 1865/66 года Миклухо-Маклай перебрался в Иену — маленький университетский городок, удаленный от железной дороги. Тихая Иена ему понравилась. Поселился он в одном доме с Александром Мещерским.
Мещерский хоть и учился на камеральном факультете, но близко был знаком с профессорами всех факультетов. Он вызвался представить своего друга Геккелю. Но Миклухо-Маклай наотрез отказался:
— Я сам представлюсь ему…
От Иены до Веймара, где жил и писал великий Гёте, рукой подать. С благоговейным волнением переступил Миклухо-Маклай порог рабочего кабинета Гёте. Узкая продолговатая комната, скупо освещенная двумя небольшими окнами, простой круглый стол, книжные полки. Здесь создавался «Фауст». Здесь губы поэта впервые прошептали бессмертные строки:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой…
Миклухо-Маклаю казалось, будто он прикоснулся к вечности. Для него Гёте был не только поэтом, но и гениальным ученым. Со страниц своих книг он словно отвечал на выношенные в глубине сердца мысли Миклухо-Маклая: «Национальная ненависть — странная вещь. На низших ступенях образованности она проявляется особенно сильно и горячо. Но существует ступень, где она вполне исчезает и где чувствуешь счастье и горе соседнего народа так же, как своего собственного. Эта ступень соответствует моей натуре, и я укрепился на ней задолго до того, как мне минуло шестьдесят…»
Так на какой же ступени образованности находился великий Гегель?… Откуда эта физиологическая ненависть к человеку иной национальности? Где корни подобной ограниченности? Откуда берутся люди, подобные французскому аристократу графу Артуру Гобино, который в своем «Трактате о неравенстве человеческих рас» доказывает, что высший расовый тип на земле — белокурые «арийцы»? По мнению Гобино, упадок великих цивилизаций — результат смешения их арийских создателей с «низшими», покоренными расами. Потомками высшей «арийской» расы во Франции, конечно, являются только аристократы. Гобино не одинок. Еще в 1854 году американские антропологи Нотт и Глиддон выпустили книжонку «Типы человечества», в которой, захлебываясь от ненависти, доказывают, что негры составляют особый вид, близкий к человекообразным обезьянам. Нотту и Глиддону вторят палеонтолог Агассия и основатель Лондонского антропологического общества Джемс Гент.
Все дело, видите ли, в том, что негры, белые, монголы и другие расы возникли независимо в различных местах и резко отличаются друг от друга неизменными и глубоко заложенными в их природе свойствами. А Карл Фогт, которого Николай Миклуха проштудировал еще в Петербурге, считающий себя сторонником Дарвина, договорился до того, что будто бы американские индейцы произошли от американских обезьян, негры — от африканских, негритосы — от азиатских. И у этой мудрой теории есть даже свое название — полигенизм. Видового единства человечества не существует, утверждают полигенисты. Все ученые разделились на два противоположных лагеря: на полигенистов и на моногенистов, доказывающих, что человек возник в одном месте, а затем расселился по земле, что и привело к образованию расовых различий под влиянием климата и других географических условий.
Какой бы областью науки ты ни занимался, ты в конце концов неизбежно выскажешь свое отношение к этому проклятому вопросу века. Для тебя, как для ученого, это пробный, камень. Кем бы ты ни был — зоологом, поэтом, общественным деятелем, философом, экономистом, — ты вынужден будешь высказать свое отношение к расе. Ты или моногенист или полигенист, если даже не знаешь этих мудреных словечек.
Чернышевский, Бэр, Сеченов — как различны эти люди по своим воззрениям! Никогда они не собирались вместе и не беседовали. Но есть и то общее, что объединяет их, — они моногенисты. «Рабовладельцы, — говорит Чернышевский, — были люди белой расы, невольники — негры; потому защита рабства в ученых трактатах приняла форму теории о коренном различии между разными расами людей». И еще: «Мы убеждены, что и негр отличается от англичанина своими качествами исключительно вследствие исторической судьбы своей, а не вследствие органических особенностей».
Об американском расизме Карл Бэр пишет: «Не есть ли такое воззрение, столь мало соответствующее принципам естествознания, измышление части англо-американцев, необходимое для успокоения их совести? Они оттеснили первобытных обитателей Америки с бесчеловечной жестокостью, с эгоистической целью ввозили и порабощали африканское племя. По отношению к этим людям, говорили они, не может быть никаких обязательств потому, что они принадлежат к другому, худшему виду человечества. Я ссылаюсь на опыт всех стран и всех времен: как скоро одна народность считает себя правою и несправедливо поступает относительно другой, она в то же время старается изобразить эту последнюю дурною и неспособною и будет высказывать это часто и настойчиво».
Для жизнерадостного, полного энергии Сеченова этой проблемы всерьез словно не существует. Он как бы вскользь говорит: «Моя мысль следующая: умного негра, лапландца, башкира европейское воспитание в европейском обществе делает человеком, чрезвычайно мало отличающимся, со стороны психического содержания, от образованного европейца». Оказывается, характер психического содержания человека дается воспитанием и только на какую-то тысячную-долю зависит от индивидуальности.
Итак, симпатии Миклухо-Маклая целиком на стороне моногенистов. Целый сонм ученых — убежденные моногенисты. Казалось бы, все ясно.
Так почему же до сих пор продолжается этот затянувшийся спор? А возможно, он будет продолжаться из века в век… По-видимому, еще не все ясно. Доводы рассудка — еще не окончательный аргумент в споре. Между двумя лагерями идет ожесточенная борьба. Расисты еще не разоблачены до конца, не пойманы с поличным. Есть слово «антропология». Есть антропологи. Есть антропологические труды. Есть даже антропологические общества. Словно грибы после дождя, они появились в Париже, в Москве-, в Лондоне, в Мадриде. Но как ни удивительно, до сих пор не существует строгой доказательной науки о человеке. Антропологию пока что нельзя назвать наукой. Она находится в зачаточном состоянии, где-то на задворках наук и не оформилась еще как самостоятельная научная дисциплина. Даже сам термин «антропология» не получил еще четкого содержания. Как говорит Чернышевский: в то время как естественные науки уже «вышли в люди», науку о человеке — антропологию еще нужно «вывести в люди», чтобы она стала такой же точной, как математика и химия.
«Вывести в люди» науку о человеке!» — вот она, та грандиозная цель, которой можно отдать всю жизнь. Об этом мечталось в бессонные ночи. Разрушить злые чары полигенистов и расистов всех мастей, нанести сокрушительный удар по всем их бредовым теориям. Раздавить гадину оружием фактов, выбить из рук изуверов все их жалкие псевдонаучные доводы!.. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть. Господа колонизаторы без боя не сдадут своих позиций. А он, Миклухо-Маклай, пусть на первых порах одинокий боец, ринется на них со скальпелем в руках, вооруженный до зубов неопровержимыми фактами. А когда будет доказан факт физической и психической равноценности человеческих рас, вот тогда во весь голос можно заговорить о принципе их равноправия.
Великие дерзкие мечты, внутреннее горение… Кто бы мог предположить, бросив взгляд на худого бледного студента в заплатанном пиджачке, что в голове этого апатичного на вид юноши теснятся подобные мысли? Не смешон ли он в своих высоких стремлениях, в своих исканиях, в своей маниакальной уверенности, что он что-то значит в этом мире? Слабая искорка мысли, способная погаснуть лишь оттого, что этому постоянно больному юноше может не хватить каких-то презренных талеров на обыкновенный суп… И не звучит ли в его ушах нахальный въедливый голос Мальтуса: «Человек, пришедший в занятый уже мир, если родители не в состоянии прокормить его или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет права требовать какого бы то ни было пропитания, и в действительности он лишний на земле. На великом жизненном пиру для, него нет места. Природа повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести в исполнение свой приговор»?
Да, он пришел в мир. А негодяи сказали ему: ты лишний человек в Российской империи, и тебе нет места на жизненном пиршестве. Ты еще ничего не сделал, никто еще не воспользовался твоим трудом и воспользуется ли когда-либо? Да и в состоянии ли твои родители прокормить тебя?… Только сытый имеет право на существование…
И ты хочешь бросить вызов целому легиону сильных сытых людей, вооруженных и пушками, и религией, и казенной философией, легиону тех самых людей, на службе у которых целая армия профессоров, непререкаемых авторитетов, звезд первой величины в науке, партии всех направлений, свора оголтелых журналистов и, наконец, сокровища всего мира, сам его величество златой телец!
Не слишком ли ты самонадеян, нищий студент Миклухо-Маклай? Не раздавят ли тебя, как назойливую мошку? Ты с обожанием будешь глядеть на твоего нового учителя Эрнста Геккеля, ловить каждое его слово. Он будет всегда улыбаться тебе мягкой улыбкой и даже выделит тебя из остальной массы, ибо нет ученика более способного, чем ты. Но не касайся только проклятого вопроса. Помни, это пробный камень. И если ты не хочешь увидеть волчий оскал зубов, не касайся проклятого вопроса. Внимай смиренно, как и подобает лучшему ученику. А когда ты все же коснешься проклятого вопроса, тогда пеняй на себя…
Миклухо-Маклай увидел Геккеля. Случилось это на одной из лекций зимнего семестра. В аудиторию быстро вошел человек выше среднего роста, с подковообразной бородой и старательно расчесанными рыжеватыми усами. Его глаза лучились весельем, в складках губ была зажата добродушная усмешка. Создавалось впечатление, будто Миклухо-Маклай уже встречался с ним не раз. Выглядел Эрнст Геккель несколько старше своих тридцати двух лет. Может быть, солидность и некую торжественность придавали ему длиннополый старательно выглаженный пиджак, педантично застегнутый на все пуговицы, светлый жилет и аккуратно заправленный под него галстук. Безукоризненная белизна воротничка рубашки сразу же бросалась в глаза.
Это был профессор, сознающий свое высокое положение и вместе с тем, по-видимому, простой, обходительный человек. Миклухо-Маклай сразу же проникся к нему симпатией.
Эрнст Геккель заговорил. Голос у него был приятного тембра, спокойный, какой-то домашний. Он поздравил господ студентов со сдачей «физикума», сострил что-то насчет студента Фоля из Женевы и незаметно перешел к вводной лекции.
Миклухо-Маклай слушал затаив дыхание. Постепенно напряженное внимание сменилось восторгом. Пожалуй, у Чарлза Дарвина нет другого более блестящего популяризатора. Да только ли популяризатора! Более убежденного сторонника и продолжателя… Какая глубина и ясность мысли! Вот он, истинный борец за эволюционное мировоззрение, мужественный, страстный…
— Пусть ученик поднимет руку на учителя, если учитель не прав! — провозглашал Геккель. — Я не причисляю себя к материалистам. Мое мировоззрение — монизм. Но называйте меня как угодно — я отстаивал и буду отстаивать мысль Ламарка о происхождении человека от высокоразвитой вымершей обезьяны, а также дарвиновское положение об общности зародышевого строения и связи его с общностью происхождения, его «борьбу за существование» и «естественный отбор»…
Миклухо-Маклай не пропускал ни одной лекции Геккеля. Другой его страстью сделалась сравнительная анатомия. В анатомическом кабинете Иенского университета магом и волшебником был ученый с мировым именем Карл Гегенбаур, один из основоположников филогенетического направления в сравнительной анатомии, последователь Дарвина и друг Геккеля. Одно время он занимался эмбриологией беспозвоночных, а теперь целиком посвятил себя изучению сравнительной анатомии позвоночных.
Есть люди, которые не переносят вида крови, трупного запаха. Миклухо-Маклай не принадлежал к ним. Во всем он старался видеть естество и только естество. Ему ли, избравшему сознательно науку как форму борьбы за переустройство общества на справедливых началах, бояться крови! Человек, идущий к цели, должен обладать железными нервами, твердостью характера, упорством и терпением.
Наконец-то определился круг его научных интересов; Николая больше всего занимает проблема изменения форм организмов под влиянием условий внешней среды. Это великая загадка природы, и ее нужно разгадать. Вот почему так тщательно конспектирует он лекции, снабжает их рисунками, привлекает дополнительный материал. Гегенбаур привил ему интерес к изучению головного мозга позвоночных и нервной системы. Геккель, занимающийся губками, весьма часто привлекает к лабораторным работам Миклухо-Маклая и студента Фоля. Николай продолжает посещать лекции философского и юридического факультетов. Анатомия человека, сравнительная анатомия и зоология, медицинские науки — все, что имеет какое-нибудь отношение к человеку, к проблеме изменения форм организмов под влиянием среды, привлекает его. Он очень много читает, изучает минералогию и кристаллографию. Науки о Земле тоже нужно знать. Он старается не разделять дисциплины на любимые и нелюбимые, а все же, как ни странно, не может преодолеть отвращения к ботанике. Цветочки, травки… Откровенно говоря, география его тоже не особенно занимает. Да он и не собирается быть географом.
Нет, не географические открытия нужны Миклухо-Маклаю. Он должен прежде всего открыть человека — самый необследованный материк.
Иенский период жизни Миклухо-Маклая не богат внешними событиями. Это была скорее некая внутренняя жизнь, скрытая от посторонних глаз. Лекции, лекции и снова лекции. Старая история с деньгами: его записные книжки полны всяческих денежных расчетов. Презренных талеров по-прежнему не хватает на все. Даже письма к родным не всегда удается оплатить и приходится отправлять их нефранкированными. Мать выбивается из сил. Те же пуговицы, чай и даже нужные книги она вынуждена высылать из Петербурга сюда, в Иену. Иногда выручает Мещерский, но чаще всего он и сам сидит без гроша, и тогда приходится выпрашивать у кого-нибудь из студентов в долг. Долги растут в геометрической прогрессии. Случается, они с Мещерским берут один обед на двоих. Такой обед — тарелка супа, полпорции мяса, комок просоленного творога — стоит недорого: всего пять зильбергрошей! Но даже эти пять зильбергрошей, или пятнадцать копеек на русские деньги, не всегда можно раздобыть.
Опять разболелись глаза. Не так давно великий Геккель неожиданно прервал лекцию и, обращаясь к Николаю, громко сказал:
— Вы слишком усердно занимаетесь. Обратите внимание на свои глаза…
В другой раз он заинтересовался конспектами. Миклухо-Маклая и продержал их у себя, целую неделю.
— Вы очень опрятны, — похвалил он. — Аккуратность и система — мой символ веры. Но дело в конечном итоге не в опрятности. Ваши конспекты поразили меня своей вдумчивостью, проникновением в сущность предмета. Нам с вами не мешает потолковать. Если располагаете временем, милости прошу в воскресенье…
Подобной чести еще не удостаивался никто из студентов. Даже Александр Мещерский был удивлен до крайности. Он покачал головой и рассмеялся:
— Я знаю Геккеля: тут что-то не так. Чем вы его подкупили, черт возьми? Только не надейтесь на профессорский обед. Самое большее, на что можете рассчитывать, это чашка кофе с цикорием и. ломоть «домашнего хлеба». Хаусброут! А я дьявольски соскучился по нашему русскому ржаному с крупной солью и луковицей величиной с кулак. Вы говорите о социальной справедливости, а где она, если русский князь ходит в потертых штанах и мечтает о куске ржаного хлеба? Вот так люди становятся, социалистами.
Приглашение Геккеля взволновало и озадачило Миклухо-Маклая. В самом деле, чему он обязан столь высокой чести? Не конспектам же?…
С бьющимся сердцем приближался он к дому Геккеля. К своему удивлению, у Геккеля он застал студента Фоля из Женевы.
— Значит, вы из Киева, господин Миклухо-Маклай? — почему-то решил Геккель. И неожиданно добавил: — Как вам известно, сейчас я работаю над губками. Мне нужны помощники. Вас, господин Миклухо-Маклай, я назначаю своим ассистентом. Вы, Фоль, будете специализироваться по кишечнополостным. Возможно, нам в скором времени придется выехать куда-нибудь в Африку. Сопровождать нас будет приват-доцент из Бонна Рихард Греф.
И внезапно Геккель рассмеялся: Миклухо-Маклай и Фоль сидели с открытыми по-рыбьи ртами — они не верили собственным ушам! Африка, Ливингстон…
— Ну, может быть, не в глубь Африки, а, предположим, в Марокко или на Канарские острова, — поправился Геккель, — Что вы скажете на это?
— Мы зарекомендуем себя! — вырвалось у Фоля.
— А вы не боитесь тамошних блох? Не смейтесь, господа. Канарские блохи — это подлинный бич божий. Блохи, клопы, тараканы, мухи, комары… Впрочем, мы увлеклись деловыми разговорами: Марта уже делает знаки — обед остынет. Прошу к столу!
Опасения Мещерского насчет профессорского обеда не оправдались: профессор Геккель любил вкусно поесть и оказался настоящим хлебосолом. Но, как на грех, у Миклухо-Маклая пропал аппетит.
В июле 1866 года Миклухо-Маклаю исполнилось двадцать лет. Теперь он мало походил на того юношу, который два года назад прибыл в Германию: отпустил роскошную бороду, даже более роскошную, чем у Геккеля; и без того пышная шевелюра на голове Маклая разрослась еще больше и сияла медным блеском. Несмотря на голодную жизнь, он сильно возмужал и окреп.
Перед поездкой на Канарские острова он гостил несколько дней у Германа Фоля в Женеве.
Геккель был прав: канарские блохи могли свести с ума самого закаленного человека. Эти скачущие твари залезали в уши, в ноздри, под нижнее белье. Тело зудело, как от крапивы. Эрнст Геккель самолично убил за один месяц шесть тысяч блох! С немецкой пунктуальностью каждое утро он подводил итог охоты на блох, клопов, тараканов и делал пометки в своей записной книжке.
Канарские острова… Только благодаря счастливой случайности удалось так быстро добраться сюда. На Мадейре путешественники задержались ненадолго: в Фунчал совершенно случайно зашел прусский крейсер «Ниоба», направлявшийся в Гавану. Командир корабля охотно согласился высадить натуралистов на острове Тенериф.
— Нужно уметь управлять случайностями, и тогда они к вашим услугам, — изрек Геккель.
Океан, вулканические острова с их кокосовыми и финиковыми пальмами, белая, словно призрачная, пирамида Пико-де-Тейде… Когда вам всего-навсего двадцать лет, когда позади остались душные аудитории и кабинеты, лекции, конспекты и убогая затворническая жизнь, и небо и океан кажутся особенно солнечными, праздничными.
Научившийся скрывать свои чувства Миклухо-Маклай молча переживал свой восторг, свою острую влюбленность в этот красочный, такой солнечный мир.
— Завтра мы совершим восхождение на Тенерифский пик, — сказал Геккель. — К счастью, и у Фоля и у вас уже есть основательная подготовка к подобным предприятиям.
Буднично, деловито. Как будто само собой разумеется, что всякий очутившийся на острове Тенериф обязан совершить восхождение на эту знаменитую вершину Пико-де-Тейде, поднимающуюся над океаном на 3 718 метров.
В тот же день они отправились из Санта-Крус через Ла-Лагуну в Ла-Оротаву.
В проводники вызвался веселый, уже довольно пожилой испанец с плутоватыми глазами и нагловатой улыбкой профессионального вора. Он был черен, как головешка, только поблескивали белки глаз. Носил испанец потертую бархатную куртку, такие же панталоны, кожаные гетры. Получив задаток, он снял шляпу, церемонно раскланялся, а затем заявил «сеньорам», что должен отнести деньги жене, так как дети не ели со вчерашнего дня.
— Можете, профессор, проститься со своими денежками, — сказал приват-доцент из Бонна Греф.
— Похоже на то, — согласился Геккель. — С этими пройдохами нужно рассчитываться в конце.
Греф заговорил с испанцем. Тот внезапно помрачнел, гордо выпрямился, топнул ногой и швырнул деньги на землю:
— Tengo una palabra!
— Что он сказал? — спросил Николай.
— Он говорит: «Всегда держу свое слово!» Он, видите ли, потомок древних гуанчей и не терпит унижения.
— Tengo una palabra… — задумчиво повторил Миклухо-Маклай. — Это звучит, как девиз.
Смущенный Геккель подобрал монеты и снова передал их проводнику. Тот удовлетворенно улыбнулся и, помахав рукой, скрылся за углом.
Николай почему-то проникся доверием к проводнику и не сомневался, что тот явится в назначенный час. И в самом деле, испанец сдержал свое слово.
25 ноября 1866 года началось утомительное восхождение на Тенерифский пик, покрытый в это время снегом.
И Николай Миклухо-Маклай ощутил блаженный холод высоты. Он стоял на окаменевшей лаве, а внизу простирался океан, темный, как деготь. На юго-востоке поднимались скалистые берега острова Гран-Канария. И только берегов Сахары ему не удалось увидеть — даль была затянута фиолетовой дымкой.
Теперь, когда это свершилось, он мог с полным правом назвать себя путешественником. Этого уже не вычеркнешь из жизни, это произошло… Может быть, именно здесь, у Ледяной пещеры, стоял Гумбольдт и, полный восторга ощущения свободы, взирал на океан…
И лишь на Лансароте, куда натуралисты переправились на паруснике, восторг Миклухо-Маклая сменился унынием. Есть же на земле столь пустынные места: ни кустика, ни ручейка! Цепь вулканических кратеров, темные лавовые потоки.
Ему поручено заниматься губками и рыбами. Прежде чем перейти к изучению человека, исследователь обязан заглянуть в самый фундамент органической жизни. Низшими представителями многоклеточных животных являются губки. Это довольно странные организмы. Они ведут сидячий образ жизни. Не имеют нервной ткани, клетки их тела независимы друг от друга.
Миклухо-Маклай кладет на ладонь грушеобразный комочек жизни размером в два-три сантиметра и пытливо разглядывает его.
Черт возьми, они очень приспособлены к своей среде, эти комочки! Они почти бессмертны. Если губку протереть через сито, то это еще не значит, что вы ее уничтожили. Опустите полученную массу в морскую воду — пройдет не так уж много времени, и из этой кашицы образуется новая губка. Тут есть над чем призадуматься. Губки живут, усваивают пищу, размножаются. Кстати, размножаются двумя способами: половым и почкообразованием. Они образуют на дне моря колонии, напоминающие разветвленные деревца самой различной окраски: медно-красные, сернисто-желтые, белые, голубые. Губка легко восстанавливает утраченные части.
Дьявольская приспособляемость!
На покрытых водорослями потрескавшихся массах лавы, образующих низкий берег гавани Порто-дель-Арресифе, встречаются и совсем крошечные губки, не превышающие в длину двух миллиметров, очень красивые с виду. Эти-то. маленькие губки и привлекали внимание Миклухо-Маклая. Иногда бывают счастливые находки — праздник первооткрывателя.
Собственно говоря, все и началось с этой своеобразной губки, открытой Маклаем. Он назвал свою губку Гуанча бланка — в честь древних обитателей Канарских островов, красивых, рослых, светлокожих людей гуанчей, истребленных к началу XVII века колонизаторами. Гуанчи (то есть люди) жили в пещерах, не знали употребления металлов и орудия выделывали из обсидиана и базальта. (Позже они будут признаны последними представителями кроманьонской расы, дожившими до наших времен.) Остатки гуанчей смешались с испанскими колонистами, утратили свои обычаи и язык. Гуанчи уничтожены, но пусть имя этого племени живет в науке!
Маклай засел за микроскоп. Пол хижины с незастекленными окнами, в которой обитали натуралисты, вскоре был уставлен банками с губками Гуанча бланка. Постепенно молодой исследователь приходил к выводу, что он в самом деле открыл новый вид, неизвестный науке, и что, как ни разнообразна форма этой губки, все это лишь различные модификации одного и того же зоологического вида, зависящие от возраста и окружающих условий.
Своими наблюдениями он поделился с Геккелем. Профессор выслушал его очень внимательно и сказал:
— Да, вы далеко пойдете, мой друг. У вас аналитический склад ума. Я должен проверить ваши выкладки.
Спор вспыхнул вечером. Обычно подобные вечера проходили довольно мирно. Участники маленькой экспедиции, безмерно истомленные иссушающим ветром, дующим с материка, обменивались мнениями о проделанной за день работе. Эрнст Геккель, как и подобает учителю, делился своими замыслами, планами на будущее.
Чем ближе узнавал Геккеля Миклухо-Маклай, тем все более противоречивые чувства завладевали им.
Сверкающий ум выдающегося натуралиста Геккеля! Имя его навсегда останется в науке. Он говорил о мировых загадках, о своей новой книге «Естественная история мироздания», над которой сейчас работает. Это он, ученик Дарвина, создал знаменитое «родословное древо» животного мира и генеалогическую схему человека. Еще до Дарвина его острый ум охватил все разнообразие животного мира от монеры до человека. Это Геккелю принадлежит мысль о существовании в историческом прошлом промежуточной формы между обезьяной и человеком — питекантропа.
Захватывало дух от одного ощущения огромности горизонта видения этого необычайного человека, убежденного материалиста не на словах, а на деле.
В такие часы Маклаю казалось, что Геккель обладает некоей сверхпрозорливостью, недоступной обыкновенному смертному, а собственное открытие представлялось мизерным, ничего не значащим.
Но был и другой Геккель, которого не любил Миклухо-Маклай. Иногда Геккеля словно подменяли. Исчезала мягкая улыбка, зажигалось нечто хитровато-звериное в его бесцветных глазах, и появлялся некий одержимый дервиш, вещающий что-то совсем несуразное. Геккель начинал доказывать, что дарвинизм по своему существу является антисоциалистическим учением. В человеческом обществе идет непримиримая борьба за существование, в которой побеждает человек, принадлежащий к высшей расе. Субстанция непознаваема. Наука должна иногда давать место вере: пусть будет создана новая религия — «религиозный атеизм».
И всю эту галиматью проповедовал тот самый Геккель… из-под благообразного облика ученого начинала проглядывать личина ограниченного пруссака, шовиниста, обскуранта.
В этот вечер Эрнст Геккель сказал:
— Я поздравляю вас, мой друг: наука обогатилась новым видом. Ваша Гуанча бланка в самом деле многоформенна. Однако мне кажется, что различные ее модификации следует рассматривать в качестве самостоятельных родов…
Утверждение Геккеля было путаным. Миклухо-Маклай, сознательно приучавший себя к выдержке, сейчас потерял самообладание. Он побледнел, но внешне спокойно произнес:
— Разрешите не согласиться с вами, герр профессор. Гуанча бланка — отдельный вид, и нет смысла делить ее на роды и отряды.
Геккель нахмурился:
— Мы можем каждый остаться при своем мнении, — и раздраженно добавил: — Гуанча бланка — странное для слуха ученого наименование. Я советовал бы вам в подобных случаях придерживаться существующей классификации Шмидта.
— Я мало искушен в систематике, но мне сдается, что уже назрела необходимость в изменении принятых принципов систематизации губок, — ответил Маклай. — А если говорить по совести, то мне хотелось таким образом еще раз напомнить, что некогда на Канарских, островах, которые в те времена назывались «счастливыми», жил гордый свободный народ, гуанчи, истребленный любителями легкой наживы, проходимцами наподобие торговца шпагой барона де Бетанкура, залившего кровью эти острова.
— Ого! Мы сегодня, кажется, не в духе. Лично я с большой симпатией отношусь к Жану де Бетанкуру. То был человек необычайной силы воли, талантливый полководец. По сути, завоеванием Канарских островов было положено начало европейской колонизации, а остров Лансароте, где мы находимся, — первая цитадель завоевателей. Отсюда все и пошло. Ну, а что касается всяких там гуанчей, папуасов, альфуров, веддов, акка и прочих дикарей, то я считаю, что они в интеллектуальном отношении стоят ближе к антропоморфным обезьянам и другим высшим млекопитающим, чем к культурным европейцам. Их участь — исчезновение с лика земли. И чем скорее они исчезнут, тем лучше для нас и для них. В природе действует естественный отбор. В борьбе за существование побеждает наиболее приспособленный, сильный — выдающаяся белая раса. Я считал и считаю, что морфологические различия между расами больше, чем между видами животных. Приближение к образу нашего животного предка представляют современные дикари. Утверждения догматиков-моногенистов не имеют под собой никакой научной основы: видового единства человечества не существует. Это абсурд!
Миклухо-Маклай встал:
— Ваши рассуждения кажутся мне кощунственными, недостойными истинного ученого. Думаю, Дарвин, последователем которого вы себя считаете, придерживается несколько иного взгляда. А известный вам Карл Бэр…
Николай вышел из хижины. За ним последовал Герман Фоль.
Миклухо-Маклай чувствовал себя учеником, поднявшим руку на учителя. Нервы начинают сдавать. Во всем виноваты проклятые блохи. Дрянной островок Лансароте! Даже рыб для исследований приходится покупать на крайне скудном рынке. А канареек, знаменитых канареек здесь нет и в помине. Кстати, Канарские острова получили свое название вовсе не от канареек. «Канис» — по-латыни «собака». Больших собак местной породы еще застали испанцы в конце XIV столетия. Значит, Геккель — полигенист… Вот тут и конец его монизму.
Миклухо-Маклай много размышлял о расовом происхождении канарийцев. Одни считали их ветвью берберской расы, другие относили их к баскам. Этот спор не был решен и поныне. Изучение черепов и костяков гуанчей еще больше запутало вопрос. Вот тогда-то Миклухо-Маклай впервые подумал, что строение черепа — это далеко еще не решающий признак для опознания расовой принадлежности.
С того памятного вечера между Миклухо-Маклаем и Геккелем установились сугубо официальные отношения. Они больше не фотографировались, дружески обнявшись, не говорили о загадках мироздания. Все как-то поскучнели, сделались раздражительными.
Лопнуло терпение и у Геккеля.
— Хватит! — сказал он как-то в конце февраля. — Блохи заели нас вконец. Будем свертываться — и в Марокко!
Так после трех месяцев пребывания на острове Лансароте, раньше срока на целый месяц, экспедиция покинула Канарские острова.
2 марта 1867 года натуралисты переправились на побережье Марокко, в Могадор.
Так вот она, таинственная Африка! Где-то в глубинах черного материка все еще скитается изнуренный болезнями Ливингстон. На этот раз он решил пробраться к истокам Нила.
О, если бы в Миклухо-Маклае жила страсть к географическим открытиям! Сколько еще «белых пятен» на карте огромного материка, именуемого Африкой… И кто может с уверенностью сказать, что не Африка станет колыбелью научной славы Маклая?…
— Я решил поработать здесь с неделю, — объявил Геккель.
Миклухо-Маклай и Фоль были несколько разочарованы: оказаться в Африке — и так скоро покинуть ее!
Эрнст Геккель лукаво сощурился:
— Я говорю о себе. Нам с Грефом пора возвращаться в Германию. Все, что нужно узнать о радиоляриях, гидромедузах и голых слизнях, мы узнали. В Иене меня ждет начатая книга о мироздании. Что же касается вас, господа, то, думаю, неплохо будет, если вы ознакомитесь со страной и продолжите свои исследования. Вам, мой друг Маклай, следует проследить, встречается ли Гуанча бланка Маклая на северном побережье Африки.
О этот Эрнст Геккель! Он в самом деле обладает сверхпроницательностью и умеет читать в сердцах.
И пока профессор наслаждался эффектом, произведенным его словами, Миклухо-Маклай и Фоль, перебивая друг друга, строили планы своего будущего путешествия по Марокко.
— Мы переодеваемся в одежду мавров и пешком отправляемся в столицу султанства, — говорил Миклухо-Маклай. — Так безопаснее, и, кроме того, мы сможем узнать скрытую сторону жизни населения.
— Одобряется! — живо согласился Герман Фоль.
И вот они, переодетые в костюмы берберов, бредут по равнинам Марокко. Вдали синеют Атласские хребты. Кто выдумал эту страну, опаленную суховеями? На глинисто-песчаной, красной, как кровь, почве кое-где заросли карликовой пальмы, колючего скрэба и жестколистого маквиса. Лениво проползают медно-красные и зеленые змеи. Бредут караваны одногорбых верблюдов. Под сенью одинокого кедра приютилась семья кочевника. Сухой, горячий воздух, пересохшие русла рек — вади, корка соли на песке…
Африка! В ней есть что-то величественное, древнее. На верху дюны в багряных лучах заходящего солнца виднеется высокая фигура вся в белом. Это костлявый старик с редкой седой бородой. Опершись на посох, он равнодушно провожает глазами двух путников. Что нужно этим чужестранцам, переодетым в марокканское платье? Чего они рыщут здесь, проклятые чужеземцы?…
Переодетые путешественники неожиданно возвращаются, подходят к старику и приветствуют его по мусульманскому обычаю. Сразу видно, что они утомлены трудной дорогой и зноем минувшего дня. Нет, они не вооружены и вовсе не скрывают своего европейского происхождения.
— Я хаким, он хаким, — говорит бородатый. Хаким — значит врач. Путники хотят пить. Они выразительно потряхивают пустыми флягами. Кроме того, они просят приютить их на ночь.
Старый бербер хмурится. Такого еще не бывало: безоружные европейцы просятся на ночлег в берберское поселение! Сразу видно, что оба они страшно молоды и безрассудны. Нет, они не французы и не испанцы.
— Я русский, — говорит Миклухо-Маклай. — Россия… Там, на севере. Далеко-далеко. Петербург, Москва… Он — Женева.
— Россия… — повторяет старый бербер трудное: слово и ведет путников по верблюжьей тропе к колодцу. Волосяная веревка с кожаным мешком. Вода холодная, чуть солоноватая. Они жадно пьют эту воду, пахнущую овечьим пометом. Складки на лбу старика разглаживаются.
— Хаким, — говорит он и смеется.
В поселении их окружают тесным кольцом. Приносят пресные ячменные лепешки. Миклухо-Маклай: и Фоль снимают халаты. Зудит тело, горят босые потрескавшиеся ноги. И пока они растирают тело и ноги спиртом, берберы внимательно следят за каждым их движением.
Миклухо-Маклай уже освоился. На враждебные взгляды молодых берберов он не обращает внимания. Маклай знает, куда он попал. Берберы… Это имя им присвоили пришельцы. Сами себя они называют имазиген или имазирен, что означает «свободный народ». Это они и другие племена образовали в большей части Марокко «страну мятежа», не подчиняющуюся ни захватчикам, ни своему султану. Французы вторглись в Марокко не так давно — все-то каких-нибудь двадцать лет назад. Не легко было захватчикам сломить «страну мятежа»: до сих пор иногда вспыхивают крупные восстания, и султан вынужден искать защиты у своих французских хозяев.
Хаким Маклай сразу же занялся делом: с решительным видом он потребовал показать ему всех больных. Берберы переглядывались, перешептывались — и, наконец, уступили. У Миклухо-Маклая и Фоля появились пациенты, главным образом дети. Пришлось задержаться в деревне на два дня.
Миклухо-Маклай исподволь наблюдал за жизнью «свободных людей». Среди берберов преобладали смуглые, черноволосые, но попадались, правда редко, голубоглазые блондины. Грязь, нищета, засухи и неурожаи, тучи саранчи, опустошающей поля… Такая же грязь и нищета и на Канарских островах, которые когда-то назывались «счастливыми»…
Провожать Миклухо-Маклая и Фоля вышла вся деревня, Им совали в руки кукурузные початки, финики, ячменные лепешки, предлагали проводника и мулов. Странники от всего отказались. Улыбки и дружеские рукопожатия берберов были для них лучшей наградой.
— С пистолетом в руках доверия никогда не завоюешь, — сказал Миклухо-Маклай Фолю. — Все люди одинаковы, каждому народу присуще благородство и милосердие. Только негодяй способен напасть на безоружного. А подлость, как известно, не расовый признак.
Побывав в Рабате на невольничьих рынках, путешественники вернулись в Могадор за оставленным здесь имуществом и коллекциями. Вскоре они уже были на борту английского парохода, отправлявшегося в Европу. Но путешествие по Африке еще не закончилось: пароход останавливался в Сафи, Масагане, Касабланке, Танжере. И, только очутившись в Гибралтаре, они могли сказать: прощай, Африка!
Миклухо-Маклай не торопился в Иену. После Канарских островов и странствий по Марокко вновь оказаться в привычной, набившей оскомину обстановке, хлебать суп и жевать творог за пять зильбер-грошей? Нет! Свободой нужно распоряжаться разумно. До начала зимнего семестра еще несколько месяцев. Это время следует употребить на дело.
Обстоятельства подсказывают вам, господин Миклухо-Маклай: пора выходить в люди! Еще год — и вы самостоятельный человек, закончивший Иенский университет. Но вы пока еще ничем не зарекомендовали себя в научном мире, ваше имя по-прежнему остается неизвестным человечеству. Не нужно думать, что участие в экспедиции, хотя бы даже в качестве помощника такого ученого, как Эрнст Геккель, что-то значит. Правда, еще на Лансароте вы составили весьма интересную работу «Классификация акул по Йог. Мюллеру», одобренную тем же Геккелем. Вы также открыли губку Гуанча бланка, старательно изучали мозг акул, ганоидов и костистых рыб. Но пока что результаты ваших работ не известны никому. Не систематизирован материал и по губкам. Не заставляйте ждать благодарное человечество!
Нужно отдать вам должное: вы не теряли даром времени. В вашей голове зародился новый грандиозный план, — по сути, лишь некая часть еще более грандиозного плана: вы решили, ни больше, ни меньше, написать капитальный труд по сравнительной анатомии мозга. Это будет своеобразная энциклопедия знаний в данной области, краеугольный камень в фундаменте науки о человеке. Все выше и выше взбираетесь вы по ветвистому «родословному древу» животного мира. Первую часть задуманного труда следует посвятить мозгу акул, вторую — мозгу ганоидов и костистых рыб, третью и четвертую — головному мозгу млекопитающих и последнюю — головному мозгу человека. Мозг человека — вот венец всего. Здесь кроется разгадка полноценности рас и видового единства человечества. Пусть человечество немного подождет, и оно будет вознаграждено. Подобной книги не бывало за всю историю науки. Со скальпелем в руках вы раскроете неведомые законы жизни человеческого мозга и ответите на великий вопрос Белинского: кто же подсмотрит работу мозга во время деятельности ума? Подсмотрят ли ее когда-нибудь?
Это вам велит Герцен «проследить жизнь от клеточки до мозговой деятельности».
Миклухо-Маклай хорошо понимал, что собранного материала еще недостаточно для того, чтобы написать подобную работу. Поэтому он решил осмотреть зоологические коллекции в музеях Европы. Он побывал во Франции, в Дании, Норвегии, Швеции.
В Швеции он узнал, что известный полярный исследователь Норденшельд собирается в новую экспедицию. Музеи остаются музеями. Нельзя изучать живое в засушенном и заспиртованном виде. Ледовитый океан!.. Вот она, естественная лаборатория. Целый океан никем не познанной, не изученной жизни… Университет подождет. В университет можно вернуться уже законченным ученым с богатейшим материалом. И тогда раскроются все двери…
Нильс Адольф Эрик Норденшельд, профессор Стокгольмской академии и заведующий минералогическим собранием государственного музея, человек лет тридцати пяти, с гладко выбритым подбородком и пышными усами, холодно выслушал Миклухо-Маклая, нетерпеливо дернул шнурок пенсне и сказал:
— Нет!
Со злыми слезами на глазах ушел Миклухо-Маклай от Норденшельда. Поездки по музеям, попытка попасть в полярную экспедицию — сколько времени потрачено зря!
Пора возвращаться в Иену.
Снова занятия в университете, лекции, анатомический кабинет. Еще более рьяно изучает он анатомию и физиологию человека. Опубликована его статья о рудименте плавательного пузыря у селахий. В иенском журнале появляется вторая его работа о губках Канарских островов. А вслед за этим он сдает в печать большую работу о мозге акул, ганоидов и костистых рыб. Это серьезное самостоятельное исследование с оригинальными выводами. В самом же начале работы двадцатидвухлетний Миклухо-Маклай разбивает укоренившееся истолкование отделов головного мозга рыб. Он бесстрашно бьет по таким авторитетам в данном вопросе, как учитель Геккеля Иоганн Мюллер и академик Карл Бэр.
Даже Гегенбаур убежден его доводами и срочно меняет текст второго издания своего учебника сравнительной анатомии.
Необычайно тщательная, детальная и прекрасно иллюстрированная работа, содержащая большой фактический материал!..
Миклухо-Маклай еще не может знать, что его труд по достоинству будет оценен в науке и навсегда войдет в список основных работ по анатомии мозга. Не мог он знать и того, что этой работой он проложит дорогу таким выдающимся ученым, как Бехтерев, Эдингер, Джонстрн.
Он не щадил себя. Опять разболелись глаза. Нервы взвинчены до крайности. Чай, только чай поддерживает бодрость. Нужно написать матери, чтобы выслала еще несколько пачек. Работать, работать… Работать как вол, без передышки…
И когда приходит письмо из Франкфурта-на-Майне, он долго не может сообразить, от кого оно. Гм, почерк женский. Ах, это та, белокурая… Августа Зелигман. Маклай мучительно припоминает, при каких обстоятельствах они познакомились. Он рассказывал ей о своих скитаниях по Марокко и Канарским островам. Словно объятые огнем каменистые хамады, пыльные финиковые пальмы, сверкающий снегами Тенерифский пик, и океан, бескрайный океан… Она слушала его с расширенными глазами, смотрела на него с обожанием, как на существо из неведомого мира. Должно быть, у нее пылкое воображение, у этой Августы…
Он кладет письмо в стол и мгновенно забывает о нем. Он слишком увлечен работой. Напрасно Августа Зелигман будет ждать ответа. Но Августа не из тех, кто терпеливо ждет. Она шлет новое письмо.
«Уже три дня я жду с нетерпением каких-либо известий от вас. Вы же получили мое письмо, так отчего же не отвечаете? Я жду в ближайшие дни вашего ответного письма с указанием времени, когда вы предполагаете посетить меня, что вы мне обещали. На этот раз одного лишь обещания мне недостаточно. Вы должны приехать и скоро прийти. Я жду вас с нетерпением. Напишите мне сейчас же.
Августа»
Миклухо-Маклай крутит головой: «Я обещал… Тенго уна палабра! Всегда держу свое слово! Вот как, оказывается, опасно обещать, не подумав! С одной стороны — человечество, которому я обещал капитальный труд по анатомии мозга, с другой стороны — женщина, которой я тоже обещал. Человечество ждать не может. Капризная влюбленная немочка подождет. Подумайте, господин Миклухо-Маклай: может быть, вы лишаете себя счастья на всю жизнь, теряете верную подругу, неповторимую любовь? Может быть, Августа именно та единственная, которая разделит с вами все радости и невзгоды? Может быть, может быть… Сейчас единственная задача: как избавиться от этой неповторимой любви? Избавиться раз навсегда и целиком уйти в работу. Черт возьми! Августа Зелигман, разумеется, никогда не читала ни Лермонтова, ни Тургенева. Мы встанем в позу Печорина или же отпетого нигилиста Базарова, и дело с концом… Нам некогда заниматься любовью, мы торопимся к цели. Может быть, когда-нибудь потом…
Да и нужна ли вообще подруга жизни человеку, который преднамеренно обрекает себя на вечные скитания?»
И Миклухо-Маклай пишет:
«На прошлой неделе получил ваше первое письмо, дня два тому назад — письмо от 17 января.
Предпоследнее было для меня несколько непонятно, письмо же от 17 января, скажу откровенно, странно. Откуда это нетерпение? Зачем я должен скоро приехать? Это недоразумение, которое рассеется, когда я расскажу вам, кто я. Несколько часов нашего знакомства были слишком коротким сроком, чтобы узнать меня, так как я сделан совсем не по мерке обычных добрых людей. Наше довольно оригинальное знакомство и обмен двумя-тремя письмами привели к тому, что в вашем воображении составилось совсем неверное представление о моем «я». Отсюда и нетерпение (женщины к тому же очень любопытны). Но тут приходит разочарование: из героя, необыкновенного человека в самом благородном значении этого слова, который желал бы всем помочь и всех изучить, появляется скучающий эгоист, совершенно равнодушный к стремлениям и жизни других добрых людей, и их еще осмеивает; который послушен лишь собственному желанию, стремясь каким-нибудь способом унять свою скуку; который добро, дружбу, великодушие считает лишь прекрасными словами, приятно щекочущими длинные уши добрых людей. Да, милая барышня, я не похож на тот портрет, который нарисовала ваша фантазия. В заключение даю вам совет: когда вы хотите видеть людей прекрасными и интересными, наблюдайте их только издали…
Если набросанный мною портрет вас не испугает, то мы еще увидимся этой весной до вашего отъезда. Когда? Узнаете, когда я приеду. Неожиданное приятнее и интереснее.
На сегодня довольно, — я устал, и тогда писать скучно.
Миклухо-Маклай»
Он отложил перо и улыбнулся. «Скучающий эгоист…»
Я тот, чей взор надежду губит;
. . . . . . . .
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес. Я зло природы…
М-да… Современный враг небес должен отлично знать сравнительную анатомию и пройти курс дарвинизма. Скучать нам некогда, милая барышня Августа! А «злом природы» ныне являются люди, увы, далеко не романтичные: жандармы, попы, помещики, заводчики и, конечно же, колонизаторы. Чтобы вылечить человечество от язвы, нужны доктора. Гейне назвал их «докторами революции», единственными властителями будущего. В России тоже есть «доктора революции». Чернышевский — в остроге, в Александровском заводе, Писарев после четырех с половиной лет одиночного заключения выпущен на свободу. Миклухо-Маклай по-прежнему с глубоким интересом следит за деятельностью Писарева. Революция не свершилась, говорит Писарев. Ну что ж, мы подождем, будем копить силы. «Механический» (читай: «революционный»!) путь сейчас невозможен. Займемся кропотливой «химической» работой: нужно просветить, активизировать «чернорабочий класс», подготовить его к осознанной борьбе. Настала пора расцвета естественных наук и изучения реальной жизни… Прав или не прав Писарев, покажет время, но Маклай с удивлением замечает, что уже давно идет по дороге, указанной Писаревым. Можно быть революционером и в науке. Таким, как Сеченов…
Вот уже четвертый год Николай Миклуха находится за границей. Но родина всякий раз властно напоминает о себе. Он вспоминает, какое смятение и тоску по Петербургу посеяла в нем поэма Некрасова «Железная дорога». Журнал принес Мещерский. Миклухо-Маклай единым духом прочитал поэму, а потом долго сидел ошеломленный, потрясенный.
Вынес и эту дорогу железную!
Вынесет все, что господь ни пошлет!..
Миклуха помнит, как возводили насыпь, как укладывали пропахшие смолой шпалы и рельсы. Ему тогда, наверное, было лет пять, не больше. Все, о чем написал Некрасов, в свое время рассказывал Николеньке покойный отец. Если бы эта поэма появилась при жизни отца!..
Поэма навеяла думы о доме. Как, должно быть, трудно приходится матери! Пора, пора освободить ее от забот о себе…
Тогда же он отправил матери письмо, в котором писал о своем желании освободить ее от расходов на него. На это Екатерина Семеновна ответила, что у нее хватит денег на пять лет пребывания его за границей.
Откуда же берет она эти таинственные деньги? Разумеется, зарабатывает. Помогает Оля. А кроме того, есть еще один источник дохода: практичная Екатерина Семеновна приобрела акции акционерного пароходного общества «Самолет», имеющего до сорока пассажирских пароходов, совершающих ежедневные рейсы от Твери до Астрахани и по Каспийскому морю.
В 1868 году Николай Николаевич Миклухо-Маклай окончил Иенский университет. Можно было возвращаться в Россию. Он ясно представлял, как появится в Петербурге, заведет нужные знакомства в ученом мире. Прежде всего, разумеется, следует познакомиться с Дмитрием Ивановичем Писаревым. Давняя заветная мечта…
Удивительный Писарев! Он всего на шесть лет старше Миклухо-Маклая, Всего на шесть лет. А какая потрясающая энергия, какая острота ума!.. Звезда первой величины на тусклом российском небосклоне. «Физиологические эскизы Молешотта», «Процесс жизни», «Идеализм Платона», «Схоластика XIX века» — эти статьи, составившие целую эпоху в умственной жизни России, написаны Писаревым, когда ему было немногим более двадцати лет. И как позорно мало за то же время сделал Николай Миклуха!..
Бывают моменты, которые переворачивают всю жизнь; до невероятия неожиданно пришло известие — погиб Писарев!
Мысль не хотела мириться с этим. «Не может быть, не может быть!.. — сдерживал рвущийся крик Миклухо-Маклай. — Это несправедливо… Угаснуть так рано, не совершив задуманного…»
Одиноко бродил он по улицам Иены. Все сделанное им за последний год после путешествия показалось жалким, крошечным, недостойным внимания. Как позорно мало сделано!
Какой светильник разума угас…
Нет, сейчас возвращаться в Россию рано. Прозябать на третьестепенных ролях, быть мелким чиновником от науки, а попросту говоря — еще, может быть, на долгие годы отказаться от осуществления своих больших планов, быть на побегушках у великих князей и господ, присвоивших себе высокие ученые титулы.
«Я слишком хорошо знаю вас, господа: вы привыкли преклоняться перед титулами, званиями, перед иностранными авторитетами. Талантливого соотечественника вы не ставите ни в грош, травите его, подвергаете насмешкам и издевательствам. Но стоит тому же соотечественнику мало-мальски прославиться за границей, как вы принимаете его с распростертыми объятиями, распахиваете перед ним все двери, заискиваете…
Чтобы общаться с вами, господа, нужно обладать мудростью змия, быть неуязвимым, быть величаво-солидным и не подпускать вас на близкое расстояние, не позволять похлопывать себя по плечу, заставлять вас служить себе, быть непроницаемым, в совершенстве владеть туманной наукообразной терминологией, а главное — не раскрывать своих сокровенных планов и мыслей. Вас следует ставить перед свершившимся фактом. Это о вас, господа, сказал Герцен: «Люди так поверхностны и невнимательны, что они больше смотрят на слова, чем на действия, и отдельным ошибкам дают больше веса, чем совокупности всего характера. Что тут винить… человека, — надобно винить грустную среду, в которой всякое благородное чувство передается, как контрабанда, под полой да затворивши двери; а сказал слово громко, так день целый и думаешь, скоро ли придет полиция…»
Мы вернемся в Россию тогда, когда почувствуем себя во всеоружии. А сейчас снова за работу! Дорога на родину лежит через новые странствия и новые испытания».
…Миклухо-Маклай познакомился с молодым немецким зоологом Антоном Дорном. Дорн мечтал основать где-нибудь на побережье Средиземного моря зоологическую станцию, открытую для ученых всех стран. Идея пришлась по вкусу Миклухо-Маклаю, и они укатили в Мессину.
Благодатная Сицилия, живописная Мессина… Друзья остановились в роскошном отеле, а затем перебрались в очень удобную большую квартиру с великолепным морским видом. Жизнь можно было бы назвать прекрасной, если бы…
Миклухо-Маклай работал. Работал, как всегда, много. Работал до полного изнеможения. За день выматывался так, что засыпал мгновенно, едва прислонившись головой к подушке. Он даже ухитрился проспать знаменитое мессинское землетрясение 1869 года и только наутро узнал, что большинство жителей не могло сомкнуть глаз всю ночь. Еще раньше, на Канарских островах, он пришел к выводу, что губки и кишечнополостные происходят от общих предков, но первые сохраняют в своей организации гораздо больше примитивных особенностей, чем вторые. Геккель безоговорочно принял его толкование. Теперь Миклухо-Маклай хотел проверить выводы, полученные им при исследовании атлантических губок. Дело в том, что, изучая коллекции губок европейских музеев, собранные разными путешественниками в Индийском и Тихом океанах, он встретил некоторые формы, прямо противоречащие его выводам. Не найдя подобных форм в Мессинском проливе, он затосковал.
— Я ненавижу губки, черт бы их побрал! — сказал он Дорну. — Фауна Мессины меня не удовлетворяет. Я должен побывать на берегах Красного моря.
Н.Н. Миклухо-Маклай и Эрнст Геккель на Канарских островах, 1866 г.
Н.Н. Миклухо-Маклай в арабском костюме. Красное море. 1869 г.
Денег на задуманное путешествие не было. Мать упорно не отвечала на письма. Наконец пришли желанные триста рублей. Терпение Екатерины Семеновны истощилось. В письме она негодовала на бессмысленные занятия сына, которые стоят кучу денег, портят глаза и никому не приносят пользы. Если бы он стал, как она советовала, инженером!.. Философия, губки, рыбьи мозги… Каждая строка письма дышала беспредельным гневом.
Бедная, бедная мама… Как объяснить ей?… Все его поездки ей представляются всего лишь прихотью, фантазией туриста, этаким сибаритством.
Ни один благоразумный человек не отважится, даже если он беспредельно предан науке, как, например, Антон Дорн, отправиться с ничтожной суммой денег в опасное путешествие без товарищей, без поддержки, на свой страх и риск.
Красное море. Оно совершенно не исследовано с зоологической стороны, и ни один из зоологов не отважится проникнуть сюда. На каждом шагу смельчака здесь подстерегает смерть. Здесь еще не ступала нога ученого. Нужно отправиться на берега Красного моря, и притом немедленно!
Ящики с анатомическими препаратами, книгами, бумагами и… грязным бельем отправлены в Петербург.
И вот в марте 1869 года Миклухо-Маклай уже в Египте. Здравствуйте, древние пирамиды Египта, здравствуй, вечная загадка знойных пустынь — сфинкс!..
Миклухо-Маклай своими глазами увидел все это. Там, на берегах Невы, тоже безмолвные сфинксы. Египтяне называют свою родину — Миср.
Западный берег Нила. Страна смерти. Царство богини Амен-Тет. Бронзовым огнем пылает пустыня. Мерно набегают на раскаленный берег мутно-красные волны вечной реки Нила. На горячем песке — босоногая египтянка. Стройное смуглое тело, лоснящееся в жарких лучах, коротенькая белая юбка. Переливаются разноцветными огнями тяжелые сердоликовые бусы. Она замечает одинокого путника и пугливо скрывается в тростниках. Только блеснули ее огромные, тонущие в тени глаза.
А память пытается воскресить прошлое. Пирамиды Хуфу, Хефрена, Менкаура… Кажется, Наполеон написал на пирамидах… Вот те самые лотосы, о которых сложены прекрасные стихи… Пустыня — это жар, это палящий бред…
Маячит в горячих струях воздуха фигура одинокого путника, тяжело поднимающегося на барханы…
Александрия, Каир, Гиза. Можно без конца бродить по сумеречным пустынным залам музеев, разглядывать гранитные статуи фараонов, алебастровые канопы, саркофаги, коричневые мумии. Но жизнь, горячая, полнокровная жизнь зовет. Миклухо-Маклай не любитель древностей. Он торопится в Суэц. И не руины мертвого города Кольгума близ Суэца влекут его. Он хорошо знаком с трудами великих арабских географов средневековья — Абу-ль-Фиды и Идриси. Но география Египта за последнее время сильно изменилась: только что закончилась постройка Суэцкого канала. Тысячи феллахов, согнанные на строительство канала, нашли могилу в песках пустыни.
Нужно спешить. Природа Красного моря должна быть исследована еще до того, как начнется интенсивный обмен вод Красного и Средиземного морей, до того, как изменятся течения, содержание солей и температура воды.
И снова бредет по пустыне Миклухо-Маклай. На нем аравийский бурнус, голова обрита до блеска, лицо вымазано коричневой краской. Как и положено правоверному мусульманину, он ревностно исполняет все религиозные обряды. Термометры, ланцеты, микроскоп Бруннера, карандаши и записные книжки старательно запрятаны в мешок. Пока что он знает всего лишь несколько арабских фраз, но произносит их без малейшего акцента, и никто не может распознать в нем «неверного».
«Путешествие мое не совсем безопасно, — пишет он брату Сергею. — В Джедду наезжает тьма арабов, отправляясь в Мекку (два дня от Джедды). В это время они особенно фанатичны и, кроме того, приезжают из таких стран, которые обыкновенно не имеют и не терпят сношений с европейцами.
Другие две мои станции, Суакин и Массауа, отличаются страшною жарою (Массауа самый жаркий город вообще) и нездоровым, особенно для новоприезжих, климатом. Все эти обстоятельства с прибавкой самых скверных и неверных путей сообщения, с моим незнанием арабского языка и, может быть, отсутствием европейцев, — прибавь к тому, что я получил от матери в Мессине 300 р. (1000 франков), теперь же остается у меня максимум 700 франков, т. е. около 200 рублей, — все это делает мою экскурсию в высшей степени зависимой от случая…
Я пишу тебе оттого, что матери я этого не мог бы сообщить, и чтобы, если что со мной случится (что очень возможно), ты бы знал причину или, лучше, моменты, которые побуждают меня к этому шагу…»
И оно случилось…
Сообщение между портами Красного моря поддерживалось парусниками-сумбуками да скверными пароходиками египетской компании «Азизие». Примкнув к толпе паломников, Миклухо-Маклай очутился на палубе такого парохода. Ученый не мог знать, что он находится в обществе самых ярых фанатиков — членов «священного братства кадиров». Пароход управлялся шкипером арабом и делал не более 2 — 3 узлов (что равняется скорости пешехода). Маклай огляделся по сторонам: ни одного европейца! Солнце клонилось к закату. Пустынный выжженный берег навевал скуку.
— Аллах-иль-аллах! — доносилось отовсюду. После вечерней молитвы Миклухо-Маклай решил вздремнуть. Но сон не шел. Паломники перешептывались, бросали на него враждебные взгляды. Особенно въедливо вглядывался в лицо ученого седобородый кадир в белом одеянии я с огромным тюрбаном на голове. Наконец он закричал:
— Среди нас неверный! Выбросить его за борт!..
Кадиры загалдели, повскакали со своих мест, окружили ученого. Миклухо-Маклай видел сухие, перекошенные злобой лица, сжатые кулаки. Молодой кадир подступил к нему вплотную и, изловчившись, схватил за шею.
Ученый не потерял самообладания. Он мягко, но решительно отвел руку кадира, развязал мешок и вынул микроскоп Бруннера. Кадиры отпрянули: вид незнакомого предмета испугал их не на шутку. Миклухо-Маклай не стал терять времени: размахивая микроскопом, он загнал седобородого смутьяна в трюм и захлопнул люк.
И только очутившись на берегу, он, посмеиваясь, объяснил незадачливым членам «священного братства» назначение микроскопа. Кадиры хохотали, ухватившись за животы. Седобородый кадир хоть и был обижен, но даже виду не подал.
— Хвала аллаху и твоей мудрости, — сказал он. — Доктор — желанный гость на нашей земле. Мы ненавидим только тех европейцев, которые вмешиваются в наши дела. А ты не похож на знатных иностранцев, выглядывающих из кают пароходов. Мир тебе и удача…
Миклухо-Маклай стремился завязать дружбу с арабами, и это ему удалось.
Из Египта он переправляется на азиатский берег Красного моря в Саудовскую Аравию, посещает городок Ямбо-эль-Бар, славящийся разбоем и фанатизмом бедуинов, бродит по коралловым отмелям Джедды.
Сказочная Джедда! Это самый большой и самый красивый город на побережье Красного моря. Бесконечный поток паломников, шумные красочные базары, огромный рейд, отделенный от открытого моря множеством коралловых рифов. А небо над головой всегда синее, безоблачное, а море прозрачное, как хрусталь. Это страна «Тысячи и одной ночи»!
Здесь можно снять комфортабельную комнату. Жизнь в три раза дешевле, чем в Египте: не больше восьми франков в день — это включая оплату труда ныряльщиков, которые достают вам со дна морского куски кораллов.
Миклухо-Маклай поднимается до восхода солнца. Его уже ждут ныряльщики. Обычно они заняты ловлей жемчуга, но за небольшое вознаграждение готовы послужить науке.
Проходят дни, заполненные интересной работой. Но нужно прямо признаться: коралловые отмели привлекают Миклухо-Маклая все же меньше, чем шумные базары и площади Джедды. Он изучает жизнь людей.
Пора, пора покинуть приветливую Джедду! На огромных барках-сумбуках он переправляется в Йемен, в Ходейду; затем — в Лахайя; посещает острова у Лахайя, а также Далакские острова, коралловые рифы между Массауа и Суакином.
Его влечет загадочная Эфиопия, и вот он уже в Массауа — неприглядном маленьком городке, расположенном на острове. Здесь он прихватил лихорадку. Здесь же обнаружил первые признаки цинги. Но хворать некогда. Нужно перебираться в Судан.
Он идет по Нубийской пустыне, одинокий больной и голодный человек. Между барханами лежит синяя предутренная мгла. Вот восток уже охвачен пламенем. Вспыхивают малиновым огнем пески. Пустыня накаляется все больше и больше, густеет зной, предметы теряют привычные очертания. И вдруг пески сверкнули лазурью, на пустом месте выросли прекрасные белые дворцы, стройные пальмы. Мираж — злой дух пустыни…
Куда ты идешь, Миклухо-Маклай? В чем смысл твоих исканий, что ты дал миру за это время? Да, пожалуй, ты и сам не сможешь внятно ответить на эти вопросы. Ты уточнил местоположение города Суэца; ты изучил головной мозг рыб Красного моря и нашел нужные для тебя губки; ты провел температурные наблюдения на рифах между Суакином и Массауа и собрал сведения о средней годовой температуре бассейна Красного моря; ты отметил особое значение Массауа и Суакина, как будущих портов Абиссинии и Судана; ты изучил дороги, ведущие к Суэцкому каналу, и пути судоходства на Красном море; ты высказал гениальную догадку о происхождении Горьких озер; а размышляя над геологической историей Красного моря, ты пришел к выводу, что берега моря находятся в стадии поднятия; ты собрал уникальную коллекцию фауны Красного моря, единственную в своем роде в Европе.
Но самые важные открытия ты не доверил бумаге, ты сохранил их в своем сердце. Главное, чему ты посвятил большую часть времени, — это изучение типов жителей побережья Красного моря. Ты занимался этнографией и антропологией — науками, которые еще не считаются науками. Ты отчетливо представляешь постные лица петербургских академиков. Им нужны губки. Ты заговоришь о губках — и будешь понят. Но стоит тебе открыть истину, сказать, что ты не щадил себя лишь для того, чтобы изучить условия внешней, географической среды, в которой живут люди, их образ жизни, их города, культуру, мировоззрение, как от тебя с презрением отвернутся. Серьезный ученый не должен заниматься подобными пустяками.
…Страшно худой, обожженный солнцем, изнуренный лихорадкой и цингой, без единого гроша в кармане возвращался он в Россию. 200 франков, которые ему удалось занять у одного французского негоцианта, были истрачены на дорогу. Миклухо-Маклай снова побывал в Массауа, в Джедде. В Суэце он пять дней высидел в карантине. Здесь же, в Суэце, познакомился с русским агентом Общества пароходства и торговли неким Пашковым, который устроил его (бесплатно) на пароход «Эльбрус».
В Константинополе русский консул, узнавший о прибытии в Турцию «знаменитого» соотечественника путешественника Миклухо-Маклая, радушно встретил его и выразил желание оказать ему какую-либо услугу.
— Требуйте все, что душе вашей угодно! — воскликнул он в порыве восторженного великодушия.
— Я хотел бы сдать в стирку грязное белье… за ваш счет, — застенчиво отвечал Миклухо-Маклай. — Я так издержался…
Консул был шокирован.
Домой, в Россию, в заветный Петербург! Конец, конец добровольному изгнанию…
Пять долгих лет не видел Николай Миклуха мать, сестру, братьев. Его сердце истосковалось по родине. Уехал он восемнадцатилетним юнцом, а возвращается в родные края двадцатитрехлетним, уже повидавшим виды человеком, и возвращается не с пустыми руками. Его научные труды известны в Петербурге и Москве. Собранные им коллекции представляют огромную ценность. Кроме того, у него на руках отличная рекомендация самого Эрнста Геккеля. Миклухо-Маклай до сих пор числится ассистентом при зоологическом музее Иенского университета.
Перед вами, господа академики, вполне сложившийся ученый, с которым вы вынуждены будете считаться. Своим трудом и преданностью науке он завоевал достойное место среди вас.
Средиземное море, греческие острова, Турция… Все позади. Черное море кажется своим, ручным. Мы почти что дома. А вот и Одесса… Великолепный город, где можно расслабить волю, скинуть тяжкое бремя забот, отдохнуть, наконец, по-человечески. Здесь можно в полный голос говорить по-русски, и это, пожалуй, самое главное. В Одессе живет и работает известный биолог профессор Илья Ильич Мечников, у которого можно задержаться на несколько дней.
Но Миклухо-Маклай меньше всего помышляет об отдыхе. Смертельно усталый и все еще больной, он колесит по Южному берегу Крыма; затем неожиданно появляется на Дону. Он занят дополнительными исследованиями мозжечка осетровых. Следует еще побывать на Волге. И по пути он «заворачивает» на Волгу.
Только лишь в августе он попадает в Москву, где в это время проходит Второй съезд русских естествоиспытателей.
Сколько блистательных имен! Менделеев, отец и сын Бекетовы, Чебышев, Усов, профессор зоологии и геологии Щуровский, А.П. и М.Н. Богдановы, Кесслер, Северцов…
Очутившись в кругу этих прославленных ученых, Миклухо-Маклай испытывает некоторую робость и растерянность. А взоры светил науки направлены на отважного путешественника, только что вернувшегося с берегов Красного моря. Все с нетерпением ждут его слова.
Да, он знает, что оратор из него никудышный, он совсем отвык говорить связно по-русски. Внимательные взоры смущают его.
Худощавый человек с бледным гонким правильным лицом и курчавой шевелюрой некоторое время стоит молча, затем проводит рукой по глазам и неожиданно начинает рассказ о своих скитаниях по Северной Африке и Аравии. Ему очень много нужно сказать людям, собравшимся здесь, и, быть может, поэтому говорит он не совсем гладко.
Но главную мысль ему все же удается донести до слушателей: нужно основать зоологические морские станции на Белом, Балтийском, Черном, Каспийском морях, а если окажется возможным, то и в Восточном океане, на Сахалине и Камчатке. Широта его планов захватывает ученых.
В перерыве к нему подходит лысеющий человек с грубоватым обветренным лицом — Анатолий Петрович Богданов, доктор и ординарный профессор Московского университета. Он крепко пожимает руку Миклухо-Маклаю.
— Я счастлив познакомиться с вами, — говорит он. — Отдаю должное вашему мужеству. Ну, а что касается зоологических станций, то мысль ваша заслуживает самой горячей поддержки, дорогой Николай Николаевич! Я беру на себя Черное и Балтийское моря.
— А я хотел бы взять на себя Тихий океан!
Богданов рассмеялся:
— Ого! Аппетит у вас приличный. Тихий океан называют еще Великим.
— Я мог бы заняться исследованиями в северной части Тихого океана, в Японском и Охотском морях.
— Программа обширная. Советую вам войти с ней в совет Географического общества. Думаю, вас поддержат. Моя личная поддержка целиком на вашей стороне…
Богданов был лет на двенадцать старше Миклухо-Маклая. Его имя уже гремело по России. Диссертация «О цветности пера птиц» доставила ему степень магистра зоологии еще в то время, когда Николай Миклуха только что поступил в гимназию. Анатолий Петрович Богданов считался организатором и вдохновителем Общества любителей естествознания при Московском университете.
Богданов и Миклухо-Маклай… Эти два человека встретились, по сути, благодаря счастливой случайности. Миклухо-Маклай знал о Богданове почти все, Богданов о Маклае — почти ничего.
Но обоим неведомо было главное: они не могли предполагать, что в истории русской антропологии их имена будут стоять рядом. Оба прославят отечественную науку именно в этой области. Ими будет гордиться русская наука, их назовут отцами русской антропологии.
Сейчас оба интуитивно почувствовали влечение друг к другу.
— Я очень сожалею, что до сих пор не мог познакомиться с вашей работой «Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии», — сказал Миклухо-Маклай. — Вас по праву считают родоначальником археологических раскопок в России.
— Вы интересуетесь антропологией?
— В некотором роде — да. Я много наслышан о вашей этнографической выставке.
Богданов поморщился.
— Выставка вызвала большой интерес. И все-таки мы сделали только половину дела. Она была задумана мной как комплексная: антропологическая (главным образом!) и этнографическая. Но с антропологией вышла закавыка. Мы собрали шестьсот черепов самых разных народов, антропометрический инструментарий, антропологические фотографии. И все же выставку пришлось наименовать этнографической.
— Почему?
— Видите ли, начальство забеспокоилось: мол, слово «антропология» непонятно широкой публике. И вообще что это за наука такая — антропология? Пойдут разные толки, попы всполошатся. Обвинят в безбожии, материализме и «сицилизме». Так и пришлось показывать антропологию из-под полы.
В голосе его послышалась боль.
— Душно у нас пока, — сказал он приглушенно. И неожиданно произнес с подъемом: — Но мы, черт возьми, организуем ее, антропологическую выставку! А вас милости просим… Очень печально, что еще многие не дошли до понимания огромности задач, стоящих перед этой только что зарождающейся наукой. Нужны экспедиции в малоизвестные окраины России и для изучения русских людей, нужна естественно-историческая выставка, а при ней — публичный курс антропологии, нужны ученые съезды, нужен общедоступный публичный музей. Я считаю, что ни одна часть естествоведения не заслуживает больших усилий со стороны общества для распространения основательных сведений в массе публики, как антропология. Надеюсь, вы не станете спорить о том, что публика более знакома с главнейшими особенностями племен Африки и Австралии, чем с племенами, населяющими Россию?
— Я не совсем согласен с вами, — возразил Миклухо-Маклай.
— Не согласны? — на лице Богданова отразилось удивление.
— Я считаю, что вы слишком узко ставите задачи перед антропологией как наукой. Не забывайте, что перед вами тот самый человек, который посвятил немало времени знакомству с племенами Африки. В Джедде я встречал паломников с островов Океании, из Австралии, индийцев, персиян, турок, черкесов, татар. Какое смешение языков, физиономий, костюмов! Какой благодатный материал для этнографа и антрополога! Нашей антропологии пока что не хватает широты. Нам нужны обобщения. А они возможны будут лишь тогда, когда мы соберем обширный фактический материал во всех частях света. Вот вы раскапываете курганы, добываете черепа давно исчезнувших людей. Это очень важно и очень нужно. Ведь доисторический человек ничего не оставил науке из своей организации, кроме черепа и костяка! Но меня больше привлекают живые люди. Если бы утверждения о неравенстве рас, о мнимой близости темнокожих к обезьянам исходили только от полигенистов Америки и Англии, открыто защищающих работорговлю, то не стоило бы особенно тревожиться. Но вся беда в том, что «идею» о «низших» и «высших» расах с завидной легкостью принимают некоторые немецкие и французские ученые, считающие себя дарвинистами. Наш долг — разбить все их доводы. Современный антрополог должен быть во всеоружии: знать и анатомию, и физиологию, и психологию, и философию. Расисты апеллируют не только к антропологии, но и к философии, и к медицине, и к психологии.
Богданов слушал очень серьезно. Этот молодой человек заинтересовывал его все больше и больше. Откуда столь глубокое проникновение в сущность науки, над судьбами которой так много размышлял он сам, доктор и профессор Богданов? Да, этот Миклухо-Маклай еще заявит о себе!
Профессор легонько обнял Миклухо-Маклая:
— Вы, разумеется, правы. В антропологии везде можно прокладывать новые пути, а потому люди более смелые и предпочитают следовать скорее по ним, чем по готовым, проторенным и менее опасным путям уже окончательно установившихся наук. Очень хорошо, что вы затронули вопрос о философском значении антропологии. Эта дисциплина не должна ограничиваться в своем влиянии одною только естественноисторической областью, но обязана прямо или косвенно быть в связи со многими важными вопросами наук гуманитарных, социальных и философских. Слава богу, среди русских антропологов нет расистов. Меня, так же как и вас, помимо исторической антропологии, привлекает сравнительная морфология, биология и систематика ныне живущих племен и их географическое распределение. Я заклятый враг тех клопиных или мушиных специалистов, которые, замыкаясь в крохотной области специальных исследований, отстраняют от себя более широкие вопросы и теряют общую научную перспективу. Скажу вам по секрету: в вопросах антропологии ваш покорный слуга придерживается еретических взглядов. Я, например, считаю в отличие от признанных антропологических авторитетов типа Вйрхова, Отто Финша, Геккеля, Эрла, Мюллера, что попытки классифицировать племена по внешним признакам — по цвету кожи и так далее — несостоятельны. Родство племен по языку, быту и обычаям не есть еще родство по происхождению.
Ну, а что касается моих курганных исследований, то дело это, как мне кажется, очень важное: я хочу установить факты эпохальных изменений черепных признаков. И к каким бы результатам мы ни пришли, я уверен, что не «корогкоголовость» или «длинноголовость» дает право народу на уважение и не курганные предки, каково бы ни было их происхождение, могут унизить или возвысить народ и ход его истории…
Разговор с Богдановым заставил Миклухо-Маклая крепко задуматься. Богданов словно отгадывал его сокровенные мысли. Значит, русская антропология как наука уже существует! Во главе ее стоит Анатолий Петрович Богданов, вокруг которого сгруппировались молодые силы: Анучин, Кельсиев, Иков, Зограф и другие. Учитель Богданова заслуженный профессор университета Щуровский избран президентом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Общество — это мощный кулак, способный сокрушить любую преграду.
Как жаль, а может быть, это и к лучшему, что интересы Маклая выходят далеко за те пределы, которые намечены обществом! Интересы Маклая там, далеко-далеко, где почва для антрополого-этнографических исследований еще никем не вспахана. И очень хорошо, что он и анатом, и физиолог, и психолог, и философ в одно и то же время!..
Еще не успел опомниться Миклухо-Маклай от интересной беседы с Богдановым, как его под руку подхватил доктор зоологических наук Северцов. Это был известный исследователь Центрального Тянь-Шаня, основоположник зоогеографии и других наук и к тому лее великолепный художник. Его прежняя скитальческая жизнь изобиловала самыми невероятными приключениями. Лицо его было иссечено шрамами, разрубленное саблей левое ухо выглядывало из-под густой шевелюры. Незнакомых с ним близко людей Северцов поражал странностью своих манер и наружностью. Голову он держал всегда вниз и смотрел через очки; ходил, приподняв плечи и как-то бочком; говорил громко, отрезывая слова и вставляя в речь азиатские словечки вроде «джок», «джаман» или выражения «отнюдь», «линия такая», «похоже, как укус на колесо».
Богданов вызвал у Маклая интерес и глубокое уважение. Северцова он полюбил. Да и нельзя было не полюбить этого немного чудаковатого, очень общительного и откровенного человека.
Северцов ответил взаимностью. Он всюду водил Маклая, удерживая его за рукав, словно опасаясь, что этот удивительный странник по африканским и аравийским пустыням вдруг исчезнет, растворится в воздухе. Глазом знатока разглядывал он рисунки своего нового друга, обнимал его и говорил:
— Джок! Далась вам эта антропология. Вы путешественник, врожденный географ. Я сейчас задумал большую экспедицию на Памир. Если вы согласны принять участие, буду счастлив…
Миклухо-Маклай ответил отказом. Нет, он по-прежнему не считал себя географом. Снеговые вершины Памира не влекли его.
Северцов был разочарован.
— Джок — значит джок, — уныло произнес он. — А жаль. Выходит, у вас линия такая…
Он вынул из кармана свою карточку и написал на ней: «Податель сего, г. Миклухо-Маклай, зоолог и неутомимый путешественник, желает вступить в сношения с Географическим обществом; потому сделайте одолжение ознакомить его с уставом общества и его трудами (он ассистент при Зоологическом музее в Иене); при своих путешествиях он и Обществу может быть полезен».
— В Петербурге передайте это секретарю Русского Географического- общества Федору Романовичу Остен-Сакену. Желаю удачи.
А с трибуны съезда звучали слова:
— …чтобы наука в России, оставаясь общечеловеческой, в то же время была… русской. Это то самое… чего должна желать всякая страна, чувствующая свое национальное достоинство.
Была еще одна мимолетная встреча, которая почти не оставила следа в памяти Миклухо-Маклая. А жаль!
Желая ознакомиться с лекцией Богданова «О задачах краниологии», он очутился во дворе Московского университета. Здесь он совершенно случайно столкнулся нос к носу с молодым ученым Дмитрием Николаевичем Анучиным.
Миклухо-Маклай представился и спросил, где разыскать зоолога Ошанина.
Незаметно молодые люди разговорились. Анучия смотрел на Миклухо-Маклая восхищенными глазами.
— Вы моложе меня, а успели так много сделать! — воскликнул он.
Оказалось, что Анучин еще задолго до приезда Николая Миклухи в Германию целое лето жил в Гейдельберге, где близко сошелся с братьями Ковалевскими, Бородиным и Воейковым.
За границу его направил известный врач Сергей Боткин, так как у Анучин а появились первые признаки заболевания легких. Анучин побывал в Италии, в Швейцарии, во Франции.
— Боткин — домашний врач русской науки, — пошутил Миклухо-Маклай. — Кстати, о вас много хорошего говорил Анатолий Петрович Богданов.
— Он наш учитель и друг. Я ведь решил посвятить себя антропологии и этнографии. Но в теперешней России людям, занимающимся подобными непонятными науками, живется несладко. Вот уже третий год после окончания университета я не могу найти работу, перебиваюсь с хлеба на квас. Вам хорошо — у вас за плечами экспедиции в экзотические страны, коллекции, труды. А я засел на мели.
«Оказывается, даже мне можно позавидовать!..» — усмехнулся про себя Маклай.
И он в самом деле почувствовал превосходство над этим молодым человеком, ищущим, где приложить свои силы. Да, черт побери! Каждый человек — кузнец собственного счастья. Он даже впал в некоторую откровенность и поведал Анучину, по сути первому встречному, самое заветное:
— В Петербурге я сидеть не собираюсь. Меня влечет на острова Тихого океана: Скажем, Японское море или Новая Гвинея, папуасы и альфуры… или Австралия.
— А как вы рассчитываете туда попасть?
— О, это не так сложно, как кажется. Любое военное судно к вашим услугам.
— Да, я завидую вам… — тихо проговорил Анучин. — Вы человек необыкновенной энергии и, конечно же, всего добьетесь. От вас пахнет свежим соленым ветром.
Задержись еще на несколько минут, Миклухо-Маклай, не спеши выпустить руку этого человека с такой грустной и иронической улыбкой… Это твой самый преданный друг! Он будет верен тебе до последнего мгновения своей жизни. Только благодаря его самоотверженности, бескорыстию твое научное наследие не будет навсегда похоронено в пыльных архивах. Анучин намного переживет тебя. Он прославит свое имя во многих областях: и как антрополог и этнограф, и как археолог, и как зоолог, и как выдающийся географ, и как замечательный общественный деятель. Он создаст самобытную русскую географическую школу, из которой выйдет много талантливых исследователей. Это он начнет еще при жизни Миклухо-Маклая читать первый в России курс антропологии. Его назовут «великим самобытным ученым». Это он впервые докажет, что прадед Пушкина по матери — Абрам Ганнибал был вовсе не негром, как принято было думать и как считал сам Пушкин, а абиссинцем.
Это на почетного академика Анучина укажет В.И. Ленин, когда встанет вопрос о привлечении ученых к выполнению важного для молодой Советской республики задания.
Над головой Анучина пронесутся целые исторические эпохи, но всегда он будет помнить о Миклухо-Маклае, не щадя своих сил драться за его рукописное наследие. Начнет он этот бескорыстный подвиг еще в 1898 году. Но издать сочинения Миклухо-Маклая в царской России так и не удастся. Тяжело больной, до последнего дня он будет расшифровывать записи Маклая, по крупице собирать факты, готовить его книгу к печати. Смерть, последовавшая 4 июня 1923 года на восьмидесятом году жизни, помешает Анучину завершить эту работу. Книга сочинений Миклухо-Маклая увидит свет уже после кончины Дмитрия Николаевича.
Так будет. Но сейчас Миклухо-Маклай слушает Анучина рассеянно, он торопится распрощаться. И они расстаются. А через несколько минут образ Анучина тускнеет в памяти Миклухо-Маклая. Нужно спешить! Еще один день, а потом в Петербург!..
В Петербург Миклухо-Маклай прибыл в сентябре. Трогательная встреча с родными. Как выросли братья и сестра! Володя скоро окончит Морской корпус, Мишук учится в гимназии, Сергей мечтает стать судьей, Оля — настоящая художница. Кроме того, она посещает женскую школу, где изучает грамматику, химию и другие науки. Только Екатерина Семеновна будто нисколько не изменилась: все такая же деятельная, энергичная, переполненная житейскими планами. Она по-прежнему жалеет, что Николай не стал инженером. В его научную карьеру она верит слабо. Рекомендации Геккеля, Гегенбаура, Северцова ее несколько успокаивают. Если такие знаменитости проявляют заботу о ее сыне, то, значит, все будет хорошо. Во всяком случае, теперь-то она не отпустит его от себя…
Петербург. Улицы, сквозящие синим туманом. Знакомый гранит Невы. Те же сфинксы у Академии художеств. В Летнем саду клены тихо роняют листья. Осенняя холодная боль в сердце…
Секретарь Географического общества барон Остен-Сакен радушно встретил Миклухо-Маклая, всячески обласкал его.
— Я должен представить вас академику Бэру и директору зоологического музея Академии наук профессору Брандту, — сказал он.
И встреча с патриархом науки академиком Бэром состоялась. Бэр сидел в кресле, чуть наклонив седовласую голову. Глаза древнего старца глядели зорко, по-орлиному остро. Да и весь он, с плотно сжатыми бескровными губами, большим крючковатым носом, спутанной нормандской бородкой, густыми желтыми баками, напоминал некую сказочную птицу, молчаливо оберегающую клад. Последнее время он жил в своей родной Эстонии, а совсем недавно приехал по делам в Петербург. В начале этого года общественность отмечала его семидесятисемилетие.
Миклухо-Маклай чувствовал, как гулко бьется его сердце. Эта встреча была огромным чудом. Великий человек, труды которого не охватить рассудком, запросто разговаривает с ним! Бэр, открывший знаменитый закон Бэра, объясняющий асимметрию берегов рек, Бэр, открывший спинную струну, яйцо млекопитающих и человека, Бэр — основоположник эмбриологии и биолог-эволюционист, предшественник Дарвина, географ и путешественник, океанолог и основатель науки о рыбном хозяйстве, историк землеведения, первый ученый, посетивший Новую Землю, один из организаторов Русского Географического общества, и, наконец, Бэр — крупнейший антрополог, один из зачинателей антропологии в России, пионер в разработке программы и методики антропологических исследований…
Однажды в Лондоне Бэра спросили: «Вы Бэр, но который из Бэров: зоолог, географ или антрополог?» Бэр ответил: «Я только Бэр… и все вместе взятое…»
Только Бэр… Миклухо-Маклай понимал, что минуты свидания очень коротки (каждая минута для дряхлеющего Бэра — драгоценность), и сказал громко, так, чтобы академик его расслышал:
— Я хочу проверить вашу гипотезу о папуасах и альфурах! Я хочу на Новую Гвинею…
Бэр поманил его пальцем, а когда Миклухо-Маклай подошел, усадил его рядом с собой.
— Это мечта… Там никто не бывал… — проговорил Бэр ровным, немного скрипучим голосом. — Только Дюмон-Дюрвиль видел эту мечту издали. Вам нужно представиться старому Литке. А пока храните мечту в сердце, не раздражайте раньше времени чиновников. Да и наши ученые вряд ли поймут вас. Не папуасы и альфуры, а губки, только губки… Вот губками и займитесь.
И Миклухо-Маклай занялся губками. Это была коллекция северных губок, собранная самим Бэром на берегах Баренцева моря, академиком Миддеидор фом — на южном побережье Охотского моря, а также консерватором зоологического музея Вознесенским, который еще в 1840 году объехал огромную территорию — от Берингова пролива до Калифорнии на востоке, от Петропавловска-на-Камчатке до южных Курильских островов на западе северной части Тихого океана. Тридцать лет пролежала эта коллекция неразобранной! Стоило ли тратить столько усилий, собирая эти никому не нужные губки?…
«Губки нужны мне!» — сказал Миклухо-Маклай и принялся за работу. Именно, может быть, теперь впервые в жизни проявились его блестящие дипломатические способности. План, который он наметил, можно было по праву назвать «дипломатическим».
Прежде всего 23 сентября он сделал в Географическом обществе доклад о своей поездке на Красное море. Свое сообщение он начал замечанием, что чем далее подвигается наука и чем более упрощаются ее выводы, тем сложнее становятся способы, ведущие к достижению этих выводов.
Он говорил о Канарских островах, о Марокко, о знойной Аравии, о Египте и Судане, о Суэце и Суэцком канале. Он рисовал красочные картины, возбуждая воображение слушателей. Он говорил о нравах и обычаях племен, о коралловых рифах и пальмах, о религии и о влиянии внешней среды на человека.
И никто из присутствовавших в квартире общества даже не заметил, что путешественник не сказал о главном: какой же все-таки вид морских животных изучал он во время этой «зоологической экскурсии»? Так все были увлечены его рассказом.
Председатель Географического общества великий князь Константин Николаевич, председатель отделения физической географии Петр Петрович Семенов (Тян-Шанский), барон Остен-Сакен, академик Брандт, молодой, но уже начинающий лысеть князь Петр Кропоткин, прославленный путешественник и создатель теории о ледниковом периоде в истории Земли… Какое высокое собрание!
Но тихая, едва внятная речь Миклухо-Маклая покорила их всех. Они признали в нем «своего». Как жаль, что не присутствовал вице-президент общества престарелый граф Литке!
Первым после доклада к Миклухо-Маклаю подошел Петр Кропоткин. Князь не лишен был экстравагантности. Он заговорщически подмигнул Маклаю и сказал:
— За каким дьяволом вас носило в Аравию? Чтобы собрать несколько ящиков губок, которые будут столетиями валяться в подвалах у Брандта? Да вы и о губках-то ничего вразумительного не сказали. Как поживает старина Северцов? Это великий и оригинальный ученый. Вся беда в том, что он не обладает даром письменно излагать свои мысли в красивой форме. Не любит он писать. А без этого в наше время наука говорит — джок!
— Меня интересуют люди, только люди… — просто ответил Маклай. — Я хотел бы побывать у папуасов и альфуров.
— Люди — самое интересное, — согласился Кропоткин. — Я. видел их и в Сибири и в Маньчжурии.
Меня тоже в некотором роде интересуют люди, — добавил он многозначительно. — А проявлять интерес к жизни людей в наше славное время не совсем безопасно. Это ахиллесова пята… Будьте осмотрительны, Маклай. Вы сегодня слишком уж разоткровенничались. Не думаю, что великому князю пришлись по душе ваши слова о колонизаторах и обездоленных. Я-то хорошо знаю великих князей и царей… Я слышал, вам хотят предложить занять кафедру. Это большая честь для молодого ученого…
Безыскусственность Кропоткина подкупала. Разве мог подозревать Миклухо-Маклай, что он только что разговаривал с человеком, «до отказа начиненным динамитом»? Это о Кропоткине скажут впоследствии: «Он вел жизнь аристократа и работника; он был камер-пажом императора и был очень бедным писателем. Он был студентом, офицером, ученым, исследователем неизвестных стран, администратором и революционером. В изгнании ему приходилось часто жить, как русскому крестьянину, чаем и хлебом; за ним шпионили и его пытались убить, как русского императора…» Кропоткина ждут Петропавловская крепость, жизнь на чужбине, великие открытия в науке и роковые ошибки в области политической.
Миклухо-Маклай пожал руку Кропоткину и ушел. А Кропоткин навсегда запечатлел в памяти образ нового знакомого.
«Миклухо-Маклай… принадлежал к той категории людей, которые могли бы сказать гораздо больше, чем высказали в печати…» — напишет он много лет спустя.
Решив любой ценой пробить «дорогу на Тихий океан», Миклухо-Маклай занялся описанием дальневосточных губок. Он должен стать единственным авторитетом в данном вопросе. Он пишет статью за статьей. Да, да, богатая фауна губок морей Северо-Восточной Азии находится в ближайшем отношении к фауне так называемого «Индо-Тихоокеанского царства». Нужны дополнительные исследования. Быть может, изученные им губки «имеют своих близких родственников… под экватором». И он, Миклухо-Маклай, готов взять на себя изучение организации морских животных на месте, исследование фауны, географии животных и собирание коллекций. Тихоокеанская проблема ждет своего решения!
Ему в самом деле предложили занять кафедру. Но Миклухо-Маклай категорически отказался от преподавательской карьеры.
Сразу же после доклада в Географическом обществе он подал докладную: это был план восьмилетнего путешествия от Охотского и Японского морей к югу, в Тихий океан. Миклухо-Маклай писал, что интересные результаты, к которым он пришел, занимаясь дальневосточными губками, окончательно убедили его избрать полем будущих исследований Восточный океан. Начав с северных губок, он будет изучать, по мере продвижения к югу, видоизменения этих форм, чтобы постепенно подойти к тем из них, которые, возможно, удастся найти около экватора.
Что ты замыслил, Миклухо-Маклай? Почему ты с такой настойчивостью пробиваешься на Тихий океан? Разным людям ты по-разному объясняешь свои намерения. Даже с родной матерью ты должен быть дипломатом. Ты пытаешься уверить ее, что многолетнее путешествие в неведомые страны необходимо тебе для блестящей ученой карьеры. И только другу Александру Александровичу Мещерскому, который сейчас в Петербурге и которого прочат в секретари отделения статистики Русского Географического общества, ты открываешь истину.
— Я, как никогда, близок к осуществлению мечты всей моей жизни, — сказал Миклухо-Маклай Мещерскому. — К, черту зоологию, систематику и коллекции! Нужен человек, человек… Мне нужны племена в первобытном состоянии, люди каменного века, которые еще не соприкасались с белыми или с другими расами, уже тронутыми цивилизацией. Я хочу поставить опыт в чистом виде. Антропология и только антропология!.. Мне необходимы чистые, без всяких примесей, образцы цветной расы. Только в этом случае раз и навсегда будет решен спор между моногенистами и полигенистами. Вот моя подлинная программа.
— А где вы рассчитываете найти такую terra incognita, испокон веков изолированную от всего мира?
— Она существует! Это Новая Гвинея… Там еще не ступала нога цивилизованного человека. Совершенно изолированные и менее подверженные смешению с другими племенами, жители Новой Гвинеи будут для меня, да и для науки исходной группой для сравнения с остальными темнокожими народами, разбросанными по Малайскому и Меланезийскому архипелагам. Исходная группа… Она нужна, я буду искать ее и найду! Новая Гвинея станет первой станцией моего многолетнего путешествия. Я глубоко убежден в том, что только идея единства человеческого рода является правильной научной идеей. Я ставлю себе задачей доказать правильность этой идеи и доказать таким образом, чтобы ее никто не мог оспаривать. Ради истины я готов пожертвовать жизнью. Ведь невозможно, имея единственно книги источником сведений, составить понятие, до чего дошли или могут дойти эти так называемые дикие, и решать за письменным столом всех библиотек Европы, но без собственного наблюдения степень и направление интеллектуального развития отличных от нас рас.
— Я все-таки не могу взять в толк, зачем вам понадобилась эта исходная группа? Вы бывали в Египте, в Марокко, в Аравии, в Нубии, в Абиссинии, на Канарских островах, в Судане, исколесили побережье Красного моря вдоль и поперек, — неужели там вы не нашли ничего приличного?
Пыл Миклухо-Маклая сразу пропал. У рта появилась горькая складка. Даже лучший друг, которому он не раз толковал о папуасах и альфурах, которому не раз на память цитировал знаменитые слова Бэра: «Является желательным и, можно сказать, необходимым для науки изучить полнее обитателей Новой Гвинеи», — не может уяснить всей грандиозности его замысла. А чего тогда требовать от других?
— Меня интересует вопрос: как изменяется внешний облик человека под влиянием различных условий жизни, географической среды! — сказал он холодно. — Я беру исходную чистую группу, так сказать эталон, а затем изучаю все разновидности этой группы и объясняю появление этих разновидностей влиянием условий жизни, отличных от новогвинейских. Это же так просто! Я хочу доказать, что ствол у человечества один, а расы — лишь производное. Человечество — это одна порода, а не несколько несравнимых пород, как утверждают полигенисты. Я хочу доказать видовое единство ныне живущего человечества. Все расы равноценны, нет рас низших, нет рас избранных…
— Но ведь все-таки, как утверждают, папуасы — людоеды и волосы у них растут пучками…
— Что касается пучков, то сие утверждение я постараюсь проверить. Нужно торопиться. Если колонизаторы появятся на Новой Гвинее, тогда поздно будет изучать вопрос, способны или не способны папуасы к развитию. Если бы папуасы жили на Васильевском острове, я с удовольствием остался бы в Петербурге. И из всех моих предполагаемых поездок мне надлежит сделать один-единственный вывод. Основной вывод из трудов всей жизни. И ради этого вывода я поеду куда угодно. География не моя область. Я анатом. Анатом в антропологии. Я считаю, что, пока антропология не будет сопровождаться подробными и многочисленными анатомическими исследованиями, она останется неблагодарной и малополезной наукой. Я считаю также, что физиологические различия между расами имеют анатомическую основу, которая остается до сих пор неизвестной. А потому при изучении анатомии рас у секционного стола нужно ожидать гораздо более важных результатов, чем от тысяч измерений на живых людях.
Я хочу, чтобы расовая анатомия человеческих племен получила, наконец, свое начало…
— Да, вы правы, мой дорогой друг. Так почему же вы не изложите открыто обществу свою подлинную программу? Поставленные вами вопросы очень важны и, думаю, заинтересуют наших академиков.
Миклухо-Маклай невесело усмехнулся:
— Стоит мне проявить подобную откровенность — и я буду съеден академиками раньше, нежели папуасами. Даже та мизерная программа, которую я предложил, пришлась не по нутру кое-кому.
Миклухо-Маклай говорил правду. Вице-председатель общества Федор Петрович Литке буквально восстал против программы Маклая.
— Я удивлен, что и вы, и почтенный Бэр, и Петр Петрович, и Брандт клюнули на удочку этого, как характеризует его Федор Федорович, «талантливого и ревностного молодого человека», а попросту выскочки с авантюрными наклонностями, — говорил адмирал Остен-Сакену. — Планы вашего Миклухи могут завести общество слишком далеко. Мы обязаны прежде всего изучить как следует свое отечество, возделывать географию России…
— Миклухо-Маклай просит у вас аудиенции.
Литке бессильно откинулся в кресле:
— Никаких аудиенций и преференций!
— Но он предполагает вести наблюдения над морскими течениями, температурой воды, — глубинами. Я очень сожалею, что вы, Федор Петрович, по болезни не смогли присутствовать на его докладе. Это в самом деле весьма ревностный и талантливый молодой человек.
Мы обязаны поддерживать…
— Хорошо… — безвольно махнул рукой адмирал. — Пусть придет. Не понимаю только, как ему удалось околдовать вас всех? Только и слышишь: Миклухо-Маклай, Миклухо-Маклай…
И вот еще одна удивительная встреча.
Всемирно известный, прославленный исследователь Новой Земли, Полинезии и северных берегов Тихого океана, начальник кругосветной экспедиции на шлюпе «Сенявин», главный инициатор и основатель Русского Географического общества и его фактический руководитель, президент Академии наук, почетный член географических обществ в Лондоне, Антверпене и других городах Европы, почетный член Морской академии, Харьковского и Дерптского университетов, член-корреспондент Парижской Академии наук, член Государственного совета, адмирал и граф Федор Петрович Литке терпеливо выслушивает молодого, еще, по сути, ничем не зарекомендовавшего себя ученого со странной, непривычной для слуха фамилией — Миклухо-Маклай.
Адмиралу перевалило за седьмой десяток, он туг на ухо и плохо видит. Но Миклухо-Маклай говорит громко и отчетливо. Он говорит о былых путешествиях лейтенанта Литке на военном шлюпе «Камчатка» под командованием Головкина, о плаваниях Литке к берегам Новой Земли, о Каролинском архипелаге, о Мариинских островах и островах Бонин. Оказывается, этот худой бледный юноша хорошо осведомлен о давнишних физико-географических и этнографических исследованиях старого адмирала в Тихом океане и по его берегам.
— В детстве нашим любимым героем был Тамоль Селен, — говорит Миклухо-Маклай. — Мы с братом Владимиром даже играли в Тамоль Селена…
Сухой черствый адмирал (каким он был в представлении всех, знавших его) неожиданно улыбается.
Тамоль Селен… Так называли тогда Литке. Как давно это было! Перед мысленным взором адмирала вспыхнула бесконечная лазурь южных морей, пальмы закачались на ветру. Он увидел себя молодым, полным сил, стоящим на мостике «Сенявина». Сколько тогда было солнца… солнца и ласкового ветра… Мир цвел необыкновенными красками. А на палубу поднимались обнаженные смуглые люди, протягивали кокосовые орехи и бананы. Остров Лугунор… Там-то по местному обычаю он, Литке, и поменялся в знак дружбы именами с туземцем Тамоль Селеном… Жив ли ты, далекий друг Тамоль Селен, ставший Литке?…
Адмирал больше не слышит, о чем говорит Миклухо-Маклай. Он весь во власти прошлого. Удаль молодости, кровавые схватки с врагом, льды Арктики, суровые океанские штормы и сияющий бриз, особый, только моряку знакомый запах палубы, сверкание неведомых вод и первозданная свежесть зелени еще никем не открытых островов, нагие дети, женщины, приветливые туземцы, смуглые, прекрасные, как боги…
— Вы мне вернули молодость… — говорит адмирал негромко. — В моей поддержке можете не сомневаться. Я самолично договорюсь с морским ведомством о предоставлении вам возможности совершить путешествие в Тихий океан на военном судне. Вы в самом деле талантливый и ревностный молодой человек. Прощайте!
И пока Миклухо-Маклай за дверью делится своей радостью с Остен-Сакеном, старый адмирал Литке думает о суете мирской. Молодые люди к чему-то стремятся, что-то ищут, преодолевают препятствия, которые встают на их пути в лице вот такого седого раздражительного графа. Ему уже не к чему стремиться. Все в прошлом. Николай I осыпал его в свое время милостями и отнял в то же время самое дорогое — время, молодость. Он приказал Литке воспитывать своего сына великого князя Константина. Это была жизнь в золотой клетке, а душа рвалась на океанские просторы. Наконец-то великий князь женился. Литке сделал своего воспитанника президентом Географического общества. Так удобнее. Пусть великий князь меценатствует и покровительствует наукам. Нужно напомнить великому князю об этом юноше Миклухо-Маклае. Молодым нужно покровительство… А время утеряно, безвозвратно утеряно… Если бы цари не повелевали людям науки, можно было бы сделать значительно больше.
— Тамоль Селен… — повторяет он с какой-то суровой грустью. — Тамоль Селен…
Таков уж был Маклай: он не мог долго сидеть на одном месте. Не пробыв и трех месяцев в Петербурге, не дождавшись окончательного решения Географического общества, рассматривавшего его программу, Миклухо-Маклай неожиданно выехал в Иену «для ликвидации дел и для наблюдения за изданием своих естественнонаучных работ». В Иене долго пришлось искать квартиру, где «не слышно было бы гаму и песен по ночам пьяных студентов». Наконец он поселился в доме Гильдебрандта, профессора Иенского университета, читавшего. курсы политической экономии и статистики. В этом же доме жил русский ака-демик-индиолог и специалист по санскриту Бётлинг.
На сей раз Миклухо-Маклай пробыл за границей около года. Это время можно было назвать самым напряженным в его жизни. Он буквально задыхался от обилия дел.
В феврале 1870 года в Веймаре произошла встреча с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Знаменитый русский писатель обрадовался земляку. Целый день они провели вместе. Тургенев, как часто с ним случалось, хандрил. Но когда Маклай стал рассказывать о своих странствиях по берегам Красного моря, о своих дерзких планах отправиться к людоедам Новой Гвинеи, сплин писателя пропал.
«Познакомился с И.С. Тургеневым; он живет в Веймаре, — пишет Маклай сестре Оле. — На днях провел с ним целый день. Он был тоже у меня в Иене. Мы довольно скоро и хорошо сошлись. Жаль, что я по уши сижу за работой, — чаще бы ездил в Веймар…»
Да, дело не терпит! Пока академики в Петербурге обсуждают его программу, он подготавливает новую программу, еще более «коварную». Первоначальный план путешествия в корне меняется. К черту дипломатию! Заручившись поддержкой Литке, можно прямо сказать: «Я хочу отправиться сразу же на Новую Гвинею! Мое путешествие рассчитано на семь-восемь лет. Первые годы думаю провести на берегах тропических морей, а уж потом стану постепенно продвигаться на север, до берегов Охотского моря и северных частей Тихого океана». Что будет потом, видно будет.
Ну, а если старый Литке вновь заартачится? Хотя это и маловероятно, все же следует учесть и такую возможность. «Мы заручимся поддержкой известных европейских ученых: Дарвина, Геккеля, Гексли, Герланда, Бастиана, Карпентера, Дове, Петерманна, Мурчисона». Следует также обратиться к британскому министру иностранных дел лорду Кларендону, получить у него открытое письмо ко всем английским консулам на островах Тихого океана с предписанием оказывать Миклухо-Маклаю всемерное содействие.
Когда все это будет сделано и в составлении программы путешествия в южные моря примут участие авторитетные ученые, виднейшие специалисты Западной Европы, и России, Географическому обществу воленс-ноленс придется утвердить план Маклая.
Нет, Миклухо-Маклай не так прост и добродушен, как это кажется кое-кому. Он готов сделать ход конем. В нем увидели талантливого, ревностного молодого человека, до самозабвения занятого губками и морской фауной, но проглядели тонкого, очень гибкого дипломата.
Маклай усиленно штудирует литературу о народах Океании, Малайского архипелага, Австралии, делает пространные выписки из сочинений Бэра, Литке, Уоллеса, Кука, Дарвина, Вайца, Маринера, Притчарда. В письме Остен-Сакену непрозрачно намекает, что намерен изменить первоначальную программу путешествия и что рассчитывает на денежную помощь Географического общества. Общество решило выдать Маклаю 1200 рублей, если цели его экспедиции будут соответствовать задачам общества согласно уставу. Гнев овладевает Маклаем. «Хотя получение суммы 1200 р. мне было бы приятно, но с удовольствием откажусь от нее, если ее получение идет наперекор разрешению моих научных задач…» — пишет он Остен-Сакену. Он решил стоять твердо.
Пора, пора привести в действие громоздкую ученую машину, заставить ее работать на себя! 9 апреля он уже в Берлине, а 20 апреля — в Голландии. Обязательно нужно разыскать Эдуарда Дауэса Деккера или Мультатули, книга которого «Макс Хавелаар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» еще десять лет назад всколыхнула весь мир.
Маклай повторяет фразы, выученные наизусть. Он произносит их по-голландски:
«И я взвращу сверкающие мечами военные песни в душах мучеников, которым я обещал помочь, я, Мультатули!
Спасение и помощь на пути закона, если это
Но проклятая лихорадка и здесь настигла Миклухо-Маклая. Почти две недели провалялся он в постели в Лейдене. Денег было так мало, что задерживаться в Голландии хотя бы еще на день не представлялось возможным. Следовало торопиться в Лондон.
Еще не оправившийся от болезни, он едет в Англию. Денег, конечно, на обратный путь нет. Их едва хватит на дорогу до Лондона. Если мать не вышлет вексель в Англию, тогда… Что будет тогда, Маклай не знает. Он уже три дня ничего не ел.
Начинающий уже полнеть, сорокапятилетний человек с мощной, почти квадратной головой, с фантастически длинными седеющими баками, с развевающимися волосами, с гладко выбритым маленьким подбородком и веселыми глазами, поблескивающими из-под густых бровей, натуралист Томас Гексли, друг Дарвина, долго трясет руку Маклая.
— Я вас отлично знаю, господин Миклухо-Маклай. Не удивляйтесь… Я читал ваши оригинальные работы, которые здесь широко известны. Радуюсь знакомству с вами…
Маклай раскрывает английскому естествоиспытателю все свои планы. Гексли увлечен.
— Великолепно! — восклицает он. — Я должен представить вас сэру Мурчисону. У него большие связи. Сэр Мурчисон близко знаком с лордом Кларен-доном. Надеюсь, британский министр иностранных дел охотно пойдет навстречу, и вы получите открытое письмо ко всем английским консулам на островах Тихого океана.
…В очень короткое время Миклухо-Маклай познакомился со всеми крупнейшими представителями тех отраслей наук, какие его интересовали. В Адмиралтействе ему показали все аппараты и приборы для исследования дна на больших глубинах. Целыми днями русский путешественник пропадал в музеях и библиотеках. На полученные, наконец, от матери деньги он приобрел некоторые приборы и инструменты для своего будущего путешествия.
Словно угадывая заветную мечту своего друга, Гексли сказал:
— Я обязан познакомить вас с Чарлзом Дарвином. Без такого знакомства ваши впечатления о нашей стране останутся неполными. Едем в Даун!
Однако поездка в Даун сорвалась: на другой день жестокий приступ лихорадки снова уложил Маклая в постель. Скверная недужная погода… За окном серой стеной стоял туман. Русский ученый метался в бреду. Ему мерещились саванны Абиссинии, раскидистые кроны баобабов и акаций. Он шагал по колючкам африканских мимоз, и колючки впивались в подошвы. А впереди дрожал мираж…
Ученый до такой степени обессилел, что даже не смог составить меморандум, обещанный сэру Мурчисону.
Пришлось бежать из Лондона в Иену.
«Милая моя Оля! Лихорадка выгнала меня из Лондона. Кроме того, мои финансы заставили меня бежать оттуда. Я, однако же, сделал все, что только можно было, в короткий срок моего пребывания там. Теперь я возвращаюсь назад в Иену и теперь имею столько денег, что не мог бы на них вернуться в Петербург», — написал он сестре.
Деньги и на этот раз выслала Екатерина Семеновна. Письмо матери было сдержанным, без упреков. Врачи нашли у нее первые признаки туберкулеза. Следовало немедленно уезжать из сырого, промозглого Петербурга. Но маленькую сумму, жалкие грошики, которые удалось скопить на поездку, пришлось перевести Николаю. Старший сын Сергей восстал:
— До каких пор он будет вымогать у вас деньги?! — кричал он. — Мы не обязаны потакать его дурацким затеям. Пора дать ему понять… Папуасы, альфуры… А мать вынуждена тянуть из себя жилы, отдавать последнее, зарабатывать чахотку…
Но вскоре даже Сергей проникся глубоким уважением к своему непутевому брату.
Случилось так, что великая княгиня Елена Павловна, наслушавшись всяких чудес о Миклухо-Маклае от великого князя Константина и от старого графа Литке, пожелала познакомиться с молодым ученым.
К.М. Бэр.
Ф.П. Литке.
П.П. Семенов.
Д.Н. Анучин.
Едва Миклухо-Маклай появился летом 1870 года в Петербурге, как сразу же был представлен великой княгине. Со свойственным красивой избалованной женщине кокетством она постаралась обворожить странного, чудаковатого юношу с отсутствующим взглядом и взъерошенными огненными кудрями. Елена Павловна считала себя женщиной просвещенной и покровительствовала ученым.
— Вы должны поселиться в моем Ораниенбаумском дворце! — заявила она категорическим тоном.
И Маклай поселился во дворце. Все семейство Миклух также получило доступ во дворец.
Вскоре, однако, Елена Павловна разочаровалась в своем госте и, по свидетельству Остен-Сакена, «она, уже до самой своей смерти в 1873 году, перестала интересоваться им».
Миклухо-Маклай оказался не похожим на всех тех людей, с которыми судьба сталкивала великую княгиню. Он не заискивал, не пекся о покровительстве, не замечал обворожительных улыбок Елены Павловны, дурно отзывался о вельможах, забывал прикладываться к ручке и, по мнению великой княгини, мнил о себе чрезвычайно много.
— У него дурной тон… — заявила великая княгиня. — Как я поняла, этот субъект отправляется к людоедам. Туда ему и дорога. Я умею прощать. Пусть распорядятся, чтобы ему доставили на корабль мой шезлонг…
О да, выдержка покинула Маклая. Он слишком устал, чтобы быть «дипломатичным». Цель так близка, а еще столько нужно сделать!.. Через несколько дней он отплывает.
Опять неприятный разговор о «дурацких грошах». Наконец-то совет. Географического общества выделил ему от своих щедрот 1200 рублей! Мизерной суммы не хватит даже на приобретение инструментов.
Получено уведомление от морского министерства: есть высочайшее разрешение принять естествоиспытателя Миклухо-Маклая на корвет «Витязь» для совершения путешествия к берегам Тихого океана… но без довольствия от морского ведомства…
Довольствуйтесь на свой счет, господин ученый!
Даже Петр Петрович Семенов потерял обычный бодрый тон и сказал смущенно:
— Если бы общество располагало средствами… Мы делаем большое дело для науки и для России, а живем подачками меценатов.
Миклухо-Маклай хорошо знал, что Семенов и Литке сделали для него все, что было в их силах.
За несколько дней до отплытия на Новую Гвинею Миклухо-Маклай доложил свой новый план в общем собрании Географического общества. Программа была составлена на основании вопросов и указаний различных ученых: Бэра, Семенова, Геккеля, Гексли, Гильдебрандта, Дове, Вильда, Бастиана и других. К программе Маклай присоединил еще вопросы Чарлза Дарвина «относительно выражения ощущений», изложенные им в инструкции для австрийской экспедиции в Восточную Африку и Южную Америку. Вся программа в общей сложности заключала пятьдесят пять пунктов.
Хотя все члены Географического общества уже знали о том, что Маклай собирается на Новую Гвинею, его программа вызвала у некоторых профессоров возражения. Предприятие отправиться за экватор представлялось кое-кому «ненужным для России».
Петр Петрович Семенов спокойно рассеял все сомнения.
— Талантливый молодой человек предпринимает путешествие на собственный счет и страх, отважно и настойчиво стремится туда, куда ведет его наука и слава России, — сказал он. — И разве не все мы начинали подобным образом? Я не думаю, что господина Миклухо-Маклая влечет в тропические моря праздный интерес. Он уже зарекомендовал себя, и зарекомендовал достойным образом. Нам лишь остается пожелать юному коллеге Николаю Миклухо-Маклаю счастливого плавания, как мы совсем недавно пожелали «ни пуха ни пера» такому же молодому исследователю Николаю Пржевальскому, отправляющемуся в «святая святых» — в Центральную Азию…
Программу утвердили. Петр Петрович легонько обнял Маклая за плечи и совсем тихо вымолвил:
— Мужайтесь, Николай Николаевич. Мужайтесь…
…Заплаканные глаза матери и Ольги, восторженный Мишук, серьезно-спокойный кадет Морского корпуса, будущий моряк Володя и до последней минуты не верящий в «безумную» затею брата Сергей…
И, наконец, Кронштадтский рейд, борт военного корвета «Витязь». Последняя записка родным: «До свидания или прощайте. Держите обещания ваши, как я свои».
Миклухо-Маклай сидел в кресле, подаренном ему великой княгиней Еленой Павловной, когда в каюту вошел председатель Географического общества генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич.
— Ну как, брат Миклуха, устроился? — спросил он покровительственно. — Я распорядился, чтобы тебя доставили прямо к людоедам, на Новую Гвинею. Чем еще могу быть полезен? Проси…
Маклаем уже овладела привычная отрешенность от всего, и он отвечал сухо:
— Все, чего я желал, уже сделано… Передайте мою благодарность за шезлонг великой княгине…
— Подумай, Миклуха.
— Я был бы очень благодарен, если бы через год или через несколько лет в то место северо-восточного берега Новой Гвинеи, где я останусь, зашло русское военное судно. Если меня не будет в живых, то пусть мои рукописи в медных цилиндрах выкопают из земли и перешлют их Географическому обществу.
— Будет по-твоему… Не поминай лихом да не забудь собрать коллекцию бабочек для великого князя Николая Михайловича. Князья тоже должны пользоваться плодами наук.
27 октября 1870 года корвет «Витязь» снялся с якоря и отправился в кругосветное плавание.
Двадцатичетырехлетний Миклухо-Маклай наконец-то мог поздравить себя: он отправляется на Новую Гвинею!..
Примерно в то же время Пржевальский, прокатив на почтовых через Сибирь со своим спутником Пыльцовым, прибыл в Кяхту, откуда должно было начаться его первое центральноазиатское путешествие.
Несколькими месяцами позже большой караван носильщиков, нагруженный медной проволокой, бусами, тканями и другими товарами для меновой торговли, экспедиции некоего Генри Мортона Стэнли выступил в глубь Африки на поиски затерявшегося там Давида Ливингстона.
Если начало путешествий Пржевальского и Миклухо-Маклая осталось почти незамеченным мировой прессой, то экспедиция Стэнли привлекла всеобщее внимание. О ней трубили газеты двух континентов.
Три экспедиции. Разные цели, разные результаты…
Пржевальский стремился открыть для науки Центральную Азию. И откроет ее.
Миклухо-Маклай стремился «вывести в люди» науку о человеке. И посвятит этой задаче всю свою жизнь.
Генри Стэнли формально ставил перед собой более скромную цель: отыскать затерявшегося в дебрях Африки английского путешественника Давида Ливингстона.
Так почему же вокруг имени до этого безвестного журналиста американской газеты «Нью-Йорк геральд», Стэнли, был поднят большой шум?
Судьба Ливингстона мало интересовала издателя газеты, финансировавшего предприятие Стэнли. Нужно было привлечь читателей, поднять тираж газеты. И авантюрист Стэнли устремился в глубь Африки. Ему было наплевать на тираж «Нью-Йорк геральд», он вынашивал свои планы. Он проникнет в такие районы черного материка, куда еще не ступала нога европейца. Он проложит дорогу колониальным державам к еще не поделенным территориям Африки, бросит призыв европейским державам к усилению колониализации Восточной Африки; заручившись финансовой поддержкой бельгийского короля Леопольда II, он создаст на огромной территории, охватывавшей почти весь бассейн Конго, колонию, лицемерно им названную «Свободным государством Конго», огнем и мечом станет подавлять он национально-освободительное движение африканских народов. Имя колонизатора и расиста Стэнли, утверждающего, что в жилах народов тропической Африки течет не обычная человеческая кровь, а особая, черная, станет самым ненавистным для Миклухо-Маклая. Сжигая туземные деревни, расстреливая беззащитных людей, Стэнли цинично изречет: «Огонь успокоительно действует на нервы этих скотов».
Так будет. Но будущее еще никому из троих не ведомо.
2 ноября 1870 года «Витязь» бросил якорь в Копенгагене. Во время шторма Миклухо-Маклай простудился. Заболели ноги, вернулись приступы лихорадки. Но, превозмогая недуг, он оставил корвет и помчался в Гамбург, из Гамбурга — в Берлин, из Берлина — в Иену. Всюду делал закупки, встречался с учеными, возбуждая их внимание дерзостью и оригинальностью своих планов.
Затем едет в Голландию. Там куча дел. Прежде всего нужно добиться аудиенции у министра колоний Голландии. Сильных мира сего надобно разумно использовать в своих целях. Пусть министр колоний послужит делу разоблачения колонизаторов!
Пробиться к министру было нелегко, и все же Маклай добился аудиенции. Министр колоний выслушал русского путешественника весьма внимательно, заинтересовался его планами. «Этот молодой человек, безусловно весьма эрудированный, направляется в места совершенно не исследованные, но формально принадлежащие Голландии. От него может быть немалая польза… — размышлял министр. — Следует его поддержать…»
— Хорошо, — сказал он. — Вы получите голландские карты Тихого океана и письмо к генерал-губернатору Голландской Индии Лаудону. Он будет вам покровительствовать… Подружитесь с его семьей. У его превосходительства очаровательные дочери…
«Дипломатическая миссия» закончилась полным успехом — путь на острова Океании был открыт! Страстно желая встретиться перед отъездом в далекие края с Чарлзом Дарвином, Маклай отправился в Англию. Но здесь его ждало разочарование: Дарвин был тяжело болен и никого не принимал. Миклухо-Маклай поспешил в Плимут, где его уже поджидал «Витязь».
Но вот и сырая, холодная Англия позади…
Атлантический океан, Мадейра, острова Зеленого мыса, а потом — курс на Рио-де-Жанейро. Миклухо-Маклай жестоко страдал от морской болезни, но не прекращал работы: производил измерения температуры воды на глубинах, писал письма и статью о губках. Отношения с командиром корвета Назимовым не налаживались. Вопреки ожиданиям Назимов принял Маклая весьма неприветливо. Нет, не таким представлял себе Павел Николаевич натуралиста, за которого хлопочет сам великий князь. «Сухопутная крыса», мальчишка, бука… К тому же у натуралиста «еле-еле душа в теле». Такой помрет еще до Новой Гвинеи, а потом пиши рапорта и объяснительные записки…
— Я начинаю тихо ненавидеть науку, к которой всегда был преисполнен самого глубокого уважения, — говорил Павел Николаевич окружавшим его офицерам Раковичу, Перелешину, Богомолову, Новосильскому, Чирикову и другим. — Мне приказано ради этого ненормального субъекта изменить маршрут корабля, тащиться бог знает куда и вопреки здравому смыслу высадить молодого человека, больного, истощенного и к тому же почти невооруженного, лишенного средств к существованию, на берег, населенный людоедами… Нет, господа, рассудок не хочет, мириться с этим! Я не желал бы участвовать в подобном преступном предприятии…
— А вы уговорите его отказаться от этой нелепой затеи, — посоветовал Ракович.
6 февраля 1871 года «Витязь» прибыл в Рио-де-Жанейро. Миклухо-Маклай по установившейся привычке сразу же отправился на рынки и в больницы, представляющие обширное поле наблюдений для ученого, интересующегося антропологией. В своей записной книжке он отметил: «Вот что я узнал о положении рабства в последние годы в Бразилии… Всего дороже ценятся негры и мулаты, обученные какому-нибудь ремеслу, а также объекты женского пола, обладающие преимуществом красоты. Цена первым приблизительно до 1000 рублей серебром на наши деньги. За молодых, красивых девушек, особенно мулаток, платят еще дороже…» И с сарказмом добавляет: «Невольник в Бразилии может получить от хозяина только определенное число ударов, за получение свыше положенного количества имеет право жаловаться». Он также отмечает изменчивость расовых признаков населения под влиянием условий жизни и социальных условий.
В Пунта-Аренасе он с грустью и гневом пишет о деятельности английских колонизаторов, спаивающих индейцев спиртными напитками и забирающих за бесценок гуанаковые и лисьи шкуры.
В Вальпараисо «Витязь» задержался надолго. Здесь выяснилось, что программа плавания меняется: если до этого предполагалось, что корвет должен зайти в Австралию, куда Маклай перевел все свои деньги, то теперь Назимову предписывалось следовать прямо на Новую Гвинею, без захода в Сидней. Оказаться без гроша в кармане, без помощников, которые уже поджидают его в Сиднее… Остается одно — покинуть «Витязь» и отправляться в Австралию за собственными деньгами!
Но нет, Маклай не станет менять своих намерений: он не покинет корабля.
«Жизнь на военном судне и с такими субъектами, как Назимов, не особенно приятна, однако ж возможна», — пишет он Мещерскому из Вальпараисо.
Но, как ни странно, первый, кто близко принимает к сердцу беду Маклая, все тот же Назимов. Он подходит к ученому и немного ворчливо говорит:
— Деньги мне самому нужны, но тут уж ничего не поделаешь: берите тысячу рублей, рассчитаемся на том свете угольками. А впрочем, для людоедов вы незавидная приманка… Может быть, еще встретимся.
— Я не нуждаюсь в благотворительности, — сухо отвечает Маклай. — Возьмите вексель: получите по нему или у князя Мещерского, или у моей матери.
— Характер… — задумчиво произносит Павел Николаевич. — Я собираюсь в Сант-Яго. Если не возражаете, то поедем вместе…
И они отправились в Сант-Яго, а затем к знаменитой горе Аконкагуа.
В Этнологическом музее в Сант-Яго Миклухо-Маклай увидел деревянные таблицы, испещренные загадочными значками. Это было «говорящее дерево», или «кохау ронго-ронго», с острова Рапа-Нуи. Копии с деревянных таблиц Маклай видел и раньше в Берлине у Бастиана, а затем в Лондоне. Показывая таблицы, Гексли уверял Маклая в том, что они служат туземцам как штемпель при изготовлении узорчатых тканей. Теперь, изучив оригиналы, Маклай пришел к выводу: ряды значков на дереве есть не что иное, как письмена неведомого народа.
Тайна письменности острова Рапа-Нуи, или Пасхи, надолго (если не навсегда) останется нерешенной в науке. Она будет волновать многих исследователей, по этому вопросу вырастет целая литература. Маклай привезет в Россию «говорящие» таблицы. Много лет спустя таблицами заинтересуется ленинградский школьник Борис Кудрявцев. Юный ученый сделает важнейший шаг к решению этой проблемы, и лишь ранняя смерть помешает ему довести работу до конца.
Рапа-Нуи влек к себе Миклухо-Маклая, но так как в июне, изобилующем штормами и тайфунами, небезопасно было делать здесь стоянку, Назимов решил не высаживаться на остров, а идти дальше. Поднялись из океана гигантские каменные изваяния, расставленные по склонам вулкана Рано-Рараку, и растаяли в голубом тумане.
Многострадальный остров Пасхи… Некогда он был процветающим и многолюдным. Но частые набеги американских работорговцев, завезенные болезни — оспа, туберкулез — сделали свое дело: теперь здесь осталось не более двухсот тридцати жителей.
Все дальше и дальше уходил в тропическую лазурь трехмачтовый винтовой корвет «Витязь». Остров Питкэрн, населенный потомками английских матросов с мятежного корабля «Баунти», острова Мангарева, Таити…
Пока офицеры «Витязя» веселились в кругу пышнотелых таитянок и распевали «Волгу-матушку», ученый бродил по Папеэте в поисках помощников. Но никто из таитян не изъявлял желания, даже за большую плату, отправиться к папуасам, о которых ходили самые дикие легенды.
На Таити некогда останавливался Джемс Кук. За Куком пришли английские и французские миссионеры. Французы захватили Таити. Колонизаторы принесли с собой болезни. Неслыханное бедствие обрушилось на райский остров. Сейчас народ находился на грани вымирания. Болью отзывались в сердце Миклухо-Маклая грустные слова таитянской песни:
Пальма будет расти,
Коралл будет ветвиться,
Но человека больше не будет…
Помощников удалось нанять на острове Уполу архипелага Самоа. Слуг рекомендовал германский консул Вебер. Один из них, швед Ульсон, был типичным «ому» — морским бродягой, кочующим с острова на остров. Некогда он служил матросом китобойного судна, затем очутился на Уполу, а теперь мечтал скопить немного денег, чтобы вернуться на родину. Другой — молодой полинезиец с острова Ниуе — носил странное имя — Бой. Не желая утруждать себя запоминанием труднопроизносимого полинезийского имени, европейцы называли юношу просто боем, то есть мальчиком для услуг. Полинезиец привык к новому «имени» и откликался на него. Легкомысленный Ульсон и успевший привязаться к русскому ученому Бой охотно заключили контракт, согласно которому они обязывались повсюду следовать за Миклухо-Маклаем и быть готовыми к любым испытаниям и даже к смерти.
Лихорадка, полученная Маклаем еще в Чили и мучившая его всю дорогу от самого Вальпараисо, изнурила ученого до такой степени, что он подчас не мог даже сойти на берег.
— Я советую вам отложить путешествие и плыть с нами в Японию, — уговаривал Назимов. — Это же безумие! Начать отшельническую жизнь на диком побережье в таком состоянии равносильно самоубийству… Опомнитесь, господин Маклай, и я сейчас же возьму курс на Нагасаки.
— Мое состояние не должно вас беспокоить. Выполняйте приказ своего начальства. Только на Новую Гвинею!..
— Мальчишка, упрямец… — ворчал командир корвета, отойдя на почтительное расстояние от ученого. Назимов долго бушевал в своей каюте. И все-таки он не мог побороть чувства невольного уважения к этому молодому человеку, истерзанному лихорадкой, который ради науки шел на верную смерть. Он также отметил, что и весь экипаж, офицеры и матросы прониклись любовью и почтительностью к натуралисту. И старший офицер Новосильский, и лейтенант Ракович, и гардемарин Верениус подолгу засиживались в каюте естествоиспытателя. А лейтенант Перелешин, романтичный, как все лейтенанты, смотрел на Маклая восхищенными глазами.
Посетив острова Ротума и Новая Ирландия, «Витязь» направился к северо-восточному берегу Новой Гвинеи.
На 316-й день после отплытия корвета из Кронштадта, 19 сентября 1871 года, в десять часов утра показался покрытый облаками высокий берег Новой Гвинеи.
Новая Гвинея. Что знал о ней Миклухо-Маклай?…
Несмотря на то, что Новая Гвинея была открыта уже более трехсот лет назад, только некоторые из ее берегов посещались мореплавателями. Истинные размеры острова никому не были известны, а страна в целом оставалась совершенно неисследованной. Тропический, влажный, лихорадочный климат, многочисленные рифы, легенды о свирепости туземцев (говорили, например, что они убивают и съедают каждого, кто высадится на их берегу) лучше всего охраняли остров от вторжения белых колонизаторов. Номинально Новая Гвинея принадлежала Голландии и Англии. На самом же деле внутри страны не бывал еще ни один европеец. Бухта Астролябии, куда направлялся «Витязь», была открыта в 1827 году Дюмон-Дюрвилем. Но французский мореплаватель не заходил в бухту, не высаживался здесь.
Английский мореплаватель Джюкс уверял, что рассказы о Новой Гвинее «подобны волшебным страницам из арабских сказок, таящих чудеса, которые в них сокрыты». Натуралист Уоллес указывал, что ни одна страна земного шара не имеет таких своеобразных новых и красивых произведений природы, как Новая Гвинея, а также что она является самой большой terra incognita, которую остается исследовать естествоиспытателям…
Миклухо-Маклай стоял на палубе, скрестив руки на груди. Он пристально вглядывался в еще неясные очертания земли, где ему предстояло начать свой беспримерный научный подвиг. Внешне ученый был спокоен, но сердце его гулко билось.
Так вот она, «терра инкогнита», неведомая суша, куда еще не ступала нога европейца! Заветный, никем не открытый и не исследованный материк юношеской мечты…
С каждым часом желанный берег обретал все более зримые черты. Сияло ровным металлическим блеском море. Стаи летучих рыб, дельфины, баниты, касатки выпрыгивали из воды. Под белым слоем облаков, на террасах, прорезанных ущельями, сурово темнел лес. И лишь кое-где между светло-зелеными кронами кокосовых пальм виднелись остроконечные крыши хижин. Над крышами поднимался дым.
И Миклухо-Маклай увидел их. Они стояли на прибрежном песке безмолвные, неподвижные, как изваяния, — смуглые до черноты обнаженные люди с каменными топориками и копьями.
— Так где же вы желаете высадиться, Николай Николаевич? — спросил командир корвета Назимов.
Маклай вздрогнул.
Только утром 20 сентября Миклухо-Маклай, всмотревшись в гигантскую перспективу тропических лесов, мог сказать Назимову:
— Высаживайте здесь!
Войдя в небольшую бухту, корвет стал на якорь саженях в семидесяти от песчаного мыска. Громадные деревья, опускающие ветви до самой воды, ползучие лианы, древовидные папоротники, большие причудливые листья неведомых растений образовывали непроницаемую темно-зеленую завесу. Среди цветов порхали райские птицы и попугаи.
Вскоре на мыске появилась группа туземцев. Они, должно быть, со страхом и удивлением смотрели на огромную пирогу, из которой выходил дым, и на людей в белых одеждах. Один из папуасов, подойдя к самой воде, положил на песок кокосовый орех и стал делать какие-то знаки. Казалось, он хотел объяснить, что кокос — подарок неизвестным чужестранцам, приехавшим на огненной пироге.
— Дайте мне четверку. Я хочу на берег… — сказал Маклай Назимову.
— Вас будет сопровождать катер с вооруженной охраной.
— Ни в коем случае! Шлюпку без матросов, и только… Я даже не возьму с собой оружия.
— Это безумие!
— Пусть будет так. Вы ни за что не несете ответственности.
Миклухо-Маклай нагрузил карманы подарками: стеклянными бусами, красными лентами, гвоздями, табаком — и, захватив с собой Боя и Ульсона, направился в шлюпке к берегу. Однако завязать знакомство с туземцами на этот раз не удалось: они воспрепятствовали высадке, угрожали копьями. Пришлось вернуться на корвет.
И только некоторое время спустя, когда островитяне скрылись в лесу, исследователю удалось благополучно достичь желанного берега.
Он с такой поспешностью и нетерпением выскочил из шлюпки и направился по тропинке в лесную чащу, что даже не отдал никаких приказаний Ульсону и Бою, которые занялись привязыванием четверки к деревьям. Пройдя шагов тридцать по тропинке, Миклухо-Маклай заметил между деревьями несколько крыш, а далее тропа привела его к площадке, вокруг которой под сенью пальм стояли хижины с крышами, спускавшимися почти до земли. Деревня имела очень опрятный и приветливый вид. Побелевшие от времени крыши из пальмовой листвы красиво выделялись на темно-зеленом фоне джунглей. Ярко-пунцовые цветы китайской розы, желто-зеленые и желто-красные листья кротонов, бананы, панданусы, высокие хлебные деревья, арековые и кокосовые пальмы… Это был тропический рай. Позабыв об осторожности, обо всем на свете, Маклай, словно мальчишка, вырвавшийся на свободу, задыхаясь от восторга, мчался по лесной тропе.
В папуасской деревне не оказалось ни одной живой души. Повсюду следы поспешного бегства жителей: брошенное второпях весло, недопитый кокосовый орех, еще тлеющий костер, открытые двери хижин. В хижинах — полумрак. С трудом можно различить высокие нары из бамбука, связки раковин и перьев на стенах, а под самой крышей, почерневшей от копоти, — человеческий череп.
Вот из кустов вышел бородатый папуас с матово-черными курчавыми, как у негра, короткими волосами, сплюснутым широким носом и боязливо бегающими по сторонам глазками, запрятанными под крутыми надбровными дугами. Туземец был хорошо сложен. Весь костюм его состоял из пояска стыдливости и браслетов из плетеной сухой травы. Кожа папуаса была темно-шоколадного цвета. Завидев ученого, туземец бросился наутек, но Маклай догнал его и протянул красную ленту. Папуас улыбнулся, принял ленту и повязал себе на голову.
Ученый ткнул себя пальцем в грудь:
— Маклай!
Папуас понял, рассмеялся и, в свою очередь, представился:
— Туй!
Он позволил взять себя за руку. И вот они, как старые знакомые, идут по тропе. На поляне повстречали Боя и Ульсона. Вскоре из-за деревьев вышли жители деревни. Ученый брал их за руки и приглашал разделить компанию. Образовался тесный кружок. Маклай устало опустился на камень и принялся раздавать новым знакомым подарки.
Лучи заходящего солнца обагрили листву пальм, в глубине леса кричали незнакомые птицы. Было так хорошо, так мирно и вместе с тем так чуждо, что все окружающее казалось скорее сном, нежели действительностью.
Значит, оно свершилось! Как порадовался бы Карл Максимович Бэр, увидев Маклая в кругу тех самых папуасов, о которых до сих пор ведется горячий теоретический спор…
Папуасы были различного роста. В их волосах, то совершенно черных, то выкрашенных красной глиной, торчали бамбуковые гребни, перья какаду и казуаров. На шее у каждого — ожерелье из зубов собак, в ушах — черепаховые серьги, в носовой перегородке — узорная бамбуковая палочка. Некоторые были вооружены каменными топориками и огромными луками со стрелами.
Солнце село. Жители деревни проводили ученого до берега, неся на плечах подарки: кокосы, бананы и двух беспрестанно визжащих диких поросят. Все было положено в шлюпку. Желая закрепить хорошие отношения с туземцами, а также показать офицерам корвета своих новых знакомых, Маклай предложил папуасам следовать к корвету на пирогах. Посовещавшись, туземцы дали согласие. Одну из пирог Маклай взял на буксир. На полдороге к «Витязю» туземцы стали проявлять беспокойство, показывая знаками, что не хотят ехать далее. Они даже пытались перерубить каменным топором буксир. Только Туй, его старший сын Бонем и еще два папуаса позволили поднять себя на палубу корвета. Правда, они тряслись всем телом и без помощи Маклая не могли держаться на ногах. Однако любопытство пересилило страх. В кают-компанию был принесен фонарь. Офицеры угостили папуасов чаем и сластями, обласкали и щедро наградили подарками. Папуасы успокоились и даже повеселели. Особенно забавляло их зеркало. Но, несмотря на любезный прием, они, когда кончилось время, с видимым удовольствием и большой поспешностью покинули корабль.
На следующее утро Маклай не на шутку встревожился: от офицеров он узнал, что по случаю дня рождения великого князя Константина будет дан салют. Какое впечатление произведет пушечная пальба на туземцев, никогда не слыхавших выстрела? Гнев закипел в груди ученого. Он поддел ногой кресло — подарок великой княгини Елены Павловны и направился в деревню. В деревне он очутился уже во время салюта. При каждом новом выстреле папуасы то пытались бежать, то ложились на землю, затыкали себе уши, тряслись, точно в лихорадке.
Чтобы ободрить своих новых друзей, Маклай принялся смеяться. Смех заразителен. Видя иноземца смеющимся, папуасы поняли, что им не угрожает никакая опасность, и ободрились. И все-таки салют произвел на них сильное впечатление: лица их были хмуры и враждебны. Большинство жителей деревни убежало в горы.
Церемония на корвете продолжалась. Бухточка, где корабль стоял на якоре, была окрещена портом великого князя Константина. Все мыски получили имена офицеров, делавших съемку. Пролив между островами Рук и Лонг, которым прошел корвет, назвали проливом «Витязя». Появился на карте также и остров «Витязя».
Миклухо-Маклай занялся постройкой хижины в облюбованном им месте на западном берегу бухточки. Отсюда недалеко было до папуасских деревень. Здесь протекал большой ручей. Со стороны моря местечко Гарагаси было защищено коралловыми рифами. Свою резиденцию Маклай назвал мысом Уединения. Он решил уединиться, чтобы его присутствие не стесняло местных жителей.
Офицер корвета «Витязь» лейтенант В. Перелешин тогда же записал в свою тетрадь: «Г. Миклухо-Маклай, решившись остаться на Новой Гвинее, выбрал себе место в порте великого князя Константина, на одном мыске, возле речки. Наши столяры и плотники соорудили ему прехорошенький маленький домик на сваях; команда очистила место возле дома и сделала большую площадку, кругом которой из срубленных деревьев, кустарников и колючего хвороста устроили ограду, так что дикари ни с которой стороны не могут подойти к дому, не быв замеченными. Кроме того, кругом дома в приличном от него расстоянии закопали несколько небольших мин, или, правильнее, устроили для него шесть фугасов по различным направлениям. Взорвать каждый он может, не выходя из дома; это будет хорошая защита, а главное — острастка в случае нападения дикарей.
Карта берега Маклая.
Увеличенная часть карты берега Маклая.
Ввиду его исключительного положения командир нашел необходимым оставить в его полное распоряжение одну из шлюпок, а именно четверку с полным вооружением: в случае безвыходного положения он может на ней переправиться в другое место. Снабдили его также провизией" и вообще всем, чем только было возможно и что было для него необходимо. Для хранения вещей и провизии были вырыты погреба; маленький шалаш возле дома будет служить ему кухней, мальчик с острова Ниуе предназначен быть поваром, а другой, швед Вильсон, как более смышленый, будет находиться при г. Маклае.
Все без исключения принимали в нем самое живое участие, каждый помогал по возможности в устройстве его нового жилища. Нарубив порядочное количество дров, мы распрощались с г. Миклухо-Маклаем, пожелав ему успеха в его предприятии и всякого благополучия; развели пары, дали ход. Мак-лай салютовал нам русским купеческим флагом, который развевался на длинном флагштоке, привязанном к высокому дереву, стоящему на самом мыске».
И впервые за все эти дни Николай Миклуха ощутил щемящую боль в сердце, острую тоску по далекой родине.
«Прощайте, дорогие друзья, которых я успел полюбить и с которыми успел сродниться… Прощай, добрейший человек Павел Николаевич, честный и бескорыстный… Мы еще встретимся… Мы еще встретимся!..»
Пустым, отсутствующим взглядом окинул Маклай и море, и деревья, и вершины неизвестных хребтов, и обнаженных коричневых туземцев с каменными топориками, уже совершающих воинственный танец у хижины. Вот куда может завести человека мечта!
На глазах Ульсона слезы. В самый последний момент он струсил, и только стыд перед русскими моряками помешал ему перебраться на корвет.
Пришел Туй. Стал допытываться, вернется ли корвет. Еще раньше, при первом знакомстве, он пытался объяснить ученому, что как только корвет уйдет, из соседних деревень нагрянут туземцы с копьями и убьют Маклая и его слуг.
— Бонгу, Горенду, Гумбу, Мале, Богата… — перечислял Туй названия деревень. — Ареа, ареа! — Уходи, уходи!
— Арен! — Нет! — твердо ответил Маклай.
Папуасы из деревни Гумбу пожаловали под вечер. Сперва послышался звонкий протяжный свист, а затем из-за кустов выступил целый отряд туземцев, вооруженных копьями, луками со стрелами и каменными топорами.
Ученый вышел к ним навстречу, приглашая знаками приблизиться. Папуасы побросали оружие и подошли. Намерения у них были самые мирные: они принесли связки сахарного тростника, клубни таро, кокосовые орехи. Щедро одарив каждого, Маклай сказал:
— А теперь будем спать. Спокойной ночи, друзья папуасы…
Крохотная хижина Маклая была разделена парусиновой перегородкой на два отделения и имела маленькую веранду. Комната, в которой жил ученый, не превышала по площади квадратной сажени. У одной стены он устроил постель, у другой — стоял письменный стол и шезлонг. На столе он расставил приборы. Здесь же находились фотографии матери и Оли. Ветер пронизывал хижину насквозь. Тропический ливень легко пробивал крышу из пальмовых листьев, вода заливала дневники и книги.
Выбор места для хижины оказался неудачным. Мыс Гарагаси был самым нездоровым по климатическим условиям на всем берегу залива Астролябии. По этому поводу командир корвета «Витязь» Назимов доносил в рапорте начальству: «Г. Маклай прибыл на Новую Гвинею совершенно без всяких средств для устройства и существования своего и его двух наемных слуг… Местность, избранная им для жилья, по общему нашему убеждению, неудобная; в случае крайности ему отрезаны все пути для отступления, и она имеет все данные для развития лихорадки. Переночевавший одну только ночь в доме Маклая инженер-механик прапорщик Богомолов получил лихорадку перемежающуюся 16 сентября и болен по сие время; слуга швед остался там уже пораженный лихорадкой, и сам г. Маклай уже ощущал припадки лихорадки. Через пять дней по уходе корвета лихорадка начала развиваться в команде корвета. Кроме этих губительных обстоятельств для г. Маклая, он не может из своего жилья усмотреть ни одного проходящего корабля, и, обратно, ни один корабль, проходя мимо, никогда не будет в состоянии рассмотреть местопребывание европейца и флаг, который я ему устроил на мачте…»
А Маклай наслаждался покоем. Он впал в какое-то оцепенение, по ночам смотрел на звезды и размышлял: «Чего мне больше? Море с коралловыми рифами, с одной стороны, и лес с тропической растительностью — с другой, — оба полны жизни, разнообразия; вдали горы с причудливыми очертаниями, над горами клубятся облака не менее фантастических форм… Думать и стараться понять окружающее — отныне моя цель…»
На четвертый день Миклухо-Маклай решил посетить деревню Горенду, где жил Туй. Поразмыслив, он оставил револьвер дома. В лесу он попал не на ту тропинку и вышел к незнакомой деревне. Папуасы, впервые увидев белого человека, пришли в сильнейшее возбуждение. Они топали ногами, размахивали копьями, кричали: «Ареа, ареа!» Дети и женщины попрятались. Несколько стрел со свистом пролетели над головой исследователя.
«Один из них даже был так нахален, что копьем при какой-то фразе, которую я, разумеется, не понял, вдруг размахнулся и еле-еле не попал мне в глаз или в нос, — записал позже Маклай в дневнике. — Движение было замечательно быстро, и, конечно, не я был причиной того, что не был ранен, — я не успел двинуться с места, где стоял, — а ловкость и верность руки туземца, успевшего остановить конец своего копья в нескольких сантиметрах от моего лица…
В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома, не будучи уверен, так же ли хладнокровно отнесся бы я ко второму опыту, если бы мой противник вздумал его повторить».
Ученый во время этой сцены старался сохранять невозмутимое, безразличное выражение лица. Будучи психологом, он знал, что на какой бы низкой ступени развития ни находились люди, они никогда не нападут на безоружного и притом одинокого чужеземца. Не мог он знать лишь другого: папуасы вовсе не намеревались причинить гостю какой-либо вред; просто они встречали его по своим давним обычаям. Выстрелы из лука — не что иное, как обрядовые действия. Папуасы горных районов Новой Гвинеи, папуасы берега Маклая и по сей день «встречают» подобным образом всякого незнакомца.
Но Миклухо-Маклаю казалось, что его хотят убить. Чутье подсказывало ему, что сейчас самое лучшее — это дать возбужденным людям успокоиться, показать, что он доверяет им и ничуть не боится их.
Сильная усталость от ходьбы и волнения давали о себе знать. Недолго думая, Миклухо-Маклай высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку и с большим удовольствием растянулся на ней. Закрыть глаза, утомленные солнечным светом, было очень приятно. Если уж суждено быть убитым, то ведь все равно, будет ли это стоя, сидя или лежа!
Треск цикад и жалобная песнь птички коки навевали сон. И он в самом деле заснул. Проспал два часа с лишком. Открыв глаза, увидел, что туземцы сидят вокруг циновки и мирно жуют бетель. Разговаривали они вполголоса, чтобы не разбудить гостя.
Особенно сдружился Николай Николаевич с Туем из деревни Горенду. Туй всегда был тут как тут. Он помогал строить хижину, он учил Маклая папуасскому языку. Иногда просил для своих нужд железный топор и всегда в назначенное время аккуратно возвращал его, иногда под вечер приходил в Гарагаси и ночевал в хижине, охраняя сон ученого.
«Курьезнее всего, что, все еще не зная языка, мы понимали друг друга», — записал ученый. Туй стал посредником между отшельником из Гарагаси и жителями берега. Туй оказался весьма смышленым папуасом. Он знал названия всех окрестных деревень, ручейков, островков, заливчиков. Легко разбирался в той карте местности, которую набросал Николай Николаевич, и даже сам внес необходимые исправления, хотя до этого никогда не держал в руках ни карандаша, ни бумаги.
Очень часто в хижину на мысе Уединения наведывались гости из Горенду, Гумбу, Бонгу и других поселений. Маклай дарил им зеркала, пустые бутылки, гвозди, куски материи, пачки табаку, бусы. Они приносили кокосовые орехи, сахарный тростник, клубни таро, собачье мясо, свинину, плоды хлебного дерева и бананы.
«Надо заметить, что в этом обмене нельзя видеть продажу и куплю, а обмен подарками: то, чего у кого много, он дарит, не ожидая непременно вознаграждения, — записал ученый. — Я уже несколько раз испытывал туземцев в этом отношении, то есть не давал им ничего в обмен за принесенные ими кокосы, сахарный тростник и пр. Они не требовали ничего за них и уходили, не взяв своих подарков назад».
Жители Горенду, Гумбу и Бонгу считали ученого чуть ли не достопримечательностью своих мест. Каждый раз они приводили в «таль Маклая» все новых и новых гостей из отдаленных поселений, показывали вещи ученого, расхваливая их на все лады и объясняя назначение каждой.
Люди с отдаленного острова Били-Били, прибывшие в Гарагаси на двух больших двухмачтовых пирогах, с большим удивлением и интересом рассматривали 'все: кастрюли и чайник на кухне, складное кресло и стол. Башмаки ученого и его полосатые носки возбудили всеобщий восторг. Туземцы остались очень довольны подарками и пригласили Маклая к себе в гости. Прощаясь, они пожимали ученому руки выше локтя, обнимали его и все время повторяли: «О Маклай! О Маклай!»
Жители берега охотно посещали мыс Уединения, но появление ученого в какой-либо деревне всегда вызывало переполох и неудовольствие туземцев. Они все еще не доверяли белому человеку и побаивались его: «Кругом угрюмые, встревоженные, недовольные физиономии, как будто говорившие, зачем я пришел нарушить их спокойную жизнь».
Миклухо-Маклай часто думал, что потребуется немало терпения и такта с его стороны, чтобы разрушить стену непонимания и недоверия. Главное — быть ненавязчивым, не вмешиваться в чужую жизнь. Он отметил, что туземцы — народ практичный и не такие уж «дикари», какими пытаются их представить западные ученые. Например, ножи, топоры, гвозди и бутылки, то есть предметы, необходимые в хозяйстве, папуасы ценят гораздо более, чем бусы, зеркала и цветные тряпки. Осколкам стекла они сразу же нашли применение: сбривают ими бороды и усы. Деревни их весьма благоустроены, в них имеются общественные здания — место собраний взрослых мужчин, управляющих жизнью поселения. Земледельческое хозяйство дает им все необходимое. У них существует понятие о супружеской верности, они знают, что такое ревность, и даже устраивают дуэли из-за женщин. Люди всюду есть люди, даже в каменном веке… Тетради ученого пестрят записями: «Можно было подивиться предприимчивости и трудолюбию туземцев, тщательной обработке земли»; «Я часто удивлялся, как быстро и целесообразно все приготовлялось, без всякой толкотни и крика»; «Рассматривая их постройки, пироги, утварь и оружие и убеждаясь, что все это сделано каменным топором и осколками кремня и раковин, нельзя не поразиться терпением и ловкостью этих дикарей».
Земледелие, рыбная ловля, охота, зачатки животноводства… Основой хозяйственной деятельности папуасов берега Маклая являлось земледелие. Они выжигали участки тропического леса, культивировали ямс, бананы, таро, бобы, дегарголь, масличные, сахарный тростник и арековые пальмы. Домашними животными были свинья и собака, куры водились в полудиком состоянии. Население папуасской деревни состояло из членов одного и того же рода. Папуас имел право взять в жены девушку только из другой деревни. Каждая деревня имела свой огороженный земельный участок.
Производство и потребление у туземцев носили коллективный характер, общественный строй основывался на принципе равенства.
Это была низшая ступень варварства. Миклухо-Маклай открыл для науки мир людей неолита, последний крупный массив самобытной архаичной культуры, еще не затронутый европейской «цивилизацией».
И теперь, очутившись в каменном веке, он всеми силами старался познать незнакомую жизнь, полную загадок и тайн, слиться с нею, чтобы увидеть ее изнутри.
Он был доволен, что наконец-то добрался до заветной цели, или, вернее, до первой ступени длиннейшей лестницы, которая должна привести к цели, к истине.
Он, разумеется, не мог знать, какие испытания ждут его впереди. Не мог он знать и того, что ему предстоит провести на этом берегу более года.
…Над головой не то зеленоватый туман, не то какие-то особые бахромчатые облака, а на самом деле это плотная масса глянцевитой листвы, нежно сияющей в свете тропического солнца. Кроны шестидесятиметровых деревьев, смыкаясь, образуют как бы огромную кровлю. Внизу — парная, банная атмосфера, серый сумрак. В тени свыше тридцати градусов жары. Нечем дышать. Лианы, то усаженные эпифитами и гибкими султанами фиолетовых, розовых, апельсиново-желтых и пестрых, как тигрята, орхидей, то гладкие, как жилы, стелятся по кирпично-красной земле, взбираются на обомшелые стволы, гирляндами перебрасываются с ветки на ветку, снова сползают на землю и исчезают в чаще. А вот ураган сорвал цепкую, усеянную колючками пальму-ротангу, и она, падая вниз, свернулась в десятки колец, лежит словно толстый удав. Выпустил безобразные, точно щупальца, воздушные корни панданус; на них, как на подпорках, возвышается массивный ствол, увенчанный пучками громадных острозубчатых листьев. В другом месте буря повалила деревья расамала; образовалась брешь в куполе, сотканном из листьев и ползучих растений. И в эту брешь хлынули потоки ослепительного света. И не понять — то ли вы в цирке, то ли в гимнастическом зале для великанов: высокие, безукоризненно прямые колонны с досковидными в рост человека корнями, сотни канатов, спускающихся с высочайших ветвей почти до самой земли, густая кружевная сетка, в которой запутались пунцовые и белые, величиной с крупный кочан капусты цветы…
Какое-то клокочущее буйство растительности, сплошной зеленый клубок. Над перистыми ветвями низкорослых пальм нипа, над неправдоподобно огромными пурпурно-красными цветами рафлезии, этого «аленького цветочка» джунглей, порхают отливающие металлическим отблеском, окрашенные во все цвета радуги удивительные по величине махаоны, перепрыгивают с ветки на ветку ярко оперенные райские птицы и попугаи. Где-то тут, в кустах, скрываются гигантские птицы казуары или эму, кус-кусы, сумчатые барсуки, опоссумы, свирепые полосатые кабаны и маленькие рыжевато-серые кенгуру тиболь.
Девственный лес без конца и края… И хвощи, и папоротники, и пальмы, и фикусы — все здесь ползет, цепляется, нащупывает жертву, чтобы опутать, оплести ее, обхватить своими бесчисленными кольцами и спиралями, присосаться, удушить, прорваться к свету и воздуху.
Это тот самый мир, тропиков, в реальное существование которого как-то не верилось в юношеские годы. Большинство людей проживет свой век в сырых каменных каморках и никогда не увидит дикой ярости растительного царства, оргии красок, райских птиц, пламенеющего неба над коралловыми рифами, сверкающими экваториальными водами и высоченными хребтами Мана-Боро-Боро, где еще не ступала нога человека.
Может быть, и жаль тех людей. Но представьте себе одинокого человека, затерянного в этом зеленом аду, отрезанного невообразимыми пространствами от всего цивилизованного мира. Он одинок, совершенно одинок. Его спутники Бой и Ульсон тяжело больны, мечутся в бреду. По-видимому дни их сочтены. Сам Миклухо-Маклай изнурен частыми приступами лихорадки, он еле-еле передвигает ноги. Лицо и руки его распухли от болезни и укусов муравьев. Маленькая хижина в Гарагаси превратилась в лазарет. У Боя — сильная опухоль лимфатических желез в паху и к тому же воспаление брюшины. Ульсон третий месяц не встает с постели: лихорадка отняла у него остатки мужества. Сегодня утром он заявил, что, вероятно, больше не встанет. Глаза Ульсона заплыли в распухших веках, он едва шевелит языком, который, по его словам, стал вдвое толще против обыкновенного. Приступы лихорадки у него часто сопровождаются бредом и рвотой.
Беспрерывно идут дожди с сильными грозами. Несмотря на то, что Маклай тепло одет — на нем две фланелевые рубашки, две пары фланелевых штанов, одно одеяло на коленях и другое на плечах, — ему холодно, зуб не попадает на зуб. Кружится голова. При переходе от озноба к жару он вдруг начинает чувствовать, как тело его растет, голова увеличивается все более и более, достает почти до потолка, руки делаются громадными, пальцы распухают. Тяжесть разрастающегося тела способна раздавить его. Нет, это не бред, не сон. Это странное состояние, при котором мозг продолжает четко работать. Ульсон, решив, что наступил последний час Маклая, бросается к его койке и долго рыдает, проклиная судьбу, и папуасов, и тот час, когда он ступил на этот проклятый берег.
Сверкают молнии. Тысячи мертвенно-синих молний сливаются в сплошное море ослепительного света. За стенами хижины с треском рушатся лесные великаны, раскаты грома раздирают небо всю ночь. Дождь барабанит по крыше, стол, кровать — все залито водой. Маклай набрасывает поверх одеяла непромокаемый плащ. Гаснет лампа.
Лихорадка, без конца лихорадка… Сквозь бред Миклухо-Маклай слышит однообразные удары туземного барабана — барума, пронзительный протяжный вой, крики людей…
Они приходят, размалеванные белой и красной краской, вымазанные черной землей, утыканные цветными перьями попугаев, казуара, голубей и белых петухов, вооруженные луками и копьями. В их руках полыхают факелы. «Маклай, гена, гена! Маклай, выходи!» — кричат они. Ульсон трясется от страха, он сует ученому двустволку, приговаривая: «Не пускайте их! Они перебьют нас! Туй — шпион». Отстранив шведа и, превозмогая слабость, ученый выходит к папуасам. Они хотят знать, жив ли еще Бой и вернется ли когда-нибудь сюда русский корвет. «Отдай нам Боя!» — требуют они. Не так давно Туй с очень серьезным видом сказал Маклаю, что Бой скоро умрет, что Виль (так папуасы называют Ульсона) болен и что Маклай останется один; при этом он поднял палец, затем продолжал: «Придут люди из Бонгу и Гумбу, много людей, придут и убьют Маклая». Он даже показал, как Маклаю проколют копьем шею, грудь, живот, и запричитал: «О Маклай, о Маклай!»
И снова озноб, бред, жар…
«Не туземцы, не тропическая жара, не густые леса — стража берегов Новой Гвинеи, — записал Маклай в дневнике. — Могущественная защита туземного населения против вторжения иноземцев — это бледная, холодная, дрожащая, а затем сжигающая лихорадка. Она подстерегает нового пришельца в первых лучах солнца, в огненной жаре полудня, она готова схватить неосторожного в сумерки; холодные бурные ночи, равно как дивные лунные вечера, не мешают ей атаковать беспечного, но даже и самому предусмотрительному лишь в редких случаях удается ее избежать. Сначала он не чувствует ее присутствия, но уже скоро он ощущает, как его ноги словно наполняются свинцом, его мысли прерываются головокружением, холодная дрожь проходит по всем его членам, глаза делаются очень чувствительными к свету, и веки бессильно смыкаются. Образы, иногда чудовищные, иногда печальные и медленные, появляются перед его закрытыми глазами. Мало-помалу холодная дрожь переходит в жар, сухой бесконечный жар, образы принимают форму фантастической пляски видений. Моя голова слишком тяжела, а рука слишком дрожит, чтобы продолжать писать…» Бой умер 13 декабря. Перед смертью он катался по полу, скорчившись от боли. Подоспевший Маклай взял его на руки, как ребенка, и положил на койку. Холодные, потные, костлявые руки, охватившие шею ученого, совершенно холодное дыхание, ввалившиеся глаза и побелевшие губы Боя, его невнятная речь — все свидетельствовало о том, что конец близок. Он силился что-то сказать Маклаю и не мог.
— Бедный Бой, он умер… — наконец сказал Миклухо-Маклай. Ульсон стоял совершенно растерянный и спрашивал, что теперь делать.
— Тело мы бросим сегодня ночью в море. Так, чтобы они ничего не видели. А сейчас потрудитесь набрать побольше камней и положить их в шлюпку. Тело должно сразу же пойти ко дну…
Миклухо-Маклай любил Боя и остро переживал первую утрату. Никогда больше этот мальчик не увидит родного острова, не услышит шума прибоя и шелеста листьев кокосовых пальм у хижины, где ждет его одинокая мать…
Но Маклай был прежде всего человеком научного долга, лишенным предрассудков и ложной сентиментальности. Ради истины он не щадил себя, и другие, окружавшие его, должны были служить целям науки. Ульсон, которой при жизни Боя всегда дурно отзывался о нем, бранил юношу, теперь заговорил о боге и об исполнении воли его. На глазах шведа стояли слезы.
— Бросьте хныкать, Ульсон, — резко оборвал его Маклай. — Бой умер потому, что отказывался от пищи. Туземное поверье. Они считают, что больной не должен есть совсем или есть очень мало. И вот результат. Я решил распилить череп Боя и сохранить его мозг для исследования. Вы будете помогать. Глаза шведа округлились от ужаса.
— Это кощунство! — закричал он. — Бог накажет вас…
Затем перешел на умильно-просительный тон:
— Очень прошу, не делайте этого. Я запрещаю распиливать мой череп! Запрещаю. И не смейте выбрасывать меня на съедение акулам…
Маклай криво улыбнулся:
— Не вопите! Мозг такого осла, как вы, — небольшая находка для науки. Кроме того, вы еще не умерли, черт бы вас побрал с вашей трусостью и нытьем! Пусть будет по-вашему…
Одержав победу, Ульсон успокоился. Но он плохо знал Маклая: не уговоры шведа повлияли на решение ученого, а тот факт, что у последнего просто не оказалось достаточно большой склянки для помещения мозга полинезийца. Однако он вспомнил, что обещал профессору Гегенбауру при случае добыть и прислать в Страсбург гортань темнокожего человека со всею мускулатурой ее. Опасаясь, что вот-вот могут явиться папуасы, и не обращая внимания на вопли дрожащего от суеверного страха Ульсона, ученый быстро достал анатомические инструменты, склянку со спиртом и принялся за дело…
Боя похоронили этой же ночью. Наутро явились туземцы и стали уговаривать Миклухо-Маклая отпустить Боя в Гумбу, где его обязательно вылечат. Чтобы отвлечь их от этих неприятных разговоров, ученый решил совершить «чудо». Он взял блюдечко, налил немного спирта, поставил блюдечко на веранду и позвал гостей. Взяв затем стакан с водой, он отпил немного из него, и дал попробовать одному из туземцев, который убедился, что в стакане вода. Прибавив к спирту на блюдечке несколько капель воды, Маклай поднес зажженную спичку. Спирт вспыхнул. Туземцы отпрянули. Ученый стал разбрызгивать горящий спирт на лестницу, на землю. Папуасы с криками бросились вон из Гарагаси. Вскоре, однако, возле хижины собралась огромная толпа. То были жители Бонгу, Били-Били и острова Кар-Кар.
«Маклай, не зажигай моря!» — кричали они.
Если до этого случая папуасы называли русского ученого «rape тамо», что значит «человек в футляре», то есть «человек в одежде», то теперь его стали именовать «каарам тамо» — «человек с Луны». Убеждению в том, что «тамо-русс» — «русский человек» явился с Луны, послужил еще один случай: как-то ночью мимо Гарагаси проходили две ярко освещенные пироги. Ученому пришла фантазия отсалютовать им фейерверком, и он зажег фальшфейер. Эффект получился потрясающий: папуасы побросали факелы в воду и удрали.
«Тамо-русс выпустил в небо Луну», — рассказывали они в селениях. Так за Маклаем закрепилась кличка «человек с Луны». Напрасно Маклай раскладывал перед Туем географическую карту и старался объяснить, где находится Россия. «Бой улетел в Россию?» — спрашивал Туй и указывал на Луну. Другие интересовались, есть ли на Луне дома, деревья, женщины и сколько там у Маклая жен, на каких звездах ему удалось побывать. Ученого поразило, что папуасы считают солнце большой звездой.
Только пожилой папуас Каин с острова Били-Били был задумчив. Он побывал на острове Сегу, где ему показали «телум-Анут» — фигуру женщины с бака европейского судна. Там же он впервые услыхал о далекой стране, где у людей есть железные топоры и ножи, большие дома и где все одеваются в платья и носят башмаки, как Маклай. Остальные считали свой берег единственным местом на земле, где обитает человек.
Н.Н. Миклухо-Маклай был тонким психологом, о чем свидетельствует каждый его шаг на земле папуасов. Он никогда не носил с собой оружия, если даже отправлялся к туземцам ночью, так как отлично понимал, что полная его беззащитность перед толпами вооруженных с ног до головы туземцев является лучшей защитой.
Зная, что туземцы прячут от него своих жен и детей, он взял за правило предупреждать о своем приходе жителей деревни свистком, дабы женщины и дети имели время спрятаться. И это нравилось папуасам: «Они видели, что я поступаю с ними открыто и не желаю видеть больше, чем они хотят мне показать». Он был щедр на подарки, одаривал каждого пришедшего в Гарагаси, оказывал внимание и гостеприимство каждому, ибо самого себя всегда считал лишь временным гостем на папуасской земле. Всем своим поведением он старался внушить папуасам, что безгранично доверяет им, полагается на их благоразумие и благородство. Так, он никогда не запирал свою хижину на замок, а чтобы посетители знали, что хозяин отсутствует, опутывал двери белой ниткой. «Большое удобство моего помещения в этом уединенном месте заключается в том, что можно оставлять все около дома и быть уверенным, что ничто не пропадет за исключением съестного, так как за собаками усмотреть трудно," — отмечал он. — Туземцы пока еще ничего не трогали. В цивилизованном краю такое удобство немыслимо; там замки и полиция часто оказываются недостаточными».
И не только собаки и полчища муравьев расхищали съестные припасы. Однажды Маклай вздумал пригласить жителей Горенду и угостить их свининой. Неожиданно он заметил ящерицу, длина туловища которой была больше метра. Ящерица пыталась унести из кухонного шалаша огромный кусок мяса. Тут воровку и настигла меткая пуля. Шкуру ее натянули на туземный барабан, а мясо съели во время пиршества.
Миклухо-Маклай доверял. И в то же время понимал, что находится в другой эпохе, среди людей каменного века. Один неверный шаг — и все может погибнуть. Его поведение должно быть безупречным, а авторитет — высоким. Он всегда бодр, энергичен и тщательно скрывает от папуасов свои болезни, ибо больной, разбитый человек у туземцев, презирающих слабость, ценящих стойкость и физическую силу, не может вызвать должного уважения.
Желая проверить выносливость Маклая, туземцы устроили состязание в беге. Тяжело больной ученый, на котором, кроме одежды, были еще башмаки и галоши, задыхаясь от нестерпимой жары, лишь усилием воли заставил себя бежать… и обогнал быстроногих обнаженных юношей.
Маклай ведет напряженную трудовую жизнь. Встает в пять часов утра, колет дрова, варит бобы, кипятит воду, ухаживает за больным Ульсоном, вырезывает из консервной банки серьги для туземцев, измеряет температуру воздуха и воды; окончив метеорологические наблюдения, отправляется на коралловый риф за морскими животными или же в лес за насекомыми, после чего усаживается за микроскоп. Совершает экскурсии в окрестные деревни, рисует портреты папуасов, знакомится с их бытом, собирает образчики для коллекции волос и черепа, производит краниологические измерения (за вознаграждение, конечно!), пополняет словарик туземных слов. Много хлопот доставляет огородик. Маклай посеял бобы, семена тыквы и кукурузы. Нелегко было сделать грядки: лопата все время натыкалась на твердый, как железо, коралл. Скоро уже можно будет снять первый урожай и угостить папуасов невиданными в этих краях блюдами — вареной тыквой и кукурузой.
Он любит бродить по ночам, что очень не нравится Ульсону. Темнеет здесь в шесть часов. Из деревни Горенду по вечерам доносится пение. В непроглядной тьме звуки барума кажутся особенно торжественными и таинственными…
Н.Н. Миклухо-Маклай. Австралия.
Папуаска.
Папуас-охотник.
Поздно ночью при свете лампы он записывает: «Становлюсь немного папуасом; сегодня утром, например, почувствовал голод во время прогулки и, увидев большого краба, поймал его и съел сырого… Утром я зоолог-естествоиспытатель, затем, если люди больны, повар, врач, аптекарь, маляр и даже прачка… Одним словом, на все руки… Вообще при моей теперешней жизни, то есть когда приходится быть часто и дровосеком, и поваром, и плотником, а иногда и прачкою и матросом, а не только барином, занимающимся естественными науками, — рукам моим приходится очень плохо. Не только кожа на них огрубела, но даже сами руки увеличились, особенно правая… Руки мои и прежде не отличались особенною нежностью, но теперь они положительно покрыты мозолями и ожогами…
…Это полное напряжение способностей и сил во всех отношениях возможно при нашей цивилизации только в исключительном положении и то редко, и чем далее, тем реже оно будет встречаться. Усовершенствования при нашей цивилизации клонятся все более и более к развитию только некоторых наших способностей, к развитию одностороннему, к односторонней дифференцировке. Я этим не возвожу на пьедестал дикого человека, для которого развитие мускулатуры необходимо, не проповедую возврата на первые ступени человеческого развития, но вместе с тем я убедился опытом, что для каждого человека его физическое развитие во всех отношениях должно было бы идти более параллельно и не совершенно отстраняться преобладанием развития умственного…
…Папуасы соседних деревень начинают, кажется, меньше чуждаться меня… Дело идет на лад; моя политика терпения и ненавязчивости оказалась совсем верной. Не я к ним хожу, а они ко мне; не я их прошу о чем-нибудь, а они меня, и даже начинают ухаживать за мной. Они делаются все более и более ручными…»
Больше всего забот и внимания требует Ульсон. Он совсем отбился от рук и часто притворяется больным. Из предупредительного и веселого парня он сделался раздражительным, ворчливым. Одиночество производит на него странное действие. Иногда кажется, что он сходит с ума: целыми часами что-то бормочет, к чему-то прислушивается, хватается за ружье. Он твердо убежден, что папуасы рано или поздно нагрянут в Гарагаси и убьют его и Маклая.
— Послушайте, послушайте! — шепчет он. — Идут, идут…
Маклай напрягает слух и в самом деле начинает улавливать человеческие голоса. Так уже бывало не раз.
— Жужжит муха, — спокойно отвечает он. Это какая-то особая тропическая муха: ее жужжание напоминает человеческую речь; даже опытных папуасов она вводит в заблуждение. «Нужно изловить эту дрянь, — думает Маклай. — Иначе Ульсон спятит окончательно…» Но чаще швед спит. Спит, зажав в руках двустволку. Каждый день он просит мяса. «Вернувшись домой и почувствовав хороший аппетит, я передал свинину Ульсону, а сам принялся за собачье мясо, оставив ему половину; оно оказалось очень волокнистым, но съедобным, но кончил тем, что съел и ее. Новогвинейская собака, вероятно, не так вкусна, как полинезийская, о чем свидетельствует Кук, находивший собачье мясо лучше свинины.
…Вчера Туй принес мне и Ульсону по значительной порции свинины. Я, разумеется, отдал свою Ульсону, который принялся за нее сейчас же и съел обе порции, не вставая с места. Он не только обглодал кости, но съел также и всю толстую кожу (свинья была старая). Смотря на него и замечая, с каким удовольствием он ел, я подумал, что никак нельзя ошибиться в том, что человек животное плотоядное».
Прожорливый, трусливый и ленивый Ульсон… Разбирая подарки туземцев, он все время ворчит.
— Мало дают, кокосы старые, рыба так жестка, как дерево, бананы зелены, да и ни одной еще женщины не видали…
Лучше бы совсем не было этого субъекта Ульсона!
Сахар давно кончился, его заменяет жесткий сахарный тростник. Часто бьется посуда. Вместо нее появились в обиходе туземные тарелки — табиры; пошла в дело и скорлупа кокосовых орехов. Белье, упакованное в одной из корзин, сгнило. Шлюпка основательно проточена червями, и на ней далеко не уплывешь. Ржавчина переела провода, идущие от рычагов к минам; да и грозные мины во влажной почве, по-видимому, уже пришли в негодность. Но самое скверное — это то, что таль Маклая начинает постепенно разваливаться: сваи изъедены муравьями и червями, перила веранды обросли огромными грибами, крыша напоминает решето. «Что крыша плоха — это правда, так как в двух местах я могу видеть луну, просвечивающую между листьев…» За последнее время все чаще и чаще валятся на хижину подгнившие толстые деревья. Одно дерево пробило крышу и разбило термометр, которым ученый измерял температуру воды. Случаются в. Гарагаси и землетрясения; в такие дни и стены и столбы, подпирающие таль, начинают ходить ходуном.
Туземцы опасаются за жизнь Маклая и Ульсона, предлагают переселиться в Горенду, заверяя, что все жители деревни в очень короткий срок построят новый дом, просторный и крепкий.
Очень часто в Гарагаси приходят больные папуасы. Маклай вынимает из нагноившихся ран сотни личинок, накладывает бинт. С особым удовольствием лечит он детей. После одной из операций отец пятилетнего мальчика так расчувствовался, что снял с шеи ожерелье из раковин и надел на ученого. Приходится делиться с пациентами и скромными запасами хины.
Самым серьезным пациентом Миклухо-Маклая оказался все тот же Туй. Он задумал построить себе новый дом. Дерево, подрубленное каменным топором, рухнуло и придавило Туя. В Гарагаси прибежал Ля-лай, младший сын Туя. Собрав все необходимое для перевязки, Маклай поспешил в деревню. Раненый лежал на циновке и очень обрадовался приходу русского друга. Рана была немного выше виска, с длинными разорванными краями. Мелкокурчавые волосы Туя, слепленные кровью, образовали плотную корку; была заметна бледность лица; она выражалась в более холодном тоне цвета кожи.
— При твоем кинкан-кан (свистке), Маклай, все нангели (женщины) убегают, — сказал Туй. — Это дурно, потому что Маклай тамо билен (человек хороший)!
— Маклай — тамо билен, Маклай — тамо билен! — закричали со всех сторон.
Туй решил, что женщинам не следует прятаться от Маклая, и первый подал пример: представил свою супругу. Это была старая, очень некрасивая женщина, одетая в юбку из каких-то грязных желто-серых волокон. Ее волосы, смазанные кокосовым маслом, пучками свисали на лоб. Она так добродушно улыбалась, что Маклай подошел к ней и пожал ей руку. Из-за хижин и кустов появились женщины разных возрастов. Каждый из мужчин представил свою жену, причем последняя, протягивала «тамо-руссу» руку. Только молодые девушки в очень коротеньких юбочках хихикали, толкали друг друга и прятались одна за другой. Каждая из женщин принесла Маклаю подарки: сахарный тростник, пучки ауся, орехи, испеченное таро, ямс, бананы, сладкий картофель.
Все были довольны, что наконец-то избавились от необходимости прятаться.
Миклухо-Маклай впервые видел папуасок вблизи и незаметно наблюдал за ними. Он отметил, что многие молодые женщины весьма недурны собой, а жену старшего сына Туя, Бонема, можно было без всяких скидок назвать красавицей. У нее было округлое смуглое лицо и округлые руки. Большие черные глаза смотрели смело и с некоторым вызовом, на темно-красных губах блуждала загадочная улыбка. В ушах — большие серьги. Лишь два коротких фартучка из тапы — спереди и сзади — прикрывали ее тело. С каким-то чувством собственного превосходства она взяла у Маклая красные ленты и щепотку бисера, блеснула глазами и ушла. Маклай одарил каждую. Женщины получали свое и уходили, не прося прибавки, и только улыбкой и хихиканьем выражали удовольствие. У некоторых девочек волосы были острижены, у многих — смазаны золой или известью; первое — для уничтожения насекомых, второе — чтобы сделать волосы белокурыми.
Подарков от женщин набралось так много, что в Гарагаси их несли несколько туземцев.
Роясь в корзинах, довольный Ульсон заметил:
— Должно быть, вы понравились людоедкам. О женщины!..
Если уж мне суждено быть съеденным, то я желал бы, чтобы это сделала самая красивая из них! Все-таки не так обидно…
— Я видел одну весьма симпатичную особу из Гумбу. Фея… — серьезно отозвался Маклай.
— И вы, конечно, не замедлили воспользоваться случаем и измерили у нее головной указатель?
— Нет. Я только попросил локон для своей коллекции волос и пометил в записной книжке цвет ее кожи по таблице Брока. Как ни странно, цвет кожи весьма светлый. Девушка из Гумбу — образчик красоты даже в нашем европейском понимании этого предмета. Для папуасов женщины более необходимы, чем для нас, европейцев. У них женщины работают на мужчин, а у нас наоборот. С этим обстоятельством связано отсутствие незамужних женщин у папуасов и значительное число старых дев у нас. Здесь каждая девушка знает, что будет иметь мужа. Вот почему папуаски сравнительно мало заботятся о своей внешности. А замуж они выходят рано — 13 — 14 лет. Следует, однако, заметить, что здесь муж сам себе готовит пищу. Жена ест отдельно. Гостю готовят особо и при прощании вручают остатки.
— Женщины… Я знал одну… — начал было Ульсон, но Маклай, не переносивший болтовни шведа, ушел на свою половину.
Так как Миклухо-Маклай не хотел показывать своим соседям действия огнестрельного оружия, то отшельникам мыса Уединения приходилось довольствоваться главным образом растительной пищей. Это заметно сказывалось на здоровье. И все-таки продемонстрировать силу оружия пришлось.
Распространился слух, будто бы жители большой горной деревни Марагум собираются напасть на Горенду, Гумбу и Бонгу, а также разграбить таль Маклая, забрать железные топоры и ножи, а самого ученого убить.
В Горенду около каждой хижины появились кучки стрел и копий. В Гумбу царило всеобщее смятение. Разговоры о жестокости горцев заставили ученого призадуматься. В этой стране гор и лесов все может случиться… В Гарагаси появились делегаты из соседних деревень. Они просили Маклая укрыть (в случае войны) в хижине женщин и детей. «О Маклай, о Маклай!..» — умоляли они и протягивали руки.
Миклухо-Маклай был задумчив. К нему обращаются за покровительством, верят в его силу. Пусть эта уверенность окрепнет, станет твердым убеждением. Может быть, и жители Марагум, прослышав о могуществе Маклая, откажутся от своих кровавых намерений…
— Не бойтесь за ваших жен, стариков и детей, — сказал он. — Я сумею защитить их.
Он приказал Ульсону принести ружье. Грохнул выстрел. Оглушенные туземцы схватились за уши, бросились было бежать, но, опомнившись, остановились:
— О Маклай! Унеси скорее палку с громом в свой даль! Когда придут марагум-тамо, тогда веди нас. Мы будем делать все, что ты прикажешь. Когда Мак-лай будет с нами, марагум-тамо убегут в горы.
Миклухо-Маклай не хотел вмешиваться в чужие дела, а потому ответил:
— Пусть люди марагум приходят с миром в мой таль, и они получат красные ленты, бутылки и ножи. А если они не придут, я сам отправлюсь в горы…
Удары барума возвестили, что в деревне Горенду начинается большой ай, то есть празднество. На пир приглашаются только мужчины. Каждый приносит корзину, наполненную аяном, бау и другими продуктами, и высыпает все в общую кучу. Чем вместительнее корзина, тем громче приветственные возгласы собравшихся: щедрость здесь в почете.
Юноши выносят из мужского дома — буамбрамры — посуду и музыкальные инструменты. Женщинам и детям запрещается слушать музыку, а потому их прогоняют на почтительное расстояние в лес. (Женщины и дети заболеют и умрут, если услышат мунки-ай, ай-кабрай и орлан-ай!)
Наконец появляется главный объект пира — свинья, которую несут привязанной ротангами к палке. Свинья украшена пунцовыми цветами ибикуса и зеленью. Появление свиньи вызывает неподдельный восторг.
Наиболее уважаемый папуас произносит длинную речь, затем ударом копья убивает свинью. Несколько тамо разрубают тушу каменными топорами, разрезают мясо острыми бамбуковыми ножами, другие укладывают куски в горшки с водой.
Здесь собрались гости и из соседних деревень. Они получают самые лакомые и самые большие куски. Кроме того, их щедро одаривают. Горят костры, завывают флейты и раковины, гремят барабаны — окамы. Странная, чуждая для слуха европейца песнь поднимается над джунглями:
Бом, бом, Мараре,
Мараре, Тамоле,
Мара, Мараре,
Бом, бом, Мараре…
Миклухо-Маклая разбудили в пять часов утра. Захватив свисток, он отправился в Горенду. Теперь свисток нужен был не для того, чтобы предупреждать женщин о своем приходе, а совсем для других целей: звук свистка Маклая считался весьма подходящим для папуасских концертов, и потому ученого всегда приглашали принять участие в музыкальных пьесах.
Маклая встретили приветственными криками: «Эме-ме, э-аба!» — «О отец, о брат!» Любители музыки, высоко подняв двухметровые бамбуковые трубы, просигналили в честь высокого гостя. Перед ним поставили большой табир с наскобленным кокосовым орехом и саго. Скатертью служили банановые листья, вилками — обточенные бамбуковые палочки и заостренные кости, ложками — раковины.
Вблизи костров на циновках и прямо на земле сидели и лежали папуасы в праздничном убранстве. Их тщательно взбитые волосы были украшены яркими перьями, цветами ибикуса и черепаховыми гребнями; за браслеты на руках и у колен каждый воткнул несколько зеленых и красных листьев, каждый надел по случаю пира новый ярко-красный пояс. Некоторые, закинув голову назад, допивали из небольших чаш последние капли зеленого пьянящего кеу.
Ученый не подозревал, что все эти люди из окрестных деревень решили устроить ай в его честь.
Маклай появился как раз в то время, когда шел дележ мяса; оно лежало порциями на больших табирах. Туй громко выкликал каждого гостя, называя его имя и прибавляя «тамо» (человек) такой-то деревни. Названный подходил, получал порцию и клал в свой горшок (для каждого из гостей пища варилась в отдельном горшке). Не успел ученый присесть, как раздался голос Туя: «Маклай, тамо-русс!» Ученый подошел к нему и получил несколько кусков мяса на зеленом листе.
Эта церемония как бы свидетельствовала: тамо-русс — равноправный член папуасского общества. А чтобы и остальные знали, что отныне тамо-русс ничем не отличается от папуасов, его станут именовать Туем, а Туя — Маклаем.
Это была большая победа: Миклухо-Маклай обрел права гражданства на Новой Гвинее. Он, как и все, волен решать внутренние дела туземцев, высказываться за мир и войну, разъезжать по стране, вместе с другими заботиться о пропитании населения, участвовать в облавах на диких зверей. Он может выбрать себе жену и поселиться в любой деревне.
От жены Маклай отказался, но зато высказал желание познакомиться с жителями самых отдаленных поселений. Для начала он решил посетить остров Били-Били, или остров «Витязя».
— Мы едем, — коротко сказал он Ульсону. И они на шлюпке отправились в первое свое путешествие по Новой Гвинее. В предрассветной мгле горы казались особенно высокими. Первобытные берега, утопающие в зелени, острые крыши деревень, чуть наклоненные стволы кокосовых пальм, большие пироги, лежащие на песке…
Жители Били-Били восторженно встретили гостей. Женщины беззастенчиво громко выпрашивали бусы, зеркала, цветные тряпки, тормошили Ульсона, который косился на ученого и зябко поводил плечами. Островитяне резко отличались от обитателей Горенду, Гумбу, Бонгу своим нравом: им присущ был юмор, здесь не встречалось хмурых, свирепых лиц. Повсюду слышался смех. Это был народ торговый. Женщины лепили горшки, мужчины строили пироги, занимались выделкой деревянной посуды. Вся продукция острова вывозилась в пирогах на «материк», и там шла бойкая торговля с горцами.
У одной хижины путешественников остановил молодой папуас. Он хотел во что бы то ни стало преподнести Маклаю подарок. Схватив какую-то несчастную собаку за задние ноги, туземец ударил ее с размаху головой о дерево и, размозжив ей таким образом череп, положил жертву к ногам ученого.
Били-Били так понравился Маклаю, что он шутя сказал:
— Прекрасное место! Хотел бы навсегда остаться здесь…
Его слова сразу же подхватили. Туземцы вне себя от восторга выкрикивали:
— Маклай будет жить с нами! Люди Били-Били лучше, чем люди Горенду, Бонгу и Гумбу!.. О отец, о брат!.. Оставайся…
Ульсон развлекал папуасок игрой на гармонике.
— А не перебраться ли нам, в самом деле, сюда? — сказал он. — Я не хочу в Гарагаси!
— Мы возвращаемся в Гарагаси!
Подсчитав подарки, швед не без удовольствия отметил:
— Щедрый здесь народец: табак и гвозди окупились…
В Горенду по-прежнему велись военные приготовления: ждали нападения горцев. А Маклай в это время замышлял поход в горы, в деревню Теньгум-Мана, лежащую за рекой Габенау.
Эта деревня давно привлекала внимание ученого. Говорили, что выше Теньгум-Мана уже не встречается поселений. За Теньгум-Мана не бывал никто. Там простирается зеленая пустыня, необитаемая и непроходимая.
Взвалив на плечи ранец, с которым, еще будучи студентом в Гейдельберге и Иене, Миклухо-Маклай исходил Шварцвальд и Швейцарию, он отправился в Теньгум-Мана. Сопровождали его двадцать пять туземцев из Бонгу, вооруженных с ног до головы. Появление каравана в Теньгум-Мана вызвало панику: мужчины убегали в лес, женщины закрывались в хижинах, дети кричали, собаки выли.
Любопытство, однако, пересилило страх: мужчины вернулись. Проводники из Бонгу, стремясь запугать соседей-горцев, стали рассказывать о Маклае всякие чудеса: он может зажечь воду, убить огнем, сглазить, выпустить из рукава луну. Горцы перетрусили и заявили, что им страшно оставаться в деревне.
Ученый, узнав об этом, пришел в негодование; ему едва удалось успокоить жителей Теньгум-Мана. Пришлось раздать немало подарков. Тамо не остались в долгу. Они принесли самую жирную свинью. Папуас Минем, держа в руках пальмовую ветвь, произнес речь, приличествующую моменту.
— Эта свинья, — сказал он, — подарок от жителей Теньгум-Мана Маклаю. Тамо снесут ее в Гарагаси. Маклай заколет ее копьем. Свинья будет кричать, а потом умрет. Маклай развяжет ее, опалит щетину, разрежет на куски и съест.
— Я пришел сюда не за свиньей, — ответил Маклай, — а чтобы видеть людей, их хижины и гору Теньгум-Мана.
За свинью я дам ножи и зеркала. Теньгум-Мана — хорошие люди. Все, кто придет в мой таль, получат табак, маль (красные тряпки), гвозди и бутылки. Если люди Теньгум-Мана всегда будут хороши, то и Маклай будет хорошим.
— Маклай хорош, и тамо Теньгум-Мана хороши! — закричали туземцы хором. — О отец!..
Тепло простившись с горцами, ученый вернулся в Гарагаси. Здесь его поджидали гости из Бонгу, Горенду, Богати, Гумбу, Били-Били и даже из отдаленной деревни Рай и островов Года-Года и Митебог.
— Тыквá, тыквá! — выкрикивали они. Ученый записал в книжку незнакомое слово, чтобы выяснить его значение на досуге. Но Туй сразу же все объяснил: он молча раскрыл корзину, на дне которой лежала огромная тыква.
— Тыква, — сказал Туй и улыбнулся. Ученый вспомнил, что несколько месяцев назад подарил туземцам семена тыквы. Это был первый урожай.
— Они просят показать, как нужно есть тыкву, — пояснил Туй.
Ученый рассмеялся:
— На всех одной тыквы не хватит!
— О, в Горенду есть много-много…
Маклай не любил тыкву, но решил показать, что ест ее с большим аппетитом, дабы и папуасы попробовали ее без предубеждения. Тыква была сварена. Туземцы ели ее с наскобленным кокосовым орехом. Новое блюдо всем понравилось.
Слава о «человеке с Луны» шествовала из поселения в поселение, с острова на остров. Воинственные горцы из Марагум не выдержали и пожаловали в Га-рагаси. Привел их старый папуас Бугай из Горенду. Это были те самые марагум-тамо, которые собирались напасть на прибрежные деревни.
— О отец, о брат, — произнес Бугай, — они хотят видеть твое могущество. Прослышав о тебе, они заключили с нами мир.
Ну что ж, если это нужно для мира… Ученый взял ружье. На дереве сидел большой черный какаду. Хлопнул выстрел. Какаду свалился, а воинственные горцы обратились в бегство. Торжествующий Бугай, сам немало струхнувший, вернул их. Тамо дрожали и просили унести «табу» в хижину. Маклай подарил им перья из хвоста попугая и несколько гвоздей.
Так состоялось окончательное примирение враждующих племен.
Папуасы не знали слов «политика», «дипломатия». Однако вскоре они решили заняться и тем и другим. — В каждой деревне велась жаркая дискуссия: как залучить могущественного Маклая к себе, сделать его своим достоянием, своей опорой и защитой?
Делегат из Богати папуас Коды-Боро целыми днями околачивался в Гарагаси.
— О отец, о брат, — льстивым голосом пел он, — в Богати всего много: и кеу, и мяса, и саго. В Богати самые красивые женщины. Мы построим тебе самую большую хижину. У нас девушек больше, чем в Бонгу, Гумбу, Горенду. Мы дадим тебе двух, трех жен. А если хочешь, бери сколько нужно. Мы будем выполнять все твои приказы и пожелания. Мы дадим тебе самую красивую пирогу, две пироги, три…
— Богати-тамо — добрый народ, — отвечал Мак-лай. — Но из Гарагаси я никуда не пойду.
С подобной же просьбой приехал и Каин с острова Били-Били.
Поведение женщин окрестных деревень изменилось странным образом: стоило ученому появиться где-либо, как они выныривали неизвестно откуда, потупляли глаза, проплывали мимо, едва не задевая тамо-русса, причем походка их делалась вертлявой, а юбки еще усиленнее двигались из стороны в сторону. Это было то же самое кокетство, что и в старой доброй Европе.
Тебя, кажется, хотят женить, Николай Миклуха! Этим щекотливым вопросом занимаются мудрейшие из мудрейших, в мужских домах — буамбрамрах — и на женских сборищах ведутся ожесточенные дебаты: как подступиться к «человеку с Луны».
Жители деревни Гумбу решили действовать напролом.
Самая красивая девушка этой деревни, не однажды побывавшая вместе с другими на мысе Уединения и каждый раз вызывавшая восторги Ульсона, призналась, что тамо-русс околдовал ее и что ей хочется стать женой Маклая. Ни у одной из женщин Гумбу не было таких больших глаз и таких длинных волос. Это ее Маклай в шутку назвал феей. Отец девушки по имени Кум приходил в трепет при одной мысли, что его дочь может стать женой могущественного человека. Мудрейшие из мудрейших решили: быть тому!
И вот совсем неожиданно Миклухо-Маклай пожаловал в Гумбу: он направлялся в горную деревню Енглам-Мана, но темная тропическая ночь настигла его на полдороге. Тамо словно обезумели от счастья.
— Маклай гена, Маклай гена! — Маклай идет, Маклай идет! — Тамо — боро гена! — Большой человек идет!..
Все пришло в движение. Перед гостем поставили большой табир с таро и кусками свинины. Кум, завидев своего будущего зятя, едва не лишился рассудка, но отделался… расстройством желудка. Он лежал на циновке и стонал. Завидев больного, Маклай сразу же поспешил на помощь: «Я дал ему несколько капель tincturae opii, и на другой день Кум прославлял мое лекарство…»
А в другом конце деревни женщины усиленно занимались туалетом «феи». Были принесены лучшие черепаховые гребни, лучшие передники из кокосовой бахромы с черными и красными полосами, самые красивые ожерелья и браслеты и самые красивые серьги в виде цепочек и костяных колец.
Не подозревая о заговоре, ученый расстелил на барле свое красное одеяло, которое всегда приводило в восхищение туземцев, надул резиновую подушку и, сняв башмаки, задремал.
Утром он с пунктуальностью ученого записал в свой дневник: «Я был разбужен шорохом, как будто в самой хижине; было, однако, так темно, что нельзя было ничего разобрать. Я повернулся и снова задремал. Во сне я почувствовал легкое сотрясение нар, как будто бы кто лег на них. Недоумевая и удивленный смелостью субъекта, я протянул руку, чтобы убедиться, действительно ли кто лег рядом со мной. Я не ошибся; но как только я коснулся тела туземца, его рука схватила мою; и я скоро не мог сомневаться, что рядом со мной лежала женщина. Убежденный, что эта оказия была делом многих и что тут замешаны папаши и братцы и т. д., я решил сейчас же отделаться от непрошеной гостьи, которая все еще не выпускала моей руки. Я быстро соскочил с барлы и сказал: «Ни гле, Маклай нангели авар арен». («Ты ступай, Маклаю женщин не нужно».) Подождав, пока мой ночной посетитель выскользнул из хижины, я снова занял свое место на барле. Впросонках слышал я шорох, шептанье, тихий говор вне хижины, что подтвердило мое предположение, что в этой проделке участвовала не одна эта незнакомка, а ее родственники и другие. Было так темно, что, разумеется, лица женщины не было видно. На следующее утро я не счел подходящим собирать справки о вчерашнем ночном эпизоде — такие мелочи не могли интересовать «человека с Луны». Я мог, однако, заметить, что многие знали о нем и об его результатах. Они, казалось, были так удивлены, что не знали, что и думать».
Взвалив на плечи ранец, Маклай зашагал в джунгли. Как всегда, его сопровождали вооруженные туземцы. Путников со всех сторон обступил лес. Солнце дымными столбами пробивалось сквозь кроны деревьев. Обняв ствол бамбука, стояла полунагая женщина и смотрела вслед Маклаю. Он оглянулся, встретился с ней взглядом и, наконец, догадался, кто была его ночная гостья…
Искушение Маклая на этом не закончилось.
Папуас Коды-Баро из Богати нашел, что жители Гумбу действовали весьма примитивно. (Разве мог Маклай в ночной темноте увидеть, кого ему прочат в жены? Нужно устроить смотрины, и пусть тамо-русс выбирает сам ту, которая ему по сердцу. Смотрины были устроены. Он повел ученого к одной из хижин и вызвал молодую, здоровую, довольно красивую девушку.
— Ты можешь взять ее в жены, если поселишься в Богати, — сказал Коды-Боро. — Самая красивая…
Маклай не удостоил его ответом. Тогда Коды-Боро, вздохнув, повел тамо-русса на плантации. Здесь трудились женщины. Коды-Боро позвал девушку лет пятнадцати. Ученый отрицательно покачал головой. Папуас, не теряя надежды отыскать подходящую, стал «указывать» языком то на одну, то на другую. Смотр невест надоел Маклаю, и он решительно произнес:
— Арен! — Нет! От разговоров Коды-Боро уши Маклая болят.
И Коды-Боро подумал, что «человек с Луны» — странный человек и невозможно понять, что ему нужно.
Однажды Миклухо-Маклай сидел на веранде и писал антропологические заметки, которые намеревался при случае послать академику Бэру. Его удивило стечение народа возле хижины. Вперед выступил Туй.
— Здесь собрались тамо-боро из всех деревень, — торжественно начал он. — Мы хотим, чтобы Маклай навсегда остался с нами, взял одну, двух, трех или сколько пожелает жен и не думал о возвращении в Россию или в какое-нибудь другое место. Мы так решили…
С мнением большинства приходится считаться.
Маклай поблагодарил туземцев и ответил:
— Если я и уеду отсюда, то обязательно вернусь к вам. Всегда держу свое слово! Tengo una palabra! Жен мне не нужно. Женщины слишком много говорят и вообще шумливы, а Маклай этого не любит…
— Баллал Маклай худи! Баллал Маклай худи! — Слово Маклая одно! — раздались возгласы. — О отец, о брат, мы верим тебе. Не оставляй нас…
Миклухо-Маклай был растроган.
— А почему бы нам не жениться на этих людоедках? — сказал Ульсон. — Я приметил несколько симпатичнейших мордашек… Черт с ними, что они людоедки! На этом проклятом побережье, где мясо считается величайшей роскошью, невольно заделаешься людоедом. Географическая среда и всякое, такое прочее, о чем вы говорили… Что касается меня, то я готов жениться!
— Только попытайтесь! Если вы это сделаете, я отрублю вам башку самым большим каменным топором. Кстати, самый большой каменный топор, который мне довелось увидеть в Бонгу, имеет двенадцать сантиметров ширины — не так уж много. Но зато он хорошо отшлифован и рубит не хуже железного…
Маклай не поленился входить на свою половину и вернулся с каменным топором.
— Попробуем!..
Да, это был каменный топор, примитивное орудие и оружие наших далеких предков, зеленый плоский камень с заостренным лезвием, отполированный до блеска. Камень был прикреплен к деревянной рукоятке шнурами из лиан.
Ульсон подошел к толстому дереву и принялся рубить.
— Вздор! — наконец сказал он. — Такой штукой не перешибешь даже крысиного хвоста.
— Навык, Ульсон, нужен навык! — Маклай выхватил топор, и вскоре дерево толщиной в обхват затрещало и упало на землю. — Вот и проделали проход к морю…
— У меня пропала охота жениться, — сознался швед.
— Дело не в этом. Мы просто не должны отдавать предпочтение какой-либо одной из деревень, и тем самым служить яблоком раздора. Мы будем жить в Гарагаси.
— Жить… Разве это жизнь для белого человека? Вот уже год, как мы торчим в этой дыре, а конца и не видно вовсе. Я, должно быть, сойду с ума. Мне все чаще и чаще хочется покончить с собой.
— Как быстро летит время… — сокрушенно вздохнул Миклухо-Маклай. — Ну, а если вам надоело жить, можете повеситься на любом суку, благо вокруг целый тропический лес. Я и не подумаю мешать…
В самом деле, прошел уже год с того дня, как Маклай и его спутники высадились на неведомый берег. Одного уже нет, другой совсем одичал, опустился, нажил себе хронический ревматизм.
В июле Николаю Николаевичу исполнилось двадцать шесть лет. Он успел побывать во всех поселениях папуасов и в каждом находил кучу дел для себя: рисовал, измерял, лечил, помогал охотиться, раздавал семена, рассказывал о России, о своей матери, о сестре Оле и братьях.
Во время одной из экскурсий в горы он увидел с высоты, что у мыса Дюпре находится несколько островов. Починив не без труда шлюпку, ученый отправился в плавание. Острова кораллового происхождения были населены веселыми, дружелюбными людьми. Оказалось, что почти все знают имя русского ученого, да и Маклай встретил здесь старых знакомых, успевших побывать в Гарагаси. Их имена он в свое время занес в записную книжку. Вынув книжку из кармана, Маклай стал громко называть каждого по имени. Потрясенные туземцы один за другим подходили к ученому, по знаку усаживались у его ног, а потом целый день не отходили, стараясь услужить кто как мог.
Эти тридцать островков Миклухо-Маклай назвал архипелагом Довольных Людей. Маклаю удалось свободно заглянуть в семейную и общественную жизнь папуасов, видеть их обычаи и при частых сношениях изучить их язык.
Медные цилиндры с записками, которые он закопал в условленном месте на случай своей смерти, давно извлечены из земли.
О нем уже слагают песни. Всюду он — желанный гость. («Туземцы толпою шли вдоль берега, распевая песни, в которые часто вплетали мое имя. Несколько пирог выехало к нам навстречу, и жители Били-Били, стараясь говорить на диалекте Бонгу, который я понимаю, наперерыв уверяли меня, как они рады моему приезду…» «Зайдя в Горенду, я был окружен женщинами, 'просившими меня дать имя родившейся день или два тому назад девочке. Я назвал несколько европейских имен, между которыми имя Мария им понравилось более всех. Все повторяли его, и мне была показана маленькая обладательница этого имени. Очень светлый цвет кожи удивил меня; волосы также не были еще курчавыми».) Маклай стал крестным отцом маленькой папуаски Марии. Уверовав в могущество тамо-русса, его просили изменить погоду или направление ветра, были убеждены, что его взгляд может вылечить больного или повредить здоровому, говорили, что он может летать и творить всякие чудеса. Его любили и заботились о нем.
Так постепенно рушилась стена недоверия.
20 сентября 1872 года он записал: «Сегодня исполнился ровно год, как я вступил на берег Новой Гвинеи. В этот год я подготовил себе почву для многих лет исследования этого интересного острова, достигнув полного доверия туземцев, и, в случае нужды, могу быть уверенным в их помощи. Я готов и рад буду остаться несколько лет на этом берегу.
Но три пункта заставляют меня призадуматься, будет ли это возможно: во-первых, у меня истощился запас хины, во-вторых, я ношу последнюю пару башмаков, и, в-третьих, у меня осталось не более как сотни две пистонов».
Спички, запаянные в жестяные банки, испортились от сырости. Каждая спичка стала величайшей драгоценностью. Их теперь было так мало, что приходилось круглые сутки жечь костер. Способ добывания огня жителям берега не был известен. Тлеющие головешки они выменивали на продукты своего труда у горцев, которые, по-видимому, знали этот способ.
О всемогущий Маклай, «человек с Луны», тамо-боро-боро! Твои друзья даже не подозревают, в сколь, жалком состоянии ты пребываешь… Твой таль вот-вот обрушится. От двенадцати пар обуви не осталось ни одной целой. Приходится, отхватив ножом голенища у охотничьих сапог, ходить в тяжелых и неудобных обрезках. Белье давно сгнило, костюм пришел в полную негодность. Ноги твои покрыты незаживающими язвами. Каждый день тебя трясет лихорадка. Ты до того ослабел, что не в состоянии держать ружье, и черные какаду, словно издеваясь, усаживаются на веранду твоей хижины. Ты забыл вкус сахара, а вместо соли употребляешь морскую воду…
Но Маклай не унывал. Человек, вооруженный знаниями, полученными в четырех университетах, в поисках научной истины по собственному желанию совершил путешествие во времени, в другую эпоху, в неолит… И теперь этот человек целиком был поглощен увлекательнейшей работой. Он торопился и забывал обо всем на свете.
В чем же смысл научных исследований Миклухо-Маклая? Как уже известно, в его программе, утвержденной Географическим обществом, на первом месте стояли занятия зоологией. Однако сам он не считал зоологию тем делом, ради которого стоило бы отправляться на Новую Гвинею, и уделял ей мало внимания. Ботаникой он не занимался совсем. «Дивясь громадному разнообразию растительных форм», он «сожалел на каждом шагу, что так мало смыслил в ботанике». Редко упоминает он в своих записях и о морской фауне.
Что же касается его антрополого-этнографических исследований, то они носили весьма своеобразный характер.
Подобно большинству антропологов своего времени, он скрупулезно изучал вариации формы черепа у папуасов, старательно записывал головной указатель (то есть индекс, показывающий отношение ширины мозгового отдела черепа к его длине). Но лишь затем, чтобы вопреки тем же антропологам и, в частности, Вирхову, считающим головной указатель важнейшим при определении расовой принадлежности, заявить: «Головной указатель не является определяющим расовым признаком».
Антропологи того времени были охотниками за черепами. Миклухо-Маклай тоже собрал коллекцию черепов, но лишь для того, чтобы сказать: «Строение черепа не решающий признак для опознания расовой принадлежности. Форма черепа ничего общего с психическими свойствами его обладателя не имеет».
Западные антропологи в первую очередь интересовались теми признаками, по которым расы различаются между собой.
Так Эрл, один из авторитетов в антропологии, автор специальной работы о папуасах, писал, что волосы у папуасов растут якобы пучками. Ему вторили Эрнст Геккель и Фридрих Мюллер.
Исследовав распределение волос на голове папуасов, Миклухо-Маклай опроверг это вздорное утверждение: «Волосы растут, как я убедился, у папуасов не группами или пучками, а совершенно так же, как и у нас».
Отто Финш, Мюллер и другие авторитеты доказывали, что кожа у папуасов особенная, жесткая, «первобытная». «Я никоим образом не могу согласиться с авторами, которые приписывают папуасам какую-то особую жесткость кожи… Не только у детей и женщин, но и у мужчин кожа гладкая и ничем не отличается в этом отношении от кожи европейцев», — констатирует Маклай.
Миклухо-Маклай понимал, что американские, английские, германские и французские антропологи на различиях человеческих рас пытаются строить теории расизма, а потому беспощадно разоблачал их антинаучные домыслы, развенчивал тенденцию отыскивать только различия между расами, игнорируя черты их сходства, хотя последние могут иметь гораздо большее значение для уяснения истории развития человечества.
Вооружившись терпением и объективностью, он проверил и «теорию» Эрнста Геккеля, видевшего в темнокожих расах промежуточное звено между антропоморфными обезьянами и белым человеком. По Геккелю выходило, что темнокожие расы, и в частности папуасы, должны были иметь слабо развитую икроножную мускулатуру, играющую, как известно, важнейшую роль в прямохождении человека. Подобное «примитивное» анатомическое строение, не вполне совершенная способность к двуногому вертикальному хождению, свидетельствующая о пережитках древесного образа жизни, роднит темнокожих с обезьянами, утверждал Геккель.
«Ложь! — возражает Маклай. — Икроножная мускулатура развита у папуасов вполне нормально. Движения папуасов легки и грациозны. Все ваши утверждения о принадлежности папуасов к особому виду человека, резко отличному от других людей, антинаучны, вздорны». Так же последовательно и доказательно опровергал он националистические вымыслы о психической неполноценности меланезийской расы.
Да, Миклухо-Маклай не был похож на других антропологов своего века. Он не разграничивал людей, а ломал искусственно придуманные перегородки, разделяющие их, устанавливал факт физической и психической равноценности всех человеческих рас. Его этнографические исследования служили этой же цели.
Ради того, чтобы развенчать расистские измышления западноевропейских «мужей науки», стоило переносить и тяжкие болезни, и голод, и житейские неудобства.
…К концу пятнадцатого месяца пребывания на Новой Гвинее в аптечке Миклухо-Маклая оставалось всего лишь двадцать гран хинина.
Двадцать гран! Как поделить их? А потом, может быть, смерть… Ульсон все-таки не отказался от своего намерения покинуть эту «юдоль слез». Он больше не встает. Новогвинейская лихорадка, хронический ревматизм и полное истощение нервной системы делают свое дело. Он скоро умрет. Даже не будучи врачом, можно прийти к такому заключению.
Когда Ульсон умрет, Маклай переберется в горы, чтобы поправить здоровье. Говорят, там лихорадка не так злокачественна. Кроме того, можно будет изучить разнообразные диалекты горцев.
Решение созрело. 19 декабря он отправился в Бонгу, чтобы договориться о постройке новой хижины, дабы оставить потом в ней вещи и инструменты.
Перед ним поставили неизменный табир с кокосами, таро и саго. Однако завтрак был прерван криками туземцев: «Огонь! Огонь!..»
Встревоженные папуасы, отчаянно жестикулируя, вопили:
— Маклай, о Маклай, корвета-русс гена; бирам боро! — Маклай, о Маклай, русский корвет идет; дым большой.
— Что за чушь вы мелете! — сказал рассерженный Миклухо-Маклай по-русски и вышел из буам-брамры.
Он усиленно тер глаза, но видение не исчезало: он уже мог различить топы мачт. Нужно поднять флаг… Ученый уселся в пирогу и поспешил в Гарагаси.
— Ульсон, очнитесь! Военное судно… Флаг, флаг…
Это было сказано без учета психического состояния шведа. Ульсон соскочил с постели, расхохотался, стал выкрикивать что-то бессвязное, затем обильные слезы потекли по его щекам.
Маклай поднял русский флаг. Судно переменило курс и направилось прямо в Гарагаси.
— Свои!.. Русские!..
Красавец клипер плавно входил в бухту. А Маклаю все казалось, что он видит сон. Много раз во время приступов лихорадки ему грезился стройный корабль, идущий по зеркальной глади к берегу…
Конечно же, это только сон! Клипер «Изумруд», с которым «Витязь» еще в прошлом году имел общую стоянку на островах Зеленого мыса и в Рио-де-Жанейро… Если же явь, то почему на палубе «Изумруда» Маклай видит своего старого знакомого офицера Раковича? Все перепуталось в твоей голове, о Маклай…
Миклухо-Маклай прыгает в пирогу и приказывает папуасам из Бонгу грести.
Офицеры выстроились на палубе. На всех реях — матросы. Гремит многоголосое «ура». Гребцы Сигама и Дигу не выдерживают и выпрыгивают из пироги. Маклай остается один. Его поднимают на палубу, трясут ему руки, обнимают.
Командир «Изумруда» Михаил Николаевич Кумани с каким-то недоверием посматривает на ученого.
— Так, значит, вы живы? — спрашивает он, отлично понимая, что говорит несуразицу.
— Как видите. Распорядитесь, чтобы ваши люди перенесли сюда Ульсона: он очень плох.
От суматохи, говора, нескончаемых вопросов у Маклая кружится голова; он близок к обмороку. Его ведут к столу.
— Пусть мой вопрос не удивляет вас, — продолжает Михаил Николаевич. — В австралийских газетах появилось сообщение о вашей смерти. Якобы сюда заходило купеческое судно и застало в живых только Ульсона. «Кронштадтский вестник» и «Правительственный вестник» перепечатали заметку под заголовком: «Экспедиция Миклухо-Маклая и его кончина».
— Любопытно. Хотелось бы почитать некролог. Не всякому выпадает удача узнать, что о тебе думают после твоей смерти.
— Не надеясь застать вас в живых, мы не захватили некрологи. Однако суть сводится вот к чему: австралийские, русские и голландские газеты сообщили, что отважный исследователь Новой Гвинеи Николай Николаевич Миклухо-Маклай погиб. Одни высказывали предположение, что вы убиты и съедены людоедами, другие — что вас свела в могилу злокачественная тропическая лихорадка. Так «Кронштадтский вестник» писал: «Было бы очень желательно, чтобы кто-нибудь из знавших покойного составил его биографию. Г. Миклухо-Маклай — редкий тип мученика науки, пожертвовавший жизнью для изучения природы. Главной его специальностью были губки… В Новую Гвинею покойный поехал на 6 лет, получив пособие лишь в 1200 рублей от Географического общества. Он избрал этот остров именно потому, что он менее всего исследован в естественноисторическом отношении…»
Русское Географическое общество, членом которого вы являетесь, возбудило ходатайство о том, чтобы к берегу Маклая был немедленно послан военный корабль. Мы грузились углем в Шанхае, когда поступил от командующего Тихоокеанской эскадрой адмирала Посьета приказ: «Изумруду» следовать в бухту Астролябии на розыски Миклухо-Маклая. Пришлось перевести с «Витязя» лейтенанта Раковича, который и стал нашим штурманом. Кроме того, он один знал, под каким деревом следует искать ваши бумаги.
— Благодарю вас. Мое любопытство удовлетворено. Губки, только губки. Вы сказали: «берег Маклая»?
— Так теперь называют, правда пока неофициально, это побережье. Берег Маклая! Ваш берег, Николай Николаевич… Мы уже нанесли его на карту под вашим именем. Ну, а как вели себя людоеды?
— Людоеды?… За пятнадцать месяцев я ни разу не слышал о людоедстве.
— М-да… Вы совсем изнурены проклятой лихорадкой. Вам незачем больше сходить на берег; располагайтесь как дома. Перевозку ваших вещей на клипер я поручил одному из офицеров.
— А кто вам, Михаил Николаевич, сказал, что я поеду с вами на клипере?
— Как?!
— Это далеко еще не решено, и так как я полагаю, что вам возможно будет уделить мне немного провизии, взять с собой Ульсона и мои письма до ближайшего порта, то мне всего лучше будет остаться еще здесь, потому что мне еще предстоит довольно много дела по антропологии и этнологии здешних туземцев.
— Ничего не понимаю… Вы намерены остаться здесь?…
— Да.
Офицеры недоуменно переглядываются. На их лицах написано: «Должно быть, мозг бедняги от разных лишений и трудной жизни пришел в ненормальное состояние…»
— Мы не можем оставить вас здесь одного.
— Хорошо. Дайте мне подумать до утра.
Это была тяжелая ночь. Маклай ни на минуту не сомкнул глаз. В Гарагаси сошлись туземцы из всех деревень. Были здесь и посланцы с архипелага Довольных Людей и из отдаленных горных деревень Теньгум-Мана, Марагум и других поселений. Пылали факелы, трещали барумы. Из темноты доносились жалобные крики:
— О Маклай! О Маклай!..
Самые близкие друзья ученого Туй, Бугай, Саул, Лако и Сагам, нежно поглаживая Маклая по плечу, просили его не покидать тамо.
— Оставайся с нами, — говорил Туй, готовый разрыдаться. — В каждой деревне по берегу и в горах тебе будет построен дом. Так хотят тамо. Мы будем оберегать твой сон и приносить тебе лучшие куски свинины. Мы принесем тебе самые крупные кокосы и самые вкусные корни. Мы отдадим тебе все черепа, все телумы и каменные топоры. Ты можешь рисовать портреты с кого угодно. О отец, о брат, о друг!..
На сердце у Маклая было тоскливо. Неужели через несколько дней он покинет эти места, с которыми уже сроднился, покинет своих друзей? Удастся ли еще когда-нибудь попасть сюда? От Михаила Николаевича он узнал, что голландское правительство намеревается послать с научной целью вокруг Новой Гвинеи фрегат «Кумпан». Подкрепив здоровье, можно будет с новыми силами и новыми запасами вернуться сюда. Кроме того, за три-четыре дня он все равно не успеет привести в порядок свои бумаги для отсылки их в Европу. «Изумруд» пришел так неожиданно!.. Маклай уже свыкся с мыслью остаться на Новой Гвинее навсегда.
— Я вернусь к вам и буду жить здесь. Слово Маклая одно! Баллал Маклай худи! Я всегда держу свое слово.
— Баллал Маклай худи! Баллал Маклай худи!..
Была на этом берегу деревня, жители которой особенно любили Маклая. Это они, гумбу-тамо, хотели во что бы то ни стало женить «человека с Луны» на самой красивой девушке, прозванной тамо-руссом «феей».
Мягкие, доброжелательные люди, они приходили в отчаяние при одной мысли, что «большой-большой человек» покинет их. Теперь они решили устроить прощальный ай в честь Маклая. Они стали упрашивать ученого посетить напоследок их деревню. Там собрались также люди Теньгум-Мана, Енглам-Мана, Сам-буль-Мана, спустившиеся по этому случаю с гор. Все они хотят видеть Маклая.
И вот он идет, окруженный огромной толпой папуасов, по тропе. Опять гремят барумы. Свет бамбуковых факелов озаряет джунгли, причудливую путаницу лиан и листьев.
— Маклай идет! Маклай идет!.. Маклай — хороший-хороший человек!..
На площадке между хижин, кокосовых пальм и кустов китайской розы собралось человек пятьсот-семьсот обоего пола. Все были разукрашены по-праздничному белыми и красными полосами. Каждый постарался воткнуть в волосы самые яркие перья и цветы. Посредине площадки высились кучи кокосов, саго; здесь же лежали свиньи, привязанные ротангами к бамбуковым палкам.
Маклая усадили на почетное место. Начался ай. Танцоры не щадили себя.
И снова повторилась знакомая сцена. Тамо-русса усердно просили остаться, обещая делать все, что он потребует. Снова старики обещали выстроить в каждой деревне по хижине, дать много еды и по жене для хозяйства. Маклай может поочередно жить в каждой деревне. Целая процессия красивейших девушек прошла перед Маклаем. И только одна стояла в стороне, обхватив ствол кокосовой пальмы. Она не отрывала печального взгляда от тамо-русса. Маклай узнал ее и доброжелательно улыбнулся. «Дочь Кума… Ее, кажется, зовут Саломея или же Коллоль… На имена и на даты у меня плохая память, — подумал он. — Ты ступай, Маклаю женщин не нужно…»
Прощальный ай так утомил ученого, а ноги, покрытые ранами, так опухли, что папуасам пришлось устроить носилки. Тамо-русс был доставлен на клипер, где его раны были обмыты и перевязаны. Сюда же перевезли на пирогах подарки. Папуасы, отважившиеся подняться на палубу, с любопытством разглядывали каждую вещь. Пушки их пугали. Они цеплялись за Маклая и просились домой. «О Маклай, о Маклай…» — стонали они. Чтобы их успокоить, ученый обвязался веревкой, вручив оба конца туземцам. Так и ходили они, связанные одной веревочкой. Не машины, не зеркала и фортепиано произвели впечатление на папуасов, — больше всего их заинтересовали два бычка, взятые в качестве живой провизии для команды. Они все время просили показать «большую русскую свинью с зубами на голове», которая называется «бик».
— Тамо хотели бы получить одного в подарок, — сказал Туй.
— Когда я вернусь, то обязательно привезу быка, — пообещал Маклай.
По приказанию командира клипера на самое толстое дерево в Гарагаси была прибита медная доска с вырезанной надписью: «Витязь. Сент. 1871. Миклухо-Маклай. Изумруд. Дек. 1872». Таль Маклая был перевезен на палубу корабля.
Ульсон, очутившись в привычной обстановке, сразу же ожил и с чувством собственного превосходства посматривал на окружающих, в глазах которых он должен был выглядеть героем и мучеником во имя науки.
Офицер А. Ракович записал в свою тетрадь: «Астролябцы редко предлагали что-нибудь для мены, а если и приносили, то плохие вещи, требуя нынешний раз взамен более ценные вещи, как-то: топор, нож, бутылки; они произносили эти слова по-русски, как их научил Маклай. Видно было, что они уже успели убедиться в превосходстве этих инструментов перед костяными и каменными. На бусы и на другие безделушки не обращали вовсе внимания. Собственный опыт и указания Маклая многому научили дикарей, и они даже определили сравнительную ценность многих вещей: так, знали, что топор дороже ножа, нож — бутылки. Значительно изменились и их отношения к нам; они стали доверчивее и, не опасаясь с нашей стороны грабежа и насилия, дозволяли нам видеть своих женщин, не почитая нас за богов или за сверхъестественные существа, не делали жертвоприношений и подарков».
24 декабря 1872 года клипер «Изумруд» развел пары и поднял якорь. Около корабля с самого рассвета сновали разукрашенные пироги. Весь берег был усеян туземцами. Когда Маклай вышел на палубу, толпа пришла в движение.
— Эме-ме, э-аба!.. О отец, о брат!..
И столько тоски было в этих криках, что ученый невольно ощутил дрожь во всем теле. На том месте, где еще день назад находился таль Маклая, прислонившись к дереву, стоял старый Туй. Голова его была низко опущена. Миклухо-Маклай узнавал знакомые лица. Коды-Боро, Кум, Дигу, Корой, Бонем, Дягусли, Авель, Ален, Туре, Олум, Боге, Бугай, Асель, Сагам, Саул, Лако… Все это были друзья, верные друзья… А ведь совсем недавно они совали в рот Маклаю острия копий, разжимали ими зубы или же потешались, пуская стрелы над головой ученого.
Когда корабль стал удаляться от берега, одновременно во всех деревнях раздались удары барумов, возвещавшие всем, что «человек с Луны» покинул «берег Маклая».
— Эме-ме, э-аба!..
Только быстрокрылые пироги еще долго провожали клипер. Вот из солнечной пены, из-за темно-синей волны вынырнула маленькая лодочка. Гребцы старались изо всех сил. На носу лодки стояла тоненькая смуглая девушка, руки ее были протянуты к уходящему кораблю…
Газеты «похоронили» Маклая, они же и «воскресили» его. Слава о русском ученом, прожившем пятнадцать месяцев среди каннибалов Новой Гвинеи, с быстротой птицы перелетала с архипелага на архипелаг, с материка на материк. Он стал известен в Австралии, в Индонезии, в Малакке, — в Китае, в Англии, Голландии и, конечно же, в России.
Все с нетерпением ждали его возвращения в Европу. Всюду его встречали с почетом, старались познакомиться с ним. Генерал-губернатор Нидерландской Индии Джемс Лаудон прислал Николаю Николаевичу специальное приглашение посетить Яву и погостить во дворце в Бейтензорге. В Кантоне Миклухо-Маклай принял вице-короля кантонского, который пожелал увидеть знаменитого натуралиста. Султан Тидорский решил почтить «султана Маклая из Новой Гвинеи» и назвал в честь его только что родившегося первенца наследного принца Маклаем. Больше недели гостил ученый во дворце султана. Последний был так растроган, что вынудил высокого гостя принять в подарок маленького папуасенка Ахмата.
— У него есть родные? — спросил Маклай.
— У меня никого нет, — бойко отвечал Ахмат. — Я хочу, чтобы ты стал моим отцом. Здесь меня часто наказывают за шалости, и я хочу убежать.
Так Маклай обзавелся «сыном», или, вернее, маленьким, преданным другом: «Я получил Ахмата, 11- или 12-летнего папуаса, от султана Тидорского в январе этого года. Пробыв около 4 месяцев на клипере «Изумруд», он выучился говорить по-русски, и на этом языке мы объясняемся. Ахмат сметливый, непослушный, но добрый мальчик, который делает усердно и старательно то, что ему нравится делать, но убегает и скрывается, как только работа ему не по вкусу».
Нет, пока что Миклухо-Маклай не собирался возвращаться в Европу, так как не хотел останавливаться на полдороге в своих научных исканиях. Не так-то легко будет потом вырваться в эти края!.. Он замышлял уже в этом году предпринять вторую экспедицию на Новую Гвинею.
«…Но неужели вы захотели бы, чтобы я бросил начатое, чтобы оправдалось мнение многих: русский человек хорошо начинает, но у него не хватает выдержанности, чтобы так же кончить?… — написал он матери. Он был всецело во власти тех высоких задач, которые только один мог решить с успехом. — Я здоров и готов на все, что потребуется для новых путешествий и исследований».
«Моим исследованиям и путешествиям я не предвижу еще конца и не предполагаю вернуться в Россию ранее нескольких лет, когда моими научными исследованиями я докажу себя более достойным оказанной мне помощи и сочувствия», — докладывал он в другом письме председателю Русского Географического общества.
Свое почти полугодичное пребывание на клипере «Изумруд» Миклухо-Маклай использовал не только для поправки здоровья, но и для научной работы. Он посетил Молуккские острова, Целебес, Филиппины, Гонконг, Кантон. Не следует думать, однако, что это было увеселительное плавание. Стремясь изучить все разновидности папуасских племен, сравнить папуасов Новой Гвинеи с жителями других островов Меланезии, а также выяснить отношение папуасов к негритосам Филиппин, он с большим нетерпением ожидал прихода «Изумруда» на Манильский рейд.
Низкорослые, курчавоволосые негритосы Филиппин!.. Племена, стоящие на более низкой ступени культурного развития, чем папуасы Новой Гвинеи… Они ведут бродячий образ жизни, собирают клубни и корни; земледелие им неизвестно. Академик Бэр еще в Петербурге настоятельно советовал Миклухо-Маклаю посетить Филиппинские острова, отыскать там остатки «черного первобытного населения» и выяснить, действительно ли негритосы Филиппин — брахикефалы; и если это так, то действительно ли они принадлежат к одной расе с долихокефальными папуасами. Нужно заметить, что вопрос о соотношении антропологического типа папуасов и негритосов и по сию пору — один из центральных в круге вопросов, связанных с классификацией и происхождением рас Юго-Восточной Азии и Океании. Между антропологами до сих пор ведется жестокий и, увы, не чисто научный спор. Некоторые буржуазные антропологи пытаются доказать, что пигмеи Африки и Юго-Восточной Азии (негритосы Филиппин, семанги полуострова Малакки, обитатели Андаманских островов) представляют собой остатки наиболее древнего состояния человечества. Это якобы древнейшая раса, древнейшие формы человечества. От пигмеев произошли все люди. Бездоказательно приписывая пигмеям такие институты, как частная собственность, религия с верой в единого бога — творца, эти антропологи пытаются доказать извечность подобных черт социального строя.
Очутившись на острове Лусон, Миклухо-Маклай на другой же день в туземной рыбацкой лодке переплыл бурный Манильский залив и углубился в горы, где, по словам проводников, обитали «маленькие негры». Вскоре он добрался до временного пристанища вечно кочующих негритосов и поселился в шалаше. «Маленькие негры» весьма радушно встретили русского ученого. Кочевье насчитывало всего пятьдесят человек. Очень скоро Миклухо-Маклай решил вопрос, намеченный в его программе Бэром: негритосы оказались «короткоголовыми». И все же первого взгляда было достаточно, чтобы признать их за одно племя с папуасами. «Я был даже поражен сходством физиономий некоторых негритосов с туземцами островов Ново-Гебридских, Новой Ирландии и Новой Гвинеи, которых лица, так как я со многих снимал портреты, ясно сохранились у меня в памяти. Не только их лица, но и их обращение между
Это было провидение гения, намного опередившего свое время. Он доказал, что в границах больших рас имеются и долихокефальные и брахикефальные группы и что головной указатель не является определяющим признаком расы. Головной указатель одного народа в течение нескольких столетий может резко измениться без всякого смешения этого народа с другими. Современный человек — Homo sapiens — меняется на глазах. Расовые признаки изменяются по эпохам. Этот факт установил еще А.П. Богданов, Я с которым Н.Н. Миклухо-Маклай впервые встретился на Втором съезде русских естествоиспытателей в Москве. Советские антропологи подтвердили, что в последнее столетие происходит увеличение головного указателя, в различных антропологических типах идет процесс брахикефализации, то есть люди становятся все более и более «короткоголовыми». Кроме того, установлено по отношению к населению Советского Союза увеличение длины тела в новейшее время (процесс, наблюдаемый у разных народов).
Папуасы берега Маклая.
Обучение мальчика приемам добывания огня. Остров Гуадалканал. Соломоновы острова.
Папуас у сигнального барабана.
Термины «брахикефалия» и «долихокефалия» были впервые предложены еще в 1842 году шведским антропологом профессором Стокгольмского университета Рециусом. Сей ученый муж утверждал, что будто бы все древние народы Европы были «короткоголовыми», что эта полудикая раса господствовала в Европе в течение каменного века. Затем из азиатских просторов сюда вторглась раса, уничтожившая «короткоголовых». Остатки брахикефальной расы сохранились только у финнов, у лопарей и у басков.
Выводы Н.Н. Миклухо-Маклая начисто отметали эти антинаучные вымыслы, а также наносили удар по Вирхову, считавшему форму черепа главным признаком древности и глубины различий между расами.
Увлекательная наука — антропология! Она так же безгранична и бесконечна в своих поисках, как бесконечно развитие человечества. Отсутствие причинной связи между языком, культурой, уровнем общественного развития народа, с одной стороны, и его расовым типом — с другой, уже на первых порах своего великого эксперимента угадывалось Н.Н. Миклухо-Маклаем. Но ему пока не хватало фактов, чтобы сделать окончательный вывод.
Распростившись в Гонконге с офицерами и матросами «Изумруда» и получив от них в подарок южноамериканскую обезьяну, Миклухо-Маклай вместе с Ахматом пересел на пассажирский пароход, направлявшийся в Сингапур. «Изумруд» ушел в Россию.
В конце мая 1873 года ученый прибыл в Батавию, или Джакарту. Он спешил на Яву, намереваясь до отплытия голландского фрегата, где за ним по приказу генерал-губернатора Джемса Лаудона уже закрепили каюту, привести в порядок свои дневники и заметки. (Экспедиция вокруг Новой Гвинеи намечалась на конец 1873 года.)
Ява… Сказочная Ява! Жемчужина Малайского архипелага… Батавия — столица тропиков… Миклухо-Маклай с недоумением разглядывал грязную гавань. Пестрая толпа теснилась около нагруженных барок и шлюпок. Здесь же стояли два небольших пароходика. Там и сям торчали, как метлы, тощие кокосовые пальмы, метались на ветру рваные листья бананов. Особенно гнетущее впечатление производили мангровые заросли, которые тянулись по болотам, насколько глаз хватает. Низкий плоский берег. А дальше — прямые, как стрелы, каналы, где в мутно-желтой воде моются яванцы. Небо серое, скучное. Где же хваленые вулканы и влажные тропические леса Явы?
Нет, это не феерический остров Таити, выныривающий из синего океана. Заласканный светом зеленый Таити, вздымающийся среди водной пустыни зубчатый Муреа…
Вначале Маклай хотел усесться в железнодорожный вагон, чтобы добраться до города, но, поразмыслив, решил, что знаменитому путешественнику не подобает ехать на аудиенцию к генерал-губернатору всего Малайского архипелага и прочая… в вагоне, и нанял карету.
Не безвестным скитальцем, до которого никому нет дела, появился на Яве Миклухо-Маклай: о нем уже знали здесь, ждали его. Сам генерал-губернатор Нидерландской Индии Джемс Лаудон каждый день справлялся, не прибыл ли в Батавию прославленный русский натуралист и естествоиспытатель, отважный путешественник, дворянин и друг великого русского князя Константина Миклухо-Маклай, имеющий на руках рекомендательное письмо министра колоний Голландии. Министр колоний еще год назад поставил Лаудона в известность о том, что Миклухо-Маклай высадился на северо-восточном побережье Новой Гвинеи. Кроме того, в прошлом году Лаудон принимал в своем дворце в Бейтензорге великого русского князя Алексея Александровича и русского мореплавателя, командующего тихоокеанской эскадрой адмирала Посьета, совершавших на фрегате «Светлана» вояж вокруг света. Оба с большим уважением отзывались о Миклухо-Маклае. А еще в 1871 году Русское Географическое общество обратилось к Батавскому обществу науки и искусства с просьбой оказать содействие Миклухо-Маклаю в его начинаниях.
Джемс Лаудон был сухим, черствым и педантичным. Так говорили в Сингапуре. Чувство юмора подобным людям не присуще, оригинальность им непонятна, экстравагантности они не терпят. Жестокость Лаудона вошла в поговорку, чиновники и местные царьки трепетали при одном упоминании его имени. Он властвовал и беспощадно карал. Это был король, имевший власть более неограниченную, чем король Нидерландов.
«Ты мне нужен, петух голландский, — сказал себе Маклай, — а потому я буду больше, чем дипломатом, и стану являться на приемы и обеды в безукоризненно новом фраке, при белом галстуке и в белых перчатках, хотя это глупо и непозволительно при столь адской жаре…»
Вопреки ожиданиям Лаудон, весьма пожилой человек, встретил русского ученого довольно любезно. «Долихокефал! — определил Маклай. — Длинноголовый!.. Головной указатель меньше 75…» «Придворные», которыми кишел дворец в Бейтензорге, заинтересовались молодым человеком и отнеслись к нему почтительно. Особенно выгодное впечатление произвел путешественник на многочисленное семейство губернатора.
Узнав, что знаменитый путешественник остановился со своим слугой в небольшом дешевом домике, генерал-губернатор пришел в благородное негодование:
— Настоятельно прошу вас, переселяйтесь ко мне в Бейтензорг. Будьте как дома. Дворец в вашем распоряжении. Здесь вы совершенно свободны и вольны делать все, что заблагорассудится. Если вам станут докучать, вы можете послать всех к черту и не видаться ни с кем. Выбирайте любые апартаменты!
Миклухо-Маклай вежливо отказался.
— У меня лихорадка и ревматизм, — сказал он. — А это отнюдь не всегда приятно для окружающих.
Оценив скромность натуралиста, генерал-губернатор пришел в еще большее негодование:
— Я не позволю, чтобы всемирно известный путешественник, каким являетесь вы, очутившись в подвластной мне стране, ютился в какой-то халупе! Что обо мне подумают после этого в Европе?… Не навлекайте, господин Маклай, позор на мою голову. Уж не думаете ли вы, что генерал-губернатор Голландской Индии менее гостеприимен, нежели людоеды Новой Гвинеи?
Это, по-видимому, следовало принять за остроту, и все рассмеялись. После того как Лаудон прислал своего адъютанта на дом к Маклаю, последнему не оставалось ничего другого, как перебраться в Богор, этот райский сад мира, в надежде, что в любое время под каким-нибудь предлогом он сможет уехать из дворца. Он осмотрел и выбрал самые простые комнаты в павильоне, стоявшем на отшибе. Павильон был увит ползучими растениями, усыпанными орхидеями. Как жар, пылали цветущие тамаринды и деревья, которые здесь называют «пламенем лесов». Дорожка, усаженная агавами и перистыми пальмами нипа, вела к пруду, где распускали бледно-розовые цветы гигантские лилии виктории-регии и плавали черные лебеди.
Богор, или Бейтензорг (что в переводе с голландского значит — «Город без забот»), утопал в роскошной зелени. Это был знаменитый ботанический сад, куда мечтали попасть все ботаники мира. Он располагался у подножия главного хребта Явы и был соединен со столицей отличным шоссе и железной дорогой. Здесь, в горах, где не так жарко, как в Батавии, и где нет малярийных комаров, селилась знать.
Семь месяцев прожил Миклухо-Маклай в Богоре, окруженный почти королевским комфортом. Прямо из каменного века он попал в роскошнейший дворец, где все было к его услугам. Не нужно заботиться о пище, о поддержании огня в очаге, можно спать на мягкой чистой постели. Он часами прогуливался по пальмовым аллеям, забирался в глухие уголки, любовался орхидеями, варингинами — очень высокими деревьями, стволы которых сплошь обвиты корнями, стоял у молчаливых прудов и созерцал сказочно прекрасный на фоне пальм и смоковниц белый дворец или же продирался сквозь лианы и прислушивался к голосам незнакомых птиц. Казалось, он дремал, отдыхал душой и телом.
Но так могло показаться лишь невнимательному наблюдателю. Эти семь месяцев он жил деятельной жизнью. И в «Городе без забот», под сенью пальм ботанического сада, его активная натура не мирилась с праздностью. На рабочем столе — груды книг, по углам — ящики с коллекциями и приборами.
Маклай готовился ко второй, не менее дерзкой вылазке на Новую Гвинею, на ее юго-западный берег. Затем придется посетить южное побережье. Новая Гвинея — важнейшее звено в его антропологических и этнографических исследованиях. Загадочный зеленый остров. Никто из европейцев не знает, что там, в глубине его.
Сейчас Миклухо-Маклай пытался охватить умом проблему в целом. Он вынашивал смелую мечту изучить всю меланезийскую расу, составить полное представление о ней, исследовать все ее разветвления в самых разных областях ее распространения, поднять для науки целый этнический пласт в Океании и в Юго-Восточной Азии, выяснить древние расовые связи всего огромного района…
Под силу ли одному вечно больному человеку подобная работа? Над этим Маклай не задумывался.
Когда население Новой Гвинеи будет классифицировано, появится необходимость сравнить его с обитателями остальных островов Меланезии, а также Микронезии и Австралии. Побывать в Австралии необходимо хотя бы потому, что до сих пор вопрос о расе австралийцев не решен: некоторые антропологи считают последних принадлежащими к папуасской расе, другие — к полинезийской, а Гексли выделяет их в особую группу «австралоидов». Такое разнообразие мнений настоятельно требует точного и положительного решения вопроса. Тем более что австралийцы почти истреблены англичанами. Нужно спешить. Не дают Маклаю покоя и смутные слухи о курчавоволосом негроидном племени в дебрях Малайского полуострова. Имеет ли это племя, подобно негритосам Филиппин, родственную связь с папуасами?
Но самое важное, конечно, впереди. Предстоит выяснить место меланезийцев среди других рас земного шара, проследить распространение этой расы на планете. Интуиция подсказывает ему, что на очень большом протяжении в западной части Океании и на островах Юго-Восточной Азии, а также в дебрях Малакки обитает более или менее единый меланезийский тип. Но существует ли родственная связь между меланезийцами, куда он включает папуасов и негритосов Филиппин, и африканскими неграми? Еще на берегу Маклая он обратил внимание на то обстоятельство, что женщины и дети папуасов весьма напоминают африканских негров, с которыми ему приходилось сталкиваться раньше. Участвовала ли в формировании меланезийского типа негритосская раса? И если подтвердится наличие негритосской расы на Азиатском материке, то не приведет ли это к далеко идущим выводам: не здесь ли, в единственном в своем роде районе земного шара, где так близко сходятся все три большие расы человечества — белая, желтая, черная, — следует искать единый центр происхождения человека?
Все это следует узнать. Уже сейчас, после первого посещения Новой Гвинеи, трещит «древо жизни» Геккеля, на котором люди темнокожих рас обозначены как промежуточная форма между белым человеком и обезьяной, уже сейчас вирховский «головной указатель» потерял свое былое значение: признак длинноголовости для расового отличия папуасов оказался несостоятельным. А что будет потом, когда Миклухо-Маклай выполнит намеченную программу?
Кстати, о программе. Руководители Географического общества до сих пор не подозревают, что Миклухо-Маклай давно перечеркнул прежнюю программу и целиком отдался антропологии и этнографии. Они по-прежнему полагают, что ученый занят губками и зоологией, а антропологические и этнографические заметки — лишь побочный продукт его деятельности. Пусть до поры до времени остаются в этом приятном заблуждении!
И лишь другу Мещерскому он пишет: «Моя участь решена: я иду, не скажу, по известной дороге (дорога — это случайность), но по известному направлению, и иду на все, готов на все. Это не юношеское увлечение идеею, а глубокое сознание силы, которая во мне растет, несмотря на лихорадки…»
Да, лихорадки и здесь, в Богоре, не оставляют его. В Африке была африканская лихорадка, в Южной Америке — южноамериканская, на берегу Маклая — новогвинейская, которой переболели команды «Витязя» и «Изумруда». В Бейтензорге следовало бы подцепить местную малярию, но Миклухо-Маклай неожиданно свалился от лихорадки деньгю — особой лихорадки в костях, которая и появилась-то на Яве всего год назад. На двадцать дней приковала болезнь ученого к постели. Он пытался писать статьи о папуасах берега Маклая, но боль в суставах распухших пальцев была так сильна, что перо валилось из рук. Пришлось нанять человека, знающего немецкий язык. Каждый день в течение шести часов диктовал Миклухо-Маклай свои заметки. Подобная работоспособность тяжело больного русского казалась нанятому писцу сверхъестественной. Сам писец за эти шесть часов выматывался до того, что тут же едва ли не замертво валился на циновку и засыпал. В батавийском журнале естественных наук появились статьи Миклухо-Маклая. Он писал о деревнях и жилищах папуасов, об орудиях, употребляемых при разных работах, о пище и ее приготовлении, о языке, суевериях и обычаях, о музыке и пении.
Характерен стиль его работы. Он стремился к предельной краткости: «Пробыл бы я один месяц, а не 15 на берегу Маклая, я мог бы написать целый том, так как описания самых ничтожных обстоятельств, догадки, длинные объяснения и т. д. заняли бы много страниц; трудно было бы отобрать действительно научно интересные факты от хлама… Пробудь я еще 15 месяцев на берегу Маклая, заметки были бы хотя полнее, но, вероятно, еще короче». «Нельзя требовать, чтобы я путешествовал в странах малоизвестных и труднодостижимых и писал бы одновременно целые тома! Это успеется потом. Я не сижу сложа руки…»
Иногда он выезжал в Батавию (каждое утро карета была к его услугам) и там в госпитале занимался анатомическими исследованиями человеческого мозга.
В минуты отдыха он устраивался на веранде белого дворца. Приходила семнадцатилетняя Адриенна, старшая дочь генерал-губернатора, усаживалась за фортепиано, и в тропической ночи, озаренной чужими созвездиями, плыла полная грусти мелодия шумановской увертюры к «Манфреду». Знакомые с детства звуки навевали воспоминания о родине, о матери, о любимой сестре Оле, о братьях. Как он был одинок, как был чужд и непонятен всем окружающим в этом белом дворце!..
Тяжелые думы посещали Миклухо-Маклая. С какой жадностью расспрашивал он офицеров «Изумруда» о событиях в Европе, в России! Наиболее либерально настроенные доверительно выкладывали потрясающие новости: Чернышевский все еще в ссылке, перевезен из Александровского завода в Вилюйский острог. Слышал ли Николай Николаевич что-либо еще по пути на Новую Гвинею о восстании парижских рабочих? Так вот, Парижская коммуна задушена. Как рассказывают, уничтожено больше ста тысяч человек. В Париже некоторые рабочие кварталы стали совершенно безлюдными. На помощь Тьеру пришел Бисмарк. Кто бы мог предполагать! Ярослав Домбровский и Валерий Врублевский стали генералами Парижской коммуны. Домбровский погиб, Врублевский спасся. Известный географ, автор книги «Земля» Элизе Реклю сражался на баррикадах Коммуны, теперь его бросили в тюрьму… Петр Лавров, сестра Софьи Ковалевской Анна Корвин-Круковская, она же Жаклар, Елизавета Дмитриева и другие русские приняли самое деятельное участие в Коммуне, за что и преданы самодержавием анафеме.
Каждое слово о трагедии Коммуны ранило сердце Миклухо-Маклая. Элизе Реклю. И даже женщины… О, если бы стоять на баррикадах, своей грудью заслонить Коммуну! О, если бы судьба борца-одиночки не занесла его так далеко от дымных развалин Парижа!.. Кому нужны его искания, если там до сих пор льется кровь?!. Когда человеку двадцать восемь, он обязан с оружием в руках отстаивать свободу… Немцы провозгласили у себя Германскую империю. Бисмарк торжествует. «Неужели все странствуете по этой Германии, — спрашивает Миклухо-Маклай Мещерского. — (Я думаю, немцы очень напустили на себя важности после своей солдатской деятельности)?…»
От генерал-губернатора Лаудона Миклухо-Маклай совершенно случайно узнал, что якобы большую партию осужденных коммунаров направляют на Новую Каледонию на каторжные работы.
«Я должен побывать там!..» — подумал Миклухо-Маклай. Ему необходимо увидеть этих бесстрашных людей, взглянуть на них, пожать им руки, ободрить словом… Но это будет потом, а сейчас нужно готовиться к экспедиции на Новую Гвинею. «Моя участь решена!..» Как жаль, что не довелось встретиться с братом Володей… Он уже произведен в мичманы. Крейсер «Аскольд», на котором плавает теперь Володя, должен был этим летом посетить Батавию. Володя все-таки добился своего — стал моряком. Брат Сергей собирается на восток России. Мишук учится и не оставляет мечты посвятить себя горному делу. Оля и мама хандрят, ждут не дождутся путешественника. Им удалось собрать немного денег и купить скромненькое именьице Малин, что в 129 верстах от Киева и в 35 верстах от Радомысля. С туманным и сырым Петербургом покончено. Пусть Коленька приезжает в Малин. Он утешает в письмах сестру: «Нехорошо так много думать обо мне и все ждать меня. Кончу, что начал, — сейчас приеду. Думаю, что и в тебе есть кое-что, что есть у меня: решимость и воля достичь, что назначил себе; уныние и малодушие ведут только к самой глупой жизни». Мать он успокаивает: «…благодаря моей нервной, эластичной и крепкой натуре, которую вы понимаете, потому что сами ее имеете, я перенес все хорошо, здоров и готов на все, что потребуется для новых путешествий и исследований…»
Готов на все, но здоров ли?… Врачи пугают нарывами в печени; не прекращаются приступы лихорадки; ноги и руки отнялись. Периост костей… Ночью не знаешь, как лечь, Как повернуться, чтобы боль не раздирала тело. Пришла бессонница. Лихорадка, печень, раны на ногах…
Кажется, на этот раз ему не выкарабкаться, несмотря на эластичную натуру. Он вынужден написать из Бейтензорга Мещерскому: «Здоровье мое сильно пострадало. Да иначе и быть не могло. Я бы серьезно желал, чтобы мать и сестра были готовы ко всякой случайности…»
И все же, несмотря ни на что, он решил покинуть Яву, роскошный генерал-губернаторский дворец. Не следует, однако, думать, что во дворце с ним обращались плохо, не были предупредительными, любезными. Наоборот. Все пять дочерей (от 8 до 17 лет) генерал-губернатора были влюблены в тамо-русса, всячески ухаживали за ним. А маленькому Ахмату, в нарушение всех правил, разрешено было играть с девочками. Миклухо-Маклай попал в музыкальную семью и чувствовал себя в знакомой стихии. Бетховен и Шопен, Шуман… Обедали здесь в семь часов вечера. И не всегда «человек с Луны» обязан был являться к столу во фраке и белых перчатках. Он был личностью оригинальной, и ему прощались всякие вольности. После обеда, когда позволяло самочувствие, он засиживался с дамами допоздна: рассказывал о береге Маклая, пел туземные песни, читал вслух Тургенева или же давал уроки музыки Адриенне. Да, в «стране фраков и белых перчаток» все было не так, как на Новой Гвинее или же у негритосов Филиппин. Он рассказывал об обычае, существующем у пигмеев Лусона. Если негритос, находясь в лесу, вздумает подкрепиться едой, которую он имеет или же которую раздобыл, то он обязан громким голосом оповестить об этом джунгли, приглашая всех разделить с ним трапезу, ибо утаивать пищу от других нельзя. Кто прячет еду от соплеменников, тот предается мучительной смерти.
Дамы смеялись. А Миклухо-Маклай думал: «Очутившись в положении негритосов, способны ли были бы вы, господа, на подобное благородство? И разве, живя в роскошном дворце, бездельничая, пользуясь всеми благами цивилизации, не отнимаете вы последний кусок у голодного?»
Ослепительно красивая белокурая хозяйка дома госпожа Лаудон часами не сводила восторженных синих глаз с Маклая. Вот он, не книжный, а настоящий романтический герой, «сильная личность»!.. Внешность Маклая не была лишена известной оригинальности и привлекательности: над высоким лбом поднимались у него обильные кудри рыжевато-шатеновых волос, небольшие усы и коротко подстригаемые баки и борода окаймляли узкое бледное лицо с прямым правильным носом и большими мечтательными глазами.
Если принять во внимание и тот факт, что госпожа Лаудон или Л. Л. (как зашифровывает ее имя Маклай в своих дневниках) была лет на двадцать моложе мужа и никогда не любила его, то становится понятным, почему тамо-русс воспламенил ее воображение. Она полюбила всей силой нерастраченного чувства. А он даже не догадывался ни о чем. Он был слеп и глух к голосу сердца. Его мысли были заняты научными проблемами.
Поручив путешественника заботам семьи, генерал-губернатор облегченно вздохнул и с головой ушел в служебные дела. А дел было хоть отбавляй. В Батавии свирепствовала холера. За полтора месяца умерло свыше двух тысяч яванцев и двести европейцев. Но это было бы еще полбеды. Малайцы, не вынесшие притеснений голландцев, подняли на Суматре в Ачине восстание. Следовало действовать оперативно и решительно. Если мятеж не удастся задушить в самом зародыше, то прощай пост генерал-губернатора!
Нидерландская Ост-Индия (кстати, название «Индонезия» для всего архипелага впервые было предложено в 1884 году немецким этнографом и антропологом профессором Бастианом, другом Миклухо-Маклая) то и дело озарялась пламенем перанг-сабила — священной народной войны против иностранного владычества. Восстание 25 июля 1825 года, на знамени которого были начертаны лозунги французской революции — «Свобода, Равенство, Братство», — охватило самые широкие народные массы. Колонизаторов вешали, расстреливали, отбирали у них владения. Крестьяне делили землю. Имя народного вождя Дипонегоро (о котором Миклухо-Маклай впервые услышал на Северном Целебесе) до сих пор с любовью произносилось на всех островах Малайского архипелага.
Теперь мог появиться новый Дипонегоро. Лаудон отменил экспедицию фрегата «Кумпан» вокруг Новой Гвинеи и направил корабль на подавление мятежа. Об этом Миклухо-Маклай услышал от госпожи Лаудон.
Они сидели на диване и разбирали ноты.
— Не пойму, зачем вы рветесь на Новую Гвинею? — сказала она.
— Это слишком долго и скучно объяснять.
— А Ахмата вы берете с собой?
— Да. Ахмат — папуас. Его родина — Новая Гвинея. Я подозреваю, что там, может быть, именно на побережье Папуа-Ковиай, до сих пор живут его родители.
— Но ведь папуасенка вам подарил султан Тидорский?
— Султан Тидорский — большой негодяй. Хоть он и назвал наследного принца моим именем…
— Не понимаю. Малайский султан обласкал вас, одарил, а вы называете его негодяем. Это несправедливо. Мы ничего дурного о нем не слышали.
— А я слышал. И очень много. Ахмат разлучен с родителями, украден! Вы знаете, что такое хонгии?
— Не совсем…
— Хонгии — это разбойные набеги малайских султанов на папуасские селения. Как мне довелось услышать, вооруженные шайки Тидорского, Тернатского и других малайских султанов высаживаются на побережье Новой Гвинеи, сжигают папуасские деревни, захватывают мужчин, женщин и детей и продают их в рабство на плантации. Так был украден Ахмат. И очень печально, что некоторые папуасские радьи, соблазненные подачками, помогают малайцам.
— Чудовищно! Никогда не поверю… Если бы Лаудон знал!..
— Он узнает. Я отправляюсь на фрегате «Кумпан», кстати, и для того, чтобы составить подробное донесение генерал-губернатору по этому вопросу. Буду рад, если слухи останутся всего лишь слухами.
— «Кумпан» отправляется через несколько дней в Ачин. Муж не возражает, чтобы вы приняли участие в этой экспедиции, — сказала она.
Миклухо-Маклай побледнел:
— Это решено? На Суматру? Для подавления восстания?…
— Да. Я понимаю вас. Не пытайтесь даже отговаривать господина Лаудона. Ваши слова не произведут на него ни малейшего впечатления. Для него решается древний гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» Он отвечает за «спокойствие во владениях».
Пожалуй, она права…
— Передайте господину Лаудону, что от подобной «экспедиции» я наотрез отказываюсь! Я сумею и сам выбраться на Новую Гвинею. Ахмат!..
Прибежал Ахмат, который в соседней комнате развлекал девочек, проделывая разные фокусы с южноамериканской обезьяной.
— Ахмат! Собери вещи. Мы немедленно уезжаем отсюда.
— Куда, Маклай?
— В страну без фраков и белых перчаток! На Новую Гвинею…
Она ласково взяла Маклая за локоть:
— Вы не забудете меня там, в стране без фраков и белых перчаток, тамо-русс?
Он внимательно посмотрел на нее, поразился бледности ее лица, мертвенной синеве губ и вдруг понял все. Ему сделалось жарко. Но он только сказал:
— Я не забуду вас…
Уже на пароходе «Король Вильгельм III», отправлявшемся на Молуккский архипелаг, он получил аккуратный сверток из Бейтензорга. В свертке оказался портрет госпожи Лаудон и… дождевое пальто!
На пароходе не пришлось сидеть сложа руки. Здесь началась холера. Умершую женщину выбросили за борт.
В Семаранге, где они остановились на несколько часов, также свирепствовала эпидемия. Ни один из пассажиров не осмелился съехать на берег. Говорили, что почти все европейцы умерли. Смерть наступает через три-четыре часа.
Доктор Джемс, обследовав Маклая, сказал:
— Если холера вас не возьмет, то вы все равно долго не протянете. Невралгия, печень и вообще целый ларец Пандоры всяческих болезней. Настоятельно советую вернуться в Европу или же отправиться в Австралию.
— Только на берег Папуа-Ковиай!
Наняв в Гесире туземную лодку — урумбай, Миклухо-Маклай отправился к берегам Новой Гвинеи. Это было опасное плавание. Гремящие валы играли урумбаем, как щепкой. Каюту залило водой. А ветер все крепчал. Рулевые совсем обезумели от страха. Один из них упал на колени и стал молиться, вместо того чтобы делать свое дело. Маклай выхватил револьвер и приставил его к уху труса:
— Завтра можешь молиться, а теперь, если не будешь править как следует, я тебе всажу пулю в лоб!
Угроза возымела действие. Рулевой кинулся исполнять свои обязанности.
Ахмату хоть и было страшно, но он ни на шаг не отходил от своего русского друга.
Новая Гвинея! Может быть, там Ахмата ждут мать и отец… Как разыскать их на огромном побережье, в непроходимом лесу? Но Маклай все может… Он храбрый и сильный, сильнее любого матроса с «Изумруда»! Обезьянка верещала от ужаса, а Ахмату было весело: он ехал домой.
3 марта 1874 года Маклай высадился на побережье Папуа-Ковиай. Папуасы и проводники построили ему на мысе Айва хижину. Здешние туземцы уже были «тронуты» цивилизацией: требовали джин и ром, отказывались от всего остального. Женщины без всякого стеснения приходили в хижину, беспрестанно болтали и просили иголок. Вскоре возле хижины возникло целое поселение папуасов, которые полагали, что по соседству с Маклаем они будут в полной безопасности (они не без оснований побаивались нападения своих давних врагов — туземцев из бухты Бичару).
Маленький Ахмат сразу же заболел. Хина не помогла. Мальчик кашлял, жаловался на грудь и звал мать. Звал на русском языке.
Еще от радьи Айдумы ученый слышал, что будто бы внутри страны по реке Утан живут пигмеи-людоеды. Мозг человека кажется им особенно вкусным. Маклай решил отправиться в горы Камака и Лоха-кии, а по пути следования наводить справки о родителях Ахмата,
Ахмату становилось все хуже и хуже. Он уже не говорил, без посторонней помощи не мог приподнять голову. «Не могу решиться оставить его в таком положении, — записал Миклухо-Маклай. — Отложил поэтому отъезд до послезавтра».
Но и послезавтра не принесло ничего нового: «Мне его очень жаль, но взять я его не могу, а терять далее время не следует».
Стирая слезы с усов и бороды, Миклухо-Маклай отправился туда, куда звал его научный долг. Присмотр за Ахматом он поручил надежному человеку, оставил большой запас продуктов и хины, хотя и понимал, что мальчик скоро умрет, так и не повидав своих родителей.
Больной пришел в сознание, тоскливым взглядом посмотрел на своего приемного отца и неожиданно сказал по-русски:
— Иди, Маклай! Я не умру…
И Маклай покинул мыс Айва. Он плыл на урум-бае, продирался сквозь заросли, ножом прокладывал дорогу к таинственному горному озеру Камака-Вал-лар. Лихорадка по-прежнему трепала его. Но он шел и шел. Рассказы о нападении горцев на жителей побережья, об убийствах не пугали его. «Папуасы здесь готовы убить человека из-за пустой бутылки или старой тарелки», — говорили ему. Но он каждый раз отправлялся в горы без оружия и без конвоя. Таков был обычай Маклая.
«О жителях Папуа-Ковиай ходили между малайцами ужасные рассказы, их считали людоедами; уверяли, что они нападают на приходящие к берегу суда, грабят, убивают, поедают экипаж и т. п.
Все эти страшные рассказы малайцев о разбойничестве и людоедстве жителей берега Папуа-Ковиай и побудили меня избрать именно эту местность, так как я надеялся встретить там чистокровное папуасское население», — записал он.
Папуасов племен майраси и вуоусирау Маклай встретил, но они не были людоедами и мало чем отличались от жителей побережья. Тогда он окончательно понял, почему малайские радьи стараются опорочить папуасов. Малайцы занимаются работорговлей. Племена папуа-ковиай вынуждены оставить оседлую жизнь на суше. Они превратились в водных кочевников, странствующих в пирогах с места на место. Украдкой высаживаются они на берег, чтобы собрать урожай со своих плантаций, скрытых в лесу. Междоусобные стычки, убийства, похищения людей и продажа их в рабство сделались обычными явлениями на берегу Папуа-Ковиай. Нет, никто ничего не мог сообщить о родителях Ахмата… Да и мало ли похищено малайцами детей с этого побережья!
Перевалив хребет Варика, Миклухо-Маклай очутился на берегу еще не известного ни одному географу озера Камака-Валлар, кишевшего крокодилами. На островке Лакахиа он открыл залежи каменного угля. Пигмеев он не нашел, хотя и не сомневался, что они обитают в горах Новой Гвинеи. Слухам о том, что пигмеи — каннибалы, Миклухо-Маклай не доверял. Его сообщение о пигмеях Новой Гвинеи подтвердилось лишь в 1912 году. А о пигмейском племени «голиаф», местонахождение которого точно указал Маклай, мы до сих пор не знаем почти ничего.
…Возвращение на мыс Айва было печальным. Еще находясь в пути, Миклухо-Маклай узнал, что его хижина разграблена. Охранять хижину он поручил некоему «капитану» с острова Мавара и радье Наматоте. Оба оказались изменниками. Воспользовавшись тем, что туземцы из бухты Бичару напали на спящих папуасов мыса Айва, «капитан» и радья занялись грабежом имущества ученого. Налетчики не щадили ни женщин, ни детей, ночевавших в хижине.
Миклухо-Маклай, кипя негодованием, направил урумбай к острову Мавара. Но разбойный «капитан» уже успел улизнуть.
…На волнах покачивалась шлюпка. В шлюпке сидел мальчик-папуас.
— Я вижу Ахмата! — воскликнул Маклай.
Это был Ахмат с южноамериканской обезьяной на плече. Когда его подняли на борт урумбая, он прижался лицом к груди Николая Николаевича.
— Я живой, я живой, — твердил Ахмат. — И ты живой! Я стрелял в радью Наматоте и в «капитана» Мавары. Они хотят убить тебя… Ты нашел моего отца и мать?
Ученый ничего не ответил. Может быть, родители Ахмата живут совсем на другом побережье? А возможно, их продали в рабство или убили…
Трудно глядеть в ясные вопрошающие глаза мальчика, которого негодяи, может быть с помощью того же «капитана» Мавары, разлучили с матерью.
Миклухо-Маклай поклялся изловить «капитана». Вскоре удалось напасть на его след. «Капитан» прятался в одной из пирог. И хотя побережье кишело папуасами, которые в любую минуту готовы были вступиться за «капитана», ученый бесстрашно подошел к пироге и крикнул:
— Капитан Мавары, выходи!
Не дождавшись ответа, он сорвал циновку, служившую крышей пироге. На дне пироги сидел «капитан» Мавары.
— Саламат, гуан! (Привет, господин!) — произнес он дрожащим голосом.
Схватив «капитана» за горло и приставив револьвер к его лицу, Миклухо-Маклай приказал папуасу Мойбирату принести веревку.
Когда «капитана» связали, ученый обратился к папуасам:
— Я беру этого человека, который грабил мои вещи, которого я оставил в Айве стеречь мою хижину и который расхитил все, что было в ней, и допустил, чтобы в моих комнатах убили женщин и детей. Возьмите его сейчас же на урумбай!
За «капитана» не вступился никто. Запрятав револьвер, ученый уже дружелюбно сказал:
— Я не сержусь на вас, а только на начальника, «капитана» Мавары и радью Наматоте. Вы же все можете получить табак, саго и другие подарки.
На острове Кильвару разбойный «капитан» был сдан голландским властям.
Гнев зрел в груди Маклая. Повсюду он натыкался на следы пиратских налетов банд султана Тидорского. Даже здесь, на Кильвару, к ученому каждый день приходили начальники окрестных районов с сообщениями об убийствах, кражах, насилиях.
Его дневник пестрит записями:
«2 февраля радья Румо-сол требовал пять человек на основании письма султана Тидорского (приходя каждый год, спрашивая дань с купеческих прау (лодок)…
Здешние жители (малайцы) нехорошо обходятся с папуасскими детьми, которых покупают и выменивают в Папуа-Ковиай. Положение их не лучше рабства…
…Отправился в хижину, где мои люди увидели маленького папуасенка под хижиною вместе с козами. Я вошел в хижину и увидел несчастное создание лет 2 или 3 с ужасно худыми ногами и руками. Мальчик при виде меня закричал и пополз. Нога были в ранах.
Я приказал позвать хозяина и от гнева весь дрожал, трудно было стоять на ногах. Я сделал очень строгий выговор капитану Кильтай и намерен довести до сведения генерал-губернатора и просить защиты этих несчастных от серамцев (малайцев).
Нельзя позволять вывозить маленьких детей, да еще без матери, из Новой Гвинеи!»
Маклай обмыл и перевязал раны ребенку. Еще не остыв от ярости, душившей его, он сел и тут же написал на имя генерал-губернатора Голландской Индии меморандум «О политическом и социальном положении папуасов берега Папуа-Ковиай». Он писал о бедствиях туземного населения, страдающего от постоянных набегов вооруженных банд местных «капитанов» и торговцев, о том, как малайские купцы понуждают горных папуасов красть береговых, а береговых — уводить в плен горных, а затем за бесценок скупают украденных людей:
«Из сказанного следует, что… хотя рабство в голландских колониях давно уничтожено официально, на бумаге, но торговля людьми совершается на деле в широких размерах…»
«Беззакония процветают беспрепятственно. Для меня было бы большим удовлетворением, если эти несколько строк смогут способствовать облегчению, хотя бы и в малой степени, несчастной участи этой страны и людей.
Я надеюсь, что это письмо не затеряется в архивах, а окажется полезным в настоящем деле».
Маклай поднял голос в защиту папуасов.
Но это не была наивная вера в силу слова. Он должен был восстать против «возмутительной торговли людьми» и восстал. Он ясно представлял себе, как генерал-губернатор Лаудон, прочитав меморандум, скажет резиденту:
— Этот «человек с Луны» начинает совать нос не в свои дела. Сейчас некогда заниматься подобными пустяками. Недурно было бы поскорее отделаться от этого русского агента. Очень уж его расхваливал адмирал Посьет. За каким дьяволом они лезут в наши владения?
Маклай был прав: меморандум остался без ответа, а султаны Тернатский и Тидорский отправились на своих прау в новые набеги на побережье Папуа-Ковиай.
На острове Амбоина Миклухо-Маклай попал в госпиталь, где и провалялся целый месяц. Доктор Хуземан после очередного осмотра спросил путешественника:
— Где находятся ваше основное имущество? Миклухо-Маклай улыбнулся через силу:
— Что вы имеете в виду? Долгов много. Экспедиция в Папуа-Ковиай обошлась мне в тысячу голландских флоринов. Хендрику-Яну Анкерсмиту, главе фирмы «Думмлер и К0», я должен тысячу пятьсот флоринов. У меня нет недвижимой собственности. Багаж — другое дело. Большую часть багажа я отправил еще в 1871 году с «Витязем» в Японию, куда еще думаю отправиться. Имея намерение посетить Австралию, я с архипелага Самоа выслал в Сидней часть своих вещей. Остров Уполу мне так понравился, что я в надежде посетить его еще раз оставил там кое-какую аппаратуру. Главное депо моих вещей — Бейтензорг. Кое-что разбросано в Южной Америке, где я непременно побываю еще раз, кое-что — в Иене. Остальное — в Петербурге.
— А вы не подумали, что пора составить завещание?
— Я так плох?
— Вы не протянете и трех дней, если говорить начистоту, как врач с врачом.
— Вы мало знаете мою эластичную натуру… Я уже несколько раз писал завещания. Можно попробовать еще раз.
К удивлению доктора Хуземана, Миклухо-Маклай поправился и на первом же судне укатил в Батавию.
Здесь он узнал, что Джемс Лаудон смещен с поста генерал-губернатора и уже в качестве частного лица вместе с семьей переехал в живописное местечко Ти-Панас. По-видимому, не повезло ему с карательной экспедицией на Суматру. Так называемая ачино-голландская война затянулась.
Быть гостем частного лица хоть и не так почетно, как гостем некоронованного короля, зато спокойнее. Миклухо-Маклай поехал в Ти-Панас. Через Лаудона он рассчитывал завести знакомство с новым генерал-губернатором ван Лансберге. Маклай всегда придерживался правила: использовать сильных мира сего в интересах науки и своей борьбы. В батавском журнале он опубликовал статью в защиту папуасов от работорговцев. Из Ти-Панаса он вернулся в Батавию и здесь сказал Ахмату:
— Мы отправляемся в новое путешествие!
«Я замышляю новую экскурсию, которая по трудности не уступит Новой Гвинее. Я хочу отправиться в горы полуострова Малакка, — сообщил он матери. — Теперь, отправляясь через месяц в Малакку, я принужден был занять (!) около 100 фунтов. Вероятно даже, что этих денег не хватит, и по возвращении (?) оттуда придется прибегнуть к новому займу. Я решился на этот шаг, будучи убежден, что мое путешествие будет ценно для науки… О себе могу сказать, что подвигаюсь вперед по дороге, которую избрал, не думая много о будущем, пока здоровье еще позволяет…»
В это же самое время сестра Ольга писала князю Мещерскому: «Никогда Коля не умрет, прежде чем мы с ним не увидимся и прежде чем он не передаст другим свое начатое дело. Его работы и труды не пропадут, как никогда не пропадает правое и справедливое дело. Только с такой уверенностью можно жить, иначе наша жизнь была бы настоящей толчеей, где хорошее и дурное проходило бы так же бесследно, как и жизнь мошкары…»
«Никогда Коля не умрет…» Но сам Николай Николаевич не был в этом уверен. Он отправлялся в совершенно никем не исследованные дебри Малакки, в те места, куда не проникал еще ни один ученый. Лесная тьма, тигры и ядовитые змеи, отравленные стрелы «лесных людей», непроходимые болота, непроходимые хребты, бурные потоки… Там в трущобах Малайского полуострова, по слухам, обитают загадочные племена оран-сакай и оран-семанг — не то негры, не то какие-то хвостатые, клыкастые существа со слоновыми ушами. А на самом-то деле никогда и никто их не видел.
А может быть, там, в девственных лесах, у верховьев реки Паханг, скрываются остатки меланезийской расы, чистокровные папуасские племена? Эти племена нужно найти во что бы то ни стало! Или же убедиться, что на Малакке таких племен нет вообще…
Никто еще не вернулся живым из джунглей Малакки. Даже местным жителям полуострова — малайцам — неведомы тропы, ведущие к оран-сакаям и оран-семангам. На географической карте верховье реки Паханг — сплошное «белое пятно». Страна тайн…
Следует подготовить себя ко всему.
И Николай Николаевич пишет очередное завещание, сорок третье по счету:
«Я отменяю все завещательные распоряжения, ранее сделанные или предпринятые: 1) Я завещаю его сиятельству князю Александру Мещерскому в С.-Петербурге все мои книги, рукописи, рисунки, чертежи, заметки и пр. в память дружбы. 2) Музею антропологии Имп. Академии наук в С.-Петербурге мою коллекцию черепов. 3) Имп. Русскому Географическому обществу в С.-Петербурге мои антропологические, этнологические и зоологические коллекции. 4) Моему маленькому слуге, папуасу по имени Ахмат, тысячу рублей серебром…
Я постараюсь принять необходимые меры для того, чтобы моя голова была сохранена и переслана г-ну Анкерсмиту, которого прошу направить ее в Музей антропологии Имп. Академии наук в С.-Петербурге, каковому я ее завещаю (вместе с коллекцией черепов, собранных на берегу Маклая).
Как только моя смерть будет установлена, я прошу г. Анкерсмита собрать по этому поводу все обстоятельства и подробности, которые он сможет получить, и их сообщить г. секретарю Имп. Русского Географического общества в С.-Петербурге.
5) Я называю и назначаю полной наследницей всего моего имущества, владений и прав, которые не упомянуты выше в этом завещании, Ольгу Миклухо-Маклай, мою сестру, проживающую в России…»
Сделав завещание и раскрыв в одном из писем Русскому Географическому обществу истинную цель всех своих исканий (дабы не писали в некрологах, что основной его специальностью были губки!), Миклухо-Маклай, не прожив на Яве и четырех месяцев, 24 ноября 1874 года отправился в странствие по Малайскому полуострову. Неизменный друг Ахмат сопровождал его.
Нет необходимости подробно описывать это изнурительное путешествие. По своим результатам, по тем открытиям, которые сделал исследователь, оно весьма ценно для науки. Маклай добился-таки своего и нашел то, что искал.
Однако следует сказать, что время для экскурсии было выбрано явно неудачно. В декабре начинался сезон дождей. Джунгли затопило. Вода шумела над верхушками пальм нипа. Обширнейшее пространство превратилось в сплошное болото. Но Миклухо-Маклай не отступил. Не отступил и тогда, когда уже в пути его настигла неизменная лихорадка. Он плыл меж поваленных деревьев на туземных лодках, семнадцать дней шагал по колено, по грудь в воде и грязи, прорубался сквозь колючие лианы или же, подобно эквилибристу, рискуя сорваться в пропасть, ступал по скользким стволам. Неукротимая жажда познания гнала его в неизведанные места, в самые дикие трущобы Малакки. Он рассчитывал за двадцать дней пересечь полуостров с запада на восток. Но проходила неделя за неделей, а конца путешествию и не предвиделось. Проводники малайцы призывали на помощь аллаха, некоторые покидали лагерь. Вышло продовольствие. Ахмат собирал дикие лимоны, съедобные листья и корни. Тропический зной, полчища огромных комаров и кровожадные пиявки и сороконожки доводили до исступления. Окровавленные, вечно мокрые ноги вспухли. Остатки хины приходилось делить между заболевшими проводниками. Ко всем этим трудностям прибавилась еще одна: «Было около 11 часов, когда люди, наконец, вернулись с двумя небольшими пирогами, но с нехорошими известиями. Люди Пахана угрожают напасть на Индау, и окрестные жители разбежались. Не без громкого, серьезного разговора убедил я их, что белому туану нечего бояться раздоров малайцев, как и людям, которые будут с ним. По жаре пришли мы в час пополудни к пирогам. Ничего не ев с утра, я положительно боялся солнечного удара. Пришлось поделиться с людьми хиной: обещал вчера — Tengo una palabra…»
В каждом селении — рассказы об убийствах, о стычках; жители вооружены крисами и парангами. Особенно ненавидят они белых — англичан. А разве у Маклая написано на лбу, что он не англичанин? У путешественника даже появилась водобоязнь: «Странное дело, я, однако, же боюсь утонуть, положительно боюсь воды…» Спал он в каучуковом мешке. Опять тяжело заболел Ахмат. Оставшись без проводников, без еды, без единой спички, Мак-лай пытался добывать огонь первобытным способом, применяя для этого лиану каюлара. В нескольких шагах от его бивака плескался тигр, пришедший на водопой.
Миклухо-Маклай встретил «лесных людей» — низкорослые племена оран-утан и оран-райет. Но то не были представители папуасской расы. Они вели бродячий образ жизни, скитаясь на своих лодках прау вдоль берегов. А где же загадочные сакаи и семанги?
«Они скрываются где-то в других местах! — решил ученый. — Их нужно найти…»
Больной, подавленный, вернулся он в Джохор-Бару и поселился во дворце махараджи. Не 20, а 50 дней отняла у него эта экспедиция.
Другой на его месте отступился бы: нет — значит нет. Но Маклай знал только одну дорогу — вперед.
Своим знакомым он неожиданно заявил:
— Мне нужен сиамский король и молодой слон! Ахмат, мы едем в Бангкок к сиамскому королю.
И они едут морем в далекую столицу Сиама, или Таиланда.
Слон нужен был для сравнительно-анатомических исследований. Вернее, требовался не сам слон, а его мозг. Но лишь сиамский король имел слонов. Мятущаяся душа Маклая требовала действия. Врачи укладывали его в постель, а он, не желая тратить время на такие «пустяки», как болезнь, замыслил организовать в Джохор-Бару зоологическую станцию — Тампат-Сенанг (что по-малайски значит — «Место покоя»). Поскольку врачи все время твердят о покое, будет «Место покоя». Своему приятелю Дорну он сообщает в Неаполь: «Эта новая станция, правда, не может иметь того же значения, что ваша в Неаполе. Я принял за образец мои собственные потребности и обычный образ жизни и соответственно им проектировал здание и принадлежности.
Прежде всего эта станция должна служить для меня: в мое отсутствие и после моей смерти я отдаю ее в распоряжение каждого изучающего природу… Пользование этим «Местом покоя» открыто для каждого исследователя природы, без различия национальностей…»
Маклай купил у махараджи Джохорского участок земли. Первым объектом исследования будет мозг слона. Сиамский король пообещал подарить молодого слона. Но не только слон нужен Маклаю: он готовил новую экспедицию в глубь Малакки, и ему требовалась грамота короля, в которой предписывалось бы всем местным раджам и вождям племен оказывать русскому путешественнику содействие.
Засиживаться долго во дворце махараджи Джохорского или в Тампат-Сенанге ученый не собирался.
Грамота получена. Зоологическая станция, сравнительно-анатомические исследования — все отошло на второй план.
13 июня 1875 года началось второе путешествие Миклухо-Маклая по Малаккскому полуострову.
Представим себе почти фантастическую картину: влажный тропический лес — колючие пальмы ротанги и панданусы, заросли казуарины и густые вечнозеленые мангры, непроходимые бамбуковые рощи; огромная белая луна над оживающими к ночи джунглями. Тут бродят тигры, дикие слоны и даже, как поговаривают, сохранился в этих дебрях злобный оранг-утан. Русский человек («дато русс Маклай», — как зовут его здесь) восседает на слоне. Из всех ученых мира он первый проник сюда.
Сто тринадцатый день идет дато русс по стране. Пробирается то на слонах, то на плотах, то в туземных прау, то пешком; то совершенно один или же с Ахматом, то с огромной свитой. Далек путь от Джохор-Бару до Бангкока! И снова дожди, дожди, потоп…
У верховьев реки Паханг, в горах между областями Паханг, Трингано и Келантан, он нашел, наконец, то, что искал: карликовые негроидные племена сакаев и семангов. Они весьма походили на негритосов Филиппин. Рост у мужчин не привышал 150 сантиметров. Женщины были еще более низкорослы (130 — 140 сантиметров).
Вели они кочевой образ жизни, чуть ли не каждый день меняя места своих стоянок. Все, что можно было найти в лесу — камфару, каучук, ротанг, слоновую кость, — они сбывали малайцам, а взамен получали железные ножи, соль, табак, ткани. «Лесные люди» отличались весьма мирным характером. Мужчины хорошо обращались с женами и дочерьми. В некоторых случаях женщина имела право стать вождем племени. Здесь сохранились остатки общинного брака.
Средством защиты и охоты «лесным людям» служило «духовое ружье» — длинная бамбуковая трубка с отравленными стрелами. Пораженное стрелой животное погибало через десять минут.
Дожди помешали ученому пройти в столицу Сиама Бангкок. Но Маклай не жалел об этом. Он выполнил программу: открыл негроидные племена, представляющие собой остатки древнего, домалайского населения полуострова. Кроме того, он сильно сдружился с малайцами. Всюду он встречал хороший прием. Узнав, что малайцы ненавидят англичан, посягающих на независимость Малакки, Миклухо-Маклай отказался от писем и рекомендаций сингапурского губернатора Кларка. Небывалый гость, русский человек в самых глухих местах полуострова, он вызывал всеобщий интерес. Его спрашивали: «Что же дато Маклай хочет во всех этих странах и чего он ищет?» Ученый отвечал: «Дато Маклай путешествует по всем странам малайским и другим, чтобы узнать, как в этих странах люди живут, как живут князья и люди бедные, люди в селениях и люди в лесах; он хочет познакомиться не только с людьми, но и с животными, деревьями и растениями в лесах…»
На сто семьдесят шестой день странствий, исходив полуостров вдоль и поперек, он вернулся в Сингапур.
Год жизни отдал Миклухо-Маклай Малакке. Он своими глазами увидел то, чего не видел никто из европейских ученых. Он исправно вел дневник, делал зарисовки, открыл неведомые горы и реки. Теперь он знал о Малайском полуострове больше всех исследователей, взятых вместе. Его труды могли бы обогатить науку, произвести переворот в воззрениях, открыть новый период в истории изучения племен Малакки. Пути сообщения, степень населенности, характер малайского населения, его жизнь и культура, взаимоотношения между раджами, политическое положение княжеств — все это представляло громаднейший интерес для европейцев.
Но Миклухо-Маклай был нем. Как величайшую драгоценность, скрывал он свои дневники от посторонних глаз. Никому ни словом не обмолвился он о своих путешествиях. Даже больше того, он поспешно покинул Сингапур, боясь невзначай проговориться. Он уехал на Яву, в любимый Богор.
Дневник первого путешествия по Малакке увидел свет лишь в 1941 году, а дневник второго, наиболее интересного, наиболее «крупномасштабного» и важного, так и не был опубликован.
По распоряжению Маклая этот ценнейший документ был сожжен Маргаритой Робертсон вместе с другими бумагами.
Миклухо-Маклай не пожелал «открывать новый период в истории изучения Малайского полуострова». Почему?
Еще в Сингапуре Николай Николаевич узнал неприятную новость: пока он, преодолевая невероятные трудности, шел вдоль Малайского полуострова с юга на север, сингапурский губернатор сэр Эндрью Кларк творил черные дела. Кларк начал наступление на независимые султанства полуострова, не останавливаясь перед посылкой карательных экспедиций и канонерок против беззащитных малайцев. Кларк жаждал власти и крови. Еще в прошлом году он посадил на перакскии престол продажного раджу Муда Абдула, своего ставленника. К радже был приставлен британский резидент мистер Бирч. Марионетка повиновалась Кларку и Бирчу. Но малайцы не желали повиноваться. Они схватили мистера Бирча и прикончили его. Сэр Эндрью Кларк рассвирепел. Он поклялся огнем и мечом усмирить «эту малайскую сволочь». И как вообще они посмели отстаивать свою независимость?! Следует «пройтись» по стране, «привести в чувство дикарей»!
«Томми» шли в джунгли и погибали в болотах. Никто не знал дороги в глубь страны.
Возвращению Миклухо-Маклая из второго путешествия Эндрью Кларк несказанно обрадовался: вот кому известны туземные тропы! Сингапурский губернатор не погнушался вместе с молодой очаровательной супругой прибыть в виллу «Вампоа», где остановился ученый. В прошлом году сэр Кларк оказал Николаю Николаевичу немаловажную услугу: это он, Кларк, на своей паровой яхте «Плуто» доставил Маклая в Бангкок, это он, Кларк, заставил сиамского короля без проволочек подписать охранную грамоту на имя русского путешественника. В этой варварской стране белые должны помогать друг другу. Кларк не сомневался, что Миклухо-Маклай отплатит услугой за услугу.
Эндрью начал издалека. Он стал жаловаться на беспорядки в султанствах, на тяжелую миссию быть сингапурским губернатором, мирить своенравных раджей. Даже наиболее «ручному» махарадже Джохорскому нельзя доверять вполне. Затем Кларк поинтересовался дальнейшими планами путешественника.
— Здесь, в комфортабельных и богатых домах, я с завистью вспоминаю покойную и тихую жизнь в моей келье на берегу Маклая в Новой Гвинее, — ответил Николай Николаевич. — Я жил во дворце махараджи Джохорского, но звон и бряцание цепей арестантов, которые достраивают дворец, — унылая музыка для моих ушей. Я перебрался в дом русского вице-консула господина Вампоа. Но и тут нет покоя. Вы спрашиваете о планах? На днях я отправляюсь в Батавию и там займусь обработкой накопленных материалов…
— Не следует спешить. Как я узнал, на днях сиамский король присылает вам обещанного слона. Кроме того, вам представляется возможность совершить еще одну экскурсию в глубь полуострова. Ваши дневники, опубликования которых мы ждем с нетерпением, пополнятся новыми впечатлениями.
Едва приметная презрительная улыбка пробрела по губам Николая Николаевича: он понял, куда клонит сингапурский губернатор. Указать дорогу английским солдатам, предать малайцев! Ему захотелось плюнуть в лицо сэру Кларку. Но Маклай был дипломатом. Он сдержался.
— Я чувствую новый пароксизм лихорадки, — сказал он. — Отложим разговор до более подходящего момента…
Кларк откланялся. И только после этого Николай Николаевич дал волю гневу:
— Негодяи! Мерзавцы! Подонки!.. Им мало Сингапура, Малакки, Дингдингса! Они хотят прибрать к рукам весь полуостров. Но и этого им мало… Они покушаются на берег Маклая, на половину Новой Гвинеи!
В ярости он швырял и швырял сингапурские газеты, в которых широко обсуждался вопрос о занятии Англией восточной половины Новой Гвинеи. И после всего этого негодяй, старый бульдог, вешатель Кларк посмел явиться к нему с гнусным предложением!..
Как защитить берег Маклая от посягательств колонизаторов? К кому обратиться?
Был только один путь: обратиться за помощью к своему отечеству. Петр Петрович Семенов сможет выяснить точку зрения русского правительства на этот вопрос. В случае положительного ответа можно будет действовать официальным образом…
И Миклухо-Маклай пишет Семенову-Тян-Шан-скому:
«Известие о намерении Англии занять половину Новой Гвинеи и вместе с тем, вероятно, берег Маклая не позволяет мне остаться спокойным зрителем этой аннексии.
Я достиг большого влияния на туземцев и надеюсь при моем возвращении (?) иметь еще больше. Вследствие
Будучи неопытен во всех этих делах, то есть официальных вопросах, я решаюсь обратиться к вашему превосходительству и надеюсь, что не получу отказа.
Замечу еще, что мое решение
Так как время очень дорого в этом случае и я не хочу упустить его, то
Ну, а что касается дневников двух путешествий по Малаккскому полуострову, то господа колонизаторы их не получат: «…я почел бы сообщение моих наблюдений, даже под покровом научной пользы, положительно делом нечестным. Малайцы, доверявшие мне, имели бы совершенное право называть такой поступок шпионством».
Вот тогда-то, после разговора с губернатором, не вняв убедительным просьбам очаровательнейшей леди Кларк погостить во дворце, Николай Николаевич поспешно оставил Сингапур. Очутившись на Яве, он стал с нетерпением ждать ответа Петра Петровича Семенова. Но ответ не приходил. Почему же, несмотря на настойчивые просьбы Миклухо-Маклая, добрейший Петр Петрович молчит? Может быть, Петр Петрович не может добиться аудиенции у царя? А может быть, царю нет дела до берега Маклая?! А вообще-то Петр Петрович явно не одобряет нового направления в деятельности Маклая. В одном из писем он упрекнул путешественника (правда, мягко) в том, что последний «перешел с почвы научной на почву чисто практическую». Только в том случае, если Миклухо-Маклай вернется к прежней научной программе и «поставит точку» на антропологических исследованиях, Русское Географическое общество согласно оказывать ему денежную поддержку. Пришлось наотрез отказаться от помощи Географического общества, чтобы не связывать себя.
Микронезийская девочка Мира. Рисунок Миклухо-Маклая.
Н.Н. Миклухо-Маклай с Ахматом. 1874-1875 гг.
Туй, папуас из деревни Горенду. Рисунок Миклухо-Маклая.
Хижина Миклухо-Маклая на мысе Бугарлом.
Невеселые мысли навевало и письмо старого доброжелателя Остен-Сакена. Федор Романович сообщал последние новости: состоялось высочайшее повеление о назначении великого князя Николая Константиновича шефом Аму-Дарьинской экспедиции, для коей ассигновано из правительственных сумм 20 тысяч рублей! Молодому великому князю Николаю нужны лавры путешественника. «Экспедиция» придумана специально, цели ее никому не ведомы. Великого князя будет сопровождать пышная свита. И все лишь для того, чтобы совершить увеселительную поездку в Среднюю Азию, водворить там одного несчастного метеоролога. «Вообще Географическое общество действует ненормально, оно находится под влиянием внешних, чуждых науке элементов…» Федор Романович рассказывал о блистательных успехах замечательного путешественника Пржевальского, вернувшегося из тибетского путешествия. Пржевальский привез огромные ботанические и зоологические коллекции. Он производит в Петербурге фурор и за свой необыкновенный географический подвиг представлен к константиновской медали. «По настойчивости, предприимчивости и неустрашимости я только вас могу поставить еще выше его…» — писал Остен-Сакен. Миклухо-Маклай печально улыбался. Бедный Федор Романович… Они все там так и не поняли ничего. Пржевальский — исследователь совершенно иного плана, и нет нужды сравнивать несравнимое. Они никак не хотят понять, что география меньше всего интересует Маклая. У него свой, единственный в своем роде путь. Пржевальскому нельзя завидовать, так же как нельзя завидовать, скажем, Менделееву или Лобачевскому… Кто из них сделал больше, кто выше, трудно и невозможно сказать. 20 тысяч для увеселительной поездки великого князя! Этих денег Маклаю
Опять жалкие гроши… Все антропологические и этнографические коллекции заложены и перезаложены, перешли в руки батавских и сингапурских кредиторов. Сумма общей задолженности выросла во внушительную цифру — 10 тысяч флоринов. (Одна лишь экспедиция на Папуа-Ковиай обошлась в тысячу флоринов. 150 фунтов стерлингов съели две экскурсии по Малакке.) Растут проценты, петля затягивается все туже и туже. И если даже Маклай умрет, его головой волен распоряжаться лишь представитель фирмы «Думмлер и K°». Еще не так давно Николай Николаевич с горечью восклицал: «Мне иногда приходит на ум тяжелая мысль, что я живу на счет сестры и матери!» Но сейчас даже на помощь матери нельзя рассчитывать: совершив неудачную покупку имения Екатерина Семеновна влезла в неоплатные долги. За два последних года он не получил из России ни гроша. Жил близ Бейтензорга в развалинах какого-то дома.
На Яве Миклухо-Маклай не находил себе покоя. Из Богора он переехал в кампонг Эмпанг, из Эмпанга в Батавию, из Батавии в Шерибон. В полтора месяца, диктуя свои записки по шести часов кряду каждый день, он подготовил к печати семь работ.
Но это была лишь короткая передышка в страннической жизни. И эта передышка тяготила Маклая.
Он вынашивал в голове новый грандиозный план: любой ценой вернуться на берег Маклая! Опередить англичан, встать между ними и мирными папуасами… Он изучал право и сумеет защитить своих друзей от гибели.
«Я надеюсь, что общественное мнение
Миклухо-Маклай замыслил объединить всех папуасов восточного побережья, сплотить разрозненное население берега Маклая в одно политическое целое и создать Папуасский союз, который смог бы защищать свою независимость. Он даже подготовил телеграмму в газету «Голос» с заявлением, что «Папуасский союз на берегу Маклая желает остаться независимым и будет до крайней возможности протестовать против европейского вторжения».
Маклай прочно встал на путь политической борьбы, отложив на время свои научные изыскания. Ему нужна была опора, но на всем Ост-Индском архипелаге не значилось ни одного русского консула.
Явившись к Хендрику-Яну Анкерсмиту, Миклухо-Маклай сказал:
— Вы назначаетесь русским консулом в Батавии. О формальной стороне дела я позабочусь.
Анкерсмит с радостью принял назначение и обещал всеми силами и возможностями защищать права русских граждан на архипелаге.
— В первую голову вы будете защищать мои права…
18 февраля 1876 года Миклухо-Маклай, так и не дождавшись ответа от Петра Петровича Семенова, на небольшой торговой английской шхуне «Морская птица» отправился в долгое плавание к берегу Маклая.
По пути следования он посетил острова западной Микронезии и северной Меланезии: Целебес, Гебе, Яп, Пелау, Адмиралтейства, Агомес.
Задержись Маклай в Батавии ещё на некоторое время, он получил бы, наконец, долгожданное письмо. Но оно вряд ли утешило бы его. Семенов-Тян-Шанский сделал все, что мог. Но, конечно, из всей затеи ничего не вышло. Русское правительство отказалось взять под протекторат берег Маклая, мотивируя свои отказ «отдаленностью страны и отсутствием в ней связи с русскими интересами».
Сам Маклай не собирался превращать Новую Гвинею в русскую колонию. «Колонизацию» я не имел в виду, — разъяснял он. — Что мне казалось (и кажется) желательным, — был «протекторат» части Новой Гвинеи, жители которой через мое посредство подчинятся некоторым международным обязательствам и которые, в случае насилий со стороны белых, имели бы законного могущественного покровителя».
Он хотел полной самостоятельности. Но полной самостоятельности не было даже на шхуне «Морская птица». Маклай попал в лапы мерзавца шкипера. По договору вместо платы за проезд Миклухо-Маклай обязался быть посредником между купцами и туземцами (как человек, знающий потребности и обычаи обитателей Каролинского архипелага и островов Адмиралтейства). Шкипер обманывал туземцев, угрожал им оружием и даже пускал в ход кулаки, натравливал на них собак. Миклухо-Маклай пригрозил негодяю и отказался быть посредником.
— Я вас высажу на первом же острове! — разъярился шкипер.
— Это именно то, чего я желаю, — невозмутимо отозвался Маклай. — Он и в самом деле решил высадиться на одном из островов Агомес или Ниниго. И только сильные приступы лихорадки помешали осуществить это намерение.
А где же юный друг Маклая Ахмат? Почему мы не видим его на палубе шхуны «Морская птица»?
Перед самым отплытием из Шерибона Ахмат тяжело заболел (сказались скитания по Малакке). Взять мальчика в почти полугодовое плавание Николай Николаевич не решился.
— Ты плыви, Маклай… Я не умру!.. — сказал Ахмат.
Поручив Ахмата заботам новоиспеченного русского консула господина Анкерсмита и оставив значительную сумму денег, Николай Николаевич простился со своим маленьким другом, чтобы никогда больше с ним не встретиться. След Ахмата затерялся. Возможно, он не перенес болезни, а возможно, выздоровел и отправился в странствия по островам с надеждой напасть на след своих родителей. Документы не дают нам ответа на это.
На шхуне Миклухо-Маклай познакомился с так называемыми тредорами, или торговыми агентами, Пальди и О'Хара. Оба по контракту, заключенному с сингапурской фирмой, должны были остаться на островах Адмиралтейства. Уроженец северной Италии Пальди решил высадиться на южном берегу большого острова в деревне Пуби.
— Что вы думаете о моем новом местожительстве, о решении жить здесь между дикими и вероятном результате моего плана? — спросил итальянец Миклухо-Маклая.
— Зачем мне вас разочаровывать? — отвечал ученый. — Мои слова будут лишними, так как вы решили остаться здесь. Если вам жизнь дорога, если вы когда-нибудь надеетесь жениться на вашей возлюбленной, о которой вы как-то мне говорили, то, по моему мнению, не оставайтесь здесь!
— Это почему?! — вскричал Пальди.
— Потому, что вы проживете здесь месяц, может быть, два, а возможно также, только день или другой по уходе шхуны.
— Что же вы думаете, меня убьют туземцы?
— Да!
— Отчего же меня убьют?… Вас же не убили папуасы на берегу Маклая! Почему же убьют меня? Вы же ужились с туземцами Новой Гвинеи! Разве здесь люди другие? Вам же удалось, отчего же не может удаться другому?
— Причин тому много. Лучше прекратим этот разговор.
— Я настаиваю!
— Хорошо. Главные причины следующие: вы горячекровный житель юга, я северянин. Вы считаете вашим другом и помощником, вашею силою ваш револьвер; моей же силой на берегу Маклая было хорошее и справедливое обращение с туземцами; револьвер же мне никогда не казался там нужным инструментом. Вы хотите, чтобы туземцы вас боялись благодаря револьверу и ружью; я же добивался и добился их доверия и дружбы. Вот главнейшие различия наших воззрений относительно обращения с туземцами.
— Но я-то не горячекровный житель юга, а ирландец, — сказал О'Хара.
Миклухо-Маклай усмехнулся:
— Но вы тоже своими лучшими друзьями считаете револьвер и бренди. И кроме того, вы будете стремиться получить барыш в восемьсот процентов! Когда вы вымениваете мелкий бисер или пустую бутылку от пива на черепаху и перламутр, то туземцы постепенно начинают понимать, что вы их надуваете. А кому это может понравиться?
— Откуда это вы взяли?
— Я хорошо знаю тредоров. А кроме того, я отлично помню сочинения вашего соотечественника Альфреда Уоллеса, который выдает себя чуть ли не за революционера и в то же время негодует, что туземцам островов Ару европейские произведения достаются почти что даром — за какой-то там несчастный жемчуг, трепанг и кокосовое масло. Глядя на вас и на шкипера нашей шхуны, Уоллес мог бы остаться доволен заработком европейских купцов в Океании.
— Я не верю вам! — вскипятился Пальди. — Я высаживаюсь.
Ученый пожал плечами и отвернулся.
Впоследствии он узнал, какая участь постигла самоуверенных тредоров. Туземцы, разъяренные издевательствами Пальди, схватили его и отрубили ему голову, а тело выбросили в море на съедение акулам. О'Хара повезло больше. По уходе шхуны он запил, допился до сумасшествия, открыл стрельбу по туземцам. Его выбросили из хижины, но убивать не стали. Добрый туземец Мана-Салаяу приютил ирландца и спас от гибели.
27 июня 1876 года «Морская птица» бросила якорь в бухте Астролябии. Утомительное плавание закончилось. Капитан шхуны заверил Николая Николаевича, что ровно через полгода он вернется сюда.
— Можете не сомневаться, сэр Маклай, я тоже умею держать свое слово! — это было сказано таким тоном, что в душу ученого закралось подозрение. Но он не мог предполагать, сколь злую шутку сыграет с ним англичанин. Ученый взял с собой запасов ровно на шесть месяцев.
…И Маклай вновь через три с половиной года увидел своих друзей Туя, Бонема, Каина, Саула, Коды-Боро, Бугая, того самого Бугая из Горенду, который первым назвал русского ученого «человеком с Луны». Папуасы встретили тамо-русса с радостью, но без удивления: он должен был вернуться и вернулся. Баллал Маклай худи!.. Слово Маклая одно!.. Когда Маклай съехал на берег и направился в Горенду, со всех деревень сбежались туземцы, не исключая женщин и детей. Туй, Коды-Боро плакали от радости навзрыд, вскоре к ним присоединились и другие.
— О Маклай! О Маклай!.. О отец! О брат!..
Дети доверчиво терлись головами о его одежду. Заметив девочку лет четырех-пяти, он спросил:
— Как тебя зовут?
— Маклай-Мария, — уверенно отвечала девочка.
«Ну, вот я и дома…» — подумал Николай Николаевич. Он пришел в Гарагаси. Знакомые до слез места. Мыс Уединения. Тропинки заросли китайской розой. Сиротливо торчали изъеденные муравьями сваи бывшего таля Маклая. Здесь почему-то появилось много птиц. Из посаженных когда-то Николаем Николаевичем кокосовых пальм принялись только шесть. А вот и медная доска, прибитая к высокому дереву матросами «Изумруда»…
Жители окрестных деревень стали упрашивать путешественника поселиться среди них. Но как и в первый раз, он решил поставить дом в уединенном месте. Небольшой деревянный дом в разобранном виде был привезен из Сингапура. Облюбовав красивый мысок Бугарлом неподалеку от деревни Бонгу, Миклухо-Маклай занялся строительством. Теперь таль Маклая имел 10 метров длины на 5 метров ширины. Помощники размещались в отдельной хижине. При помощи туземцев было расчищено место около дома. Здесь посадили кукурузу, арбузы, тыквы, бананы, папайя, мангис и двадцать две кокосовые пальмы. Кроме того, папуасы построили еще один дом для Маклая — буамбрамру, где он мог бы принимать гостей.
Когда шхуна ушла, Миклухо-Маклай сразу же приступил к делу, ради которого прибыл. Теперь, по его собственным словам, он стремился изучить папуасов не с антропологической стороны (как было в 1871 — 1872 годах), а с общественной. «Общественная сторона будет одной из главных задач исследования».
Стремясь создать сплоченный Папуасский союз, он прежде всего поинтересовался, продолжаются ли стычки между туземцами береговых и горных поселений. Да, продолжаются. Жители Бонгу и Горенду подозревали, что их давние враги горцы из деревни Марагум снова готовятся к войне.
— Мы пойдем в Марагум! — сказал Маклай. — Нужен мир.
Сопровождать Маклая вызвалось более сотни человек. Папуасы разукрасили себя перьями, красной глиной, вооружились копьями, луками со стрелами. Под грохот барумов процессия направилась в горы. Горцы встретили послов дружбы с непритворным восторгом.
— Маклай пришел! Маклай пришел!..
Нет, жители Марагум и не помышляют о войне, они готовы выстроить в своей деревне самый большой дом для Маклая…
Он посетил архипелаг Довольных Людей и остров Били-Били, где в местечке Аиру папуасы специально для него построили хижину. Каин радушно встретил высокого гостя и заколол самого большого борова. Миклухо-Маклай совершил большой поход в горные деревни Енглам-Мана, Сегуана-Мана, Самбуль-Мана, Бан-Мана, Сандинг-би-Мана, Бурам-Мана, Манигба-Мана, Колику-Мана, и повсюду в его честь устраивали празднества ай.
На триста километров, от мыса Краузелль до мыса короля Вильяма, протянулся берег Маклая. Всюду нужно побывать, всюду необходимо сказать, что «войны не должно быть».
Только в округу Еремпи ходить не советовали.
— Жители Еремпи — людоеды! — уверяли Маклая папуасы. — Двадцать деревень, и все людоеды…
Николай Николаевич даже задрожал от радости: наконец-то, наконец он напал на след людоедов!
Конечно же, он сразу устремился в Еремпи. Каин согласился быть проводником. Приход Маклая в Еремпи вызвал переполох среди жителей. Здесь еще никто не видел белого человека. Люди Еремпи ютились в небольших разбросанных в лесу хижинах. Барум созвал всех на главную площадь. Еремпи-тамо ничем не отличались от остальных папуасов. В их украшениях ученый не приметил ни одного человеческого зуба. Туземцы имели очень растерянный вид, так как не знали, как вести себя в присутствии иноземца.
Каин, желая внушить почтение к ученому, закричал во всю глотку:
— Как это? Маклай тамо-боро-боро — самый большой-большой начальник, каарам-тамо-«человек с Луны», тамо-русс приехал сам в вашу деревню, а вы стоите и еще не принесли ни свиньи, ни поросенка, ни даже аяна или орехов кенгара!..
Каин до глубины души был возмущен подобным негостеприимством. Он топнул несколько раз ногой. Перепуганные еремпи-тамо бросились ловить кур и свиней. Вскоре появились табиры с кенгаровыми орехами и аяном. Носильщики привязали к деревьям гамак, поставили складной табурет, кресло, стол. Так как уже стемнело, ученый зажег лампу. Туземцам все это казалось каким-то колдовством.
Раздав подарки, Николай Николаевич принялся за работу. Затем, погасив лампу, он разлегся в гамаке и спокойно заснул. Еремпи-тамо до утра охраняли его сон. В этой деревне Миклухо-Маклай провел два дня. Нет, здесь ему не удалось пополнить свою коллекцию черепов, так же как и не удалось обнаружить следов каннибализма.
Где же они, людоеды, где?… Где те каннибальские пиршества, так красочно описанные в сочинениях европейских и американских путешественников? Может быть, каннибализм — всего лишь выдумка, миф? Можно ли заподозрить в людоедстве Туя, Каина, Бонема, Коды-Боро, папуасов деревень Бонгу, Горен-ду, Гумбу, с которыми Маклай прожил бок о бок вот уже почти два года, был с ними в самых дружеских отношениях, ежедневно наблюдал все подробности их быта? Да и вообще существует ли каннибализм на островах Тихого океана?
Миклухо-Маклай, привыкший видеть во всем естество, и к этому щекотливому вопросу старался подойти как ученый.
Во время одного из посещений деревни Еремпи, когда ему подали угощение из вареного таро, он спросил:
— Имеют ли еремпи-тамо специальные табиры для угощений, на которых бы подавалось исключительно человеческое мясо?
— Нет, таких табиров мы не имеем, — ответил папуас. И не то в шутку, не то всерьез добавил: — Человеческое мясо подается в обыкновенных табирах.
— А кто-нибудь из вас пробовал человеческое мясо? — допытывался ученый.
— Нет, никто не пробовал. Мы едим свинину. Свинина лучше.
Миклухо-Маклай так и «остался в сомнении» по вопросу о существовании каннибализма у папуасов залива Астролябии. «Вещественных доказательств» обнаружить не удалось.
На островах Адмиралтейства он установил, что людоедство существует. Но оно никогда не носило массовый характер и всегда было связано с религиозными обрядами и войнами и являлось привилегией господствующей верхушки. Это был священный ритуал — поедание поверженного врага. И участие в ритуале принимали лишь избранные.
Там, куда еще не проникли европейские колонизаторы, каннибализм носил случайный характер. Разжигая среди туземцев межплеменные войны, снабжая островитян огнестрельным оружием, европейцы тем самым способствовали развитию каннибализма. «Случаи каннибализма на островах Адмиралтейства — сущая безделица в сравнении с теми кровавыми и опустошительными войнами, которые ведете вы, господа… — думал Миклухо-Маклай. — Страшные рассказы о дикарях-людоедах вам нужны лишь для того, чтобы оправдать свою гнусную политику захватов и грабежей и массового уничтожения туземцев… Вы не постеснялись «очистить» Тасманию, истребив при этом семь тысяч человек, «повинных» лишь в том, что они имели кожу темного цвета, и в то же время до хрипоты в горле кричите о каннибалах, которые, как показывают факты, не съели еще ни одного белого…»
Во время пребывания на островах Адмиралтейства Миклухо-Маклай был поражен тем, что местным туземцам неизвестно назначение лука и стрел, они вооружены лишь копьями. «Для них пока и копья достаточно, чтобы кончать свои споры, — сказал он капитану шхуны «Морская птица», — а европейские тредоры не замедлят познакомить их с преимуществами огнестрельного оружия. Ваша шхуна нагружена, как я узнал, ружьями, порохом и даже небольшими пушками, которые вы намереваетесь ввести в употребление между здешними папуасами…»
«А куда же прикажете девать все эти тысячи ружей, вышедших из употребления в Европе? — удивился капитан. — Пусть черные убивают друг друга — нам меньше будет работы…»
Потрясенный цинизмом капитана, Миклухо-Маклай записал в дневнике: «Было бы достойной гуманности мерою международного права запретить на о-вах Тихого океана ввоз и распространение тредорами пороха, огнестрельного оружия и спиртных напитков. Эта негативная мера может иметь более влияния на сохранение туземного населения, чем ввоз миссионеров и молитвенников».
Каин с острова Били-Били стал постоянным спутником Маклая. Николаю Николаевичу исполнилось тридцать лет. Но по обыкновению день рождения не был отмечен: Миклухо-Маклай не любил никакой обрядности, а кроме того, никогда не помнил не только день и месяц своего рождения, но даже год. Он чувствовал прилив сил. Лихорадка на первых порах редко посещала его. Правда, ноги по-прежнему были покрыты незаживающими болячками (но кто же всерьез обращает внимание на подобные пустяки!).
Он торопился до прихода шхуны посетить как можно больше поселений; углублялся в горы, навещал отдаленные островки архипелага Довольных Людей, замышлял далекое плавание на туземных пирогах на север к большому острову Кар-Кар, а также вдоль северо-восточного побережья, до самой крайней деревни берега Маклая — Телят. В каждой деревне он прибивал к самому прочному и высокому дереву медную монограмму со своим именем, производил перепись населения и составлял словари местных диалектов. Все посещенные им деревни должны были войти в Папуасский союз.
Прошло шесть месяцев. Кончились продовольственные запасы. Белые муравьи и плесень привели в негодность одежду и обувь. Все чаще и чаще повар Сале, яванец, сидел без дела. Два других спутника Маклая — микронезийцы с острова Пелау — веселый и ленивый парень Мебли и его родственница, девочка лет двенадцати Мира, или собирали кенга-ровые орехи, или же ловили рыбу и приносили все это Маклаю. Опять начиналась голодная робинзонада. Наступил новый, 1877 год, а шхуны все не было. Прошло еще полгода. «Морская птица» не появлялась. Это было преднамеренное предательство. Маклай отправился защищать папуасов от англичан — так пусть он погибнет от лихорадки и голода. Капитан шхуны «Морская птица» не обязан быть джентльменом по отношению к этому человеку…
А русские газеты в это время писали:
«Что касается Новой Гвинеи, то голландцы давно уже заявляли свои притязания на западную часть острова, а в 1871 году на южном берегу высадились лондонские «миссионеры» и вслед за ними появились там же искатели золота из Австралии. Наконец, в последнее время к берегам Новой Гвинеи отправилась английская разведочная экспедиция, и не может быть сомнения, что независимость острова… подвержена большой опасности.
Если посреди всех разнообразных своекорыстных интересов, которые сталкиваются теперь на Новой Гвинее, нашему соотечественнику Миклухо-Маклаю удастся сплотить в одно целое разбросанное население северо-восточного берега и образовать самостоятельную колонию, это будет, во всяком случае, большая заслуга перед человечеством… Для нас же может быть утешительной мысль, что представителем бескорыстных истинно человеческих стремлений в этих далеких странах является русский гражданин».
За деятельностью Миклухо-Маклая следила общественность всего мира, все ждали, чем закончится его опыт с созданием политического союза среди первобытных племен. Многим затея казалась реальной. Во всяком случае, англичане перестали обсуждать вопрос о захвате северо-восточного побережья. Там находился руководитель и покровитель папуасов, считавшийся в официальных кругах эмиссаром России.
Не дождавшись шхуны, Николай Николаевич отправился на двух пирогах в дальнее плавание вдоль северо-восточного побережья. Как всегда, его сопровождал Каин. По пути следования Миклухо-Маклай составлял карту побережья, отыскивал удобные якорные стоянки, производил рекогносцировку местности, поднимался на горные пики. Одному из хребтов он присвоил имя академика Бэра, второму — своего друга Мещерского. Получили наименования и другие хребты и пики, но Маклай по каким-то соображениям не доверил бумаге названия этих хребтов. Ему нужно было обозначить местность для себя и только для себя.
На этот раз его записи отличаются предельной скупостью. Если записки попадут в чужие руки, то заполучивший их так ничего и не узнает о взаимоотношениях туземцев, о важных событиях на побережье, о деятельности самого Маклая. Это беглые заметки весьма общего характера.
После двух путешествий по Малакке Миклухо-Маклай стал предусмотрительным. Нельзя вооружать колонизаторов знанием той или иной малоисследованной страны. За его записками охотятся, ловят каждое неосторожно брошенное слово. Будь нем, Маклай! К чему слава, успех, если они покупаются ценой предательства друзей? Слово Маклая одно, и он никогда не изменит своему слову. География никогда не была пассивной, созерцательной наукой. Она служила компасом прежде всего торгашам и завоевателям всех мастей. География — это кровь и пот человечества, звон мечей и грохот пушек.
Александру Мещерскому он написал: «Размышления о судьбе туземцев, с которыми я так сблизился, часто являлись сами собой, и прямым следствием их был вопрос, окажу ли я туземцам услугу, облегчив моим знанием страны, обычаев и языка доступ европейцев в эту страну. Чем более я обдумывал подобный шаг, тем более склонялся я к отрицательному ответу. Я ставил вопрос иногда обратный. Рассматривая вторжение белых как неизбежную необходимость в будущем, я снова спрашивал себя: кому помочь, дать преимущество, миссионерам или тредорам? Ответ снова выпадал — ни тем, ни другим, так как первые, к сожалению, нередко занимаются под маской деятельностью последних и подготавливают путь вторым. Я решил поэтому положительно ничем, ни прямо, ни косвенным путем, не способствовать водворению сношений между белыми и папуасами».
И в самом деле, никогда еще не размышлял он так много о судьбах народов, как теперь. Он или сидел на песчаном берегу и задумчиво глядел в морскую даль, или же в окружении папуасов неторопливо брел по горной тропе, не замечая ничего вокруг.
Мысли приходили разные. Некоторые нашли отражение в его письмах. Зоркий глаз Маклая видел сквозь пелену времени то, чего не замечал пока никто. Анатомируя расистские теорийки буржуазных ученых, своих современников, он беспощадно вскрывал подоплеку всех этих «теорий», доводил их до логического конца.
Еще целая историческая эпоха отделяет Миклухо-Маклая от той мрачной поры, когда начнется разгул фашизма в Европе, но Маклай предвидит и предупреждает…
Он пишет:
«Возражения подобные: темные расы, как более низшие и слабые, должны исчезнуть, дать место белой разновидности, высшей и более, сильной, мне кажется, требуют еще многих и многих доказательств. Допустив это положение и проповедуя истребление темных рас оружием и болезнями, логично идти далее и предложить отобрать между особями для истребления у белой расы всех неподходящих к принятому идеалу представителей единственно избранной белой расы. Логично не отступать перед дальнейшим выводом и признать ненужными и даже вредными всякие-больницы, приюты, богадельни, ратовать за закон, что всякий новорожденный, не дотянувшись до принятой длины и веса, должен быть отстранен…»
И разве не так поступали германские нацисты с теми, кто не подходил к их идеалу «избранной белой расы»? Это они ввели в практику массовое уничтожение, придумали новую расовую диагностику, превращающую всякого фашистского громилу в «нордического человека», это они зажгли печи Майданека и Освенцима и залили Европу кровью десятков миллионов людей…
Маклай далеко видел.
Так почему же этот прозорливый человек не мог сразу понять, что его попытка создать Папуасский союз, сплотить в единое политическое целое людей каменного века, обречена с самого начала на неудачу? Чтобы уяснить эту истину, ему потребовалось семнадцать месяцев. И все-таки в конце концов он понял… Прежде всего: туземцы залива Астролябии, упрямо считавшие себя единственными обитателями на земле, долго не могли взять в толк, откуда им угрожает опасность. Только единственный раз за всю историю своего существования они были встревожены не на шутку — это когда у побережья появился русский корвет. «Витязь» был первым кораблем, который они видели. Когда жители побережья заметили дым в море, у них явилась мысль, что пришел конец света. Мужчины поспешили перебить массу свиней и собак с целью умилостивить жертвой великий дух, а также и с намерением поесть получше перед гибелью. Много народу убежало в горы, другие стали поспешно копать себе могилы, а некоторые даже ложились в них. Но когда папуасы узнали, что прибыли белокожие люди, то обрадовались, так как полагали, что это вернулся к ним их великий белый предок Ротей. Когда же раздались пушечные выстрелы, туземцы пришли в ужас и решили, что их посетил не Ротей, а Бука («сам злой»). Однако русские не причинили им никакого вреда, и папуасы успокоились.
Теперь Маклай толковал с предполагаемом нашествии белых людей. Такие же белые люди, как и Маклай, с такими же волосами и в такой же одежде прибудут сюда на таких же кораблях, на каких приезжал он, но, очень вероятно, это будут совсем другие люди, очень злые, во много раз страшнее, чем Бука.
Добродушные дети природы, папуасы не могли понять, почему белые люди не похожи друг на друга. Туземцы боялись «онимов» — колдовства, боялись «тангрин» — землетрясений, но они перестали бояться белых людей, которые до сего времени обходились с ними ласково, дарили железные топоры, пилы и ножи. Кроме того, в случае нужды тамо-боро-боро Маклай всегда сумеет защитить их…
А сам тамо-боро-боро на каждом шагу с горечью убеждался, что разрозненные, изолированные друг от друга и ведущие беспрерывные войны первобытные общины объединить не представляется возможным. Им двигало лишь страстное желание спасти папуасов от уничтожения. Но реальная основа для создания Папуасского союза отсутствовала. Слишком уж на низкой ступени развития находились жители берега Маклая!
Авторитет русского ученого здесь был велик. Лишь силой своего авторитета ему удалось предотвратить готовившееся большое военное столкновение между жителями побережья и горцами. Весть о том, что Маклай говорит: «Войны не должно быть», — мигом облетела все деревни. Заядлые драчуны смирились. Но надолго ли? Маклай запретил войну, наложил на нее табу. Никто не посмел нарушить запрет. А что будет, когда тамо-боро-боро уедет?
Память о Маклае на побережье была священна. В одной деревне ему показали обломок суковатой палки.
— Это палка Маклая, которую Маклай сломал давно-давно, по дороге из Гарагаси в Мале, — пояснил один из папуасов.
В другом месте Николай Николаевич увидел бережно хранимые туземцами изорванные перчатки, которые он когда-то выбросил. Пустые консервные банки вывешивались в папуасских хижинах — это был знак того, что Маклай посетил такой-то дом.
О Маклае знали даже в самой отдаленной деревне Телят. Здесь Николай Николаевич встретил древнего совершенно седого старца.
— Видел ли ты когда-нибудь белых людей? — спросил ученый.
— Нет. Никогда не видел. Но я знаю Маклая… — последовал ответ. — Он большой-большой, выше всех. Он убивает врага одним взглядом. Он прилетел с Луны. Пришел Маклай и дал нам железные топоры и ножи. Маклай говорил: «О люди Били-Били, Бонгу, Горенду, идите с моими ножами, с моими топорами, которые я вам дал, на плантации и обрабатывайте поля, работайте и ешьте; ваши каменные топоры не острые, они тупы. Бросьте их в лес, они плохие, не годятся, они тупы». Так говорил Маклай… Я стар, и глаза мои плохо видят, но уши мои открыты для слов Маклая.
— Я — Маклай и пришел к тебе!
Старик не поверил. И, только ощупав одежду ученого, догадался, что сам каарам-тамо пожаловал в гости. Щедро одарив старика, Николай Николаевич направился к пироге. Очень долго уговаривал он Каина отправиться дальше вдоль побережья. Ни два топора, ни целый набор ножей, ни красный коленкор (невиданное богатство!) не произвели на папуаса никакого впечатления.
— Дальше нельзя! — отвечал он твердо. — Убьют. Маклай один, а людей там много…
Каин охранял тамо-боро-боро, так как не верил в легенды о бессмертии последнего. Маклай был таким же смертным, как Туй, Каин, Саул. Он так же переносил болезни, так же голодал и так же испытывал жажду, как все люди. Но Маклай был защитником темнокожих, и его следовало беречь. Эту обязанность Каин добровольно взял на себя. Природный ум Каина выделял его среди соплеменников. Он лучше других понял, какая опасность угрожает побережью.
— Мы предлагали тебе жен и хижину в каждой деревне, мы готовы отдать тебе пироги и лучшие кокосы, — говорил Каин Маклаю. — Мы просили тебя остаться навсегда с нами. Но Маклай все равно уедет. У него много дел в России. Каин понимает это. Но у Маклая есть братья. Пусть они приезжают сюда, и они станут нашими братьями. Мы слабы, и нам нужны защитники…
«А почему бы и нет? — впервые подумал Миклухо-Маклай. — Почему бы не поселиться здесь Мещерскому, Мишуку, Оле и другим, кто пожелает? Вместе мы организуем небольшую коммуну и сумеем от «стоять папуасов… Мы заявим о своих правах на беper Маклая. Мы создадим здесь очаг тропического земледелия, проложим дороги…»
Эта мысль прочно засела ему в голову, и он еще вернется к этому плану.
Почти полтора года минуло с того дня, когда шхуна «Морская птица» оставила эти берега. Таль Маклая стал разваливаться: белые муравьи разрушили сваи. Туземцы построили новый дом.
И повар Сале, и Мебли, и Мира медленно умирали. Климат Новой Гвинеи оказался для них губительным. К Маклаю опять вернулись старые знакомые: болезнь печени, лихорадка, невралгия, нарывы, опухоль желез, рожа лица и головы, общая анемия. Все тело покрылось гноящимися ранами. Во время восхождения на горный пик он сорвался в пропасть и от ушибов потерял сознание. С тех пор сильные головные боли не оставляли его ни на один день.
Он понимал, что жить осталось недолго. Все физические и нравственные ресурсы были исчерпаны.
Даже самые убежденные из туземцев стали сомневаться в бессмертии Маклая.
— Когда Маклай умрет, начнется большая война, и люди гор перебьют нас всех. Как быть? — спрашивал Саул жителей Бонгу, Богати, Били-Били.
— Маклай никогда не умрет. Он бессмертен, — возражали ему.
В эту минуту в барлу вошел Маклай. Все замолкли.
Ученый догадался, что разговор шел о нем, и обратился к Саулу, которому всегда доверял больше, чем другим:
— Вы говорили о Маклае. Чего хотят тамо?
Саул смутился, но преодолел робость и положил руку на плечо Николая Николаевича:
— Маклай, твое слово одно. Ты всегда говоришь только правду. Скажи, можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, Богати, Били-Били?
Было над чем задуматься. Сказать неправду — нельзя. Признать себя слабым и смертным — значит поколебать собственный авторитет в глазах тех, кто жаждет немедленной войны с горцами. Ведь многие лишь из страха перед могуществом Маклая отказались от вооруженного нападения на горные деревеньки. Маклай поступил так, как мог поступить лишь он один, — он снял со стену огромное копье и протянул Саулу:
— Попробуй посмотри, могу ли я умереть!
И прежде чем Саул успел сообразить, чего от него хотят, несколько туземцев бросились к Маклаю и загородили его.
— Нет, нет! — в ужасе закричал Саул. — Я хотел только узнать…
— Баба! — шутливо бросил Маклай и уселся на циновку. Больше никто и никогда не спрашивал Маклая, может ли он умереть.
Миклухо-Маклай смирился со своей участью и больше не помышлял о том, чтобы покинуть побережье. В цивилизованном мире о нем забыли или умышленно не хотят посылать сюда судно.
Помогли непредвиденные обстоятельства.
В ноябре 1877 года в бухту Астролябии совершенно неожиданно зашла английская шхуна «Флауэр ов Ерроу». Ее капитан был поражен, заметив русский флаг, развевающийся на самом высоком кенгаре, и решил выяснить, в чем дело. Узнав, что здесь живет все тот же Маклай, капитан недовольно поморщился.
— Я очень тороплюсь в Сингапур, — бросил он, — и вовсе не намерен ждать, пока вы погрузите свое имущество. Кроме того, как вы, надеюсь, успели заметить, размеры моего судна…
— Имущество я оставляю здесь!
— В таком случае не теряйте времени на разговоры…
Капитан отвернулся. Он был настроен к ученому явно враждебно. И на то были свои причины. Маклай не знал, что творится в мире, но капитан был обо всем хорошо осведомлен: в связи с успешным продвижением русских войск в Малой Азии и на Балканском полуострове возникла угроза военного столкновения между Россией и Англией. Нечего сказать, хорошенький подарочек преподнесет он сингапурскому губернатору!
— Я за все заплачу, — пообещал Николай Николаевич.
Капитан смирился. Деньги всюду есть деньги…
Прежде чем покинуть побережье, Миклухо-Маклай приказал, чтобы к нему из каждой деревни явилось по два человека: самый старый и самый молодой. Собралась большая толпа.
— Я уезжаю и, по-видимому, не скоро вернусь, — сказал Маклай. — Может быть, сюда приедет мой брат. Он произнесет те слова, которые вам уже знакомы, и вы узнаете его. Остальных белых бойтесь. Они могут увезти вас в неволю, сжечь ваши хижины, убить женщин и детей. Как только появится корабль белых, пусть женщины и дети убегут в горы. Пусть тамо никогда не выходят навстречу белым вооруженными, — что вы можете сделать со своими копьями и луками против ружей и револьверов?
Слова Маклая повергли всех в уныние. Сперва всхлипнул Саул, затем побережье огласилось воплями. Плакали люди Бонгу и Горенду, плакали люди Били-Били и посланцы острова Кар-Кар, плакали жители Енглам-Мана и Марагум, спустившиеся с гор.
Чтобы как-то утешить их, Маклай пообещал:
— Я вернусь и привезу вам много-много подарков и свинью с зубами на голове, которая называется бык…
Он старался ободрить друзей, но внутренний голос подсказывал: «Тебе не суждено больше увидеть их. Прощайся с ними навсегда…»
…Какой-то английский писатель XVII века назвал вообще всякое судно «плавучим ящиком с дурным воздухом, дурною водою и дурным обществом». Миклухо-Маклаю неоднократно представлялась возможность убедиться в истинности этих слов. На шхуне к прочим болезням прибавились новые: хронический катар желудка и кишок, цинга и бери-бери. Когда после двухгодичных странствий он в январе 1878 года вернулся в Сингапур, то врачи в один голос заявили: «Пишите новое завещание». Маклай и сам понимал, что час его близок. Анемия и общее истощение сил, постоянное головокружение, потеря сознания… От Маклая остались кожа да кости: он весил всего лишь 97 фунтов! Вот почему он послал предупреждение на родину: «Если мое уже
Больше чем полгода был он прикован к постели. Но этот умирающий человек все еще карабкался, строил новые планы.
В бреду его посещали видения. Вот он стоит на набережной Невы у сфинксов. Заснеженные крыши, иней на проводах и деревьях… Блаженный холод северных широт… На родину, на родину! Любой ценой на родину!
Он торопливо пишет командующему русской тихоокеанской эскадрой, находящемуся сейчас в Иокогаме. Ответ приходит через восемьдесят дней: в этом году судов, возвращающихся в Балтику, нет. Как далеко до Петербурга! Письма туда идут пятьдесят дней. Ответ приходится ждать столько же. Итого сто дней! Это в лучшем случае. От матери и Ольги за два года — ни одного письма… Братья тоже молчат. Молчит Мещерский.
Но Маклай не может пожаловаться на одиночество: кредиторы не дадут ему умереть спокойно; словно воронье, обступили они кровать больного и требуют уплаты 12 тысяч рублей. Анкерсмит озлоблен выше всякой меры: его так и не назначили консулом в Батавии. А врачи твердят одно: «Не только до России, но даже до Японии вы не дотянете. Уезжайте в Сидней: всего десять дней пути!»
Легко сказать: уезжайте в Австралию. Где взять денег на проезд, как отделаться от назойливых кредиторов, на какие средства жить в Сиднее?
Опять спасает чудо. Нет, друзья не забыли, не покинули Маклая: неожиданно приходит вексель от Русского Географического общества на 3 577 долларов. Долги сингапурским ростовщикам уплачены. 452 доллара переведены на Сидней.
Прощайте, мечты о скором возвращении на родину…
На носилках Миклухо-Маклая переправляют из Джохор-Бару в каюту парохода, отплывающего в Сидней.
Парализованной рукой Маклаю все же удается нацарапать ответ Русскому Географическому обществу: нет, он еще не умер! Он скоро вернется в Россию, отдохнет немного, а уж тогда укатит в Африку (!) года на два: этого требуют интересы науки.
Маклай не умер. Еще на пути в Сидней он стал поправляться, а в Сиднее уже мог воскликнуть:
— День слишком короток для работы, а ночь недостаточно длинна для отдыха!
Семь месяцев сиднейской жизни наполнены трудами: тут и попытка организовать зоологическую станцию в Ватсон-бай, переговоры с правительственными лицами, сбор средств среди населения на постройку здания станции; тут и целая программа сравнительно-анатомических, антропологических и этнологических работ в Австралии, занятия расовой анатомией, исследование и тщательное фотографирование мозга туземцев Меланезии, Полинезии, Австралии, стремление проникнуть в «святая святых» человеческого организма — изучить характер борозд и степень развития извилин большого мозга; тут и участие в деятельности Линнеевского общества, в члены которого его единогласно приняли. Маклай был увлечен: «Чувство, которое я испытывал, было весьма похоже на чувство голодного, наконец, находящего случай попробовать ряд любимых блюд…»
И вдруг через семь месяцев мы вновь видим Миклухо-Маклая на борту шхуны: он отправляется в далекое и опасное плавание в Меланезию. Он собирается посетить Новую Каледонию, Новые Гебриды, Бэнксовы острова, острова Адмиралтейства, Агомес, Ниниго, Тробриандовы острова, Соломоновы острова, южный берег Новой Гвинеи, остров Кар-Кар и, может быть, берег Маклая. То, что путешествие будет весьма опасным, знает и капитан трехмачтовой американской шхуны «Сэди Ф. Келлер» Веббер.
— Если вас укокошат дикари, господин Маклай, то, будьте уверены, я сумею наказать их подобающим образом! — говорит капитан. — Я знаю, как обращаться с «черным деревом»…
— Все торгаши и тредоры похожи друг на друга, — замечает Маклай. — Все вы порядочные мерзавцы. Я буду платить вам тридцать шиллингов в неделю плюс посредничество при меновой торговле. А вы подпишите договор, что не позволите себе никаких насилий над туземцами.
— Даже в случае вашей насильственной смерти?
— Даже в случае, если туземцы меня убьют!
— Вы мне нравитесь.
— Как вам будет угодно… «Сэди Ф. Келлер» подняла паруса.
Что же заставило еще не вполне поправившегося после тяжелой болезни Миклухо-Маклая снова покинуть страну «фраков и белых перчаток»?
Еще в январе 1879 года он узнал, что Англия готовится аннексировать юго-восточную часть Новой Гвинеи, а также колонизовать целый ряд островов Меланезии. Как англичане это делают, Маклай уже знал: в северной Австралии, например, белые колонисты собираются партиями и устраивают облавы на туземцев, и «убивают, сколько удастся, черных». Колонизация Австралии, Тасмании и Новой Зеландии показала, до каких зверств могут доходить люди, называющие себя джентльменами. Численность племени нарриньери в Южной Австралии еще совсем недавно, в 1842 году, была 3200, а сейчас туземцев осталось всего лишь 500 человек.
Решив взять под свою защиту население островов Океании, «предупредить ряд несправедливых убийств, избавить на будущее время «цивилизацию» от позора избиения женщин и детей под названием «заслуженного возмездия», Миклухо-Маклай направил комиссару Западной Океании Артуру Гордону протест против намерений Великобритании. Он «возвысил голос во имя прав человека», хотя и понимал, что его письмо «останется без желаемых последствий». Ему нужно было разоблачить колонизаторов перед общественностью всего мира. Он знал белых захватчиков и не самообольщался: «Не скрою также, что когда я писал сэру Артуру, мне не раз приходила на ум мысль, что мои увещевания пощадить
Человек, стремящийся уличить и разоблачить колонизаторов, должен располагать неопровержимыми фактами. За дополнительными фактами и отправлялся Маклай на острова Меланезии и на южный берег Новой Гвинеи.
Была еще одна заманчивая сторона этого путешествия: капитан Веббер вез из Сиднея груз в Нумею. Сердце Миклухо-Маклая давно рвалось на Новую Каледонию, где отбывали ссылку четыре тысячи парижских коммунаров. Коммунары готовились по амнистии к возвращению во Францию. Следовало поторапливаться, чтобы застать их.
Парижская коммуна. Символ свободы! Она блеснула, как яркая звезда. Но погасла ли?… Кто дышал воздухом свободы, тот никогда не станет рабом.
…Новая Каледония, длинный и узкий вулканический остров, окруженный коралловыми рифами, вынырнула из океана. Вершины гор затканы облаками. За полосой рифов открывается широкий вход в бухту Нумея. Чахлые кокосовые пальмы на берегу, мангровые заросли и колонновидные мрачные араукарии, напоминающие базальтовые столбы, серовато-белые ниаули с голыми, лишенными коры стволами, железные деревья, новокаледонские ели… В 1863 году французское правительство превратило Новую Каледонию в огромную каменную тюрьму. Сюда же военный парусник фрегат «Виргиния» доставил героев Парижской коммуны. Приговоренных к каторжным работам сковывали двойной цепью. За малейшее неповиновение их избивали до полусмерти, морили голодом, пытали булавками. Золотая гора, где добывали золото, превратилась в «гору страданий». Особенно жестоким наказанием была темная клетка-карцер. Здесь сходили с ума, кончали жизнь самоубийством. Здесь томились Луиза Мишель, Анри Рошфор, наборщик Алле-ман, Малезье и другие. Географа Элизе Реклю суд тоже приговорил к пожизненной ссылке на Новую Каледонию. Этот приговор вызвал возмущение всего научного мира. В Англии в комитет защиты Реклю входил Чарлз Дарвин. Ссылку пришлось заменить изгнанием ученого из Франции на десять лет: закованного в кандалы Реклю доставили на границу и отпустили в Швейцарию.
Чарлз Дарвин встал на защиту героев Коммуны!..
Миклухо-Маклай не оставил в своем дневнике записей о встрече с коммунарами. Он осмотрел главную тюрьму, побывал на полуострове Дюко и лишь отметил: «На этом полуострове поселены коммунары… Я был рад, когда окончил осмотр этих учреждений для ссыльных…» Нет сомнения, что «учреждения для ссыльных» произвели на него удручающее впечатление.
Когда Миклухо-Маклай сошел на берег в Нумее, там только и было разговоров, что о массовом восстании канаков, охватившем всю Новую Каледонию. Это восстание против французских колонизаторов носило организованный характер и началось одновременно по всему острову 26 июня 1878 года. Национально-освободительное движение возглавил энергичный и решительный вождь Атаи. Восстание было кровопролитным и жестоким. Туземцы разорили до двухсот скотоводческих станций, уничтожили несколько сот белых колонистов, предали огню их дома. Целый год потребовался отлично вооруженным французским войскам, чтобы справиться с повстанцами.
Дрожащий от страха плантатор говорил Миклухо-Маклаю, что он решил навсегда покинуть Новую Каледонию и переселиться в Аргентину.
Миклухо-Маклай встречался с парижскими коммунарами — и это несомненно. Это подтверждается документами. О чем говорил он с ними, о чем расспрашивал? Возможно, беседовал он и с Луизой Мишель — «Красной девой Монмартра». Он бродил по пыльным улицам Нумеи, а в его сердце звучали слова мятежного поэта:
А если бы пришлось умереть на чужбине,
Умру я с надеждой и верою ныне;
Но в миг передсмертный — в спокойной кручине
Не дай мне остынуть без звука святого,
Товарищ! Шепни мне последнее слово:
Свобода! Свобода!..
Достоверно известно, что судьба героев Парижской коммуны глубоко потрясла Николая Николаевича.
Вот почему, вернувшись в 1882 году в Европу и остановившись на день в Париже, он сразу же поспешил к своему старому другу Ивану Сергеевичу Тургеневу, которого попросил раздобыть мемуары ссыльных коммунаров. В этот же день Тургенев написал русскому политическому эмигранту, члену одной из секций Коммуны, Петру Лавровичу Лаврову: «Любезный Петр Лаврович, наш известный путешественник Миклухо-Маклай, который проездом здесь, обратился ко мне с просьбой — доставить ему брошюру или брошюры, «написанные бывшими сосланными в Новую Каледонию коммунарами о жизни их там и перенесенных ими там страданиях». А я обращаюсь к Вам, как к вернейшему источнику, и прошу Вас достать эти брошюры и прислать их мне, если возможно, не позже пятницы, так как М. М. уезжает отсюда в субботу утром и будет у меня в пятницу в 2 часа…
Прошу извинить за доставление Вам этих хлопот и крепко жму Вашу руку.
Таковы факты…
Посетив острова Меланезии и южный берег Новой Гвинеи, Николай Николаевич собрал богатый материал, изобличающий колонизаторов. От намерения посетить остров Кар-Кар и берег Маклая он вынужден был отказаться, так как убедился, что шкипер американской шхуны такой же негодяй, как и прочие шкиперы, занимающиеся торговлей и ловлей трепанга в этих местах.
Маклай не захотел подвергать своих друзей папуасов опасности.
12 мая 1880 года он вернулся в Австралию, в Брисбейн. И сразу же в адрес премьер-министра Англии Вильяма Гладстона, статс-секретаря колоний лорда Дерби и главного комиссара Западной Океании Артура Гордона полетели гневные письма Маклая, требующего «защитить островитян от бесстыдной эксплуатации со стороны белых поклонников доллара». От просьб и увещеваний Маклай перешел к натиску, к разоблачению колониальных властей. «Несомненно, что пока такие институты, как похищение людей, работорговля, убийство, будут терпимы или даже санкционированы правительством (под названием «свободной вербовки рабочих») и будет продолжаться бесстыжий грабеж, производящийся на островах под названием «торговли», результаты (убийства) будут постоянно повторяться…» — написал он коммодору английских морских сил.
Неудовлетворенной страстью Миклухо-Маклая оставалась расовая анатомия. Все долгие годы он мечтал завершить начатый еще в юности капитальный труд по сравнительной анатомии мозга, и главным образом головного мозга человека. Это была дерзновенная мечта создать новую науку: анатомию человеческих рас, как основу антропологии; сравнить тело и мозг разных народов.
Первые попытки в этом направлении, как известно, были им предприняты еще в Батавии, а позже — в Сиднее. Но разные обстоятельства отвлекали исследователя от крайне интересной работы.
Теперь, в Брисбейне, наконец, представилась возможность безраздельно отдаться любимому занятию — изучению мозга представителей австралийской, меланезийской, малайской и монгольской рас. На то было получено специальное разрешение правительства Квинсленда, а для занятий Николаю Николаевичу отвели здание старого музея.
Оставляя мозг лежать в растворе хромистого кали и спирта в черепной коробке, ученый фотографировал каждый экземпляр и получал снимки в натуральную величину. Таких снимков накопилось изрядное количество.
К каким же результатам пришел Миклухо-Маклай, заглянув в самое сокровенное, сравнив самое важное в человеческом организме? Есть ли различия в структуре мозга европейских и иных народов? Нет, таких различий ученый не обнаружил. Он мог твердо сказать: жизненно важные признаки — структура мозга, особенности, связанные с прямохождением, устройством голосовых связок, зрительный и слуховой аппараты — не обнаруживают расовых различий.
Структура мозга всех людей, независимо от расы, одинакова. Это мозг Homo sapiens (человека разумного) — определенная единая категория. Те или иные различия в рисунке мозговых извилин, в весе и величине мозга носят частный характер и не имеют определяющего значения.
Таков был главный вывод. Миклухо-Маклай высоко поднялся и в этом вопросе над современниками, пытавшимися в некоторых случаях трактовать те или иные особенности строения мозга рас как примитивные признаки. Физиологические свойства, лежащие в основе поведения и сознания, едины для всего человечества и не связаны с расовыми признаками. Форма и величина черепа и мозга не дают основания для выделения «высших» и «низших» рас. Внутри больших рас имеются группы, обладающие разными формами черепа. Величина и вес мозга также не являются надежными критериями при оценке интеллекта.
Позднейшие исследования подтвердили эту точку зрения. Излюбленным приемом расистов является ссылка на вес или объем мозга как признак полноценности или неполноценности. Как установлено, объем мозга ископаемого человека мустьерской эпохи — неандертальца, жившего пятьдесят тысяч лет назад, в среднем достигал 1 525 кубических сантиметров, в то время как объем мозга современного европейца — 1 450 кубических сантиметров. Получается, что современный белый человек менее «полноценен», нежели неандерталец, с чем, разумеется, нельзя согласиться. Мозг более позднего жителя, кроманьонца, также превосходил среднюю величину мозга современного человека. Можно ли взвесить мозг первобытного человека, исчезнувшего с лица земли много тысячелетий назад? Да, можно, если учесть, что удельный вес мозга немного выше, чем у воды. Таким образом, по объему мозга в кубических сантиметрах можно судить о его весе. Что касается современных людей, то наибольшим объемом и весом мозга обладают монголы, а не европейцы. Средний вес мозга англичан и японцев примерно одинаков. У современного человека объем головного мозга колеблется индивидуально в пределах 1 000 — 2 000 кубических сантиметров. Объем мозга ниже 1 000 кубических сантиметров у человека встречается редко, но известны случаи, когда у развитых вполне нормально людей независимо от их расовой принадлежности объем мозга составлял только 800 кубических сантиметров. Внутри одной и той же расы наблюдается большая вариация величины и веса мозга. Так, вес мозга И.С. Тургенева — 2 килограмма 12 граммов, а вес мозга Анатоля Франса — всего лишь 1 килограмм 17 граммов. Мозг Горького — 1 420 граммов; Менделеева — 1571 грамм; Бехтерева — 1720 граммов; Кювье — 1 829 граммов; Павлова — 1 653 грамма; Карпинского — 1 220 граммов.
Антропологи, последовавшие за Миклухо-Маклаем и Сеченовым, пришли к неопровержимым выводам:
1. Вес лобной части мозга, которую считают центром умственных способностей, составляет 44 процента общего веса мозга у индивидуумов обоих полов как среди белых, так и среди черных.
2. Вес мозга никак не связан с расовыми различиями. Напротив, его индивидуальные колебания имеют место внутри каждой группы или человеческой расы.
3. Мозг исключительно одаренных людей не превосходит ни по своему весу, ни по объему мозга других людей. Одаренность человека не определяется только весом мозга или развитием его борозд и извилин, а зависит от сочетания особенностей строения и деятельности мозга и других органов тела. Попытки отыскать причину одаренности в особенностях какого-нибудь одного участка мозга не привели к положительным результатам. Проявление одаренности в большой мере зависит от условий общественной среды.
4. Сравнительное исследование борозд и извилин мозга (то, чем занимался Н.Н. Миклухо-Маклай) не обнаруживает каких-либо постоянных различий между расами:
5. Утверждения, будто у цветных народов мозг имеет меньший объем и более простое строение, чем у белых, есть не что иное, как биологический расизм, расистский миф.
Еще И.М. Сеченов установил, что психика людей подчиняется определенным закономерностям и что основные черты мыслительной деятельности человека и его способность чувствовать не зависят ни от расы, ни от географического положения, ни от культурности человека. Все люди обладают одинаковыми основными психическими свойствами.
Мы все принадлежим к единому человеческому роду, и свойства, отличающие наши подгруппы или расы, имеют второстепенное значение рядом с бесчисленными свойствами, которые общи нам всем.
Ибо, как сказал еще Конфуций: «Природа людей одинакова; разделяют же их обычаи».
Миклухо-Маклай мог заключить, что анатомические или структурные различия между расовыми группами не сопровождаются обязательно соответствующими психологическими различиями. Он приходил к мысли, что основные человеческие расы сформировались в результате приспособления к различным условиям географической среды и что свойства человеческих рас не имеют в настоящее время приспособительного значения и не подвергаются действию отбора. Интуиция подсказывала ему, что расы не являются ступенями эволюции, они не аналогичны подвидам животных. Как он убедился во время поездок по островам Океания, у человеческих рас отсутствуют свойственные подвидам биологические препятствия для смешения. Все расы постоянно смешиваются. По-видимому, «чистых» рас просто не существует в природе. Миклухо-Маклай стал подозревать, что и открытые им папуасы залива Астролябии вряд ли являются «чистой» расой, «эталоном» и что их «изолированность» от внешнего мира весьма условна: иначе откуда, могли появиться на побережье такие семитически звучащие имена, как Каин, Авель, Гассан, Саломея, Саул? Это последнее обстоятельство ученый отметил в своем дневнике. Откуда у папуасов берега Маклая миф о их белом предке Ротее?
Так в трудах проводил дни Маклай. Из этого, однако, еще не следует, что он все время был прикован к прозекторскому столу. Его неусидчивый характер сказался и тут: удовлетворив свою любознательность, он, подобно сказочному колобку, покатился по Австралии. Из Брисбейна он совершил поездку на шестьсот миль в глубь страны единственно за тем, чтобы убедиться в существовании семьи «безволосых австралийцев». Здесь же он занялся палеонтологией и нашел кости гигантского сумчатого величиной с носорога, с громадными бивнеобразными резцами, кости гигантского вомбата и кенгуру. Но палеонтология была лишь мимолетным увлечением. Главное внимание он уделял изучению вымирающих австралийцев. Миклухо-Маклай, опираясь на многочисленные факты, впервые высказал мысль, что меланезийская и негритосская расы сближаются в первую очередь не с похожими на них африканскими типами, а с австралийцами и веддоидами.
Н.Н. Миклухо-Маклай в рабочем костюме.
Н.Н. Миклухо-Маклай зимой 1886/87 года в Петербурге.
Постоянные спутники — болезни и здесь не оставляли его. Он едва не умер от тропической лихорадки. Конечно же, снова пришлось составлять завещание. Лихорадка свалила Маклая на острове Четверга близ Австралии. Но и здесь нашлись заботливые женские руки: жена местного администратора Честера выходила путешественника Мистрис Честер по уши влюбилась в русского странника, но, увы, Маклай остался неприступен.
Квинслендцы так полюбили Маклая, что он, приехав в Брисбейн всего лишь на семь дней, задержался здесь… на семь месяцев и только в январе 1881 года, после почти двухгодичного отсутствия, вернулся в Сидней.
Была в натуре Миклухо-Маклая одна черта: очутившись в любой чужой стране, и даже без средств к существованию, он никогда не чувствовал себя беспомощным. Первым, кто еще в 1878 году испытал на себе бешеный натиск бурной энергии русского ученого, оказался обладатель зоологического музея, энтомолог, член верхней палаты парламента Нового Южного Уэльса Вильям Маклей. Сошлись Маклай и Маклей. Один — комок нервов, предельная целеустремленность, непоседливость, беспрестанное кипение. Другой — флегматик, занимающийся зоологией ради любительства. Тогда же Маклай переселился в комфортабельный дом Маклея, а зоологический музей последнего превратил в препарировочную, где занялся сравнительно-анатомическими исследованиями мозга акул. Для путешествий по стране Николай Николаевич вытребовал у правительства даровой билет, завладел фотографическим ателье Австралийского музея. Он поднял вопрос об организации зоологической станции и заставил членов правительства выделить для этой цели средства и участок земли.
Сейчас, вернувшись в Сидней, он расположился в отдельном коттедже, который согласился ему предоставить первый министр Нового Южного Уэльса сэр Генри Парке. Так как дело с организацией зоологической станции в Ватсон-бай за время отсутствия Маклая заглохло, то последний с новой энергией обрушился и на Маклея, и на Рамсея, и на Кокса, и на Нортона, и на других членов Линнеевского общества, ища их поддержки.
Попыхивая трубкой, Маклей сказал:
— Вам следует заручиться поддержкой сэра Робертсона, бывшего нашего премьер-министра. Он влиятельный человек, содействует наукам, имеет большой вес, а я вхож в его дом.
Маклей любил лаконичность. Миклухо-Маклай в тот период стал видной фигурой в научном мире, и сэр Робертсон с большой охотой его принял. Не знал, да и не мог знать бывший неоднократно премьером и первым министром колоний Нового Южного Уэльса сэр Джон Робертсон, что он впускает в свой дом не случайного просителя, а своего будущего зятя. Если бы это было ведомо сэру Джону, он, пожалуй, нашел бы уважительную причину отказать русскому скитальцу.
Но сэр Джон принял Миклухо-Маклая с распростертыми объятьями. То был семейный вечер. Здесь Маклай встретил и известного английского путешественника Ромильи и немецкого орнитолога и этнографа Отто Финша, чью книгу о Новой Гвинее Николай Николаевич проштудировал еще в 1870 году перед отъездом из России. Николай Николаевич искренне обрадовался встрече с коллегами. Да и Ромильи и Финш были обрадованы в высшей степени. Словно папуасы с берега Маклая, они то и дело с восторгом повторяли:
— О Маклай! О Маклай!..
Сам собой завязался разговор о странствиях Маклая. Отто Финш боялся проронить хоть слово. Ромильи также был весь слух и внимание.
— Поразительно! Невероятно! — то и дело восклицали они.
— Значит, вы не оставили мысли организовать Папуасский союз? — спросил Ромильи.
— Конечно, не оставил. Я хочу превратить берег Маклая в важнейший центр тропического земледелия и других подходящих занятий. Я намереваюсь также предложить иностранным правительствам назначить консульства на берег Маклая.
— С удовольствием буду представлять Германию! — отозвался Отто Финш. — Заодно я мог бы послужить науке. Папуасы вашего берега интересуют меня в высшей степени. Особенно гончарство папуасов… Просто удивляюсь, как вы до сих пор не разбогатели на этнографических коллекциях!
— Я не коммивояжер! Моя главная задача — поднять уровень культуры папуасов, помочь им достичь более высокой ступени чисто туземного самоуправления. Для этого придется создать из наиболее влиятельных людей главных деревень папуасский комитет.
— А какую роль вы отводите себе? — спросил Ромильи.
— Советника, разумеется, — ответил Маклай. — Хотелось бы также представлять Папуасский союз в сношениях с чужеземцами. Особенно сейчас, когда многие державы покушаются на берег Маклая. Я дал слово жителям берега оказывать им всяческую помощь, которая в моих силах и способностях, против несправедливости и жестокости со стороны белых захватчиков. Некоторые негодяи под видом «свободного найма рабочей силы» занимаются людокрадством на островах Океании.
— Теперь это называется «охотой на черных птиц», — вставил Ромилыи. — Подобные действия шкиперов и тредоров возмущают и меня до предела. Я хотел бы, подобно вам, стать защитником папуасов. Можете не сомневаться в моей помощи, благородный человек… У меня даже возникло желание немедленно отправиться туда, чтобы оградить ваших черных друзей от опасности. По моему мнению, американцы что-то замышляют… Да и мои соотечественники не сидят сложа руки. Вы слышали новость? На берегу Маклая побывала партия английских золотоискателей, предводительствуемая неким Артуром Пеком. Они вообразили, что вы зарыли золото на мысе Бугарлом. Вооруженная партия отправилась на берег. Когда мистер Пек взялся за замок вашего дома, то полдюжины черных рук схватили его. Папуасы объяснили знаками Пеку, что дом принадлежит Маклаю и что они не допустят сюда посторонних. Пек вынужден был убраться ни с чем. Я могу познакомить вас с одним из участников этой экспедиции…
— Да, я читал что-то об этом в одном из номеров «Сидней морнинг геральд». Это, вероятно, не последняя экспедиция. Как я могу, находясь здесь, воспрепятствовать подобным экспедициям, всяким любителям легкой наживы?
— Можете положиться на меня, — заверил Ромильи. — Пока вы устраиваете здесь свои дела, я постараюсь навестить папуасов и разузнать, не грозит ли им опасность. Tengo una palabra! Так, кажется, вы говорите?
— Моя поддержка, господин Маклай, также на вашей стороне! — пылко воскликнул Отто Финш. — Все вместе мы сможем отстоять северо-восточное побережье Новой Гвинеи от любых поползновений…
Честный Маклай верил каждому слову Ромильи и Финша и был благодарен им за поддержку.
— Вам нечего опасаться папуасов, — говорил он. — Всякий назвавшийся «братом Маклая» будет принят ими с подобающими почестями… Кроме того, еще я могу сообщить вам кое-какие условные знаки, так в сказать, пароль.
Не мог знать Николай Николаевич, что не любовь к науке заставила Финша и Ромилыи покинуть уютные квартиры в Европе и устремиться в Австралию, откуда они то и дело совершали утомительные поездки по островам Океании.
Тайный агент германского правительства и агент одной из торговых компаний Отто Финш, а также тайный британский комиссионер в западной части Тихого океана Ромильи были заняты сейчас делами, весьма далекими от интересов науки. Оба вели большую игру, очень часто мешали друг другу, но, оказавшись в обществе, всегда прикидывались «сердечными товарищами».
У Миклухо-Маклая был еще один внимательный слушатель: дочь сэра Робертсона — Маргарет-Эмма, она же миссис Роберт Кларк, овдовевшая пять лет назад. В этой молодой женщине привлекало внимание лицо: одухотворенное и вместе с тем простое, спокойное, если можно так выразиться, как-то по-домашнему уютное. Николай Николаевич встретился с ней еще утром, когда на пароходе приехал в Кловли-хаус. Маргарет прогуливалась с престарелым отцом по саду. Миклухо-Маклай представился. Маргарет наградила его взглядом своих лучистых серых глаз и протянула руку. И тут с тамо-руссом произошло то, чего с ним никогда не случалось: он почувствовал в груди неизъяснимую сладкую тревогу. И странное дело: когда он поднес руку Маргарет к своим губам, то неожиданно ощутил, что пальцы ее мелко дрожат.
Ни днем, ни за весь вечер они не обменялись ни единым словом. Как-то Маклай записал в дневнике: «Усы и борода действительно хорошая маска». Но на этот раз ни усы, ни борода его не спасли: он влюбился с первого взгляда, и Маргарет это угадала. Да и сама она почему-то сразу решила: «Это он!» А через несколько часов тамо-русс уже безраздельно завладел всеми ее помыслами. Этот необыкновенный человек поразил ее; поразили его личность, широта его планов, его мужество, благородство. Напрасно Маргарет старалась как-то отгородиться мысленно от странного пришельца, быть чопорной, независимой. Ночью она дурно спала. А его переполняла безудержная радость, несвойственное ему буйство.
С тех пор Маклай зачастил в имение сэра Джона. Маргарет, или Маргарита, или же попросту Рита (как ее стал впоследствии называть Николай Николаевич), была пятой дочерью Робертсона. Богатая, красивая и к тому же бездетная вдова считалась в сиднейских высших кругах завидной партией, и многие из влиятельных колониальных чиновников просили ее руки. Но Рита твердо решила никогда больше не выходить замуж. Пустота жизни тяготила ее. И вдруг в скучный, отгороженный от мира Кловли-хаус является человек необыкновенный, романтический, незаурядный, а может быть, даже великий…
— Папа, вы должны помочь ему… — сказала она сэру Джону. И сэр Джон принялся за работу. Ему даже в голову не приходило, что он старается для будущего зятя! И сэр Джон добился своего: место для зоологической или биологической станции было отведено в бухте Ватсон, в порте Джексон, на мысе Ленг-Пойнт, в нескольких минутах ходьбы от имения Робертсонов. Лучшего уединения Маклай и не мог пожелать: пустынный берег, сообщение с Сиднеем поддерживается только пароходом, приходящим утром и уходящим вечером.
Пока возводилось здание, Николай Николаевич по-прежнему жил в коттедже на территории бывшей выставки. Сюда же он перевез коллекции. А их набралось несколько тонн. Но почему-то каждый день он приезжал в бухту Ватсон.
Общество Маргариты сделалось необходимым.
О Маклай! О Маклай! Давно ли ты писал, что «Местом покоя» могут пользоваться лишь особи мужского пола, а присутствие женщин и детей не может быть допущено в нем?…»
Ромильи «сдержал свое слово»: он побывал на берегу Маклая, показал папуасам медную дощечку с монограммой русского ученого, выдал себя за брата последнего. Доверчивые туземцы встретили его добродушно, устроили ай. Ромильи не скупился на ром и виски. А когда папуасы перепились, он захватил первую партию рабов и выгодно сбыл их одному малайскому царьку. Все было проделано в глубочайшей тайне. Вернувшись в Сидней, Ромильи лицемерно доложил Николаю Николаевичу, что экспедиция удалась на славу, папуасы встретили его с восторгом, Туй и Саул велели кланяться. Нет, пока никому из тамо опасность не угрожает. Опасность нависла над туземцами южного берега Новой Гвинеи: жители деревни Кало убили трех-четырех местных миссионеров; коммодор Вильсон решил наказать дикарей и отправляется в Кало на военном корабле.
Николай Николаевич заволновался:
— Я должен предотвратить карательную экспедицию! Я обязан отправиться вместе с Вильсоном!..
— Положитесь, как всегда, на меня, — успокоил Ромильи. — Вы получите специальное приглашение от коммодора Вильсона. Постарайтесь убедить его, что из-за трех-четырех миссионеров неразумно истреблять две тысячи черных.
И в самом деле, Николай Николаевич получил приглашение. Ему с великим трудом удалось убедить коммодора не сжигать туземные деревни и не расстреливать невинных.
Три месяца отняла у Миклухо-Маклая эта поездка на юго-восточный берег Новой Гвинеи.
…Любовь завладела сердцем Маклая, и он, не ожидая, пока будет закончена постройка здания биологической станции, перебрался в Ватсон-бай, оставив свои коллекции и препараты в Сиднее. Если раньше он любил повторять, что «чем больше мозг наш имеет достойной его работы, тем менее мы занимаемся своей особой», то теперь Маклай стал преувеличенно заботиться о своей внешности. На берегу моря он часто встречался с Маргаритой Робертсон. Старая история: они говорили о чем угодно, но только не о любви.
«Я должен решиться…» — убеждал себя Маклай. И не робость была тому причиной, что Николай Николаевич не попросил на этот раз руки Маргариты. Его угнетала мысль: а как же со страннической жизнью? Неужели навсегда осесть на одном месте, стать семьянином, не распоряжаться собой по собственному усмотрению? Он страшился потерять свободу. Нет, никогда!.. Он пять, раз побывал на берегах Новой Гвинеи, теперь следует предпринять путешествие в глубь этого таинственного острова…
И вдруг по Австралии совершенно неожиданно распространилась весть: в Мельбурн прибыла русская эскадра в составе кораблей «Африка», «Пластун» и «Вестник»!
Миклухо-Маклай поспешил в Мельбурн.
Командир отряда контр-адмирал Асланбегов принял Николая Николаевича весьма холодно. «Я не уполномочен! — бросил он. — Обращайтесь к управляющему флотом и морским министерством генерал-адмиралу великому князю Алексею Александровичу». Это был удар. Пришлось вернуться в Ватсон-бай. Жгучая жажда побывать на родине завладела Миклухо-Маклаем. Он написал сыну Александра II. Но тот не удостоил его ответом. Эскадра вот-вот должна сняться с якоря. В отчаянье Николай Николаевич снова пишет великому князю. Наконец приходит разрешение: принять на борт Миклухо-Маклая, но не до Японии, а всего лишь… до Сингапура, и притом без морского довольствия…
Через два месяца он был в Сингапуре, от которого до родины так же далеко, как и от Сиднея…
В Сингапуре Николай Николаевич узнал, что его брат Владимир, ставший уже заправским моряком, находится в Гонконге. Сердце Маклая рванулось в Гонконг, но в это время он получил приглашение на русский крейсер «Азия», идущий в Александрию. Так и не повидав брата, он отправился в Египет, чтобы оттуда на каком-нибудь попутном судне добраться до милой России.
Но чем сильнее он рвался на родину, тем больше препятствий вставало на его пути. Еще в Индийском океане он написал сестре Ольге: «Буду в Петербурге в начале августа. Несмотря на твое долгое и упорное молчание (которое никогда не понимал и не понимаю), решаюсь просить тебя написать мне несколько строк о себе и матери!.. Пиши в Порт-Саид!»
Не спеши, Маклай, упрекать свою любимую сестру Олю. Твои упреки все равно не дойдут до нее.
Еще год назад она умерла от тифа. Непосильный труд, который она взвалила на себя в сестринском стремлении помочь
Только в Александрии Николай Николаевич узнал о смерти сестры. Прочитав письмо Мещерского, он глухо зарыдал. Не суждено тебе, Оля, увидеть блеск тропических лагун и пальм, качающихся от ветра…
Лишь бы добраться до Петербурга!
Но все, что другим давалось шутя, Миклухо-Маклай каждый раз брал с боем. Инертное пространство, инертное время всегда вставали перед ним неодолимой стеной.
Так и теперь. В Египте разразилась война, и русский крейсер надолго застрял в Александрии. Народный вождь Араби-паша возглавил национально-освободительное движение египтян против англичан. Англо-французская эскадра появилась в египетских водах. Началась методичная бомбардировка Александрии. Город был сожжен и разрушен.
Июнь, июль, август… Наконец крейсеру «Азия» разрешили следовать в Европу. Отсюда же, из Александрии, Николай Николаевич 14 июля послал письмо Маргарите Робертсон, в котором предложил ей стать его женой. Добравшись до Генуи и посетив в Неаполе своего старого приятеля Дорна на зоологической станции, Миклухо-Маклай пересел на броненосец «Петр Великий» и в сентябре 1882 года, то есть двенадцать лет спустя после того, как он покинул Россию, прибыл в Кронштадт.
Двенадцать лет!.. Оглянись, Миклухо-Маклай, вокруг… Ты опоздал всего лишь на несколько дней: 8 августа умер твой старый доброжелатель Федор Петрович Литке. Еще раньше, в 1876 году, скончался твой верный друг Карл Максимович Бэр. Пржевальский, совершив беспримерный рейд из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки, пишет экспедиционный отчет и готовится к новому путешествию. Чернышевский все еще в ссылке в Вилюйске. Князь Петр Кропоткин за свои бунтарские взгляды был посажен в Петропавловскую крепость, откуда бежал за границу. Да, здесь все то же: жандармы, тюрьмы, преследования, царские указы. Правда, есть кое-что и новое: 1 марта 1881 года народовольцами убит Александр II! На престол вступил Александр III.
Мама Екатерина Семеновна сильно одряхлела: горе и нужда согнули ее. Теплый ласкающий свет в глазах померк, волевой подбородок потерял свои очертания. И даже трудно понять, рада ли она возвращению блудного сына. Екатерина Семеновна больна, и у нее не хватает сил перебраться из Петербурга, из тесной холодной квартиры, в Малин. Брат Михаил — студент горного института; сейчас он отбывает воинскую повинность. Мишук отпустил такую же бороду, как у Маклая. И еще одна новость: у Маклая появился племянник Миша-маленький, или Медвежонок, сын Владимира. Брата Сергея пришлось вызвать из Малина телеграммой. «А если Рита откажется стать моей женой?…» — уже с тревогой думал Николай Николаевич. Теперь он не мыслил жизни без нее, единственной и любимой…
Полгода ушло на дорогу из Австралии в Россию, но всего лишь три месяца пробыл на родине Миклухо-Маклай; Времени не хватило даже на то, чтобы утешить мать. Эти три месяца заполнены самой изнурительной работой. Прежде всего он выступил 29 сентября с отчетным докладом в Русском Географическом обществе. Зал был переполнен задолго до появления путешественника. Публика толпилась в проходах, в смежных комнатах. В восемь часов вечера в сопровождении Петра Петровича Семенова в зал вошел Миклухо-Маклай. Его встретили громом аплодисментов.
— Милостивые государыни и милостивые государи! — начал Николай Николаевич. — Через восемь дней, 8 октября, исполнится двенадцать лет, как в этой же зале я сообщал господам членам Географического общества программу предполагаемых исследований на островах Тихого океана. Теперь, вернувшись, могу сказать, что исполнил обещание, мною данное Географическому обществу 8 октября 1871 года: сделать все, что будет в моих силах, чтобы предприятие не осталось без пользы для науки…
Его слушали затаив дыхание. Безбрежная синь тропиков ворвалась в переполненный зал. И никто не верил, что этому седому сухощавому человеку, великому путешественнику, всего лишь тридцать шесть лет.
Он прочитал несколько публичных лекций о своих путешествиях в зале Петербургской городской думы. Лекции вызвали огромный приток публики. Отчеты о них поместили все крупные русские газеты.
Известные художники К. Маковский и А. Корзухин запечатлели образ Маклая на полотне. Портрет, написанный Маковским, был даже показан на передвижной выставке.
В Москве Николая Николаевича встретили с еще большим энтузиазмом. Давка у дверей Политехнического музея на Лубянке, где выступал Миклухо-Маклай, была невероятная. Пришло около тысячи человек. Пожаловали даже два архиерея, митрополит и губернатор. Безбилетники, сокрушив все преграды, ворвались в помещение. Женщины, как и в Петербурге, бросали цветы и, захлебываясь от восторга, что-то кричали. Ученые устроили в честь знаменитого гостя обед.
— Прошу только дать мне кровавый бифштекс! — шутливо сказал Маклай. — Я, увы, не вегетарианец, а папуас…
И снова лекции, лекции… Ради истины следует сказать, что ораторским даром Маклай не обладал. Но не за красным словцом валила к нему публика. Харьковские студенты, например, не слышали его выступлений, однако прислали телеграмму: «Свидетельствуя Вам наше глубокое уважение, шлем сердечный привет и пожелания счастливого пути и здоровья для дальнейших работ». Учительницы Василеостровской женской гимназии писали: «Мы с таким постоянным вниманием следили за Вашими путешествиями и открытиями, что для нас было бы большим лишением не слыхать Ваших сообщений». Сохранилось письмо и от неизвестной: «Я не могу удержаться, чтобы хоть чем-нибудь не выразить свое глубокое уважение к Вам и удивление как человеку; не то удивление, которое заставляет бегать смотреть новинку, а то, которое заставляет подумать, отчего так мало людей, похожих на человека.
Еще раз примите мое глубокое уважение и симпатию как к русскому.
Больше всего взволновало Николая Николаевича письмо от крестьянина из села Могрино Ивана Киселева. Иван Александрович Киселев, уже немолодой человек, отец шестерых детей, изъявлял желание поселиться на одном из необитаемых островов Тихого океана. «Русскому бедняку, как и мне, жаркий климат не страшен… — писал Киселев. — Я злейший враг насилий и чужой собственности, молю всевышнего, чтобы он избавил моих детей и вообще бедное человечество от крайностей…» Прислали свое поздравление и члены Кавказского отдела Географического общества.
И, наконец, выборы в непременные члены Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и присуждение золотой медали:
«Императорское Общество Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии.
Ввиду окончания многолетнего путешествия своего непременного Члена Николая Николаевича Миклухо-Маклая и возвращения его на родину, согласно донесению Совета, постановляет:
во 1) приветствовать Николая Николаевича Миклухо-Маклая с завершением его тяжких и продолжительных трудов по этнологическому исследованию Папуасов и Малайцев;
во 2) выразить уважение общества к его энергии и самопожертвованию, столь ярко выяснившиеся во всех его путешествиях и
в 3) присудить в годичном заседании 15-го октября 1882 г.
Николаю Николаевичу
М и к л у х е — М а к л а ю
Золотую медаль.
Это уже было официальное признание заслуг Миклухо-Маклая перед русской наукой. Даже равнодушный к наукам Александр III пообещал издать собрание сочинений Маклая на свой счет (впоследствии царь, однако, передумал и не сдержал слова).
Через посредство Русского Географического общества Николаю Николаевичу удалось также уладить денежные дела: он получил довольно значительную дотацию — 20 тысяч рублей — на уплату батавских и сиднейских долгов. Кроме того, теперь он был обеспечен на два года жизни в Австралии, где намеревался продолжить свои исследования.
Резкая перемена климата, однако, делала свое дело: возобновились невралгии всех видов, отвратительный мышечный ревматизм. Вернувшись в Петербург, Николай Николаевич слег. Он все откладывал и откладывал отъезд в Австралию; но так как состояние не улучшалось, а, наоборот, ухудшалось, пришлось срочно покинуть Петербург.
Перед отъездом состоялся серьезный разговор с двадцатишестилетним братом Михаилом. Михаил во всем открылся Николаю Николаевичу.
— Я состою под негласным надзором полиции, — сказал он. — В связи с прошлогодним покушением на царя…
Миклухо-Маклай даже оторопел:
— А ты здесь при чем?
— Я хотел убить Александра Второго своей рукой.
— Ты?…
— Да! А тебе никогда не хотелось всадить пулю в медный царский лоб?
Николай Николаевич не нашелся что ответить.
— И что же помешало тебе? — наконец спросил он.
— Видишь ли, они посчитали, что я не гожусь для подобной роли. Я беседовал несколько раз с Софьей Перовской, и она нашла, что у меня слишком мягкий характер. Тут нужна твердая рука. Мы сделали попытку взорвать Зимний дворец. А потом под блиндированную карету царя наши бросили бомбу. Когда Александр Второй выскочил, швырнули вторую бомбу. И все было кончено…
— А как ты познакомился с ними, с теми?…
— Мой друг, тоже студент Горного института, свел меня с Перовской. Теперь полиция следит за каждым моим шагом. Возьмешь меня на берег Маклая?
— Разумеется. Тебя и Раковича. Он решил подать в отставку и навсегда поселиться там. Я все время переписывался с ним. Он — неисправимый романтик и рвется в океанские дали.
В Париже я встречу Мещерского. Думаю, и он не откажется вступить в нашу коммуну. Если бы Оля была жива… Суфщинского, моего друга по гимназии, мы сделаем поверенным в делах берега Маклая в России. Я уже толковал с ним.
Николай Николаевич не осуждал брата. Но и Софья Перовская совершенно права: какой же из него террорист!
— Я приеду на берег Маклая несколько позже, — сказал Михаил. — Обязательно приеду. Прямых улик против меня нет, но кто-то донес… Не откладывай устройства коммуны да пришли мне образцы пород Новой Гвинеи.
В ноябре Николай Николаевич выехал за границу. В Германии он выступил в заседании Берлинского антропологического общества. И здесь, к своему удивлению, встретил… Отто Финша, все того же Финша!
— О Маклай! О брат, о друг!.. — на папуасский манер запел Финш. — Я, подобно вам, решил навестить скверную Европу. Вы зря доверились Ромильи. Этот человек ведет двойную игру. Говорят, он славно поохотился на берегу Маклая и собирается предпринять новую вылазку.
— Поохотился? Что вы имеете в виду?
— Поохотился на «черных птиц»!..
— Это ложь!
— Как знаете. Я ваш лучший друг и покорный слуга, а друзьям положено верить.
Отто Финш говорил правду. Но он не сказал главного: зачем сам пожаловал в Европу. Финш вел переговоры с Бисмарком об аннексии берега Маклая. Железный канцлер обещал поддержку, берлинский купец Ганземан все расходы, связанные с аннексией, брал на себя. Вскоре Финш и агент Бисмарка фон Эртцен отбыли на острова Океании.
В Париже Николай Николаевич разыскал Александра Мещерского и вместе с ним отправился к Тургеневу. Иван Сергеевич не забыл Миклухо-Маклая, иенского студента.
— А мы с вами изрядно поседели, — сказал он шутливо. — Я вот готовлюсь к смерти, а вам еще — открывать да открывать. Время-то бежит без оглядки!
Когда Мещерский ушел, Николай Николаевич заговорил о Парижской коммуне. Ему хотелось до конца понять Коммуну, проникнуть в ее сущность, взять из ее опыта все самое ценное для своей коммуны, которую он намеревался создать на берегу Маклая или же на одном из островов Океании. Расспрашивал он и о Кропоткине.
— Когда князь Кропоткин, — сказал Иван Сергеевич, — бежал из Петропавловской крепости сюда, мы с Петром Лавровичем Лавровым пригласили Кропоткина и отпраздновали этот побег небольшим дружеским обедом. Кстати, князь Кропоткин заглядывал ко мне и в прошлом году. А с Петром Лавровичем я вас сведу. Он о Парижской коммуне может рассказать больше моего, да и брошюры нужные найдет. Я вот собираюсь Александру Третьему написать, хочу указать ему на необходимость дать России конституцию…
Маргарита Робертсон, жена Н.Н. Миклухо-Маклая, с сыном.
Советские моряки в Индонезии. Ноябрь 1959 г.
Иван Сергеевич был тяжело болен. Рак спинного мозга причинял ему невыносимые страдания. Он быстро утомился. Маклай откланялся. На другой день Петр Лавров снабдил его литературой о Парижской коммуне.
Николай Николаевич надеялся увидеться с Тургеневым через несколько лет и рассказать ему о своей коммуне. Но эта надежда не сбылась: Иван Сергеевич умер в следующем, 1883 году.
Не сбылось и другое.
— Умер наш учитель Чарлз Дарвин… — грустно сказал Томас Гексли, когда Миклухо-Маклай появился в Лондоне. И добавил: — Я очень сожалею, что вы отклонили предложение Королевского Географического общества выступить сперва в Англии, а потом уж в России. Мы могли бы взять на себя расходы по экспедиции внутрь Новой Гвинеи, а также издать ваши труды…
— Я служу не только науке, но и своему отечеству, — ответил Маклай.
Еще на пути из Парижа в Лондон он получил письмо от Маргариты Робертсон. Рита дала согласие стать его женой.
Посетив Англию, Шотландию и Голландию (где он, наконец, мог рассчитаться с господином Анкерсмитом), Миклухо-Маклай, словно на крыльях, устремился в Австралию.
…Случай всегда играл большую роль в жизни Миклухо-Маклая. Все его длительные поездки, пребывание на побережье Новой Гвинеи — в основном дело случая. Счастливая случайность помогала ему там, где другие гибли.
Так же и сейчас. Он вовсе не предполагал в скором времени побывать на берегу Маклая; ему казалось, что это дело отдаленного будущего. Он стремился в Сидней, в Ватсон-бай, к Маргарите Робертсон, своей невесте.
Но случайность стала для него некоей закономерностью. В Порт-Саиде совершенно случайно ему предложили даровой билет до Брисбейна через Батавию. Казалось бы, от Батавии до берега Маклая так же далеко, как и от Сиднея. Но и здесь, на Яве, случай подстерегал Маклая…
…Миклухо-Маклай в знакомой Батавии. В Батавию пароход пришел ночью. Кромешная тьма. Только сверкают огни какого-то судна, стоящего неподалеку. Оказывается, это русский корвет «Скобелев»! Маклай прыгает в шлюпку и отправляется на корвет, чтобы засвидетельствовать свое почтение старому знакомому контр-адмиралу Николаю Васильевичу Копытову, а заодно передать письма в Европу. Контр-адмирал уже на отдыхе, и никто не решается будить его. Но Маклай настойчив. Он поднимает Копытова с постели.
— Это вы? — удивляется Николай Васильевич. — Воистину вездесущий человек!
— Куда направляется «Скобелев»?
Николай Васильевич сладко позевывает:
— К островам Меланезии. Возможно, зайдем в бухту Астролябии, в порт Константина.
— Я с вами!
— Помилуйте, Николай Николаевич… не передохнув ни одного дня… Это невозможно.
— Почему?
— Во-первых, ваш багаж на английском пароходе, а мы снимаемся с якоря; во-вторых, нет ни одной свободной каюты; а в-третьих…
— Черт с ним, с багажом! Пусть отправляется самостоятельно. Мне во что бы то ни стало нужно на берег Маклая! Вы же знаете, от своего я не отступлюсь. Буду спать прямо на палубе. В конце концов если вы так печетесь о моем комфорте, то можно под полуютом соорудить отличнейшее помещение из брезентов… С моим знанием туземных языков и обычаев я могу быть полезен в высшей степени.
— Сдаюсь! Утром отплываем. А до утра всего два часа… Считайте, что вам повезло…
К берегу Маклая! И это наяву…
Миклухо-Маклай уже слышал о гнусных проделках Ромильи и теперь сильно беспокоился за своих друзей папуасов. Ромильи, воспользовавшись отсутствием русского путешественника, решил расширить «круг своей деятельности». Всего месяца два назад он снарядил свыше тридцати кораблей для «охоты на черных птиц» на берегу Маклая. Тридцать кораблей! Во что превратили работорговцы деревни Горен-ду, Бонгу, Богати, Енглам-Мана… Говорят, что Ромильи похитил около трех тысяч папуасов…
Сердце Маклая обливалось кровью. А может быть, это ложные слухи? О Маклай! Жизнь так ничему и не научила тебя. Ты доверился негодяю, скрывшему волчьи клыки под любезной улыбкой. Нет, во все это невозможно было поверить! Следовало позаботиться о подарках для друзей: по просьбе Николая Николаевича в Амбоине были куплены две телки, несколько коз и бычок («большая свинья с зубами на голове»). Тую Маклай вез особый подарок. Однажды Туй, который брил бороду осколком стекла, попросил тамо-русса привезти из России «нож для бороды», то есть бритву. Маклай вез большие ножи — паранги, красную материю, грабли, лопаты, топоры, семена дурья-на, манго, мангустана, хлебного дерева, кукурузы, арбуза, тыквы, апельсина, лимона, кофейного дерева, ланзат, несколько молодых ананасов.
Николай Васильевич Копытов сказал, что в бухте. Астролябии он намерен оставаться всего лишь сутки, так как боится пагубной новогвинейской лихорадки. Нельзя подвергать опасности команду. «А кроме того, вас ждет невеста, и я не вправе…» — добавил он шутливо.
Всего лишь одни сутки! Много ли успеешь сделать за двадцать четыре часа…
17 марта 1883 года в половине шестого вечера «Скобелев» бросил якорь в бухте Астролябии.
…Папуасские деревеньки обратились в пустыри. Развалины заросли кустарником. Старики туземцы окружили Маклая. Женщины и дети, завидев корвет, убежали в горы. Саул прислонился головой к плечу Николая Николаевича и заплакал.
— А где Туй? — спросил Николай Николаевич.
— Туй муэн сен! (Туй умер!) — ответил Саул и, тихонько вздрагивая, стал рассказывать о тамо-ин-глис, об абадам Маклай — Англия (о брате Маклая — Англия), который сжег деревни и увез людей.
Английские матросы хотели взломать дверь таля Маклая, но Туй заслонил ее своим телом.
— Арен! Нет! Нельзя!.. — кричал он. — Это дом Маклая. Сюда нельзя…
Его пытались оттащить, но Туй уцепился мертвой хваткой за ручку двери. Тогда озверевшие матросы стали наносить ему удары по голове. Туй умер, но не выпустил ручку двери. Он до последнего дыхания защищал священный порог таля Маклая.
— О Маклай… О Маклай… — тихо повторял Саул. — Не присылай больше тамо-инглис…
Николаю Николаевичу стало тоскливо. Его окружали большие дети, которые не могли понять, за что на них свалилась такая беда. Разве они не выполняли всех указаний Маклая? И чем утешить их? Многих нет в живых, других увезли на чужбину, отдали в рабство.
— Маклай, не уходи! Оставайся навсегда с нами. Защити нас. Мы принесем тебе все коренья, все самые лучшие орехи. Где тебе построить хижину?…
От большой деревни Горенду осталось всего лишь две хижины. Все заросло до неузнаваемости. Чтобы скрыть нахлынувшие слезы, Николай Николаевич вышел к морю и отправился на корвет. Туй, бедный Туй… Даже роскошные подарки не произвели на туземцев должного впечатления.
Вот оно и произошло, то неизбежное столкновение «цивилизованных» негодяев с беззащитными людьми каменного века… Может быть, это и порадует расистов-изуверов…
«Маклай гена! (Маклай пришел!)» — эта весть всколыхнула побережье. Толпы туземцев вышли к морю.
— О Маклай! О Маклай! Друг! Отец!..
Люди протягивали руки к корвету, утлые, переполненные до краев пироги прыгали на волнах.
— Эме-ме! Э-аба! Гена!
Маклай посетил остров Били-Били, встретил здесь своих друзей Каина, Гассана и Маравая. Женщины и дети вернулись в деревни.
Николай Николаевич убеждал Копытова остаться в бухте на несколько дней, но контр-адмирал был непреклонен.
Папуасы повсюду следовали за Маклаем и уговаривали его остаться.
— Хорошо, — сказал он. — Я вернусь, но согласны ли вы отдать мне остров Маласпена, где я хочу поселиться с моими русскими братьями?
Островок был совершенно необитаем и для туземцев не представлял никакой ценности.
— Бери его! Он твой! — заревела толпа. — Только не уходи…
— Я вернусь. Ждите…
Корвет «Скобелев» покинул берег Маклая. Не мог знать Николай Николаевич, что это его последняя встреча с друзьями.
Вернувшись (через Филиппины, Гонконг, Порт-Дарвин и порты Восточной Австралии) в Сидней, Миклухо-Маклай был огорошен здесь новостью: коттедж, в котором он хранил большую часть коллекций, препаратов и записей, сгорел дотла. Беда не приходит одна: Джон Робертсон недвусмысленно сказал ученому, что не желает больше видеть его в Кловли-хаус.
Многочисленная родня Маргариты Робертсон, все ее друзья в один голос заявили, что нищий русский барон Маклай ей не пара. Особенно противился браку дочери престарелый сэр Джон: «Я ввел его в свой дом!.. И чем же отплатил мне этот субъект? Или, может быть, вы, дочь моя, решили покинуть Кловли-хаус и поселиться с ним в лачуге Ватсон-бай или же отправиться к людоедам на Новую Гвинею?»
— Я пойду за ним куда угодно! Я дала согласие.
Сэр Джон знал характер дочери, а потому решил расстроить предстоящую свадьбу более тонким ходом.
— Вы протестантка, а он неведомо кто. Во всяком случае, я не приметил, чтобы он питал пристрастие к какому-нибудь богу.
— Какое это имеет значение?
— Очень большое, дитя мое. Церковь может не признать ваш брак действительным, а отсюда все последствия. Вот если бы друг наш Маклай получил разрешение на этот брак своего государя-императора, тогда другое дело. Я не стал бы противиться. Ведь Маклаю могут не разрешить жениться на протестантке и по протестантскому обряду. Ваш старый отец желает вам только добра…
Вот так всегда! Миллионы людей женятся, выходят замуж, и никому не требуется для этого высочайшего разрешения. Только злополучный Маклай должен по всякому поводу сдвигать горы, брать неприступные вершины.
«Рита бедная не знает, кого слушаться, меня или отца своего, которого она очень любит и который не особенно дружественно смотрит на нашу свадьбу, которая
«Гофмаршалу князю В. С. Оболенскому
(телеграмма)
Требуется разрешение государя для моей женитьбы на протестантке по протестантскому обряду.
К изумлению сэра Джона, разрешение не замедлило прийти. Александр III, узнав о предполагаемой женитьбе Маклая, сказал: «Пусть его женится хоть по папуанскому обычаю, только бы не мозолил глаза». Нашлись люди, которые, наконец, объяснили царю смысл научных открытий Миклухо-Маклая.
Свадьба состоялась 27 февраля 1884 года. Это событие было отмечено в газете «Сидней морнинг геральд».
В одном из писем Николай Николаевич заметил по поводу своей женитьбы: «Я искренне надеюсь, что наука от этого не пострадает».
Маклай обзавелся семьей. Появились на свет Александр-Нильс и Владимир-Оллан. «Папаша Маклай!» — так стали называть знакомые Николая Николаевича.
Казалось бы, тут ему и угомониться, заняться подготовкой своих трудов к изданию, закончить капитальное исследование по сравнительной анатомии мозга.
Но Миклухо-Маклай теперь понимал, что антропология не может существовать сама по себе, изолированно и в отрыве от общественной жизни. Антропология — наука о человеке, а человек — это не только биология. Биологии и антропологии не под силу объяснить весь процесс антропогенеза, так как в развитии человечества играют роль не только биологические, но и главным образом социальные факторы.
Жизнь настоятельно требовала вмешательства Миклухо-Маклая в политические дела Океании. Австралийский журналист Фрэнк Гриноп не без оснований указывает, что Миклухо-Маклай был в то время самой крупной политической фигурой во всей Океании. Он стоял во главе «антирабовладельческого» движения.
Защищая берег Маклая и острова Океании от аннексии иностранных держав, Миклухо-Маклай вел большую политическую игру: он стремился столкнуть лбами империалистических хищников, использовать противоречия между ними. В этом отношении характерны его письма к Бисмарку, Гладстону и Дерби.
Находясь в сердце Австралии, он помешал австралийскому правительству аннексировать берег Маклая. Когда же Англия объявила об аннексии южной и северо-восточной части Новой Гвинеи (включая берег Маклая), он обратился к германскому правительству, и Англия вынуждена была отказаться от своих притязаний.
Узнав, что американец Мак-Ивер намеревается захватить берег Маклая и уже обещал каждому «акционеру-колонисту» по тысяче акров земли, Маклай обращается за помощью к правительству Англии, и американцам пришлось отложить разбойную экспедицию. Он обращался и к русскому правительству с запросом: не предполагает ли русское правительство заручиться занятием острова или порта в Тихом океане ввиду той стремительности, с которой другие морские державы захватывают там незанятые еще земли? Ему, подобно Архимеду, нужна была точка опоры. Он сознавал, что только личного авторитета, увы, недостаточно, чтобы сдержать бешеный натиск экспансии. Он предлагал русскому правительству признать самостоятельность берега Маклая, принять этот берег под свое покровительство и, возможно, даже учредить военно-морскую станцию в одном из портов. Однако предложения эти были встречены с полнейшим равнодушием. «Какое нам дело до Океании?…» — рассуждали правительственные чиновники. И только русско-японская война 1904 — 1905 годов показала, насколько прозорлив был Маклай. Еще в 1878 году он, получив отказ русского правительства, с горечью писал: «Причина отрицательного решения высшей инстанции была «отдаленность страны и отсутствие в ней связи с русскими интересами». Замечу на это, что «отдаленных» стран уже теперь почти не существует, а тем более в будущем; что, кроме
Точку опоры в Океании так и не удалось обрести. Тогда Миклухо-Маклай решил покинуть Сидней и поселиться вместе с семьей на берегу Новой Гвинеи. Он стал лихорадочно готовиться к отъезду. Он решил вызвать в Сидней брата Михаила, чтобы затем вместе с ним уехать на Новую Гвинею.
Но было уже поздно. Нашелся человек, который опередил Николая Николаевича и без всяких на то прав и оснований объявил берег Маклая своей собственностью. Этим человеком был Отто Финш. Пробыв всего несколько часов в бухте Астролябии, он заявил, что весь северо-восточный берег отныне принадлежит Германии и будет именоваться «Землей императора Вильгельма». Бисмарк утвердил аннексию. Над талем Маклая был поднят германский флаг. Медную доску, прибитую к дереву моряками «Изумруда», сняли.
Более наглого по откровенности акта грабежа и произвола невозможно было придумать. Бессовестный немец, презрев все на свете, беззастенчиво наложил хищную лапу на берег, которому Николай Николаевич отдал лучшие годы жизни. Мало того, Финш сразу же после смерти Маклая выпустил толстенную книгу, где без зазрения совести использовал все сведения о Новой Гвинее, полученные от русского ученого. Многолетние труды Миклухо-Маклая он выдал за свои и лицемерно отметил кое-какие заслуги Миклухо-Маклая в приобщении «дикарей» к «цивилизации». «Никогда бы я не поверил, — писал он, — что те немногие слова, которые я выучил во время моего сибирского путешествия, могут мне пригодиться среди так называемых дикарей на Новой Гвинее, но это было так! «Глеба» (хлеб), «тапорр», «скирау» (секира), «ножа» (нож) были здесь постоянно повторяющимися словами в языке папуасов».
Удар сразил Николая Николаевича. Несколько дней он провалялся в белой горячке. Затем послал известную телеграмму Бисмарку:
«Туземцы берега Маклая отвергают германскую аннексию.
Александру III в тот же день он написал: «Прошу о даровании туземцам берега Маклая российского покровительства,
Но это был глас вопиющего в пустыне. Ни Англия, ни Россия, ни Австралия не пожелали оспаривать у Бисмарка право на берег Маклая. Николай Николаевич, не жалея ни времени, ни сил, писал во все концы планеты, ко всем политическим деятелям, а над ним лишь потешались. Наконец ему было официально указано, что по всем вопросам, касающимся берега Маклая, он должен обращаться лишь к Бисмарку и не беспокоить правительства других государств и что все его письма Гладстону, Дерби, Вильсону переданы в германское министерство иностранных дел.
От Маклая требовали, чтобы он сложил оружие, отказался от политической борьбы и занимался бы лишь «чистой» наукой.
— Я обещал папуасам помочь и не отступлюсь! — заявил он. И не отступился.
Бросил научные занятия, оставил семью и поспешил в Россию. Разрушив все преграды, он пробился к Александру III, отдыхавшему в Ливадии. Он изложил царю свой план основания русской колонии на берегу Маклая или же на одном из островов Тихого океана. Александр III слушал рассеянно.
— Значит, по-твоему получается, что колонисты будут обрабатывать землю сообща?… — спросил он настороженно. — А ты знаешь, как это называется? Heт, Миклуха, уволь меня от такой затеи. И, кроме того, где ты намереваешься взять денег на переселенцев?
Вот тебя и твои коллекции я могу устроить… на царский поезд! А устраивать твоих колонистов не берусь…
— Я писал великому князю Алексею Александровичу, какие преимущества получил бы русский тихоокеанский флот, располагая базами в таком важном географическом пункте на рубеже Индии и Австралии…
— Ты дипломат, Миклуха. Но меня на мякине не проведешь… Ссориться с Бисмарком из-за каких-то там папуанцев я не собираюсь.
Миклухо-Маклай понял, что на поддержку царя рассчитывать не приходится. И в эту минуту ему припомнился вопрос Михаила: «А тебе никогда не хотелось всадить пулю в медный царский лоб?…»
И тогда Маклай решил обратиться за поддержкой к народу. В газете «Новости» и в других газетах появились объявления: известный путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай собирает всех желающих поселиться на берегу Маклая и на островах Тихого океана. Это было в мае 1886 года. Сам Николай Николаевич меньше всего рассчитывал на полный успех предприятия: «Ну, откликнется десяток энтузиастов — на том дело и кончится. Но все же будет положено начало, найдена «точка опоры»…»
Но произошло то, на что даже в самых пылких мечтах он не смел надеяться: Россия всколыхнулась!
К 25 июня подали заявления сто шестьдесят желающих; через два дня их было уже двести двадцать, а к сентябрю — свыше двух тысяч! Народ валом валил на Тележную, 18, где остановился путешественник. Тут были и мужчины и женщины, и молодые и старики, и крестьяне и мастеровые, и даже попы и военные. Николай Николаевич успел подыскать на первый случай шхуну водоизмещением девяносто тонн. Шхуна требовала большого ремонта, и путешественник просил морское министерство взять ее ремонт на себя.
Проектом заинтересовались видные журналисты и общественные деятели. Поговаривали, что сам Лев Толстой справлялся о Маклае.
С утра до поздней ночи принимал Николай Николаевич посетителей, часами беседовал с ними, рассказывал, с какими трудностями придется столкнуться колонистам. Не запугивал, но и не успокаивал, не сулил райские кущи и кисельные берега. Он очень тщательно подходил к отбору будущих переселенцев. Лодырей и алкоголиков безжалостно выпроваживал. У него были свои идеалы, а идеалами он не мог поступиться: безделье, барство, спиртные напитки начисто изгонялись из того общества, которое он собирался строить.
Что же это было за общество? Маклай замыслил организовать на Новой Гвинее или же на одном из островов Океании коммуну. Члены коммуны станут сообща обрабатывать землю. Продукты будут распределяться по труду. Каждая семья построит отдельный дом. Селиться можно лишь на землях, не занятых туземцами. Деньги отменяются… Колония будет составлять общину с выборными органами управления: старейшиной, советом и общим собранием поселенцев. «Ежегодно вся чистая прибыль от обработки земли будет делиться между всеми участниками предприятия соразмерно их положению и труду», — писал он.
Были подняты студенческие конспекты. Ведь уже тогда, тщательно проштудировав Роберта Оуэна, Сен-Симона, Фурье и Чернышевского, Николай Николаевич наметил подробный план устройства «рационального общества», где не будет угнетения человека человеком, где все трудятся и получают по труду.
Эта утопическая мечта казалась легко осуществимой. Ведь основали же свободную колонию на острове Питкэрн матросы с мятежного корабля «Баунти»!
Желая привлечь на свою сторону общественность, Миклухо-Маклай направил письмо и несколько оттисков своих статей (в том числе «Антропологические заметки о папуасах берега Маклая», «Этнологические заметки о папуасах берега Маклая» и др.) Льву Николаевичу Толстому. Заметки произвели на Толстого огромное впечатление. Несмотря на болезнь, он сразу же ответил. «…Вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, т. е. доброе общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой, — писал Толстой. — И вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе, что люди нашего общества даже его и не понимают… Ради всего святого изложите с величайшей подробностью и свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступили там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, — в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив все, кроме отношений с людьми».
Путешественник решил последовать совету великого писателя: издать дневники, которые до этого не собирался публиковать. Он также намеревался посетить Ясную Поляну и более обстоятельно изложить Льву Николаевичу свои планы. Но этим намерениям не суждено было осуществиться.
Однако Лев Николаевич до конца жизни сохранил интерес к личности Маклая и его науке. Этот интерес заставил его три года спустя после смерти путешественника завести дружбу с известным антропологом Дмитрием Николаевичем Анучиным. Они часто беседовали о Маклае. Сам Анучин так рассказывал о попытке Толстого завязать с ним знакомство: «Лев Николаевич ходил тогда зимою в полушубке и в валенках. В таком виде явился он в первый раз и ко мне, когда меня не было дома. Отворившая ему дверь прислуга была очень недовольна, что в парадное крыльцо звонится какой-то мужик, и сделала ему соответствующее внушение. В ответ она получила: «Скажите, что был граф Толстой». Прислуга отнеслась к этому скептически и после рассказывала об этом с иронией. Она была немало поражена, узнав, что это действительно граф и замечательный человек».
Даже девять лет спустя в Ясной Поляне по-прежнему оставалась живой память о Миклухо-Маклае. Исправляя предисловие к одной из своих работ, Лев Николаевич сравнил поведение английских колонизаторов в Африке и поведение Маклая на островах Океании.
— Есть ли необходимость убивать туземцев и превращать их в пьяниц, как это делают англичане?… — с сарказмом спрашивал Толстой.
…Этот необитаемый и всеми позабытый островок между Новой Гвинеей, Новой Ирландией и Новой Британией не был помечен ни на одной карте Миклухо-Маклая. Названия острова не знал никто. Даже на прямой вопрос Александра III, какой именно остров имеет в виду Маклай, собираясь основать колонию, путешественник не дал ответа. «Колония могла бы быть основана на одном из независимых еще островов…» — только и сказал он. Зачем выдавать царю координаты острова будущей коммуны? Это была тайна Маклая, которую можно было открыть лишь посвященным. Не дал он удовлетворительного ответа и на другой вопрос: какое сообщение предполагается установить между колонией и цивилизованным миром?
Остров М., как называл его Николай Николаевич, отличался плодородием, здоровым умеренным климатом. Здесь имелась в избытке пресная вода, а добротный строевой лес был под рукой. Вдали от жандармов и царей Миклухо-Маклай. надеялся построить новый, невиданный мир человеческих отношений, однажды уже открывшийся ему в романе Чернышевского «Что делать?».
Но утопия остается утопией.
Когда на призыв Маклая откликнулись сотни добровольцев, правительство всполошилось. Царь решил задушить мятежный проект собственной рукой. В октябре 1886 года собрался учрежденный царем комитет из представителей министерств иностранных дел, внутренних дел, финансов, морского и военного для обсуждения предложений Миклухо-Маклая.
Как и следовало ожидать, комитет единогласно высказался против проекта. Александр III наложил резолюцию: «Считать это дело окончательно конченным; Миклухо-Маклаю отказать!»
Тяжело больной Николай Николаевич спокойно выслушал окончательный приговор своим мечтам: чего еще следовало ждать от царя и его камарильи?… «Окончательно конченным…» Даже предложение основать военную базу в экваториальных водах не смогло ввести в заблуждение Александра III!
«Но мы еще повоюем, черт возьми!» — воскликнул Маклай и неожиданно в мае 1887 года уехал в Австралию. А уже в июне того же года он снова появился в Петербурге с женой и двумя детьми. По дороге в Россию он познакомил Риту с дочерью Герцена Натальей, и между женщинами завязалась оживленная переписка.
Маклай готовился к новому наступлению. Он решил подготовить к печати и издать свои труды, а на вырученные деньги организовать большую экспедицию добровольцев на остров М. Путешествие будет опасным, и экспедиция никогда не вернется под «недремлющее око» жандармов. «Никакое решение комиссии, ни даже высочайший отказ не повлияют на мое решение поселиться на острове Тихого океана, хотя и изменят образ осуществления моих планов…» — записал он.
Все коллекции, собранные во время путешествий по Океании, манускрипты и рисунки он подарил Академии наук. Поселился с семьей на Галерной, 53. Старшему сыну недавно исполнилось два с половиной года. Младшему было всего лишь полтора. Мальчики хорошо перенесли утомительное путешествие, но Рита все время жаловалась на недомогание. Россия произвела на нее удручающее впечатление: скверная квартира совершенно без мебели, никакой прислуги, обедать приходится в отеле и то… в долг. Это было даже значительно хуже, чем в коттедже «Айва», где они жили в последнее время. Сэр Джон воспрепятствовал тому, чтобы семья Маклая поселилась в Кловли-хаус. Тогда Николай Николаевич и Рита с детьми перебрались в Ватсон-бай. Но их изгнали и отсюда. Мыс Ленг-Пойнт оказался вдруг в сфере интересов военного ведомства. А в прошлом году на месте биологической станции правительство устроило базу для миноносок. И вот теперь Маргарет-Эмма в чужой России, среди чужих людей. Языка она не знает. Ни родных, ни знакомых… Но Рита быстро смирилась со всеми неудобствами. Ее больше всего тревожило состояние мужа. Курс лечения у доктора Афанасьева горячими ваннами, холодными душами, массажем и электричеством не помог. Николай Николаевич надолго слег в постель. Он сильно одряхлел. Голова совершенно седая. Работать над книгой (вторым томом сочинений) еще не начал, так как приходится все время отвлекаться: писать статьи для газет. Это единственный способ заработать немного денег.
Провал проекта был сигналом для реакционных газет. Все они обрушились на Маклая и его проект. К русским газетам присоединились иностранные. Они глумились над научными трудами исследователя, возводили клевету, подвергали сомнению его заслуги перед наукой. Еще в 1885 году австралийская пресса начала методичную травлю русского ученого. Ему мстили за все: и за вмешательство в политические дела Австралии, за гневные письма правителям и даже за женитьбу на Маргарите Робертсон. «Русское правительство не идет навстречу начинаниям Маклая, — злорадствовали сиднейские газеты. — Видно, нет пророка в своем отечестве! Да и какой же Мак-лай пророк — он просто эмигрант…»
Разозленный Маклай вынужден был послать протест в «Сидней морнинг геральд» и защитить честь русской науки. По этому поводу Ф. Гриноп в своей книге замечает: «Безусловно верно то, что настоящий русский при всех обстоятельствах сохраняет огромную любовь к своей родине».
Но разве можно было ответить протестом озлобленным русским реакционным газетчикам? Это вызвало бы еще более яростные нападки. Да и силы Николая Николаевича с каждым днем гасли. Его душил отек легких. Снова вернулись невралгии и ревматизм. Он еще пытался бороться с немочью: извлек из корзин и ящиков рукописи, перечитывал черновики. А иногда по семь-восемь часов без передышки диктовал то, что должно было войти во второй том его сочинений. Однажды у него появилось желание побывать на могилах отца и Оли. Он отправился на Волково кладбище. Но дверь ограды могил оказалась запертой на замок. Ключ, должно быть, увез с собой в Малин Михаил. «А как же, если я вдруг умру? — впервые подумал он. — Придется ломать замок…» Михаил обещал вернуться с молодой женой в Петербург. «Только бы дождаться его…» Николаю Николаевичу захотелось еще раз побывать в Малине, куда он заглянул как-то проездом, повидать больную мать, племянника Медвежонка и недавно народившуюся племянницу.
Кроме того, следовало в конце концов выяснить, к дворянству какой губернии причислены Миклухи, чтобы записать своих сыновей, дабы они считались русскими, а не англичанами.
В феврале 1888 года Николая Николаевича увезли в клинику Виллие. Но и здесь Миклухо-Маклай продолжал работать Он написал в Москву Анатолию Петровичу Богданову: «Прошу прислать мне
Пришлите
Это был последний адрес Маклая.
Он корректировал статьи «На несколько дней в Австралию» и «Островок Андра» и вовсе не хотел думать о смерти. Здесь навестил его Петр Петрович Семенов.
— Вы должны на всякий случай дать распоряжения жене и родным, — сказал Николаю Николаевичу врач 14 апреля.
— Распоряжения уже сделаны. Но вы напрасно волнуетесь. Вы не знаете моей эластичной натуры… Я еще намереваюсь побывать в Африке и во внутренних частях Новой Гвинеи. А кроме всего прочего, сейчас я занят подготовкой новой экспедиции на остров М.
К восьми часам вечера он почувствовал себя плохо. Что-то подсказывало ему, что это конец.
— Рита, не забудь сжечь бумаги, — шепотом напомнил он жене, — те, что в большой корзине…
Она положила руку на его холодеющий лоб.
— Он отходит… — негромко сказал врач Михаилу, стоявшему здесь же. Врачу казалось, что Маклай уже без сознания. Но Маклай услышал.
— Я не умру, — произнес он жестко. — Вы не знаете моей эластичной натуры…
Он застыл в предсмертной дреме. А в угасающем мозгу возникали странные видения, яркие, как явь…
И в самом деле, Николай Николаевич вскоре поправился. Как же могло быть иначе? Когда он выписался из клиники Виллие, то шхуна водоизмещением девяносто тонн уже была готова к плаванию. Подписка среди населения дала необходимые средства для путешествия на остров М.
И вот они — Маклай, Рита с сыновьями, Михаил с женой, Ракович, Мещерский и крестьянин Киселев — стоят на палубе судна. Суэцкий канал, Красное море, Индийский океан — все позади. Маклай повел шхуну кратчайшим путем к острову М.
Но вот и многомесячное плавание подошло к концу: однажды утром из синевы океана вынырнули ярко-зеленые кроны пальм и кенгаров, а затем показался и сам остров, окруженный коралловыми рифами. Стаи летучих рыб неслись над волнами, резвились баниты и дельфины.
— А ловко это мы надули их с коммунией, — сказал Киселев и разгладил смолянистую бороду. В его сощуренных глазах крылось лукавство. — Края-то здесь, видать, благодатные. Да разве в том дело? И Россия-матушка — сплошная благодать. Вот землицу, изверги, забрали всю без остатка… А как мужику без землицы? Порядки, почитай, не лучше, чем при «освободителе». Всё они, душители проклятые! Богатые для бедных ад на земле устроили, а мы им кукиш с маслом показали… Я-то сразу догадался, Николай Николаевич, какое дело вы замыслили. Вот и подался с вами… Всему миру на удивление устроим…
Маклай стоял на носу шхуны, скрестив руки. Когда шхуна подошла к барьерному рифу, он приказал спустить на воду крошечную шлюпку.
— Я сам, один… а потом уж все остальные! — крикнул он и прыгнул в шлюпку.
Шлюпка, подхваченная течением, устремилась к песчаному берегу. Даже не нужно было грести.
Поднялось солнце из океана, и мир вспыхнул невиданными красками.
Так вот он, желанный остров М!
Не в силах больше сдерживаться, Маклай выпрыгнул в воду (хотя и не умел плавать) и устремился — к острову своей мечты…
…Врач взглянул на часы, выпустил безжизненную руку Миклухо-Маклая и произнес дрогнувшим голосом:
— Склоните головы, люди… Он ушел от нас навсегда!
На утро 15 апреля 1888 года в газетах появилось объявление:
«Вчера в клинике Виллие, в Санкт-Петербурге, в 8 часов 30 минут вечера скончался на 42-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Смерть застала Николая Николаевича тогда, когда он обрабатывал второй том записок о своих путешествиях».
Что еще можно добавить ко всему сказанному? При жизни этот человек написал около пятидесяти завещаний; в предсмертный же час он завещания не оставил…
«Отдаленных» стран уже теперь почти не существует…» — эти слова Н.Н. Миклухо-Маклая припомнились нам, когда в ноябре 1959 года мы, убежденные жители умеренных широт, вдруг оказались где-то около Филиппин. Нас качали штормы и тайфуны, летучие рыбы шлепались к нашим ногам; на самом экваторе, в Яванском море, из зеленых глубин поднимались коралловые рифы и необитаемые острова, увенчанные вулканами, заросшие огромными папоротниками, пальмами-ротангами и орхидеями. Ярко оперенные птицы и оранжевые бабочки, залетевшие с Борнео, порхали над палубами наших кораблей. В слепящем лазурном просторе скользили лодочки с балансирами и величественные челны — прау, изукрашенные орнаментом.
Мы очутились в мире Маклая.
А потом смуглые люди в юбочках — саронгах и огромных грибовидных шляпах из пальмовых волокон пожимали нам руки, приглашали нас в свои бамбуковые жилища, крытые травой аланг-аланг, угощали прохладным соком кокосового ореха, плодами дынного дерева, тивулом из маниоки, мангустаном, дурьяном, рамбутаном, манго и еще какими-то диковинными плодами и фруктами.
Наши военные корабли пришли с визитом дружбы в Республику Индонезию! Вот она перед глазами, Ява, сказочный остров… Посетив Джакарту, столицу тропиков, мы затем оказались в Богоре, в знаменитом ботаническом саду, где долгое время жил и работал Миклухо-Маклай. Тогда Богор назывался Бейтензоргом, то есть «Городом без забот». Но и здесь, в земном раю, заботы не покидали Маклая. Больной, разбитый, но не сломленный, он обдумывал здесь маршруты своих будущих путешествий, диктовал свои записки. В минуты отдыха он сидел на веранде белого дворца, виднеющегося сквозь заросли.
Странное чувство овладело нами: по этим пальмовым аллеям в свое время бродил Миклухо-Маклай, наш соотечественник, эти вековые смоковницы осеняли его. Мы с удивлением разглядывали темно-зеленый баньян с толстым стволом и сотнями воздушных корней, колбасное дерево, хлебное дерево, гигантские кувшинки виктории — регии, арековые, сахарные, капустные пальмы, пальму китул с венцом бахромчатой листвы и мощными соцветиями. Все поражало, все удивляло нас.
Но никто не удивился, услышав здесь имя Маклая. Случилось так, что в эти же самые дни к берегам Индонезии подошли советские океанографические суда «Заря» и «Витязь». Сопровождавшие нас индонезийцы не преминули заметить, что корабль, доставивший Миклухо-Маклая к берегам Ириана — Новой Гвинеи, тоже назывался «Витязем». Они рассказывали нам о жизни Маклая, и быль переплеталась с легендами. О Маклае говорили, как о живом…
Думы о Маклае не покидали нас и тогда, когда мы стояли на перевале Пунчак. На юге высились вулканы Явы. На юго-востоке сквозь дымное марево едва виднелся Бандунг. С высоты птичьего полета мы окидывали взглядом цветущие долины Индонезии и тропические леса, грозные вершины вулканов. Там, на востоке, за морем Банда и Арафурским морем, Новая Гвинея, берег Маклая!.. Отсюда — рукой подать. Какие-то ничтожные мили отделяют нас и от Австралии…
Почти в каждом смутно живет мечта о жарких странах, о неведомых южных морях и затерянных в океанских просторах коралловых рифах, о блеске лазурных лагун, о синеве иного неба и высоких пальмах, дремлющих в экваториальном зное…
И вот мы прикоснулись к мечте. Мы вспоминаем, что многие из островов Океании впервые открыты и описаны русскими людьми. Острова Суворова, Кутузова, Сенявина, Римского-Корсакова, Лисянского, Лазарева, Барклая-де-Толли, Спиридова, Рюрика, Крузенштерна, Симонова, Волконского, Ермолова — десятки островов, целые архипелаги в просторах Тихого океана. Отважные мореплаватели Лазарев, Лисянский, Крузенштерн, Коцебу, Беллинсгаузен, Литке и другие первыми ступили на те неизвестные земли, первыми нанесли их на карту. В Полинезии есть даже целая гряда островов Россиян. А король одного из Гавайских островов еще в 1816 году хотел принять русское подданство. Но ни в те времена, ни позже Россия не проявляла никакого намерения присоединить к своим владениям эти многочисленные земли.
XIX век называют эрой великих открытий русской географической науки. Открытие Антарктиды, исследования в Арктике, Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней и Центральной Азии… Русские ученые-путешественники вписали золотую страницу в историю географического познания земного шара.
Это был век Невельского и Литке, Пржевальского и Семенова-Тян-Шанского, Потанина, Козлова и Грумм-Гржимайло, Северцова, Федченко, Певцова и Мушкетова, Кропоткина и Черского.
Среди великих путешественников прошлого столетия Миклухо-Маклай занимает совершенно особое место. «Есть два типа путешественников, — писал известный советский ученый Л.С. Берг, — романтики и классики. К числу первых принадлежит Н.Н. Миклухо-Маклай».
Путешественник-романтик… Его жизнь — это цепь беспрестанных скитаний. В этом удивительном человеке словно жил какой-то особый, не знающий удовлетворения дух вечного беспокойства, который гнал его с одного острова на другой, с архипелага на архипелаг. Широко эрудированный ученый, мыслитель-гуманист, он оставил после себя огромное наследство: свои научные работы, не утратившие значения и по сей день, богатейшие коллекции, дневники и записные книжки, альбомы рисунков, свои бессмертные идеи. Все сделанное им отличается высокой качественной ценностью. Его жизнь — также беспрестанная борьба с изуверами самых различных мастей, с самыми темными предрассудками, гнездящимися в людях. Но он твердо верил, что пройдет время, и все его искания, его мысли будут поняты потомками: «Со временем, если не сейчас, компетентные люди найдут, что я не терял ни времени, ни случая».
«Кто хорошо знает, что он должен делать, тот приручает судьбу», — любил повторять Миклухо-Маклай. Однако судьбу приручить ему так и не удалось. Он владел тринадцатью языками и диалектами, но ни на одном из них так и не смог договориться с современниками. Даже выдающиеся люди науки, поддержавшие начинания молодого Маклая, под конец отказывались понимать его. Они упрекали Миклухо-Маклая, ставшего страстным борцом, в том, что он якобы «перешел с почвы научной на почву практическую», а проще говоря — занялся политикой. А оголтелые расисты, попы-миссионеры, уловив атеистическую и классовую сущность его открытий, постарались сплести небылицы, дискредитировать ученого: Маклая обвиняли в том, что он якобы был женат на туземке и прижил с ней ребенка, что будто бы он грубо обращался с папуасами; в насмешку его называли «папуасским королем», рассказывали анекдоты, в которых ученый изображался чуть ли ни людоедом. Реакционные газеты ставили под сомнение ценность его научных трудов. Миссионеры не могли простить Маклаю жестоких, уличающих слов: «За миссионерами следуют непосредственно торговцы и другие эксплуататоры всякого рода, влияние которых проявляется в распространении болезней, пьянства, огнестрельного оружия».
Но потомки по достоинству оценили подвиг Маклая, взяли на вооружение его труды.
Не угасла память о русском ученом и на островах Океании. Даже двадцать лет спустя после смерти путешественника папуасы берега Маклая продолжали охранять те участки, где он посадил кокосовые пальмы и дынное дерево. Немецкие миссионеры и путешественники, побывавшие позднее в бухте Астролябии, встретили здесь Марию Маклай, крестницу Николая Николаевича. Многие предметы обихода и полезные растения, введенные ученым, — топор, арбуз, пила, нож, тыква — до сих пор носят у папуасов берега Маклая русские названия. Каждый предмет, оставленный Николаем Николаевичем на берегу, очень долгое время сохранялся как реликвия: стамески, пилы, бутыли, жестяные банки и даже… пуговицы от русского военного мундира. К сожалению, не уцелела медная доска, прибитая к высокому кенгару матросами «Изумруда»: то ли ее унесли туземцы в глубь лесов как память о «человеке с Луны», своем друге и защитнике, то ли похитили ее немецкие миссионеры. Папуасы сложили о Маклае легенды и песни. И напрасно германские колонизаторы и их помощники миссионеры стремились всячески вытравить из сознания туземцев память о Маклае, переименовав даже берег его имени в Рай-Кюсте, — жители Били-Били, Гумбу, Бонгу, Богати и других деревень навсегда сохранили в своих сердцах любовь к русскому другу.
Берег Маклая… Он так досягаемо близок! Что там сейчас?… На всех советских картах сохранилось название — «берег Маклая». Но уцелели ли те туземные деревеньки, которые в свое время посещал Николай Николаевич? Что сталось с потомками Туя, Саула, Каина, Коды-Боро?…
Нам известно только, что в жизни папуасов Новой Гвинеи с тех пор произошли большие изменения. Колонизаторы согнали с плодородных земель коренное население, ввели принудительный труд на плантациях, золотых приисках, нефтепромыслах и рудниках. Только в восточной части Ириана иностранцам принадлежит четыреста плантаций кокосовых пальм и какао. Огромные территории переданы в концессии английским, голландским и американским компаниям для разведок урана, нефти, никеля и золота.[1] Неподалеку от берега Маклая в Лаэ находится крупнейший на острове австралийский аэродром. Папуасы страдают от малоземелья и вынуждены платить за пользование небольшими участками непосильные налоги. Население постепенно вымирает. Так, например, племя кая-кая скоро исчезнет совсем. Внутренние горные районы страны еще слабо исследованы; туда-то, в труднопроходимые джунгли, в поисках независимости и свободы и устремляются потомки Туя, Гассана, Коды-Боро.
Новая Гвинея — первый по величине остров Океании. Его населяют почти три миллиона папуасов. И эти люди не хотят больше мириться с произволом колонизаторов.
Новая Гвинея (Ириан) была поделена между Голландией и Австралией. Игнорируя законные права Индонезии на Западный Ириан, правящие круги Голландии захватили эту территорию, а военный блок СЕАТО намеревался включить ее в свою систему "обороны". Но в результате героической борьбы патриотов-ирианцев и всего индонезийского народа в 1963 году Западный Ириан был вырван из колониального плена, воссоединился с Индонезией.[2] В других частях Новой Гвинеи также усиливается национально-освободительное движение. Советский Союз не безразлично относится к судьбе народов Ириана. Как известно, советский представитель в Комитете по опеке Организации Объединенных Наций встал на защиту папуасов Новой Гвинеи, а Советское правительство поддержало справедливую борьбу индонезийского народа за освобождение Западного Ириана от голландских колонизаторов.
Остается сказать несколько слов о людях, близких Миклухо-Маклаю. Как известно, все родные Николая Николаевича официально приняли фамилию Миклухо-Маклая. Брат Сергей Николаевич ничем особенно себя не проявил. Он жил в Малине, занимал должность мирового судьи и умер в 1895 году. Младший брат, Михаил Николаевич, горный инженер, талантливый геолог, внес свой вклад в отечественную науку. Еще при царизме он немало приложил усилий, чтобы выпустить в свет сочинения своего великого брата. Но первый том сочинений он смог увидеть напечатанным только после революции. М.Н. Миклухо-Маклай скончался в 1927 году в Ленинграде.
Трагично закончил свои дни морской офицер капитан первого ранга Владимир Николаевич Миклухо-Маклай. Во время русско-японской войны он командовал броненосцем береговой обороны «Адмирал Ушаков». Из-за повреждений, полученных в Цусимском бою, корабль отстал от эскадры Рожественского. Японцы предложили Владимиру Николаевичу сдать корабль без боя. Вместо ответа Миклухо-Маклай приказал открыть огонь по японским крейсерам. Экипаж «Адмирала Ушакова» дрался героически, но перевес был явно на стороне врага: получив большие пробоины, корабль стал погружаться в воду. Миклухо-Маклай велел уцелевшим матросам прыгать за борт, сам же остался на мостике. Волны морские сомкнулись над его головой. Так 28 мая 1905 года погиб Владимир Николаевич Миклухо-Маклай.
Маргарита Робертсон после смерти Николая Николаевича, получив скромное пособие от общественности России, сразу же вернулась в Австралию и поселилась с детьми в Кловли-хаус. Умерла она в 1936 году. В 1944 году австралийский журналист Гриноп посетил сыновей Маклая, Александра-Нильса и Владимира-Оллана, и застал их в добром здравии. Отца своего они не помнили, не подозревали о том, какой большой славой пользуется его имя в Советском Союзе, однако бережно хранили небольшой архив Николая Николаевича: письма, черновики уже опубликованных работ, эскизы и фотографии, свидетельства и грамоты, паспорта, а также дневник своей матери.
…Воображение уносит нас на «мыс Уединения», в Гарагаси. Почему-то вспоминается, что во время своего первого пребывания на Новой Гвинее Николай Николаевич, опасаясь нападения островитян, зарыл в землю свои бумаги. Позже он выкопал все рукописи за исключением одного письма. Так и лежит до сих пор на берегу Маклая в толще земли бутылка с письмом. Кому оно адресовано? О чем говорится в нем? Может быть, это завещание? Завещание грядущим поколениям…
…Вглядись в лазурную даль, и ты услышишь голос Маклая:
— Всегда держу свое слово!
И из чащи тропического леса донесется:
— Баллал Маклай худи! — Слово Маклая одно!
Читатель! Если тебе удастся побывать в лазурных краях и, может быть, в Богорском ботаническом саду, остановись перед пальмой талипот.
Талипот — царица пальм. Ее могучий ствол, увенчанный роскошной кроной широких рассеченных листьев, устремлен в синеву неба. Говорят, эта пальма живет немногим более сорока лет. А потом, в период полной зрелости, выкидывает невиданное по величине белое соцветие, и воздух вокруг наполняется благоуханием необыкновенной силы. Это как бы лебединая песнь великана джунглей: исчерпав весь запас жизненной энергии на создание роскошной цветочной кисти, дерево умирает.
Взгляни на пальму талипот — и вспомни Маклая…
Путешествия Н.Н. Миклухо-Маклая.
1888 —
Н.Н. Миклухо-Маклай, Собрание сочинений в пяти томах. М. — Л., изд-во Академии наук СССР, 1950.
Я.Я. Рогинский и С.А. Токарев, Н.Н. Миклухо-Маклай как этнограф и антрополог, в кн.: Н.Н. Миклухо-Маклай, Собрание сочинений в пяти томах, т. 2. М. — Л, 1950.
И.И. Пузанов, Н.Н. Миклухо-Маклай как натуралист и путешественник (там же, т. 3).
Н.А. Бутинов, Н.Н. Миклухо-Маклай. Биографическии очерк (там же, т. 4).
Н.А. Бутинов, Воспоминания папуасов о Миклухо-Маклае по свидетельствам позднейших путешественников (там же, т. 2).
Я.Я. Рогинский, Н.Н. Миклухо-Маклай. М., изд-во «Правда», 1948.
Д.Н. Анучин, Н.Н. Миклухо-Маклай, его жизнь и путешествия, в кн.: Н.Н. Миклухо-Маклай, Путешествия, т. I. М., изд-во «Новая Москва», 1923.
Д.Н. Анучин, Миклухо-Маклай, его жизнь, путешествия и судьба его трудов, в кн.: «Д. Н. Анучин о людях русской науки и культуры», изд. 2-е. М., Географгиз, 1952.
Л.С. Берг, Новейшая биография Миклухо-Маклая. «Известия ВГО», 1948.
Л.С. Берг, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, в кн.: «Отечественные физико-географы». М., Учпедгиз, 1959.
А. Минаков, Жизнь и деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая. «Известия ВГО», 1939, № 71, вып. 1 — 2.
А.Г. Грумм-Гржимайло, Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне современной ему эпохи. «Известия ВГО», 1939, № 71, вып. 1 — 2.
Л.К. Чуковская, Н.Н. Миклухо-Маклай. М., Географгиз, 1948.
М.Г. Левин, Н.Н. Миклухо-Маклай, в кн.: «Очерки по истории антропологии в России». М., изд-во Академии наук СССР, 1960.
Народы Австралии и Океании. М., изд-во Академии наук СССР, 1956.
Frank S. Greenop, Who travels alone, к. g. murray pyblishing company, Sudney, 1944
Fischer D. Unter Siidsee, Insulanern. Das Leben des Forschers Mikloucho-Maclay 2 Aufl. Leipzig, 1955