Дмитрий Мамин-Сибиряк
Старики не запомнят
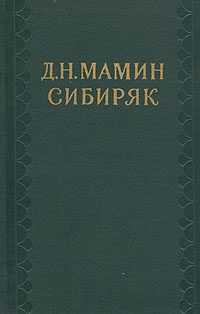
Старик Иван Герасимович жил в сарайной, то есть в двух маленьких комнатках, устроенных под сараем. Раньше здесь жили разные старушки из бедных родственниц, а сейчас пришла очередь Ивану Герасимовичу. Пока старик был в силах, он жил в главном доме, выходившем на улицу пятью окнами. Дом был деревянный, старый, но простоял бы еще лет двадцать с лишком, но сын Тихон взял и сломал его.
— Будет, пожили, тятенька, в дереве достаточно, — объяснил он своим певучим, ласковым голосом. — Поставим каменный домик, как у других протчих. Чем мы их хуже? У Нефедовых вон какой домище схлопали, у Кондратьевых, у Волковых — все строятся. Ну, а нам как будто и совестно перед другими… Слава богу, капитал дозволяет.
Жаль было Ивану Герасимовичу зорить старое пепелище, а с Тихоном разве сговоришь, — уж что задумал, точно на пень наехал. Характерный человек этот Тихон, из молодых, да ранний. Раньше пред отцом слова пикнуть не смел, а теперь смел спорить и перечить, и делал все по-своему. Иван Герасимович, сухой и высокий старик с окладистой седой бородой, раньше держал весь дом в ежовых рукавицах, а как жена Анна Петровна умерла лет пять тому назад, — сразу опустился и точно захирел. Попробует крикнуть и задать острастку, а слушать некому. Даже кухарка Фекла, которая помнила, как Иван Герасимович колачивал жену, и та нисколько сейчас не боялась его, потому что человек вышел из силы и никому не страшен.
— Будет, поцарствовал, — ворчала она себе под нос. — Раньше-то все как огня боялись, а теперь посиди в сарайной-то… Покойница Анна Петровна вот как натерпелась. Может, и в землю ушла от тебя…
Падение Ивана Герасимовича в собственном доме произошло как-то само собой благодаря ласковой хитрости Тихона, который ограничивал отца шаг за шагом с ловкостью настоящего дипломата. Окончательно убил старика новый каменный дом. Случилось это так… Дело в том, что, принимаясь за постройку нового дома, Тихон сказал отцу:
— Тятенька, вы пока поживите в сарайной, а я с женой перебьюсь как-нибудь у тестя Павла Егорыча. Оно тяжеленько по чужим углам таскаться, а приходится потерпеть… Час терпеть — век жить. Кстати вы и за работой присмотрите, потому как свой глаз алмаз.
Иван Герасимович согласился, о чем потом жалел. Очень уж хитрым оказался Тихон… Постройка тянулась целый год, и старик зорко наблюдал за всем. Все-таки не без дела сидеть. Потом каменный дом просыхал целую зиму, потом его отстраивали полгода внутри, а когда пришлось переезжать в новый дом — Ивану Герасимовичу не оказалось в нем места. Прямо этого Тихон не говорил отцу, но старик и сам видел, что ему приходится оставаться в своей сарайной.
— Нельзя, тятенька, по старинке жить, — объяснялся Тихон, делая бессовестное лицо. — Надо и гостиную, и кабинет, и спальню, и детскую, и столовую — все, как у других. Есть каморка около кухни, да и там Фекла живет. А у вас здесь преотлично: и тепло и уютно. Затеплили перед образом лампадочку, затопили печку — отлично. Старички любят тепло… Самоварчик поставили. Тишина, покой, уют… Дал бы, не знаю, что дал, чтобы так пожить.
Иван Герасимович понял, в какую он ловушку попал самым глупым образом, и молчал. Он начал бояться Тихона, который забрал все дела в свои руки и никого больше не хотел знать. У них был свой кожевенный завод и лавки с кожевенным товаром.
Когда Иван Герасимович по привычке приходил на завод или в лавку, то чувствовал себя и здесь чужим. Все к нему относились с уважением, делали вид, что слушают каждое его слово, а делали все, как хотел Тихон. И знакомые купцы, старые приятели по торговле, относились к нему так же.
— Богу молишься, Иван Герасимович? — подшучивали над ним.
— И то молюсь, — отвечал Иван Герасимович, сдерживая накоплявшееся озлобление. — Худого в этом нет…
— За нас по поклончику отложи, Иван Герасимович… Тебе уж заодно для души постараться. Хорошо, сказывают, у тебя в сарайной…
— Да, ничего, тепло…
— Тихон Иваныч уж устроит… Он уж для родителя ничего не пожалеет.
— Ничего, не жалуюсь… Помирать пора… К ненастью места не могу найти, а в сарайной тепло, тихо.
— Вот-вот, в самый раз. Много ли старичку нужно: самоварчик поставил, лампадочку затеплил…
Уездный городок Казачинск затерялся в далекой степной киргизской глуши. Он являлся типичным представителем промышленного купеческого пункта, какие встречаются только по ту сторону Урала. В уезде не было ни одного дворянского именья. Купец-промышленник типичной сибирской складки составлял здесь все, а за ним уже шел уездный маленький чиновник — полицеймейстер, исправник, заседатель. Даже здесь полицеймейстер являлся шишкой. Все дела сосредоточивались на торговле скотом, салом, кожей, шерстью и хлебом. Ни обрабатывающей, ни добывающей промышленности не полагалось, кроме двух-трех салотопен да кожевенного завода. Жили по старинке, как деды и прадеды. Купечество было все средней руки, и самым богатым человеком считался татарин Антай, который жил в двенадцати верстах от города. В Казачинске не было даже трактира, несмотря на шесть тысяч жителей. Единственным развлечением служил Торжок под Успеньев день, когда делались крупные закупки скота, да зимние ярмарки по окрестным деревням. Вообще городок жил самой мирной жизнью, и никаких особенных событий здесь не полагалось, за исключением пожаров, степных голодовок и маленьких бед. Заседатель, по обычаю простых купеческих детей, справлял именины и свадьбы, ходил по гостям «на огонек» и вообще жил тихо и мирно, благословляя судьбу.
— У меня главное, чтобы все тихо, — повторял заседатель. — Чтобы ни-ни…
В собственном смысле представителями интеллигенции являлись старичок доктор, живший в Казачинске с незапамятных времен, и смотритель уездного училища, тоже старичок и тоже живший с незапамятных времен. Но и эти представители платили дань установившемуся духу городской жизни: у доктора была салотопенная заимка, а смотритель завел извозчичью биржу.
— Что же, нам, слава богу, жить можно, — говорили все, когда проходил день.
Конечно, играли в картишки, выпивали при случае, сплетничали и совсем не знали, что такое скука. Кто придумал, что в маленьких провинциальных городах жить скучно, — неправда, чему Казачинск служит самым убедительным доказательством.
Иван Герасимович был живой историей Казачинска. Его все знали, и он всех знал. Историю своего города он считал по большим пожарам, которых было три, когда весь Казачинск выгорал дотла. В третий пожар сгорели и собор и пожарная каланча. Сидя сейчас в сарайной, Иван Герасимович от нечего делать припоминал прошлое и доходил постепенно к заключению, что чем дальше, тем будет хуже. По вечерам к нему завертывал кто-нибудь из старичков, и неслись тихие душевные разговоры.
— Уж как только будут жить после нас, — судачили старики. — Чем дальше, тем труднее жить… Баранина-то нынче в сапожках ходит. Прежде за барана давали по полтине, а нынче и приступу нет. Кишки бараньи, и те покупают.
— А шерстка как взыграла? Маслице коровье, кожи… С салом еще всяковато бывает, а к другому протчему и не подходи. На что, кажется, яйца — самая пустая вещь, а и им пошел ход…
— Кто только все это добро лопает, подумаешь… Кажется, кожу с себя сними, и то покупатель найдется.
— На ярманке сорок скупают… Ну, куда ее, сороку, а покупают.
Старички качали головами и решали, что в конце концов все это грешно и только.
— Я еще помню, как пшеничка по двугривенному была, — вспоминал Иван Герасимович. — И то жаловались, что дорого. А нынче шесть гривенок пудик… Тоже вот крупы разные, овес — ни к чему приступу нету. Прежде старики жаловались, что житья нет от дороговизны, а пожили бы теперь. Ладан, и тот вздорожал… Похороны-то во что обойдутся?
Но всего удивительнее оказывались нынешние люди.
— Голову нашего, Ивана Павлыча, я помню, когда еще он с ребятами на улице в бабки играл…
— А я ему уши дирал за озорство.
— Да… А теперь, поди-ка, и рукой не достанешь. И семья была небогатая, а вылез в люди. Встретишься на улице, а он и не узнает… Распыхался из ничего.
Стариковские мысли выплывали, как талая вода, которая образует ржавые наледи. Все чувствовали, хотя и смутно, что наступает что-то новое, люди будут жить уже совсем по-новому. Наступал конец старины. Что держалось отцами и дедами, точно провалилось. И как ловко орудуют нынешние-то молодые. Еще материно молоко не обсохло на губах, а уж он расширился.
— Твой-то Тихон Иваныч далеко пойдет, — говорили старики Ивану Герасимовичу. — Хватка у него мертвая, как у хорошего волка… И при этом великая жадность на все. Все ему мало… Недавно что он сказал одному старичку: «Потуда, грит, и купец, пока в ем эта жадность…» Ей-богу!.. И раньше это случалось, только не говорили всего своими словами. Случалось и не без греха, а только каждый про себя грех-то свой знал… А тут: на, смотрите все, каков я есть человек.
Судачившие старички напрасно старались припомнить, чтобы в их время было что-нибудь подобное. Бывали, конечно, разные случаи, а только то, да не то. А тут еще пошли слухи о железной дороге, которая должна была пройти как раз через Казачинск. Это уж выходило совсем несообразно ни с чем.
— И для чего нам эта самая чугунка? — роптали старички. — Слава богу, жили без чугунки не хуже друпгх…
— Сказывают, эта самая чугунка все как метлой подметет: и сальце, и маслице, и шерстку, и сметанку, и главное — весь хлебушко слопает.
— Уж это известно… И в газетах все давно описано. Отец протопоп рассказывал…
— А молодые-то радуются, по глупости, конечно. Тот же Тихон Иваныч вот как нагреет руки около этой самой чугунки. У него ушки на макушке… Подряды какие-то затевает, потом проезжающие номерки хочет строить, потом в городские головы метит попасть…
— От него сбудется. Увертлив уродился…
— Вот таким-то все это наруку. Хлебом не корми…
Иван Герасимович сначала судачил вместе с другими стариками, а потом вдруг замолчал. Все говорят, а он сидит и молчит.
— Иван Герасимович, да скажи что-нибудь? — уговаривали его старые приятели. — О чем раздумался-то? Вот твой-то Тихон Иваныч, сказывают, несостоятельность хочет устроить и нарочно к адвокату ездил, который этими самыми делами занимается. «Пожалуйте на чашку чаю», — и конец тому делу. За рублик-то и получай любую половинку, а то и поменьше… Нынче это даже весьма просто. Всякий желает капитал нажить…
Иван Герасимович продолжал молчать и только загадочно улыбнулся. Всем сделалось ясно, что старичку что-то вступило в голову, и его оставили в покое.
Они были правы. У Ивана Герасимовича, действительно, явились свои мысли. Он даже по ночам не спал и все думал.
— Нет, довольно!.. — повторял он, споря с каким-то неизвестным противником. — Одним словом, будет… И железную дорогу хочешь слопать, и шубу выворотить, и городским головой быть, — нет, брат, шалишь!.. Мы еще укоротим тебя, добра молодца, и в оглобли заведем и хвост куфтой подвяжем в лучшем виде. Силов моих больше не стало терпеть… Стой, Тихон Иваныч, и не моги дышать!
В один прекрасный день, надев праздничный длиннополый сюртук и замотав по старинной моде шею черной атласной косынкой, Иван Герасимович отправился к сыну, в каменный дом, где уже не бывал давненько.
— Ах, тятенька, в кои-то веки собрались, — запел Тихон, делая сладкое лицо. — И при всей форме…
— Дело есть… надо поговорить с тобой… — довольно сурово ответил старик. — Да… Хочу тебя уничтожить. — и весь тут сказ. Будет мне дурака валять и добрых людей смешить. Все мое, а ты как знаешь…
— То есть как ваше, тятенька?
— Не о чем нам с тобой разговоры разговаривать. Сказано: все мое. Выезжай из дому, одним словом…
— Помилуйте, тятенька, да ведь вы же своими руками при собственной живности передали мне все по форме. Я и держу-то вас в сарайной только по милости… ей-богу-с! Спросите кого угодно…
Иван Герасимович ничего не отвечал, а только повернулся и ушел.
Потом он побывал и у заседателя, и у протопопа, и у исправника и везде объявил о своем намерении опять вступить в дела, а сына Тихона прогнать. Старику показалось, что его слушают будто не так, как следует, и во всем соглашаются, как с маленьким ребенком.
— Да, да… — шамкал старичок протопоп. — Оно, конечно, хотя во всяком случае, несмотря на сие…
Исполнив все, как следовало, Иван Герасимович вернулся к себе в сарайную совершенно успокоенный. Вечером он сидел за самоваром и с особенным удовольствием попивал чай с малиновым вареньем. Именно в этот блаженный момент раздался осторожный стук, и в дверях показалась голова Тихона.
— Тятенька, можно к вам?
Не дожидаясь позволения, в комнату вошли о. протопоп, исправник, заседатель и старичок доктор. Они поздоровались и чинно уселись по местам. Тихон остался у дверей, точно боялся, что отец убежит.
После некоторых пустых разговоров доктор надел золотые очки и проговорил деловым тоном:
— Ну-ка, ангел мой, Иван Герасимыч, покажи язык.
В первую минуту Иван Герасимович совершенно растерялся, а потом сразу все понял. У него мороз пробежал по спине. Старик забормотал что-то совсем несвязное, а гости переглянулись между собой.
Через месяц Иван Герасимович был объявлен страдающим старческим слабоумием. Тихон пришел к нему в сарайную, погрозил пальцем и проговорил:
— Теперь уж вам, тятенька, полагается одна постная пища… да-с. Для души даже весьма пользительно. Мы еще вот двух таких же старичков устроили.
1891