Борис Минаев
Ельцин
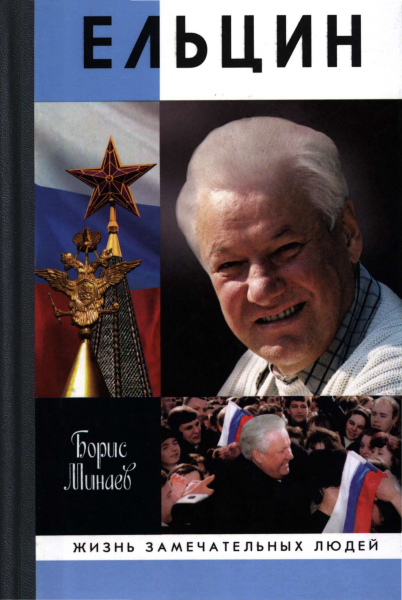
Книга, которую вы сейчас держите в руках, выходит в серии «Жизнь замечательных людей». Она посвящена биографии первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина.
Масштаб этой фигуры трудно переоценить. Даже самые последовательные противники вынуждены признавать в нем такие человеческие качества, которые делают честь любому политику. Он никогда не перекладывал ответственность на других, брал всё на себя открыто и даже с вызовом. Всё, что он делал, он делал со страстью, отдавая делу всего себя, без остатка.
Настоящая оценка тому, что сделал Первый президент России, будет дана не нами и, наверное, не нашими детьми. Масштаб преобразований, которые произошли в России в конце двадцатого столетия, был столь грандиозен, что только время может дать истинную оценку тому, что было им сделано.
А мы, современники, конечно, предвзяты ко всему тому, что происходило на наших глазах. Я тоже не могу относиться к Борису Николаевичу объективно. Несколько лет я работал в команде Президента Ельцина. Уже много раз говорил о том, что, когда заканчивался срок его президентства, видел для себя совсем другую судьбу. Но всё сложилось иначе. И это был выбор моей жизни. Выбор, сделанный благодаря Ельцину.
Вспоминаю день ухода первого Президента. Ельцин уже произнес свое прощальное видеообращение к народу, простился со всеми, с кем долго работал в Кремле, поговорил с патриархом Алексием Вторым. И уже уходя, тяжелой, грузной походкой покидая Кремль, вдруг остановился у машины, посмотрел на меня и сказал: «Берегите Россию!» Эти его слова должны остаться в истории, стать главным напутствием для всех, кто вступает на этот высокий пост. Пусть они не будут произноситься вслух. Но каждый Президент, оставляя должность главы нашего государства или принимая ее, обязан помнить ельцинские слова: «Берегите Россию!»
Литература о ельцинском времени поистине огромна.
Свои воспоминания оставили не только политики, основные участники событий (самому Борису Николаевичу принадлежат три книги мемуаров), но и помощники, пресс-секретари, политологи, журналисты, депутаты, ушедшие в отставку члены горбачевского Политбюро, какие-то давно забытые партийные деятели, генералы, охранники, по-моему, даже телеоператоры — словом, чтобы никого не обидеть, широкий круг лиц. Литература «про Ельцина и его время» могла бы занять серьезных размеров книжный шкаф.
Но, как ни странно, на русском языке до сих пор не написано ни одной книги, ни одного объективного исследования, в котором были бы просто изложены факты жизни Ельцина и героем которого был бы именно он
Хотя Ельцин — крупнейшая историческая личность.
Это первый руководитель нашего государства, который получил свой пост не путем договоренности элит, по наследству или в итоге переворота, — а в результате прямого народного волеизъявления.
Это первый руководитель нашего государства, который решал все спорные, кризисные вопросы — а их было в его время немало, да их немало и сейчас — через обращение к нации, через референдум, через выборы, через голосование в парламенте. Гласно.
Это человек, давший стране свободу — политическую, экономическую, духовную, да просто свободу.
В каком-то смысле, он был
Сравнить реформы Ельцина просто не с чем — изменился политический и экономический строй, изменились менталитет нации, ее образ жизни и привычки, изменились границы, изменились отношения с мировым сообществом, изменилось всё.
Эти изменения, которые произошли в 1990-е годы, столь огромны, что у нас, пишущих, возможно, просто нет критериев, чтобы их оценить. Да и сам Ельцин был таким страстным человеком, руководил страной в такое бурное время, что страсти еще не остыли, они продолжают кипеть вокруг него даже сейчас, после его смерти.
Я понимаю, что и сам не избегу обвинений в пристрастности или необъективности. Что когда-нибудь будет написана другая, может быть, гораздо более глубокая, художественная и точная его биография. Но я ставил перед собой самую простую, но необходимую на сегодняшний день задачу — составить из всех этих разношерстных и разноречивых сведений общую картину, последовательно изложить события жизни Бориса Николаевича и попытаться уловить и передать своеобразие его личности, понять логику его поступков.
Пусть эта книга будет первым камешком, кирпичиком в основании этой постройки. В нашей истории не может быть такого пробела, зияющей дыры, заполненной мифами, дешевыми стереотипами, расхожими мнениями и, что уж греха таить, откровенной неправдой, кому-то выгодной или кому-то удобной.
Я начал работать над биографией еще при жизни Б. Н. Ельцина. Надеялся, что он прочтет ее в рукописи, но не успел. Может быть, просто не хватило времени, а может быть, интеллектуального мужества, чтобы успеть.
В книге использованы не только открытые материалы и документы, имеющиеся в печати, но и интервью, которые публикуются здесь впервые. Мне очень помогли в работе друзья, коллеги-журналисты, члены семьи Бориса Николаевича. Искренне признателен им за это.
Ельцин никогда не ругался матом…
Зная этот факт биографии моего героя, я пытался найти ему какое-то объяснение.
В России ведь практически нет людей (по крайней мере мужского пола), которые хотя бы эпизодически не употребляют этой лексики в своей речи. Ельцин вырос в очень простой крестьянской семье, на Урале. Город Березники — это огромный «химзавод», а «химзавод» — это почти всегда заключенные, а заключенные (зэки) — это как раз те самые люди, которые, по меткому выражению, не ругаются, а разговаривают на этом языке.
Да и дальше — общежитие, стройка, строительное управление, авралы, общение с рабочими, очень плотное и почти всегда — конфликтное; потом обком партии, в общем, мат сопровождал Ельцина всю его сознательную жизнь. По крайней мере, при нем матерились, ругались, «крыли», но он в ответ — никогда.
«Расколоть Борю» пытались многие. Говорят, заключали даже пари, ставили ящик коньяку, что расколют, но — всегда проигрывали. Самоограничение это было не искусственным, оно — почти физиологического свойства.
Больше того, во второй половине жизни Ельцина, когда многим уже была известна эта его особенность, его подчиненные или просто люди, с которыми он общался, скрывали, прятали, давили в себе привычные слова. А те, которые не знали или не давили, потом порой за это расплачивались.
Так, госсекретарь (была тогда такая должность), а до этого — фактически начальник ельцинского штаба, свердловский депутат Геннадий Бурбулис во время застолья после очередной ельцинской победы встал произносить тост и начал материться, да еще при женщинах.
Вскоре Ельцин напишет в своих «Записках…»: мол, я от него устал. Бурбулиса рядом с ним в этот момент уже не было.
Вообще-то (отмечу в скобках) Бурбулис, помимо своих демократических взглядов, был еще и образованным, интеллигентным человеком. К эпизоду этому я позднее вернусь, попробую расшифровать загадку, а пока — еще один эпизод. Вечеринка, устроенная министром безопасности РСФСР Виктором Баранниковым в честь победы над путчистами в 91-м году, была смазана… тяжелым армейским матом Руцкого.
Пройдет два года, и Руцкой, с другими мятежниками 93-го, с тем же Баранниковым, отправится в автобусе прямиком в Лефортово. Нет, конечно, не потому что ругался матом при дамах (и при Ельцине), совсем не поэтому. Но какая-то линия здесь прослеживается.
Как пишут некоторые мемуаристы, Горбачев любил «подпускать матерок» в своей деловой речи, в том числе и во время заседаний Политбюро. Ельцина это наверняка коробило.
Было бы, например, понятно, если бы Ельцин при всем при этом был очень вежлив и тактичен, держался всегда мягко и боялся обидеть кого-то. Так ведь нет, ничего подобного! Практически на всех своих постах он вел себя с подчиненными довольно резко, порой очень жестко, отчитывал их («Папа мог поговорить очень вежливо, но ТАК вежливо, что эта вежливость доводила некоторых до полубессознательного состояния», — вспоминает дочь Ельцина Татьяна) — тому есть немало свидетельств. Возможно, мат в таких случаях, напротив, как-то снижает ситуацию, делает ее попроще, более свойской, что ли, — но факт остается фактом: резкий, конфликтный Ельцин совершенно не употреблял в своей речи этих слов. При этом всегда и всем на работе он говорил «вы», исключений из этого правила почти не существовало.
Можно находить разные объяснения этой странной для русского человека особенности. Ну, скажем, знаменитая «дистанция» Ельцина. Или то, что он выбрался из самых низов на самый верх, выбрался стремительно, только благодаря себе, своему упорству, своей воле, и общепринятый мат был ему противен, был для него принадлежностью социального дна, блатного языка послевоенной улицы, той нищеты, того ужаса, от которого он уехал из Березников в Свердловск, в институт. И это объяснение тоже вполне подходит.
Кстати, мой покойный отец, Дориан Михайлович Минаев, одного с Ельциным года рождения, работавший на ткацко-прядильной фабрике главным инженером, а потом директором, тоже никогда матом не ругался, хотя наверняка слышал его каждый день, и каждый день, как и Ельцин в своем управлении, жестко и сурово отчитывал подчиненных. Была в этом презрении к мату какая-то важная черта послевоенной технической интеллигенции.
…Словом, объяснения годились разные, но ни одно до конца не устраивало.
Но как-то в зарубежной его биографии (у Т. Колтона) вдруг натолкнулся на еще одно возможное объяснение. Оно заключается в том, что предки первого президента России, как и у многих других уральцев и сибиряков, могли быть, как пишет автор, «староверцами», ну то есть, если по-русски, староверами (старообрядцами), которые со времен церковного раскола XVII века считались еретиками и которых ссылали за ересь именно на Урал и за Урал.
Староверы не курили. И Ельцин не курил, просто не выносил табачного дыма, подавляющее большинство его подчиненных были некурящие люди.
Староверы не сквернословили, отличались строгими нравами, особенно в семейной жизни, были истовы в труде. И Ельцин в лучшие годы доводил подчиненных до полного изнеможения своим графиком, своей требовательностью, своей работоспособностью. Ну, и, конечно, староверы не пили водку…
Да, понятно, что на этом месте стройная концепция треснула.
Однако речь ведь не идет о прямом наследовании религиозных традиций, тем более что дед Ельцина, Игнатий, уже ходил вместе со всеми в обычную православную церковь, где потом крестили Бориса Николаевича. Речь тут о другом — о наследовании непрямом, неявном, даже не на уровне семейного завета, а на уровне подсознательных, «генных» матриц, неожиданно и порой странно проявляющихся в потомстве, причем именно в отдельных потомках рода, как бы случайно…
А что, собственно, мы, современные люди, знаем о староверах? Да практически ничего. Их традиции, их строгая духовная основа очень плохо прилагаются к нашему российскому менталитету, особенно сегодняшнему, к уже традиционному понятию о «русской душе». Между тем, как пишет американский исследователь, «их моральный кодекс сдержанности, усердия и упорное противостояние трудностям в некоторой степени напоминают протестантскую этику на Западе». Вот так.
Еще одна особенность родословной Ельцина — то, что его крестьянские предки
В чем разница?
Мир дворянских поместий — это действительно целый
Так вот, «государственный крестьянин» живет вне этого обжитого, замкнутого мира. Он, конечно, тоже кланяется и снимает шапку при виде какого-нибудь «барина» — но по-другому, без истовой веры в святость заведенного порядка, просто по нужде. Он самостоятелен, ему рассчитывать не на кого — только на свои руки, на свою голову, на свою собственную, личную судьбу. Государство, которому он непосредственно принадлежит, слишком далеко.
Забегая вперед можно сказать, что на всех своих работах Ельцин первым делом пытался взломать мешающую делу рутину — иерархию, традиции, уклад, привычки, прозу жизни, будничный раз и навсегда установленный ритм, взаимозависимости, некий органический, косный порядок («так было и так будет»).
Эта способность Ельцина менять систему не изнутри, пользуясь ее внутренними законами и механизмами, а ломать ее, выстраивая под себя — конфликтуя, увольняя, жестко критикуя, перенапрягая привычные взаимосвязи, привычные законы взаимодействия, — это не просто черта его характера. Это не завышенная самооценка или повышенная агрессивность, как считают многие из тех, кто о нем писал.
Это — корневая черта его личности: он не принимает чужие, уже готовые правила игры, которые предлагаются ему снизу («подчиненные») или сверху («начальники»).
Его личный, внутренний мир не способен слиться с уже сложившимся, существующим порядком вещей. Он предполагает изменения только по своему
Много раз делались попытки найти корни его широко известной несговорчивости, неуступчивости окружающей среде и сложившимся правилам — в детстве, в юности, то есть по классической советской схеме «формирования характера». Мне ближе другой подход, «генетический» — человек рождается с определенным набором качеств, с начерно написанным
История ельцинской семьи — яркий пример того, как обошлась новая советская эпоха с людьми, обладавшими этой природной независимостью, привыкшими опираться не на «общество», не на привычку плыть в общем потоке, а на самих себя.
…Оба деда Ельцина (то есть Игнатий Ельцин, отец Николая, и Василий Старыгин, отец Клавдии Старыгиной, его матери) были уральскими крестьянами-середняками, имели, как сказали бы мы сейчас, «крепкое хозяйство».
Коллективизация 30-х годов просто не могла обойти их стороной.
Игнатий Ельцин со своими четырьмя сыновьями был владельцем мельницы. Не случайно американский биограф Ельцина Т. Колтон называет Игнатия «сельским капиталистом». Капиталист не капиталист, но семья и впрямь крепкая: все четыре сына Игнатия Ельцина славились в Басманове тем, что были самородками-изобретателями, как сейчас бы сказали, «технарями». Маленькую сельскую мельницу модернизировали, усилили ее мощность за счет дополнительных лопастей, которых в итоге стало восемь. У каждого сына была лошадь, имелись в домашнем стаде коровы, овцы и т. д. Стучала в хозяйстве даже молотилка. На уборку урожая Ельцины нанимали в селе помощников.
Ну как же не раскулачить такого![1]
Василий Егорович Старыгин, другой дед Ельцина, «работал по дереву», тоже был мастером, только не железных и не мельничных дел, а плотником и столяром. Он строил дома, тонко чувствовал пространство, знал древние секреты русского домостроения. Его жена, Афанасия Старыгина, была известной в деревне портнихой, как тогда говорили, «модисткой», обшивала всю округу.
После войны, когда Ельцин решил поступать на строительный факультет, он приехал к деду в гости и рассказал ему о своем выборе. Дед Василий спросил: кем, строителем? А вот можешь мне баню построить? Об этом Ельцин рассказал в своей «Исповеди…», и история эта вполне в духе деда, уральского плотника (и его деревенских «подначек»): ведь никогда прежде внук Василия Старыгина строительством не занимался. Боря Ельцин за свои летние каникулярные месяцы баню построил, одобрение деда получил, поэтому вполне справедливо мог считать Василия Старыгина «крестником» в своей профессии.
Но вернемся в 30-е годы. Василий Старыгин не имел такой собственности, как Игнатий Ельцин, грех его перед советской властью состоял в другом — он для строительства домов
Расплата для обоих дедов наступила после 1930 года.
Скот, мельница и молотилка — все было конфисковано, недоимки взысканы, деда Игнатия отправили в Надеждинск, ныне Серов, на крайний север Уральской области. Очень суровая природа, до полярного круга почти «рукой подать», жизнь такая, что уж никто не позавидует.
На какое же богатство позарились эти «новые люди», которые приложили руку к их раскулачиванию? «Семья не была богатой, — вспоминает Наина Иосифовна Ельцина рассказы матери Бориса Николаевича, — в доме была перина, набитая сеном. Конфисковали у них тулупы, валенки (“чесанки”, по-уральски), другую одежду. Кто раскулачивал, сами же потом в этой одежде и ходили. Председатель сельсовета жил в их доме. А раскулачили за что? За ту самую мельницу, которая работала на все село». Раскулаченных братьев Ельциных (они остались в Басманове) летом заставляли чинить технику, которая раньше им принадлежала, — мельницу и молотилку. Теперь они были колхозными.
Жизнь деда и бабки в Серове, о которой сам Борис Николаевич не вспоминает в своих мемуарах (почему не вспоминает — к этому я еще вернусь), была крайне скудной. Игнатий Ельцин и его жена Анна жили в землянке, впроголодь, потому что на лесопилке Игнатий работать уже не мог — лишенный всего, он начинал терять зрение…
В возрасте шестидесяти одного года, полностью разбитый, ослепший и обессиленный, умирает бывший мельник Игнатий Ельцин, дед Бориса Николаевича. Идет 1936 год. Его внуку уже пять лет.
Тем временем его сыновья, братья Николай и Андриан Ельцины, понимают: здесь, в Басманове, под бременем страшного проклятия — «раскулаченные» — им не жить, по крайней мере в ближайшие годы. Да и семьи свои не прокормить. В 1932 году оба брата, получив разрешение у председателя колхоза, уезжают в Казань, на стройку.
Это так называемый «Авиастрой» — огромный авиационный завод, который станет потом гордостью татарской столицы, флагманом ее промышленности, будет выпускать сначала военные самолеты, а потом знаменитые туполевские лайнеры, в том числе Ту-104, на которых первый секретарь обкома Ельцин будет летать в Москву, на пленумы ЦК КПСС, «к Брежневу». А пока «Авиастрой» — это огромное поле, котлован и рабочие с тележками. Рабочие живут в бараках.
«Стройка» для всех Ельциных — это не просто работа. Это судьба, фатум, то есть более общее понятие, которое вобрало в себя многое, а не только будущую профессию внука Игнатия и сына Николая. Стройка — это и спасение, и неизбежность, и каторга, и единственный выход.
И так — не только для них.
Практически весь XX век на территории бывшей Российской империи происходит грандиозное переселение народов, титаническое движение людских масс.
Даже в более гуманную хрущевскую эру, когда грянула долгожданная реабилитация и толпы освобожденных зэков поехали домой из лагерей, — такие же толпы «целинников» из больших и малых городов переселяются в Казахстан. Миллионы людей при Брежневе едут на БАМ, в Тюмень, на Уренгой и на другие «комсомольские стройки», которых в стране все больше с каждым годом, — и заселяют, и осваивают глухие просторы… то ли по «призыву сердца», то ли в погоне «за длинным рублем», то ли потому что так им велели, приказали, предложили, внушили…
Но пусть историк оценит степень добровольности этих массовых переселений, а мы просто напомним, что эти организованные людские миллионы двигаются по стране, казалось бы, в абсолютно спокойную, устойчивую эпоху, когда «неуклонно растет благосостояние народа».
Продолжает строиться мощная сверхдержава, но, увы, без землянок, бараков, без вагончиков в тундре, без жуткого быта переселенцев, без житья впроголодь и работы на износ, без неисчислимого количества обморожений, увечий, болезней,
Что уж говорить о временах куда более ранних: в товарные, едва приспособленные вагоны (позднее, при Сталине, в них будут возить миллионы зэков) засовывал целые деревни прогрессивный Столыпин и отправлял на «пустые» земли. Потом революция, Гражданская война, и снова народ не сидит на месте, убегает, переезжает, стремится куда-то — это становится образом жизни. После 1917 года сотни тысяч вооруженных людей бродят по стране, убивая друг друга; миллионы русских убегают от Гражданской войны в Европу, другие миллионы поедут строить сталинские заводы и фабрики, на лесоповал и в рудники, чтобы «ковать победу», чтобы умереть от голода и цинги.
Так что если смотреть на всю картину в целом, а не только на интересующую нас подробность — бегство Николая и Андриана на стройку, в Казань, — это их личный путь лишь в одном из малых потоков, а всего этих потоков в ту пору по стране — десятки и сотни. Вся страна — сплошные потоки вынужденной миграции. В этих потоках не все человеческие веточки доплывают до конца. Но веточка рода Ельциных — все-таки доплыла.
На «Авиастрое» семью постигло новое несчастье.
Николай и Андриан арестованы по доносу. Их допрашивают в местном ОГПУ.
За что?
В протоколе допроса фигурирует плотник Николай Отлетаев, на показаниях которого и строится обвинение Отлетаев показал, что Николай Ельцин во время трудового дня «запрещал рабочим читать газеты…».
Собственно, все уголовное дело «преступной группы» состряпано было, извините за плохой каламбур, как раз «относительно обедов». А потом уж приплели и газеты. Голодный бунт на сталинской стройке был даже опаснее идейного. Люди, воспитанные на трудовой крестьянской этике, в принципе, могут привыкнуть есть пустой суп или суп из тухлого мяса. Но стоимость этого супа у них вычитают из честно заработанных денег. Отсюда и все остальное.
И раздражение против советских газет и против принудительных сборов в помощь «рабочим, посаженным в тюрьмах в капиталистических странах».
Что именно спасло братьев от более тяжелого наказания — сейчас уже выяснить трудно. Скорее всего, следователям было просто некогда и неинтересно возиться с «деревенщиной». А может, по разнарядке нужно было перебросить столько-то рабочих рук с одной стройки на другую.
Итог: три года лагерей.
Николай отбывал свой срок на строительстве Волго-Донского канала (тоже стройка и тоже эпохальная!). Его выпустили оттуда на семь месяцев раньше положенного, за хорошую работу.
Отдельная история — как спасалась в это время Клавдия Ельцина с маленьким сыном.
Выжить одна вряд ли сумела бы — без жилья, без работы. Хотя пробовала что-то шить, пробовала куда-то устроиться, но у чужой, пришлой уральской крестьянки, да еще жены «врага народа», шансов не было никаких.
Вернуться домой она не могла — ее отец, Василий Старыгин, вместе со своей семьей к этому моменту тоже оказался в приполярном Урале, в далекой ссылке. Там он, правда, сумел построить дом и…выжить, в отличие от свояка. Умер Василий Старыгин в 1968 году, в Бутке[2].
Клавдию спасла случайность. В тюрьме Николай Ельцин познакомился с врачом Петровым, тот был из Казани и пожалел малыша и его мать. Два года Клавдия и Борис жили в семье репрессированного доктора Петрова.
В 1937 году Николай вернулся в Казань. Вскоре после рождения второго сына, Миши, Николай Игнатьевич, а потом и Клавдия вместе с детьми едут в город Березники, в Пермскую область, где работают братья Ельцина, то есть ближе к родным местам. Там, на третьей своей великой стройке (в Березниках возводили крупнейший в стране химкомбинат), Николай Ельцин, наконец, обретает более или менее твердый социальный статус — плотник, затем мастер. Сюда же, похоронив мужа в Серове, приезжает их мать Анна (бабушка Бориса Николаевича). Она поселилась у старшего брата Николая Ельцина, Ивана Игнатьевича, и умерла через пять лет, в начале войны. В Березниках закончатся их страшные и бессмысленные скитания 30-х годов.
Боря Ельцин, старший сын, начинает ходить в школу. В июле 1944-го рождается последний ребенок Николая и Клавдии — Валентина. И хотя живут они в течение последующих шести лет (с 1938-го по 1944-й) по-прежнему в бараке, а не в своем доме, как когда-то, — есть там даже водопровод, правда, на улице. И хотя зимой спят вповалку, чтобы не замерзнуть, и постоянное присутствие других людей за тонкой перегородкой, в огромном коридоре, и везде, всюду — этот человеческий муравейник, и только выживание, и только жизнь впроголодь, как это происходит у них начиная с 1930 года… — но все-таки здесь, в Березниках, звучит уже и другая, счастливая нота — растут дети, живут как все, невысланные, не лишенные прав, постепенно налаживается кое-какой быт. И Николай Ельцин даже начинает заниматься изобретательством. Он, видевший воочию нечеловеческий механизм сталинских строек, всю жизнь мечтает изобрести «машину для укладки кирпичей», чертит чертежи, придумывает конструкции, посылает письма в инстанции…
Но прежде чем машина для укладки кирпичей будет изобретена или, напротив, выброшена в сарай как ненужный хлам, произойдет другое. Определится мировоззрение этой семьи.
…Вряд ли есть что-то более важное для человека. Будет ли он отталкиваться от этого мировоззрения, преодолевать его, ломать в себе или, напротив, лелеять и взращивать, — оно останется в нем, пусть даже не до конца осознанным, посланием от предков, которое он бережно переписывает и обновляет всю жизнь, чтобы отправить дальше. В закладке этого фундамента равно принимают участие мать и отец, между ними — и только между ними — пролегает тот незримый, запрятанный глубоко внутрь отношений пласт судьбы.
У Ельциных этот пласт — безусловно,
И — противостоящая этой эпохе ельцинская воля к жизни,
…Однажды Боря Ельцин с мамой случайно увидели открытую дверь в спецотдел гастронома: там было красиво, там стояли на полках иностранные консервы, там по-другому пахло, это была чуть приоткрытая щелка в рай. Мама, оглядываясь, шепотом, как могла, объяснила сыну, что это магазин для начальников и их семей. «Мама, я стану начальником, — обещал он ей. — Я обязательно стану начальником». (Это воспоминание записал со слов Клавдии Васильевны екатеринбургский исследователь Андрей Горюн.)
Можно едко усмехаться в этом месте биографии над будущим борцом с привилегиями. А можно — понять то, что понять, в общем-то, несложно. Боря Ельцин обещает себе и матери — победить семейную судьбу. Превратить бесконечные мытарства по горизонтали — в вертикаль победы.
«Мой отец, — пишет Борис Ельцин в «Записках президента», — никогда не говорил со мной о своем задержании и заключении. В семье запрещалось говорить об этом».
Страшные 30-е годы были словно вычеркнуты, вытеснены из памяти. Но замолчать прошлое, стереть его — все равно нельзя. Оно так или иначе будет фиксироваться в настоящем, запечатлеваться в нем.
Позднее Ельцин скажет в своем интервью об отце:
«Он никогда не был близок к коммунистам и сам никогда не был коммунистом. Это отражалось в его убеждении, что коммунизм — не тот путь, по которому должна пойти Россия. В целом в нашей семье не очень было принято обсуждать советский режим и коммунистов. Но мы говорили сдержанно… очень сдержанно».
Безусловно, Борис Ельцин — по воспитанию, советский человек 50-х и 60-х годов. Он весь пронизан тем послевоенным советским миром, его правилами и преданиями, его фильмами и книгами, его надеждами и мечтами.
Но в фундаменте этой постройки лежит глубоко запрятанная тайна. Семья Ельциных — не антисоветская. Но и не советская. Мировоззрение его семьи — мировоззрение простых людей, которое, как древний разлом в толще земли, определяет строение всей геологии, всей тектоники национального характера. Оно и подготовит глубочайший разлом 90-х годов. В глубине этого характера таится крестьянская, могучая, не нашедшая выхода в судьбе отца и деда энергия сопротивления, вызов, потребность ответа — ответа на то, что сделала с их крестьянским миром новая власть.
И ответ будет дан. Ответом станет он сам — такой, каким сделала его история.
Однако возникает вопрос: почему Ельцин молчал о репрессиях столько лет? Почему в его книге «Исповедь на заданную тему» об этом — лишь несколько слов, глухих, оставляющих больше вопросов? Почему во всех своих многочисленных речах, публичных выступлениях, интервью, на встречах с избирателями, студентами, журналистами в годы перестройки, когда сталинские репрессии были одной из главных общественных тем, — он ни словом не упомянул об этом? Почему впервые подробный рассказ об аресте отца появляется в книге «Записки президента», опубликованной лишь в 1994 году?
Я спросил об этом Наину Иосифовну Ельцину: может быть, Б. Н. рассказывал что-то ей, дочерям, в узком семейном кругу?
— Нет, — сказала она, — ничего не рассказывал. Впервые Борис Николаевич узнал все подробности об аресте отца только в 1992 году, когда уже был президентом России, ему принесли дело из КГБ (кажется, тогда оно называлось ФСК), и в деле он прочел всё: донос на отца, протокол допроса, приговор и так далее. До этого он ничего не знал, известно было только, что отец работал на стройке в Казани, потом на Волго-Доне, и все… Видимо, Николай Игнатьевич строго-настрого запретил и матери рассказывать все эти подробности детям. Иначе Борису Николаевичу пришлось бы указывать это в анкете при поступлении в институт, при приеме в партию. Его отец это знал, потому так и поступил.
Итак, Николай Ельцин скрыл от сына свое прошлое. Объяснения, казалось бы, лежат на поверхности.
…Не хотел мешать его будущей карьере?
…Стыдился, что был зэком?
Но и то и другое объяснение — слабовато. Скорее, разгадка таится в характере ельцинского отца — он навсегда решил вычеркнуть эту страницу своей биографии из памяти, из жизни, оставить ее только для себя. Такая способность бывает присуща людям исключительно цельным, волевым.
И еще. Само «страдание» 30-х годов не воспринималось отцом Ельцина и его матерью как что-то личное, особенное. Это было только малой частью общего «страдания», общей беды, общего потока. Но отец Ельцина навсегда решил для себя вырваться из этого потока еще тогда, в 30-е годы.
…Почти у всех биографов есть несколько стереотипов о его детстве.
«Ельцин вырос в простой крестьянской семье», в бедности, нищете, в далеком, богом забытом углу Урала. Самое интересное, что сам Б. Н. в своих мемуарах тоже поддерживает этот образ. Конечно, тому много способствовали военные, голодные годы, годы барачной жизни, годы беспросветной нужды, когда пайка хлеба делилась на бережные кусочки, а крошки отправлялись в детские рты.
Тем не менее несколько уточнений сделать все-таки надо.
Березники, где он провел все свое сознательное детство (с 1937 по 1948 год), были вовсе не «богом забытым углом», не поселком городского типа, а городом. Там, например, существовал даже драматический театр, в котором в молодости играл известный актер Георгий Бурков, ставили спектакли ленинградские режиссеры — Брянцев, Меркурьев. В Березниках огромные заводы, на одном из которых, химическом «калийном», отец Ельцина занимал немаленькую должность, возглавляя строительный отдел. Словом, назвать «глухим углом» Березники никак нельзя.
Ельцины жили в бараках на окраине Березников с 1938 по 1943 год. В 1943-м Николай Игнатьевич получил комнату в многоквартирном доме. В 1944-м, когда у них родилась дочь Валентина, третий ребенок, он построил уже свой собственный дом. «Дом у пруда», так его называют в семье до сих пор.
…Стоит чуть пристальнее всмотреться в личность ельцинского отца, как сразу становится понятно: это фигура крупного, яркого, необычного человека.
В Березниках он начал плотником, затем стал мастером и начальником участка, потом возглавил целое строительное подразделение при заводе. Это была серьезная карьера для строителя с такими тяжелыми отметками в личном деле: из семьи кулаков, сосланный, арестованный по политической статье, бывший зэк.
И вот чем объяснялась карьера: Николай Ельцин был самородком, его «машина по укладке кирпичей» — не просто чудачество, он постоянно учился и занимался техникой, техническим изобретательством.
Именно поэтому — как освобожденный «по брони» — он не оказался на фронте. Его оставили строить завод в тылу.
С фотографии, сделанной в городском ателье (возможно, еще в Казани, а может, уже в Березниках), где Боре Ельцину примерно лет семь-восемь, глядит его отец в костюме и галстуке, причем из кармана пиджака торчит уголок белого платка, а его жена позирует мастеру в шляпке, нарядной блузке и жакете модного покроя, и пуговички на этой блузке ярко блестят сквозь все десятилетия. Кстати, прилично одеты и их дети (маленький Михаил стоит на деревянном стуле).
…Это люди, несомненно, «среднего» советского класса.
Несмотря ни на что! Отец Ельцина на фотографии — пока всего лишь плотник, только что освобожденный из лагеря, но этот потенциал социального роста, преодоления в нем (в них) уже чувствуется.
У Николая Ельцина открытое, но сдержанное лицо. И прекрасная романтическая шевелюра. В нем чувствуется характер настоящего мужчины. В нем чувствуется ум.
Конечно, преодолеть такую судьбу и стать в Березниках «большим человеком» мог только мужчина с огромной волей к жизни.
Именно эта отцовская воля, как мне кажется, стала для Бориса Ельцина-ребенка первым испытанием, первой пробой сил.
Ребенок, сам по себе, от природы обладающий сильным темпераментом да еще недюжинными способностями, рядом с таким отцом, конечно, оказывается в ситуации постоянного вызова. Ему нужно утверждать себя.
Этот вызов, в какой-то мере даже бунт — не столь уж явно выраженное его состояние, ну, в конце концов, детские выходки есть у всех. Боря Ельцин — добрый, трудолюбивый, любящий сын, прекрасный ученик, староста класса. Однако истории, которые он бережно сохранил в памяти и рассказал в первой книге своих мемуаров, — они
О чем же они?
«Речушка была, Зырянка, весной она разливалась и становилась серьезной рекой, по ней сплавляли лес. И мы придумали игру, кто по этому сплавляемому лесу перебежит на другой берег. Бревна шли плотно, так что если все точно рассчитаешь, то шанс перебраться на другой берег был. Хотя ловкость нужна для этого неимоверная. Наступишь на бревно, оно норовит крутануться, а чуть замедлил секунду — уходит вниз под воду, и нужно быстро-быстро с одного бревна на другое, балансируя, прыгая, передвигаться к берегу. А чуть не рассчитал — и бултых в ледяную воду, а сверху бревна, они не пускают голову над водой поднять, пока сквозь них продерешься, воздух глотнешь, уже и не веришь, что спасешься».
«Еще у нас бои проходили — район на район: с палками, дубинами, с кулаками, человек по 60, 100 дрались. Я всегда участвовал в этих боях, хотя и попадало порядочно. Когда стенка на стенку, какой бы ловкий и сильный ни был, все равно, в конце концов, по голове перепадет. У меня переносица до сих пор, как у боксера, оглоблей саданули. Упал, думал, конец, все потемнело в глазах. Но ничего, все-таки очухался, оттащили меня до дома. До смертельных исходов дело не доходило, мы хоть и с азартом дрались, но все-таки некие рамки соблюдались».
«Чувства боли у меня никогда не было. Я к боли отношусь очень терпимо. Меня, как и тогда, достает сейчас иногда боль, но я все-таки ее убиваю сам в себе», — добавляет Ельцин в одном из своих интервью.
В этих историях он — еще лишь участник, частица массового азарта, жажды борьбы. Один из многих.
Но вот и следующая история.
«Война, все ребята стремились на фронт, но нас, естественно, не пускали. Делали пистолеты, ружья, даже пушку. Решили найти гранаты и разобрать их, чтобы изучить и понять, что там внутри. Я взялся проникнуть в церковь (там находился склад военных). Ночью пролез через три полосы колючей проволоки и, пока часовой находился на другой стороне, пропилил решетку в окне, взял две гранаты РГД-33 с запалами и… выбрался обратно. Уехали километров за 60 в лес, решили гранаты разобрать. Ребят все же догадался уговорить отойти метров за 100: бил молотком, стоя на коленях, а гранату положил на камень. А вот запал не вынул, не знал. Взрыв… и пальцев нет. Ребят не тронуло. Пока добирался до города, несколько раз терял сознание. В больнице под расписку отца… сделали операцию, пальцы отрезали, в школе я появился с перевязанной белой рукой».
Здесь, в этой истории, он уже главный. Командир, атаман, вдохновитель и организатор. Он же — и главный пострадавший.
Это тоже важно.
Следующая история — пожалуй, наиболее серьезная из передряг, в которые он попадает в детстве.
«Так случилось, что после девятого класса мы решили найти, откуда берет свое начало река Яйва. Очень долго поднимались по тайге вверх — по карте мы знали, что исток реки находится около Уральского хребта. То, что взяли с собой из еды, скоро кончилось, питались тем, что находили в лесу, в тайге. Поспели орехи, мы жарили грибы, ели ягоды… Шли долго, уже никаких дорог, ничего, одна тайга… Иногда попадалась какая-нибудь охотничья избушка, там ночевали, а в основном или шалаш строили, или просто под открытым небом.
Нашли исток реки — сероводородный ключ. Обрадовались. Можно было возвращаться. Несколько километров спускались вниз до первой деревушки. К тому моменту уже порядочно выдохлись. Собрали кто что мог — рюкзак, рубашку, ремень — в общем, всё, что было у нас, вошли в избушку, отдали хозяину, выпросили у него взамен небольшую лодчонку, плоскодонку деревянную, и на этой плоскодонке — вниз по реке, сил идти уже не было. Плывем мы, вдруг вверху, в горах, заметили пещеру, решили остановиться, посмотреть. Вела-вела она нас, вела и вдруг вывела куда-то вглубь тайги. Туда-сюда, не можем понять, где мы, короче говоря, заблудились, потеряли нашу лодочку. Почти неделю пробродили по тайге, причем ничего с собой не взяли, а тут, к несчастью, оказалось такое болотистое место, лес-подросток, — в общем, он не много давал, чтобы хоть чем-то питаться, и совершенно не давал никакой воды. Болотную жижу вместе со мхом складывали в рубашку, сжимали ее, и ту жижу, что текла из рубашки, пили».
Заблудившись в лесу, они не испугались. Нашли пещеры, пошли искать спуск к реке…
«В конце концов, мы все-таки вышли к реке, нашли нашу плоскодонку, сориентировались, но из-за грязной воды у нас начался брюшной тиф. У всех. Температура — сорок с лишним, у меня тоже, но я на правах, так сказать, организатора держусь. На руках перетащил ребят в лодку, уложил на дно, а сам из последних сил пытался не потерять сознание, чтобы лодкой хоть как-то управлять, она шла вниз по течению. У самого оставались силы только подавать ребятам из речки воду, обрызгивать их — было всё на жаре. Они потеряли сознание, а скоро и я стал впадать в беспамятство. Около одного железнодорожного моста решил, что все равно нас заметят, примкнул к берегу и сам рухнул. Нас действительно увидели, подобрали, привезли в город, а уже месяц, как занятия в школе начались, и, конечно, все разыскивали нас…»
Позднее Ельцин говорил в своем интервью об этом эпизоде: «Мы пролежали долго в больнице — брюшной тиф, понятно. Потом я из больницы сбежал через окно, не дождался. А ребята вылечились и 10-й класс пропустили. А я решил, что я пропускать не буду. Но меня в школу не пустили, ни в какую. Говорили, что будет менингит после такой температуры, загружать голову нельзя. Ну, и кончилось тем, что я начал с третьего семестра сам заниматься. Взял программу, читал, читал, учил, учил».
И добился того, чтобы разрешили сдать экзамены экстерном.
Не пропустить год.
Но что же главное в этих историях, которые он сам рассказывал много раз?
Момент смертельной опасности, которая угрожает ему. И победа, которую он всегда одерживает.
Победа — вот что главное.
Напомню, что книга «Исповедь на заданную тему» вышла в свет в 1990 году. Ее автору к этому моменту уже почти 60. Но детали этих преодолений, этих смертельных рисков, этих побед — память любовно и бережно отчистила, высветлила, укрупнила, все, вплоть до названия гранаты и речушки, поворотов таежного сюжета, количества метров, которые он прополз под колючей проволокой, и километров, на которые они «отъехали в лес».
Здесь важно всё. Потому что истории эти станут фундаментом личности, в них, как в зародыше, лежит уже будущая легенда, которая будет помогать ему всегда, во всех обстоятельствах.
Именно тогда, когда их ищут по окрестным лесам, впервые произойдет то, что потом, уже в жизни взрослой, знаменитой, будет происходить с ним не раз — преждевременный слух о его смерти. Зависание над пропастью.
И еще один сюжет старательно он выделяет в этой своей первой книге — сюжет своеволия, острого личного выбора.
Так же как и первый сюжет, сюжет победы, он двигается от истории к истории мягко, незаметно, чтобы в конце обрести свое подлинное звучание.
«Однажды меня из школы все-таки выгнали. Это произошло после окончания семилетки. В зале собрались родители, преподаватели, школьники, настроение веселое, приподнятое… И тут вдруг я попросил слова… Я, конечно, сказал добрые слова тем учителям, которые действительно дали нам немало полезного в жизни, научили думать, читать. Ну, а дальше я заявляю, что наш классный руководитель не имеет права быть учителем, воспитателем детей — она их калечит.
Учительница была кошмарная. Она могла ударить тяжелой линейкой, могла поставить в угол, могла унизить парня перед девочкой и наоборот. Заставляла у себя дома прибираться. Для ее поросенка по всей округе класс должен был искать пищевые отбросы, ну и так далее… Я этого, конечно, никак не мог стерпеть».
Конечно, не мог.
Один из сюжетов русской глубинки — учитель заставляет детей работать в своем домашнем хозяйстве — для Бори Ельцина совсем не то, что для других его одноклассников. Традиционный уклад жизни, когда провинциальный учитель считает себя вправе брать определенную
В его личном мире каждый отвечает сам за себя! В его личном мире превыше всего ставится человеческое достоинство.
Поразительно и продолжение этой истории. Педсовет, который выпускает его из школы с «волчьим билетом» (ну просто-таки горбачевское Политбюро), в итоге терпит полное сокрушительное поражение, вместе с ненавистной учительницей, эксплуататором детского труда.
Боря идет не куда-нибудь, а сразу в горком партии!
На удар отвечает ударом.
«Я добился, чтобы меня перевели в другую школу… Я в железнодорожной учился, а потом перевели в школу Пушкина», — вспоминает он в интервью.
Учительницу наказывают, Борю восстанавливают, он благополучно оканчивает школу, но дело, конечно, не только в этом. Важная деталь: прежде чем идти отстаивать свои права в горком, он пошел на учительницу войной, открыто, при всех.
Однако обратим внимание и вот на что — он знает, куда идти! Он уже разобрался в системе, коридорах власти. Не каждый ребенок, да еще и из глубинки, способен на это.
Ельцин в своих мемуарах и интервью обычно предстает в образе «человека из далекой деревни» (не случайно «Исповедь…» начинается с точного указания места рождения — уральское село Бутка), и все детские «эпизоды», вставленные в книгу, и рассказ о родителях, всё ложится в ту же канву — простые люди, деревенские, деревенское воспитание. Однако в том-то и дело, что в судьбе ребенка Бори Ельцина встретились две культуры — городская и деревенская. Рос он все-таки в городе, учился в городской школе, где занимался разными видами спорта (старательно перечисляет их в книге — от лыж и легкой атлетики до волейбола), отец работал на большом заводе, словом, мир вокруг него был отнюдь не деревенским. Другое дело, что вокруг этого города невероятная дикая природа. И его том-сойеровский побег из дома с товарищами превратился не в забавное приключение, а в жесткое столкновение со стихией, требующее от него предельной воли и невероятного характера.
…Конечно, с таким ребенком непросто сладить и семье, и школе. Отец порол, причем нещадно, в школе ставили двойки за «поведение» (но в его аттестате — лишь две четверки, остальные пятерки, а сдал он экзамены экстерном, поскольку долго провалялся в больнице после своей таежной экспедиции).
И здесь нужно сказать еще об одном обстоятельстве, о котором сам автор книги «Исповедь на заданную тему» как-то скромно умалчивает.
Наина Иосифовна вспоминает, что из Березников Боря Ельцин привез в Свердловск немало книг. Как, на какие деньги он их купил — непонятно. Экономил на завтраках, подрабатывал? И еще деталь — уже в школе Боря брал из районной библиотеки не только литературных классиков, но и тома из собрания сочинений Ленина. И упорно читал этого не самого легкого в мире автора, поражаясь тому, что в его сочинениях довольно часто встречаются ссылки на фамилии людей, о которых в учебнике истории говорится как о врагах народа.
Короче говоря, перед нами — отнюдь не главный хулиган Березников, не уличный атаман, как может показаться из его мемуаров, напротив, это человек, который с детства привык быть «старшим», помогать семье, оберегать мать — он не только подрабатывал с ней летом в колхозе, он и стирал, штопал, ухаживал за младшими, он пришел к ней в родильный дом, когда она родила сестру Валю, и принес «одеяло с вышивкой»… (да, представьте себе, он вышивал и дарил матери свои вышивки). Словом, это был ребенок с нежным сердцем. Добрый ребенок. И умный.
Поэтому ему прощались дерзость, его неумолимая тяга к риску, прощалось всё. Это был человек необычный, прежде всего.
И еще, что важно, сформировавшийся среди фантастической природы и среди фантастических людей — я имею в виду его мать и отца, его родню и, конечно, его учителей.
А это значит вот что: в детстве ему хватало любви.
…Построив баню для деда, Ельцин сдал экзамены и поступил на строительный факультет Уральского политехнического института. Учился парень из Березников легко — в его зачетной книжке почти сплошные пятерки.
Ельцин живет в общежитии, в комнате на восемь человек.
Он провел все детство в бараке, ему не привыкать к таким условиям. Но в отличие от барака, где тяжелый быт диктует очень четкие, жесткие нормы поведения, студенческое общежитие — это, напротив, царство полной свободы. Хохот и шутки, бесконечные розыгрыши и приколы — как раз его стихия. Со своим характером он быстро становится здесь лидером, заводилой, однако возникает закономерный вопрос: неужели студенческий «колхоз» (то есть ведение общего хозяйства, куда они довольно скоро включают и девушек из соседней комнаты), стенгазеты и розыгрыши, веселые студенческие свадьбы с сюрпризами и шуточными подарками и тостами — это единственный выход его тяги к лидерству?
А как же комсомол?
Конечно, он, как и все, ходит на собрания, голосует и избирает, но подсознательно, может быть, избегает любой «политики».
И тем не менее довольно быстро, в течение, быть может, одного семестра, становится в своем институте фигурой заметной. («Да он к этому и не стремился, стать заметным, это получалось само собой», — добавляет Наина Иосифовна.)
Спортивная подготовка — обязательная вещь для советского студента, и Ельцин быстро становится организатором всех спортивных мероприятий своего факультета — кроссов и лыжных пробегов, эстафет, заплывов и, конечно, волейбольных матчей.
Поначалу его не хотят брать в волейбольную секцию — все-таки нет двух пальцев на левой руке. Однако, фанатично тренируясь, он попадает в сборную курса, затем факультета, а потом и всего Уральского политехнического. Становится одним из лучших волейболистов института.
С командой он побывал в Прибалтике, Поволжье, Москве, Ленинграде, Грузии, Азербайджане. Всесоюзные соревнования, сборы, турниры, и даже после института в течение года он продолжает играть и тренировать, выступать за местный «Локомотив».
Почему же именно волейбол?
В волейбол можно было играть в теплое время года буквально везде: на реке, на пустыре, на деревенской улице. После войны волейбол быстро стал вторым по популярности видом спорта в СССР после футбола.
В зимнее время любой спортзал мог превратиться в волейбольную площадку (а в футбол играли, конечно, в основном летом, тоже важная поправка для страны, где зимой лютуют страшные морозы).
Кроме того, это был олимпийский вид спорта, а с 1952 года СССР становится членом олимпийского движения.
И еще. Волейбол — командная игра, где роль лидера на площадке неоценима. Кто-то должен обязательно «заводить», волевым усилием изменяя ход игры. Этим «кем-то», лидером команды, конечно, всегда был он. Его магнетическое присутствие на площадке — а не только высокий рост, хорошая реакция, мощный прыжок, «подкрученные» удары — становилось главным фактором победы.
Ельцин становится одной из самых ярких личностей на факультете, да и вообще в УПИ, девушки специально приходят посмотреть матчи с его участием, у него образуется своеобразный фан-клуб, как сказали бы сейчас, в общем, популярность его растет.
Но далеко не все так безоблачно. Несмотря на «карманные деньги», которые иногда присылают ему родители (сумма каждый раз одинаковая — 100 рублей), денег этих все равно не хватает, как и любому нормальному студенту. Приходится разгружать вагоны, но вряд ли этот способ подзаработать ему по душе.
Впрочем, разве для него это проблемы?
Находясь в спортзале, где он проводит не просто часы, а целые дни, Ельцин находится в особой ауре, в том микроклимате, где нет необходимости бороться с кем-то — вне белой линии разметки, вне границ волейбольной площадки.
Правда, два конфликтных эпизода, связанных с учебой, все же случаются. Он возглавляет делегацию студентов, которые осмелились попросить по особенно сложному предмету (теория пластичности) больше времени на подготовку к экзамену, причем Б. Н. был любимым учеником профессора Рагицкого, неприятно удивленного таким проявлением корпоративного духа. Профессор, который всегда разрешал пользоваться конспектами на экзамене (задачи требовали запоминания огромных математических формул), неожиданно ужесточил требования. «Однажды профессор Рагицкий на экзамене… предложил мне ответить сразу, без подготовки. Он говорит: “Товарищ Ельцин, возьмите билет и попробуйте без подготовки, вы у нас спортсмен, чего вам готовиться?”». В итоге Ельцин получает на экзамене четверку. Это было, как вспоминает он, настоящее сражение.
Другая стычка — с преподавателем политэкономии Савельевой, «Совой», известной на факультете своим догматизмом; Боря Ельцин выступает «против ее методов преподавания», то есть за то, чтобы на занятиях можно было задавать вопросы и получать на них ответы. Вопросы и ответы на записки станут в дальнейшем излюбленной формой его общения с аудиторией. Савельева в этом смысле — антипод, пример от противного. И вот еще одна четверка в дипломе — по политэкономии, а всего из пятидесяти пяти предметов сорок он сдаст на «отлично», пятнадцать — на «четыре».
Но по сравнению с бунтарскими выходками, которые он позволял себе в школе, всё это семечки, пустяки. Система УПИ не ломает, не подавляет Ельцина-студента, а находит ему то место, которое больше всего ему по душе — спортивный студент, отличник, неформальный лидер в своей компании, кумир девушек.
Вариться в этом котле не скучно и не противно.
Некая степень свободы, которую давало участие в волейбольных состязаниях «на уровне Союза», — еще одна черта жизни Ельцина-студента. Можно было ездить по городам и весям, жить в особом режиме, не подчиняться общепринятым правилам. Правда, за это приходилось расплачиваться суровым, каторжным трудом во время подготовки к сессиям, во время сдачи экзаменов и зачетов по техническим предметам, которые требуют не только «хорошей головы», но и попросту зубрежки. Ельцин в институте, по его собственному признанию, научился спать по четыре часа и, что не менее важно, выработал в себе особую, фотографическую память, запоминал текст целыми страницами. Это поможет ему в дальнейшем, когда он займется политикой, станет первым секретарем обкома и президентом.
Слишком высокие нагрузки еще дадут о себе знать, а пока он успешно и учится, и просто играет, и ездит на соревнования.
Однако эти поездки, как и все спортивные вояжи такого рода, всегда проходят по одному и тому же сценарию: поезд — гостиница — спортзал — гостиница. Увидеть города, понять, как в них живут люди, по сути дела, не удается. Эти короткие вылазки разбудят в нем страсть к настоящему путешествию, и во время летних каникул он отправится по стране один.
«До поступления в институт — страны я не видел, моря тоже и вообще нигде не был. Поэтому на летние каникулы решил совершить путешествие… Не имея ни копейки денег, минимум одежды, только спортивные брюки, спортивные тапочки, рубашку и соломенную шляпу — вот в таком экзотическом виде я покинул Свердловск. Еще, правда, у меня был из искусственной кожи чемоданчик — маленький, буквально сантиметров двадцать на тридцать… Там лежала еще одна рубашка, ну, или если удавалось из продуктов где-то заработать — я туда же складывал. Поездка эта, конечно, была совершенно необычной. Со мной сначала поехал однокурсник, но через сутки он уже понял, что ему наше путешествие не осилить, и вернулся обратно. А я поехал дальше».
Как мирно, весело, по-домашнему всё начинается: лето, чемоданчик, соломенная шляпа. И только быстро сошедший с поезда однокурсник — точный индикатор того, что и в этом рассказе будет все то же самое: преодоление, опасность, риск, авантюра, победа…
«В основном ехал на крыше вагона, иногда в тамбуре, иногда на подножке, иногда на грузовике. Не раз, конечно, милиция снимала, спрашивают: куда едешь? Я говорю, допустим, в Симферополь, к бабушке. На какой улице проживает? Я всегда знал, что в любом городе есть улица Ленина…
А задачу я себе такую поставил: ночь еду, приезжаю в какой-то город — выбирал, естественно, города известные — и осматриваю целый день, а иногда и два. Ночую где-нибудь или в парке, или на вокзале, и дальше в путь на крыше вагона. Из каждого нового города писал письмо в институт своим ребятам.
И вот такой у меня получился маршрут: Свердловск — Казань — Москва — Ленинград — снова Москва — Минск — Киев — Запорожье — Симферополь — Евпатория — Ялта — Новороссийск — Сочи — Сухуми — Батуми — Ростов-на-Дону — Волгоград — Саратов — Куйбышев — Златоуст — Челябинск — Свердловск».
Вы поняли, для чего он писал открытки?
Как путешественник из романа Жюля Верна, он совершает невозможное, немыслимое — объезжает страну без денег, без знакомых! — он ставит рекорд, он поражает воображение своих друзей, он бросает вызов…
«Этот путь я проделал за два с лишним месяца, приехал весь, конечно, оборванный, спортивные тапочки у меня были без подошв, просто для, так сказать, формы и красоты: идешь на самом деле почти босиком, а всем кажется, что в тапочках. Шляпа тоже насквозь прохудилась, ее пришлось выбросить. Спортивные штаны основательно просвечивали. Когда выезжал, были у меня еще и часы старинные, старые, большие, подарил мне дед. Но эти часы, как и всю одежду, я проиграл в карты. Буквально в первые дни, как выехал из дома.
Было это так. В тот момент в стране шла амнистия, заключенные возвращались на крышах вагонов, и однажды они ко мне пристали, их было несколько человек, и говорят: давай играть в “буру”. А я знать не знал вообще эти карты, в жизни не играл и сейчас терпеть не могу. Ну, а в такой обстановке не согласиться было нельзя. Они говорят: давай играть на одежду. И очень скоро они меня раздели до трусов. Всё выиграли. А в конце они говорят: “Играем на твою жизнь. Если ты сейчас проигрываешь, то мы тебя на ходу скидываем с крыши вагона — и всё, и привет… А если выиграешь, мы тебе всё отдаем”».
Ни разу в жизни не игравший в карты Ельцин играет с зэками («а это были уголовники, выпущенные из колонии, в том числе и убийцы», — уточняет он) и выигрывает у них…
В эпизоде этом важен не только момент
Страна только что сбросила бремя войны. На крышах вагонов едут бывшие зэки, в вагонах — возвращаются домой солдаты и эвакуированные, вокруг стоят города, полуголодные, но уже полные людей, которые стремятся восстановить мирный порядок жизни, кругом стройки, котлованы, бараки…
Человеческий муравейник. Эту страну мы знаем только по старым советским фильмам — светлым, восторженным. Он увидел ее другой: удивительно разной, обнаженной, с трудом обретающей дыхание после шока.
Конец 40-х — начало 50-х. Борьба с космополитизмом, первая порция холодной войны. Еще не очень понятно, надолго ли установился мир, газеты полны тревожных новостей — ближневосточный кризис, корейский конфликт, испытания атомного оружия, уже начинают трещать по швам империи, мир никак не хочет привыкать к
Но он видит и чувствует другое: удивительное, открытое пространство, новая жизнь, которая рождается на его глазах, счастливые лица тех, кто выжил и хочет жить дальше.
Ельцину снова везет — он наблюдает то, чего не увидеть из окна общежития или из окна своего дома, он ощущает воздух свободы, которая вот-вот грянет, он чувствует время, его время, которое незаметно наступает.
На первом курсе ему предстоит пройти еще через одно испытание, его подстережет болезнь — тяжелая ангина. Как всегда, недолечившись, не соблюдая постельного режима (сколько еще раз в жизни он вот так будет убегать от врачей), он бросается к тренировкам и, не выдержав перегрузок, снова попадает в больницу с осложнением на сердце. Это первое осложнение — предисловие ко всему, что произойдет с его сердцем в будущем. Берет академический отпуск, и таким образом Наина Иосифовна, которая поступила на год раньше, оказалась его однокурсницей.
Пока Боря Ельцин ездит по стране в прокуренных тамбурах и на крышах железнодорожных вагонов, Анастасия Гирина (родные зовут ее Ная) проводит тихие студенческие каникулы у себя дома.
Ее развлечения, напротив, самые что ни на есть мирные: она купается, загорает, читает…
Отец Наи — железнодорожный служащий, семья живет в Оренбурге, родом они из села Титовка Шарлыкского района Оренбургской области, то есть с Южного Урала, из степных мест, а здесь и помидоры слаще, вкуснее, и жизнь гораздо более спокойная, тихая.
Она наслаждается этим летним покоем, общается с друзьями, думает, мечтает. Иногда в ее мечтах возникает студент-волейболист Боря Ельцин с открытым и веселым лицом…
Иногда вечером она ходит на танцы. На танцах девушек приглашают кавалеры — курсанты летного училища. Наверное, был среди них и «космонавт номер один». По крайней мере, лицо его Ная запомнила.
История про Гагарина, как и многие другие, присочинена газетчиками, как рассказала мне потом Наина Иосифовна. И попросила внести ясность. Однажды, в 1961 году, когда Юрий Алексеевич полетел в космос и вся страна отмечала это как огромный праздник, она скажет своей соседке (от полноты чувств): знаешь, а кажется, я его помню, мы ходили в летное училище на танцы, может быть, он даже приглашал на танец пару раз? Лицо вроде знакомое… И всё, этого оказалось достаточно, чтобы лет через сорок родилась очередная «утка» — о близком знакомстве с Гагариным, чуть ли не о сватовстве. Ничего этого не было. Как, впрочем, и много другого, что сочинили газетчики.
Итак, каникулы… Лето… Свобода… Летом можно читать даже ночью, такая здесь, в Оренбурге, крупная, яркая луна. Свет луны освещает страницы ее книги.
Есть время посмотреть свою коллекцию.
Коллекция и впрямь замечательная — дома, в Оренбурге, уже хранился целый чемоданчик «с артистами», то есть с открытками-фотографиями знаменитых актеров советского кино: Кадочников, Жаров, Андреев (карточки продаются в киосках «Союзпечати» и стоят пять — семь копеек). И, конечно, с символами послевоенной женственности, красоты, обаяния: Софьей Пилявской, Мариной Ладыниной, Валентиной Серовой, Лидией Смирновой… Такая коллекция есть у многих школьниц послевоенных лет.
Эти образы она сохранит, как свою личную святыню, надолго, навсегда, и со многими из них встретится уже в Москве, когда станет женой первого президента России.
А тогда она перебирает в уме фильмы с их участием.
Вот, например, два знаменитых сюжета — трагедия и комедия.
«Жди меня». В главной роли Валентина Серова. «Оказавшись в тылу врага, Ермолов приказывает военному корреспонденту Вайнштейну доставить в часть пленку с заснятыми аэродромами врага и записку для жены. Отойдя от лесной землянки, где остался его друг, Вайнштейн слышит короткую перестрелку. Позже он уверенно скажет Лизе о смерти Ермолова, но она не поверит. Работая на оборонном заводе, Лиза каждый день будет уверена в том, что завтра они увидятся…»
«Моя любовь». В главной роли Лидия Смирнова.
«За прекрасной советской девушкой Шурочкой ухаживают два замечательных советских студента. Она получает письмо от своей сестры-двойняшки Ани, что та тяжело больна, муж ее бросил, а ее малышу Феликсу уже полтора года. Просит немедленно приехать. Шура не успела. Ночью Аня умерла, и Шура усыновляет племянника».
Случайно выбрал эти аннотации к старым советским фильмам, в которых играли любимые актрисы Наи Гириной. «Все остается людям», «Дорогой мой человек» — одни названия говорят о многом.
«Любовь — не вздохи на скамейке», как писал известный советский поэт. Нет, любовь не дается просто так. Она обязательно связана с испытаниями. С разлукой. С войной. Любовь — это что-то огромное, невероятное, прекрасное и обязательно героическое.
Вообще, подробности ее военной и послевоенной юности — совсем другие, чем в воспоминаниях ее мужа, в его книге «Исповедь на заданную тему». Да, голод, холод, неустроенность, ничего нельзя купить. Мама шьет на машинке «Зингер» самые простые вещи ей и сестре Розе: незамысловатые юбки, платья, ведь в магазинах ничего нет. Ни игрушек, ни одежды. Карточная система. Семья Гириных далеко не сразу обрела свой постоянный дом. В 1934 году Иосиф Гирин вернулся из армии в Оренбург и устроился работать на железную дорогу. В то время железная дорога была почти военной организацией. В 1935 году его «перебросили» на работу в Казахстан, в город Челкар. В школу (тоже железнодорожную) Ная Гирина пошла в 1940 году, семья тогда жила на станции Эмба. Только в 1945-м они вернулись в родной Оренбург.
Впервые Наин день рождения отмечали в шестом классе, собрались одноклассницы, все было очень скромно. В седьмом получила первый настоящий подарок — отрез «трофейной ткани, зеленой, с какими-то необыкновенными цветами», его бережно сохранили, и платье из него сшили, только когда она поступила в институт. На выпускной вечер платье сшила себе сама: «из двух кусков ткани, голубой, один кусок однотонный, один в мелкую клетку, сделала вставочки, кармашки, да все тогда были так одеты, по сравнению с роскошными бальными платьями, которые сейчас шьют девушки себе на выпускной, это, конечно, ерунда».
Нет, не ерунда. Оба платья — эскиз, мечта о том времени, когда станет легче, ярче, интереснее жить. А пока эти сигналы будущей жизни она жадно ловит в эфире. Поздно вечером слушает трансляции спектаклей из Москвы. Фотографии актеров у нее есть, в избытке, она сравнивает их голоса и их лица, вспоминает фильмы, пытается представить себе этих людей — это тоже часть эскиза, часть мечты. И, конечно, много читает.
Книги тогда невозможно было достать, в библиотеке на них огромная очередь. Но жажда чтения была так велика, что порой любимую книгу бережно разрезали на «секции», чтобы не так долго ждать, и читали всем классом (школа была женская, их разделили с мальчиками после пятого класса), передавая друг другу. Например, так они всем классом читали «Графа Монте Кристо». А после книжку снова сшивали и сдавали в библиотеку.
Но самый яркий женский образ из школьных лет — как ни странно, не актрисы, а учительница литературы, она «очень красиво говорила», «у нее была очень красивая фигура, это была статная женщина, и еще, я ни у кого никогда больше не видела таких красивых рук». Эти руки запомнились на всю жизнь, вместе с платочками, белоснежными, обвязанными по краю яркой нитью, как она держала их в руке, это движение руки с изяществом, благородством — тоже было из другой жизни. Из другого, будущего времени.
После своих летних каникул (для него — связанных, конечно, с опасностями и приключениями, для нее — с домашними заботами, книгами, прозрачным летним покоем) оба возвращаются в общежитие, в свои многолюдные комнаты. Но что-то изменилось.
Неуловимо. Незаметно.
Их отношения начинаются как дружба. О чем же они беседуют? Только не о любви. Вернее, о любви, но не своей.
«У нас с Борисом Николаевичем сначала такие странные были отношения, мы были вроде как подружки, — вспоминает Наина Иосифовна. — В него было влюблено полкурса, и все эти девушки, зная про нашу дружбу, ходили ко мне плакаться в жилетку, поверять свои тайны, просить о помощи в делах сердечных. Я честно помогала, рассказывала ему, какая очередная замечательная девочка в него влюбилась».
Она поверяет ему сердечные тайны
Да, говорит уже он в своих воспоминаниях, сначала отношения были чисто дружеские, платонические, но однажды, стоя у дверей актового зала (перед каким-то студенческим вечером), они все же поцеловались. Поцелуй был скромный, наивный, но это было начало.
Постепенно он понимает, что без этих встреч и без этих отношений обойтись уже не может. Что эта девушка — мягкая, тихая, нежная — становится важнейшей частью его существования.
Но для нее любые формы отношений кроме «высоких» — полнейшее табу. Табу сразу по двум причинам.
«Мы поступили в институт восемнадцатилетними девушками. Но совершенно не готовыми к взрослой жизни! И к “взрослым” отношениям. Конечно, влюблялись, конечно, были романы! Но мы верили, может быть, наивно, в какие-то необыкновенно чистые, прозрачные, красивые отношения, в дружбу. Верили, и от этого… все было просто. Ездили с мальчиками на практику, ходили в походы, вповалку вместе спали в палатках, хохотали, дружили, и никакой двусмысленности не возникало, ничего, что бы нас могло обидеть, задеть! Конечно, к третьему курсу начались свадьбы. Но я в самом начале, на первом курсе, решила: в институте замуж не выйду. Ни за что! Останусь свободным человеком!»
Итак, причина первая: любовь — это что-то из будущей жизни, к которой она «еще не готова». Любовь — это испытания, это грозное сильное чувство, которое подчиняет и поглощает человека целиком, у нее же и так очень много дел!
Ну, и, кроме того, студенческие браки ее не прельщают. Нет, она хочет пока оставаться свободным человеком, сама руководить своими мыслями и чувствами, ни от кого не зависеть.
Их чувство возникает исподволь. Незаметно. Но оба — сильные характеры — до последнего противятся этому открытию! «Да, мы говорили, что “надо пожениться”, но мне кажется, оба не верили в это».
Общий студенческий быт — так называемый «колхоз», когда вся нехитрая еда идет на общий стол, а Боре Ельцину, кстати, присвоили шутливое звание «председатель колхоза» — способствует тому, что каждый вечер они сидят за одним столом. «Мы, девчонки из соседней с ними комнаты, порой готовили ребятам ужин и ждали их, потому что они задерживались допоздна на соревнованиях», — вспоминает Наина Иосифовна. Еще одна деталь: Клавдия Васильевна, мать Ельцина, регулярно приезжала в общежитие, на денек — привезти из дома какой-то еды, повидать сына… Спала она, естественно, в комнате девочек… на кровати Наи Гириной, вдвоем, валетом. «Почему? Просто моя кровать стояла удобней, чем у других, половину ее заслонял шкаф».
«А когда в конце пятого курса мы оба защитили дипломы, и он вдруг твердо сказал: “мы должны пожениться”, я ответила — не знаю. Я не хотела так рано замуж. Он оставался после института в Свердловске, я уезжала в Оренбург… И вот мы решили подождать год, а потом встретиться. Проверить свои чувства. Конечно, писали друг другу письма, у меня до сих пор сохранилась целая стопка его писем, а я отвечала редко, не любила писать…
И вот через год из Куйбышева, где проходили всесоюзные соревнования по волейболу, он туда приехал с командой, я вдруг получаю телеграмму от нашего общего друга Сережи Пальгова: “Приезжай, у Бориса плохо с сердцем”. Ну, я очень испугалась, помчалась в Куйбышев. На первом курсе у него была ангина с сильнейшим осложнением на сердце. Пришла в гостиницу на берегу Волги, где жили спортсмены».
Итак, она стоит около гостиницы вечером, одна, мимо идут незнакомые люди… Она жутко волнуется — что с ним, где он? В гостинице? В больнице?
Она ждет, что мелькнет хоть какое-то знакомое лицо — и вдруг видит его. Он выходит из гостиницы прямо ей навстречу. Совершенно здоровый, веселый, улыбающийся. Но она — не сердится на этот дурацкий розыгрыш. «Почему?» — спросил я у Наины Иосифовны. «Ну… я просто очень хотела его увидеть, — ответит она просто. — Я очень обрадовалась».
Да — он предложил ей сценарий, на который так чутко отозвалось ее сердце, воспитанное на романтике советских фильмов, на эстетике великих чувств — любовь сквозь испытания. Он угадал то, что ей было нужно, чтобы окончательно во всё поверить.
Они будут гулять в парке, по берегу Волги, всю ночь. «Он предупредил ребят, и тогда мы прогуляли весь вечер и проговорили всю ночь, тогда как-то было совсем не страшно». Вот там, в парке над берегом Волги, на скамейке, они окончательно решили пожениться. Через месяц он приедет в Оренбург к ее родителям — просить ее руки.
Всё в этой истории важно. Любая, самая маленькая деталь.
Характер Ельцина проявится и здесь, в самом что ни на есть тонком и нежном деле — да, он испугает ее, заставит ее сердце учащенно биться, заставит ее мчаться сломя голову в другой город, искать, волноваться, ждать… Конечно, она потом мягко упрекнет их с Сережей Пальговым за этот розыгрыш: почему нельзя было просто написать, чтобы я приехала? «Я бы ведь все равно обязательно приехала…»
И он ответит: «Я боялся, что не приедешь».
Она пробудет в Куйбышеве только один день и улетит в Оренбург. Ей нужно на работу…
Когда Наина Иосифовна начала рассказывать мне о том, как все это было, она сделала паузу и, волнуясь, сказала: «Понимаете, у меня с самого начала нашего знакомства было какое-то странное чувство… что я знаю Борю давно, с самого детства, как будто мы выросли вместе…»
Но вернемся на первый курс УПИ. Факультет промышленного и гражданского строительства. 176-я группа. Его группа. Что это были за люди?
Первое впечатление, определившее мировоззрение того поколения, — разрушенная до основания страна. «Многих наших старших сокурсников посылали на запад страны, — вспоминает Наина Иосифовна, — на Украину, в Белоруссию, в западные области России: там было разрушено буквально все, все надо было строить заново. Отработав там, на стройке, где они помогали проектировать новые районы, новые объекты, они возвращались в Свердловск. Нас, правда, уже не посылали, но мы знали, что, в принципе, могут послать».
…Вообще «институт» («университет», «вуз») — понятие в советской жизни довольно многогранное, особенно в 50—60-е годы. Оно, как социальное явление (в отличие от западного варианта или от современного российского), поглощало в себя огромную человеческую массу, состоящую из разнородного материала. Институты и университеты пополнялись отнюдь не за счет потомственной интеллигенции, это были далеко не всегда дети из обеспеченных семей (хотя как раз Ельцин был из семьи с достатком, по крайней мере, в ней был живой и работающий отец).
Городские рафинированные дети соседствовали с деревенскими, причем порой из очень глухих и отдаленных районов; дети партработников, чекистов, «хозяев жизни» — с потомками репрессированных, деклассированных; суровые фронтовики — с юными пигалицами; зеленые юнцы — с видавшими виды «рабфаковцами», прошедшими суровую жизненную школу в армии, на заводе, в милиции…
Это был громадный социальный котел, который стирал грани, различия, предрассудки семейные и сословные, национальные и классовые, заставлял людей находить общий, единый для всего поколения язык.
Выпускники советских вузов получали в свои руки гигантские и, что самое главное, развивающиеся ресурсы.
В лабораториях, особенно оборонных, они имели дело с новейшими технологиями того времени, которые достойно конкурировали с мировыми разработками; на культурных площадках (университетская кафедра, журнал, книга, театр, кино) создавали новые,
Именно эти молодые люди обеспечили гигантский послевоенный рывок Советского Союза во всех областях. Это был нарождающийся класс новой интеллигенции, спинной хребет новой страны, который очень быстро преодолевал расстояние от нищеты и вольницы студенческих лет к стремительной и блестящей карьере на всем пространстве огромной Родины.
У этой категории советских граждан — «студентов» — были своя философия и своя этика.
«Целиной» в хрущевские годы называли огромное пространство новых земель, казахстанские, алтайские степи, которые нужно было распахать и освоить для производства зерна, но в более широком смысле — вся страна была непаханной целиной. Ее культура, ее промышленность, ее наука…
Несмотря на пуританскую строгость советской идеологии, люди одной с Ельциным формации понимали: они конструируют реальность как бы заново. Сами будут ставить задачи и выполнять их. Они рисуют контуры и заполняют их принципиально новым материалом.
Область, которую Ельцин выбрал для себя, была в этом смысле особенно наглядной. В годы послевоенного экономического рывка строительство в СССР было постоянно развивающейся индустрией. Страна строилась совершенно сумасшедшими темпами, во всех областях.
Еще при Сталине в Москве начали возводить так называемые «высотки» (достроили их уже после смерти вождя) — выдающиеся архитектурные сооружения того времени, хотя современники признавали их уродливыми, и уже в 1954–1955 годах были приняты два постановления ЦК КПСС — об индустриализации в строительстве и о борьбе с «излишествами» в архитектуре. Новая власть признала помпезный сталинский стиль слишком дорогим. В моду вошли бетон и стекло. В 50— 70-е годы в Москве был буквально бум строительства, как жилищного, так и «культурного». К самым заметным и знаменитым сооружениям того времени относятся: спортивный комплекс в Лужниках, комплекс Дворца пионеров на Воробьевых горах, кинотеатры «Россия» и «Октябрь», стадион «Олимпийский», гостиница «Россия», Телеграфное агентство СССР на площади Никитских Ворот, новое здание МХАТа, новый жилой район «Олимпийская деревня», Московский дворец молодежи и др. Также с 1960 по 1970 год в столице были построены Кремлевский дворец съездов, телевизионная башня в Останкине с телецентром, Центральный аэровокзал и комплекс высотных зданий на Новом Арбате. Но это лишь знаковые объекты, московские. Они лишь обозначают явление: тотальная стройка, пронизывающая все области человеческой жизни.
Каждое из этих зданий несет все черты «хрущевско-брежневского стиля»: проект должен быть максимально дешевым, «без излишеств», при этом вызывать у советских людей чувство законной гордости — отсюда невероятные масштабы, гигантизм. Скажем, гостиница «Россия» (снесенная ныне) — была самой большой гостиницей в Европе, а «Октябрь» — самым большим в Европе кинотеатром. В проекте обязательно присутствует какая-то конструктивная «изюминка» — безопорная крыша, например, или невероятные по высоте стеклянные панели, или хотя бы бесконечные мозаики.
Несмотря на некоторую свою неказистость (долой излишества!), все эти здания стали на долгое время визитной карточкой Москвы, без них представить ее себе невозможно. «Сталинский» стиль (башенки, башни, колонны, шикарные фасады) вернется в Москву вместе с «лужковским барокко», вместе с модой на небоскребы и роскошь. Но Ельцин становился строителем еще в ту пору, когда строительные чертежи не терпели ничего другого, кроме строгих приземистых прямоугольников.
А строить нужно было буквально всё!
Огромные заводские и фабричные корпуса, сложнейшие энергетические объекты, институты и библиотеки, школы и детские сады, стадионы, дворцы культуры, магазины, жилые дома, животноводческие комплексы, гаражи, мосты, дороги, в конце концов. Архитектуру стекла и бетона можно ругать сколько угодно, в своем полуразрушенном, обветшавшем виде, в котором мы видим ее сейчас, она и вовсе выглядит устаревшей и печальной, но социальную значимость этого строительного бума переоценить, конечно, трудно. По сути дела, строительство наглядно воплощало в себе суть происходившего в стране процесса — возникновение новой державы, амбициозной и мощной.
Ну и, конечно, жилье. Знаменитые пятиэтажки, «хрущобы» (архитекторы называют их «лагутенковские дома», по имени главного проектировщика), поразительные по своей дешевизне конструкции, с тонкими перегородками, тесными квартирами. Именно ради них возводились бесконечные жилые кварталы, одинаковые коробки, сотни и тысячи, целые города этих белых коробок, которые вырастали в огромном количестве и очень быстрыми темпами. Это и есть дома для новой жизни. Жизни, в которой уже нет места коммунальным сварам и барачному дикому братству, сталинской казарме. Здесь каждая семья — сама по себе. И в каждой семье отныне свои тайны, своя история, своя судьба. Именно эти дома предстоит строить Ельцину, вместе с промышленными объектами они станут частью его жизни, его профессии. Дома в скором времени усовершенствуют, подвергнут видоизменениям, повысят этажность, немного улучшат планировку, но их суть останется неизменной: массовость. Массовое счастье. Счастье единиц, перемноженное на миллионы квадратных метров.
Будущие строители поневоле должны были получать довольно широкий спектр знаний: и уметь «читать проект», то есть знать архитектуру, и досконально разбираться в технической документации, и привязывать здание к местности, и подводить коммуникации, и работать с самыми разными, порой совершенно новыми материалами.
Но, пожалуй, самое главное, что оказывало влияние на интеллект будущих специалистов, — сама философия строительного дела: его конкретность. Строитель ведет объект от самого начала, от плана на бумаге и закладки фундамента до самого конца — сдачи в эксплуатацию. Он мыслит «проектами», он ясно видит цель и знает средства, он — творец новых зданий и конструкций, окружающего пространства.
Эта философия явно пришлась Ельцину по душе.
«Борька, тебе бы родиться на сто лет позднее» — эту фразу он часто слышал от своих друзей-однокурсников.
Что это значит — «на сто лет позднее»? На сто лет позднее — там же будет коммунизм!
Послевоенная молодежь наивно верила в то, что через 100 лет у людей будут совсем другие отношения, что люди станут честнее, исчезнут корысть, зависть, жадность, ненависть, лень, карьеризм, двурушничество, лицемерие, взяточничество, воровство и прочие человеческие пороки. Им казалось, что мир развивается именно в эту сторону.
И еще одну фразу он слышал постоянно: «Борька, с твоей головой — быть тебе министром».
Если с этой оценкой еще как-то можно примириться — ну да, уже в юности он производил впечатление очень солидного, уверенного и умного, легко находил контакт с людьми, — то первая вызывает вопросы. Почему на 100 лет позднее?
У него нет слабостей? Недостатков?
Вряд ли. Огромная тяга к лидерству, острое самолюбие — нет, с таким непросто. Он необычен другим: ставит перед собой задачи, порой невыполнимые, запредельные, и решает их.
Без двух пальцев на руке стать лучшим волейболистом.
Без денег объехать полстраны, от Урала до Черного моря.
Занимаясь в основном ночами, после изнурительных тренировок, — получать почти одни пятерки.
Скрыть от всех свой главный роман — и придумать такую необычную, романтическую помолвку.
Ему остро хочется невыполнимого, красивого, огромного, яркого. При этом он вовсе не наивный романтик, вовсе не человек не от мира сего — этот конкретный мир он завоевывает очень успешно, толково.
Но внутри себя он мечтатель, у него всё в жизни должно быть
И еще: несмотря на огромное самолюбие, он щедрый, доброжелательный, открытый. В нем нет злости, часто присущей людям, мечтающим о карьере.
Он не вписывается в привычные жизненные схемы. И друзья считают его родившимся слишком рано.
В своей книге «Исповедь на заданную тему» он напишет, что его дипломная работа была невероятно сложной: проект телевизионной башни. В другой своей студенческой работе Ельцин проектировал угольную шахту.
И та и другая тема оказались для него глубоко символичны. Глубоко вниз, высоко вверх. Вертикаль.
«Вообще это было какое-то необыкновенное поколение, — рассказывает Наина Иосифовна. — Удивительные ребята были на нашем курсе. Наверное, это оттого, что мы выросли детьми в то придавленное мрачное время, когда ничего вообще не было, ощущалась эта тяжесть послевоенных лет. А потом, ну не случайно же говорят: оттепель наступила. Мы все чувствовали, что так не может продолжаться, что-то должно меняться. Обязательно».
После защиты диплома семьдесят шестая группа, группа Ельцина (факультет промышленного и гражданского строительства), около сорока человек, собралась в условленном месте, возле памятника в студгородке. Решили, что будут встречаться
У Бориса и Наины Ельциных было целых три свадьбы: одна студенческая, в кафе при Доме крестьянина, где гуляло человек сто пятьдесят, с шуточными тостами и подарками, розыгрышами, стенгазетой, все как положено у молодежи тех лет. Затем в Оренбурге, у родителей Наины, и в Березниках, у родителей Бориса.
Но чтобы выйти замуж, Ная должна переехать в Свердловск. К кому? «Боря жил в то время в мужском общежитии, я там оставаться не могла, и тогда он предложил мне пожить у его родителей». Она взяла отпуск и отправилась в дом к Клавдии Васильевне и Николаю Игнатьевичу.
Почти месяц она провела среди Ельциных. Это был важный месяц в ее жизни. Она познакомилась с Николаем Игнатьевичем, с двумя его братьями: дядей Дмитрием и дядей Иваном (четвертый брат Ельциных, Андриан, погиб на войне). С дедушкой и бабушкой — Василием и Афанасией Старыгиными. Ну и, конечно, с братом и сестрой Бориса — Михаилом, который был младше ее жениха на шесть лет, и Валентиной, которой в ту пору, в 1956-м, было 12 лет.
Хотя Березники, напомню, город, в котором есть даже драматический театр и большие заводы, жизнь в доме родителей Ельцина его невеста ведет вполне деревенскую, отпускную. Да и то сказать — лето, чудесная пора.
По средам топят баню. Ходят купаться на пруд. Домашней работой невестку не загружают, но иногда Клавдия Васильевна и Ная готовят вместе. Благо обе любят и умеют готовить. На огороде прекрасные огурцы. Их можно есть прямо с грядки.
— Какое первое впечатление было у вас от семьи Ельциных? — спросил я Наину Иосифовну.
— Вы знаете, их дом был очень похож на наш. Тоже много детей, какая-то удивительная доброжелательность, забота. Мне очень понравился отец Бориса Николаевича, умный, сдержанный человек. Да вообще все Ельцины были глубокими, интересными людьми.
— Борис Николаевич приезжал вас навестить?
— Нет, он работал на стройке, сдавал объект, я месяц жила в Березниках, с его родителями, и это было как-то совершенно естественно.
…В то лето в Березниках Ная Гирина впервые услышала от Клавдии Васильевны ту часть семейной истории, о которой раньше не принято было говорить. Раскулачивание, ссылка.
Теперь, в 1956-м, будущая свекровь рассказывает об этом своей будущей невестке — уже спокойно, не таясь. Свои подробности добавляют и дед Василий, и бабушка Афанасия.
Характерно, что в изложении Наины Иосифовны семейное предание обретает иные краски и полутона.
В нем есть интересный мотив — отрицание семейного
— Конечно, никаких рабочих он не нанимал. Это были молодые парни, которые учились у него плотницкому ремеслу, ученики. Они строили дом или сарай, а потом уже, вместе с Василием, как бригада плотников, получали за это деньги или какую-то иную оплату, продукты, не знаю что…
Талантливые руки были не только у деда Василия, но и у бабушки Афанасии.
Афанасия Старыгина в молодости была очень красивой женщиной и даже после всех испытаний сохранила женственность, у нее были пышные волосы, коса…
Что касается Ельциных, то, по версии Клавдии Васильевны, после революции четыре брата, молодых, крепких, смышленых парня, построили мельницу, сначала четырехлопастную, потом появились еще две лопасти, потом еще две… Другие крестьяне, побогаче, ездили торговать в Шадринск, братья же просто мололи муку для басмановских крестьян. Вот за это их и раскулачили.
А вот про арест Николая, отца Бориса Ельцина, Клавдия Васильевна не рассказала ни слова. Не захотела рассказать?
— Почему же произошло раскулачивание? После революции, — рассказывает Наина Иосифовна, — разделили земельные участки по справедливости. Местность у нас на Урале пересеченная, так вот, строго следили, чтобы достались и плодородные, и неплодородные земли, поровну. Но как всегда бывает, кто-то был рачительным хозяином, работал много, а кто-то пьянствовал, ленился. Председателем колхоза оказался тот, кто в крестьянском труде не преуспел, из «голытьбы», как тогда говорили. Вот по его навету их и сослали. Отец Николая Игнатьевича, дед Игнатий, в ссылке быстро ослеп. Клавдия Васильевна рассказывала, как он сидел в землянке, положив на стол свои руки, и говорил: «Руки мои, рученьки, что же с вами сделали, за что ж вас так наказали?»
— Ну а все же, была ли хоть какая-то семейная версия того, что Николай Игнатьевич с братом Андрианом из Казани отправились строить Волго-Дон, оставили семью на три года? — спрашиваю я.
— А вы знаете, я думаю, что их послали туда, где были нужнее рабочие квалифицированные руки. Причина была в этом…
— Но ведь был приговор…
— Да, политическая статья. Просто повезло, что оказались на стройке. Тогда так возводились многие промышленные гиганты. В 1996 году, во время выборов Бориса Николаевича, мы много ездили по стране и часто задавали такой вопрос: ну вот как же так, мол, при Сталине построили такие гиганты индустрии: Днепрогэс, Уралмаш, Челябинский тракторный… А сейчас, мол, что? И я отвечала: так ведь кто строил? Заключенные с тачками. Если бы сейчас согнать бесплатную рабочую силу, да при нынешней строительной технике, и заставить ее работать от зари до зари за кусок хлеба — еще и не такие гиганты можно было бы построить…
Рожать первую дочь, Лену, Наина Иосифовна решила как раз в Березниках — она опять уехала туда на целый месяц, жила в доме у свекрови, Клавдии Васильевны: та учила ее разным материнским премудростям.
Вообще этот маршрут, Свердловск — Березники, станет важной частью их семейной жизни. Молодые родители работали, Наина Иосифовна не могла долго сидеть с детьми. Клавдия Васильевна то приезжала из Березников в Свердловск, то девочки — Таня и Лена — отправлялись к дедушке и бабушке в Березники.
Однажды в пермском поезде — из Свердловска до Березников добираться нужно было целую ночь, — когда Ельцин вез младшую дочь Таню (Наина Иосифовна заболела воспалением легких), случилось непредвиденное происшествие. В плацкартном вагоне, едва соседи начали мирно похрапывать, вдруг раздался крик. Маленькая Таня перебудила всех и не желала успокаиваться. Отовсюду ей несли, кто что мог: соски, конфеты, хлебные мякиши, игрушки, едва ли не бутылки с водой или чем покрепче, но ничего не помогало, она синела, дрожала от крика, не успокаивалась. До смерти напуганный отец неожиданно расстегнул рубашку и прижал дочь к своей груди. Таня зацепилась губами, почмокала и… заснула. Так, засыпая и просыпаясь, она всю дорогу искала отцовскую грудь. Смущенный молодой папаша поглядывал на соседей, но те как-то и не думали смеяться — картина была уж очень хороша.
Это один Ельцин. А вот совсем другой.
Когда он уже был первым секретарем Свердловского обкома партии, врач-отоларинголог рекомендовал сделать ему операцию на среднем ухе. Операцию делали в городской больнице. После операции измученного пациента должны были провезти в коляске через приемный покой — бледного, с кровавыми тампонами.
Ельцин не пожелал, чтобы его видели в таком ужасном состоянии. Но другого пути, как мимо приемного покоя, в палату не было. Тогда он потребовал накрыть его с головой белой простыней и провезти мимо людей. По Свердловску немедленно пронесся слух: Ельцин умер.
Я рассказал этот эпизод, кочующий из книги в книгу, из газеты в газету, Наине Иосифовне. Она вздохнула:
— Еще писали, будто я, чтобы покончить со слухами, расклеила по городу какие-то листовки с объявлением о том, что такого-то числа состоится бюро обкома, на котором выступит товарищ Ельцин. Какой-то бред. Не было этого, да и какие я могла расклеить листовки? Не было и белой простыни, закрытого лица, я сама находилась в больнице, рядом с ним.
Однако случай с «белой простыней» — довольно наглядный пример того, как рождалась ельцинская легенда еще там, в Свердловске. Белая простыня — его личное пространство, в которое никто никогда не смел вторгаться, символ дистанции, с которой он всегда разговаривал со всеми, будь то подчиненные или начальники, простые работяги или крупнейшие специалисты. Внутренне присущее ему чувство, инстинкт, данный от природы: люди не могли видеть его слабым, терпящим поражение.
…Итак, после института Ельцин начинает работать на стройке. Это были суровые годы для инженера-строителя.
В мемуарах Ельцин описывает случай, который произошел с ним, когда он работал мастером с бригадой заключенных. «Я сразу решил сломать традицию, когда им выводили такую заработную плату, какую они диктовали, а не ту, что заработана на самом деле».
Ельцин просчитал реальные объемы сделанного бригадой и вывел зарплату, которая оказалась «вдвое меньше» обычной. Один из заключенных пришел к нему в конторку с угрозами. В руке, как пишет Ельцин, он держал топор. «Закроешь наряды так, как полагается? Как до тебя, щенок, всегда закрывали?»
Ельцин почувствовал, что угроза нешуточная. «Терять мне уже нечего, прибью тебя, и не пикнешь», — сказал зэк.
Молодой мастер оказался перед выбором — спасаться или драться. И тот и другой выбор — хуже не придумаешь…
И тогда он, оставаясь сидеть, просто крикнул на этого огромного человека с топором: «Пошел вон!»
Громила согнулся в три погибели и молча вышел. «Какой-то винтик у него там сработал, трудно сказать», — хладнокровно замечает Ельцин в «Исповеди…».
«Винтик» этот можно назвать реакцией на бесстрашие, перед которым отступает лагерный нахрап, а можно — той самой дистанцией. Перед ней, как правило, пасовали все.
Все биографы, начиная рассказ о карьере Ельцина, вскользь упоминают о периоде, когда он после института отказался сразу работать мастером, а освоил за год двенадцать рабочих специальностей: от каменщика до машиниста башенного крана.
Насколько это было типично для молодого специалиста тех лет?
Иметь в трудовой книжке запись о том, что хотя бы три месяца или полгода ты побыл «рабочим классом», в те годы было выгодно: это помогало или для поступления в институт, или для вступления в ряды КПСС — «служащие» ждали в райкоме своей очереди годами, рабочих в партию принимали сразу. Однако для Ельцина это была вовсе не «галочка» в личном деле. Он не стремился в партию, и он уже закончил институт. Освоить рабочие специальности решил, «чтобы ни один прораб или бригадир не мог обвести меня вокруг пальца».
Нетипичность проявилась и в том, что освоил он не просто одну-две рабочие специальности, а все сразу. Работал по месяцу, получая третий-четвертый разряд, и брался за новое дело. Он хотел увидеть стройку изнутри, понять ее секреты.
Это было еще одно испытание, придуманное им для себя. Еще один вызов. Еще одно проявление спортивного менталитета — не просто поработать, а поставить рекорд.
Но гораздо важнее для него, будущего руководителя, оказался момент изучения стройки как целостного организма, в котором важна каждая деталь, каждый метр пространства, каждая фаза работы. «Знать работу не хуже своих подчиненных, а по возможности даже лучше».
Кредо, которое он попытается сохранить в течение всей жизни. Получая новую должность, все более высокую, Ельцин везде пытался окунуться в новую среду, «пощупать» ее, увидеть своими глазами, понять изнутри.
Однако последняя «среда», с которой ему довелось столкнуться, — целая новая страна, во главе которой он оказался, — поставила перед ним в этом смысле почти невыполнимую задачу. Здесь не было котлованов и бетономешалок, как на стройке, «объектов», по которым он ездил с утра до вечера, когда возглавил строительный отдел обкома, здесь не было заводов-новостроек и далеких сел, по которым мотался, когда стал первым секретарем, здесь не было московских магазинов, заводов, рынков, улиц, которые исходил своими ногами, когда приехал работать в Москву. Эта новая среда, эта новая работа потребовали от него уже другой степени анализа.
Существовал ли здесь «типовой проект»? Помог ли ему здесь опыт «комплексных бригад»?
Словом, стройка, которую он постигал в качестве новичка, дала ему многое. Дьявол действительно кроется в деталях. Работа каменщиком потребовала от него возить тачку с жидким бетоном по узкому настилу, причем бегом. Огромный Ельцин, со своим почти двухметровым ростом и немалым весом, теряя чувство равновесия, не раз и не два мог свалиться вместе с тачкой с трехметровой высоты — сомневаюсь, чтобы он мог остаться непокалеченным после таких падений, если высота указана верно.
Тяжелый ручной труд на производстве станет позднее для него мишенью, которую он будет критиковать со всех трибун, на всех своих постах, вплоть до Московского горкома партии.
Дом, в котором тогда жили молодые супруги Ельцины, находился рядом со стройкой. Над стройкой возвышался огромный башенный кран. Во время ночного ливня и урагана Ельцин увидел, что кран, закрепленный на рельсах, может рухнуть, выбежал из дома и стал карабкаться наверх. В полной темноте сумел совершить необходимые манипуляции (освободить башенную стрелу, которая повернулась по ветру) и спасти кран от падения.
Строжайшее выполнение всех строительных нормативов, инструкций по технике безопасности, жесточайшая пунктуальность станут еще одним его «пунктиком».
Когда он был водителем грузовика, застрял однажды на железнодорожном переезде перед идущим составом и с трудом сдвинул грузовик с места, нажимая на ручку стартера. Разумеется, тоже «в последний момент». «Я вышел из машины, сел на бровку кювета и долго не мог отдышаться». Грузовик был старый, изношенный, с тяжелым грузом.
Критические ситуации возникали одна за другой.
Всех их Ельцин мог избежать, если бы сразу начал работать мастером. Но он сам искал их. Они были ему необходимы для будущего…
И будущее не заставило себя ждать.
Трудовая книжка Б. Н. — сама по себе крайне любопытный документ. Но в начале его карьеры она представляла собой парадоксальное явление — сплошные выговоры в сочетании с крайне стремительным продвижением по служебной лестнице!
Этот парадокс легко объясним: главной технологией стремительного роста для Ельцина всегда был бунт против самого стиля работы. Но этот бунтарь был настолько необходим стройке, что его продвигали «наверх», несмотря на крутой характер, а может быть, и благодаря ему. Ломая привычное, он достигал результатов, о которых другие могли только мечтать.
«Однажды утром, вскоре после принятия объекта, Ельцин обнаружил, что там нет ни рабочих, ни техники, — пишет американский биограф Ельцина Леон Арон. — Оказалось, что начальник участка отправил их строить гараж для одного из руководителей треста. Постоянное использование материалов и рабочих для личных нужд начальства было на советских стройках обычной практикой, и рабочие поразились, когда на месте будущего гаража появился разъяренный Ельцин и приказал им вернуться на официальное рабочее место».
Последовали скандал и первое столкновение с системой.
«Приписки в наряды», то есть заполнение бухгалтерских документов на невыполненный объем работ, — еще один повод для скандала. «Когда я начал строго обмерять кирпичную кладку, — пишет Ельцин в своей «Исповеди…», — сколько использовано бетона, сколько того, другого — возникли сложности. Постепенно все-таки вопрос отрегулировался, люди стали понимать мою правоту, да и рабочая совесть — это не пустой звук. Дело наладилось».
Но прежде чем «дело наладилось», были и громила с топором, бывший заключенный, и жалобы, и молчаливое сопротивление, и прямой бойкот.
Однако воевать с молодым мастером привычными методами было сложно — уж очень он сам был непривычен. Как будто из другой жизни… Из той самой, которая, как думали многие, наступит «на сто лет позднее».
Впрочем, нельзя сказать, что молодой специалист не вписывался в мифологию своего времени. Вписывался — но именно в мифологию, в проект времени, в его архитектурный эскиз.
В очень многих советских фильмах тех лет молодой бригадир, мастер, рабочий борется за «справедливость», за «работу по совести», с недостатками, приписками, формализмом, причем борется — и побеждает. Социальный заказ, ранняя хрущевская «перестройка» уже овладевали умами и в литературе, и на киноэкране. В этом смысле Ельцин шел как раз в ногу со временем. А вот реальность советской стройки сопротивлялась на каждом этапе его карьеры.
Следующий бунт он поднимет на собрании работников треста в Доме строителя. На этот раз, правда, вопрос касался не общей ситуации, а его лично. Почему он, молодой специалист, почти с отличием окончивший институт, должен строить подсобные помещения или пожарные каланчи? Он требует (вдумайтесь, требует!), чтобы ему дали поработать на более важном и значительном объекте.
На сей раз Ельцина не наказали, не поставили на место, не попытались даже урезонить. Начальство было поражено, что и у них в коллективе появился «герой из фильма», молодой парень, который никого не боится и требует повышения уровня своей ответственности.
Ельцину поручили новый пятиэтажный дом в центре города.
Молодой инженер не хотел считаться с тем, что до него существовало «испокон веков». Отказывался иметь дело с тем, что ему мешало.
Одна из таких проблем — разворовывание стройматериалов при отделке квартир. Так вот, он придумал приглашать в строящиеся квартиры будущих жильцов, и рабочие впервые лицом к лицу столкнулись с реальными людьми, которым предстояло заселяться в этот «недострой».
Другой его (довольно простой) идеей было личное поощрение. Однажды Ельцину пришлось за одну ночь решать такую вот «нерешаемую проблему» — двери были установлены неправильно, косяками в другую сторону, и он заставил плотника с бригадой (история сохранила фамилию этого трудолюбивого человека — Михайлишин) всю ночь решать эту «закавыку», переставлять двери. Наутро Ельцин появился в доме, где падавший с ног от усталости бригадир доделывал эти несчастные двери. Появился с транзисторным приемником в руках (немалая роскошь по тем временам), который тут же и вручил работяге без лишней помпы.
Довольно оригинальная привычка дарить отличившимся подчиненным часы «прямо с руки» стала неотъемлемой частью его стиля, сколько он передарил за свою жизнь этих часов — одному богу известно.
Для женских бригад (маляров и штукатуров), работающих в ночную смену, подарком было уже одно его появление — он шутил с девушками, целовал в щечку, дарил конфеты, работал вместе с ними допоздна и затем уходил, чтобы вернуться домой заполночь. Работа после таких его появлений кипела с утроенной силой, можно не сомневаться.
Когда объекты и зона ответственности укрупнились, крупнее стали и его «творческие находки». Комплексная бригада, которую он создал на своем домостроительном комбинате, обеспечивалась стройматериалами в первую очередь.
Дома часто сдавали к 7 ноября или к 1 января (а если дом не был сдан к сроку, финансирование новых объектов урезалось за счет этих, недостроенных, это была катастрофа, ЧП) — он уговаривал директоров заводов присылать к нему рабочих (дома строились как раз для них) и увеличивал число строителей в разы, чтобы преодолеть аврал.
Но вернемся к началу его карьеры. После пятиэтажного дома, который был построен довольно быстро, Ельцину поручили закончить строительство камвольного комбината.
Камвольный комбинат был типичным примером советского «долгостроя». Ржавый металлический каркас семиэтажного здания пугал своим заброшенным видом. Он символизировал неупорядоченность, хаотичность, стихийность — и самой работы, и планов, и даже чертежей. Когда Ельцин взялся за дело, неожиданно выяснилось, что в проекте отсутствует подземный переход из одной части здания в другую (сделать его забыли). А без этого перехода комбинат работать просто не мог. Однако напор Ельцина победил всё: он привлек к экспертизе проекта своих учителей, профессоров из УПИ, выбил из начальства дополнительное финансирование, мобилизовал рабочую силу. Хаос вновь был побежден, пространство вновь стало упорядоченным, устроенным, логичным.
…В 1962 году, в апреле, Наина Иосифовна заставила мужа взять путевку в Кисловодск и отправила его поправлять здоровье. Чувствовала, что это необходимо при его нагрузках и бешеном ритме жизни. Сама она оставить на целый месяц маленьких дочерей не решилась, взяла отпуск и вместе с Леной и Таней поехала в Березники.
Ельцин позвонил через три дня. Никаких домашних телефонов тогда не было, она разговаривала с почты. На почте не было даже кабинок, разговор, так сказать, при всем честном народе.»
— Приезжай немедленно, — сурово сказал муж. — Я тут больше не могу без тебя. Или я все бросаю и немедленно вылетаю обратно в Свердловск.
Жена стала уговаривать его побыть в Кисловодске еще хоть какое-то время, желательно до конца оплаченного срока. Через несколько минут, как рассказывает Н. И., «вся почта почти хохотала, слушая, как я расписываю ему прелести свободной отпускной жизни».
Однако вариантов не было. Знала: если сказал, что прилетит, — значит, возьмет билет, все бросит и прилетит. Она сдалась. Оставила девочек на бабушку.
Кисловодск весной прекрасен. Запах роз, горы, прогулки на Большое и Малое Седло. Конечно, тут же образовалась дружная волейбольная компания. «Как только он где-нибудь появлялся, сразу начинался непрерывный волейбол».
Это был их первый совместный отдых. И Кисловодск на всю жизнь стал любимым местом. Больше они никогда не пробовали отдыхать отдельно.
В 29 лет, всего через четыре года после того, как пришел на стройку в качестве мастера, Ельцин стал главным инженером в огромном строительном управлении. Теперь под его началом трудились уже тысячи…
Другой важной чертой Ельцина-управленца, помимо его врожденной дистанции, которую он умел держать и с подчиненными, и с начальниками, была его необычайная, поражавшая и пугавшая многих работоспособность. Сейчас его бы назвали трудоголиком. Ельцин не просто работал на работе — он на работе жил.
Б. Н. от природы «жаворонок», вставал рано. В шесть утра он выходил из дома (тогда они жили на Химмаше, окраине Свердловска) и, преодолев своим широким шагом несколько километров (его собственное уточнение — 12 километров за два часа, серьезная нагрузка уже сама по себе), появлялся на стройплощадке ровно в восемь утра. А иногда и в семь. Почему он это делал? «Добираться на работу на общественном транспорте приходилось через центр, с пересадкой, в жуткой давке, и уходило на это полтора-два часа. Боря предпочитал ходить пешком», — объясняет Наина Иосифовна. Высокому Ельцину с его легким великанским шагом легче было дойти, чем доехать.
Задерживался на стройке допоздна и иногда оставался на ней до раннего утра. Так, например, на стройплощадке камвольного комбината постоянно горел костер, на нем грелся бетон, который не должен был застыть. Ельцин стоял около костра, следил за тем, чтобы работа продолжалась бесперебойно.
Авралы, сдачи объектов в рекордные сроки, строительство пятиэтажек по особой технологии, то есть «монтаж дома с колес», когда этажи навешивались друг на друга и главным было — подготовить объект к этому последнему рывку…
«Доставала» подчиненных и его сумасшедшая пунктуальность. Так же как он не выносил приписок и липовой документации, не терпел он и опозданий. Опоздавший на планерку хоть на одну минуту не допускался на нее.
Но и те, кто успел на планерку вовремя, ожидали разговора с большим душевным трепетом. Ельцин не выносил долгих, пространных объяснений. Никогда не повышая тона, не употребляя бранных слов и никогда не переходя на «ты», он просто прерывал путаную речь: «Говорите по делу!»
Это для подчиненных было страшнее любого крика, любых ругательств — настолько непривычно. Он требовал только одного: покажите результат, сделайте работу, не можете — аргументируйте.
Не терпел попыток уйти в сторону, перевести разговор на другую тему, неподчинения, посягательств на «авторитет руководителя». («Публичную критику воспринимал болезненно, но человека, который осмелился его критиковать, начинал уважать больше», — добавляет Наина Иосифовна.) В этом смысле психология Ельцина-управленца была очень неудобна для подчиненных.
Он говорил «беспощадную правду», и мир советского производства, весь построенный на компромиссах, затыкании дыр, на качающемся, произвольном ритме, просто трещал по швам при первом же столкновении с этим стилем.
Единственное, чего никогда не допускал Ельцин-руководитель (помимо входивших в этот же стиль
Во многих «желтых» его биографиях сказано, что именно стройка, сплошные авралы заставили Ельцина — молодого, спортивного человека, который в первый год своей работы на стройке продолжал почти профессионально играть за волейбольную команду, — впервые приложиться к рюмке. Кто же, мол, не выпьет в таких тяжелых условиях? Но это не так.
Ельцин начал принимать участие в долгих, утомительных застольях только во время своей работы в обкоме партии, там они были обязательны. «Люди, которые так пишут, просто не понимают, что такое стройка, — подтверждает Наина Иосифовна. — За 14 лет работы на стройке Б. Н. ни разу, ни в рабочее время, ни после, никогда не выпивал с сотрудниками, не отмечал “сдачу объекта”»…
И верно, никакие авралы и штурмы, никакие рекорды, которыми он славился на работе, были бы невозможны, если бы он отступил от своих правил хоть на йоту.
«Система Ельцина» действовала безотказно на любом этапе его карьеры. Сперва подчиненные начинали его ненавидеть, затем поражались энергии и трудоспособности, наконец, понимали, что она, его
Я уже говорил, как именно Ельцин добивался жесточайшего выполнения плана, везде демонстрировал кратчайшие сроки и рекорды. Спустя несколько месяцев после тяжелого начала совместной деятельности премии и поощрения начинали сыпаться на коллектив и его руководителя как из рога изобилия.
Это не значит, что Ельцина всюду начинали любить. Но его начинали уважать. В команде обязательно появлялись верные, преданные люди, на которых гипнотически действовали его необычный стиль, его невероятное поведение.
В 29 лет, как уже было сказано, он назначен главным инженером СУ-13, в 31 — вступает в партию и становится начальником управления, в 34 — его приглашают главным инженером ДСК (домостроительного комбината), через полгода он становится его директором. В неполные 35 он достиг того, к чему другие идут всю жизнь.
Ну и, наконец, третья важнейшая черта его стиля — Ельцин никогда не боялся наживать врагов.
Невелика смелость — быть предельно жестким и требовательным с подчиненными (хотя и здесь она нужна! — скажет вам любой руководитель), гораздо опаснее проявлять характер в отношениях с руководством.
Каждый, кто через это прошел, к примеру, люди, объединенные властью, всегда могут договориться за спиной строптивого новичка и ударить с тыла. Для него как будто не существует этой общеизвестной истины.
Когда Б. Н. работал в СУ-13, в системе «Южгорстроя», его начальником был Ситников, опытный строитель. Человек, не менее крутой и сильный характером, чем Ельцин. Методы Б. Н. ему не нравились, стычки возникали постоянно. Порой, вспоминает Ельцин, в пылу спора Ситников хватал стул и шел на него. Тогда Ельцин тоже брал в руки стул… Это была, конечно, неслыханная дерзость. Однажды Ельцин даже сказал Ситникову: учтите, я спортсмен, у меня реакция лучше, я ударю первым.
Порой, возвращаясь с объекта в машине Ситникова, они начинали спорить прямо там. Когда спор надоедал Ситникову, он частенько останавливал автомобиль и требовал, чтобы главный инженер добирался до дому пешком. «Довезете до трамвайной остановки, тогда выйду», — спокойно отвечал Ельцин. За один год Ситников вынес главному инженеру два десятка замечаний и выговоров.
Тем не менее Ельцина повысили в должности, когда ушел Ситников. Кто же рекомендовал его на этот пост? Да тот же Ситников!
Ситников, в сущности, был первым учителем Ельцина как большого руководителя, хотя в «Исповеди на заданную тему» останутся эти тяжелые сцены со стульями и разговорами у трамвайной остановки, а в личном деле — многочисленные выговоры: они не помешали Ельцину идти вперед. Он был нужен, он был необходим: пробивная машина, таран, эффективный и работоспособный. И никакие детали уже не портят эту общую картину — конфликтный Ельцин стоит дороже, чем многие бесконфликтные.
Однако гораздо больше Ельцин рисковал головой, когда спорил с партийными органами.
Первый секретарь райкома Бобышев в жесткой форме требовал, чтобы Ельцин пришел на бюро райкома и отчитался «о проделанной работе». Однако начальника СУ-13, а потом ДСК вызывали одновременно сразу в несколько райкомов Свердловска, на территории которых были строящиеся объекты. Когда он отказал Бобышеву впервые, тот был разъярен. «Если я сказал, значит, вы придете, а иначе партбилет на стол».
Тем не менее Ельцин не пришел. Отказался ходить в этот райком раз и навсегда.
Хотя партбилет у него однажды все-таки чуть не отобрали.
Как только Б. Н. назначили руководителем ДСК, в Свердловске рухнул только что построенный пятиэтажный дом. «Поплыл фундамент», который строители небрежно, с нарушением технологии, заливали бетоном зимой. Сам Ельцин не принимал участия в этой стройке, еще не был назначен, когда дом строился, но за аварию отвечать пришлось ему. К счастью, при обвале никто не пострадал, дом еще не был заселен.
Бюро Свердловского горкома поставило вопрос о его исключении. Ельцин, оправдываясь, скажет: «Вы меня только что приняли, партбилет еще горячий…», но это не произвело на бюро никакого впечатления.
Пришлось вступиться второму секретарю Рябову.
Он поручился за молодого строителя. Ельцин отделался строгим предупреждением.
Этот Рябов сыграл большую роль в судьбе Б. Н.
Как он сам пишет в своих мемуарах, «…я “родил” Ельцина в пятый раз», это о переводе Б. Н. из Свердловска в Москву в 1985 году на должность заведующего строительным отделом ЦК КПСС.
А вот еще несколько «рождений»: Рябов выдвинул его на пост начальника ДСК, Рябов, как уже было сказано, пригласил Ельцина на работу в обком завотделом, потом секретарем по строительству, ну и, наконец, первым секретарем, когда его самого перевели из Свердловска в Москву.
Порой Рябову жаловались на Ельцина — он, мол, тяжел в общении с людьми, он «давит», «нажимает», не обращая внимания на «личные особенности»! Об этом сам Рябов написал в своей книге уже после перестройки, когда Ельцин стал его идейным врагом. Кстати, сам Рябов в быту, как говорят, был как раз весьма груб.
Но как
Рябов не понимал: Ельцин никогда не станет как все.
Конечно, Ельцин вовсе не один такой в своем поколении.
Это была целая формация молодых «главных инженеров», в какой-то мере рожденных косыгинской экономической реформой. Они в отличие от прежних руководителей производства (1940—1950-х годов) не заискивали перед парткомом, райкомом и обкомом, потому что не были от них так зависимы. Производство, промышленность считали не частью общей «партийной работы», а своим личным участком ответственности, своим призванием.
Время востребовало эту формацию руководителей, время же их и похоронило, растворив в брежневской системе власти.
Ельцина легко было принять за одного из таких «главных инженеров», молодых, амбициозных, технократичных. Но он отличался от окружавшей его системы не только поколенческими чертами. Он отличался от других ментально, личностно. Вот этого вовремя не заметил суровый и властный Рябов. Ему бы поинтересоваться, покопаться — ну а как же именно Ельцин «давит», в чем именно проявляется его «жесткость»? Примерами поинтересоваться и задуматься над ними.
Т. Колтон пишет: «Он выражал свои мысли четко и категорично. Для того чтобы выразить раздражение бессмысленной речью или несчастливой новостью, он поднимал бровь, пропускал карандаш между пальцами и начинал стучать им по столу, если раздражающий фактор не самоликвидировался, он демонстративно разламывал карандаш надвое. По словам свердловского врача, специальная палата в больнице № 2 начинала работать в резервном режиме после обкомовских пленумов на случай, если кому-то из его членов станет плохо после резких отчетов».
А вот что пишет другой американский биограф Ельцина, Леон Арон: «Идя по утрам на работу с автобусной остановки, Ельцин делал вид, что не замечает вокруг людей из СУ-13. “Кто этот новый хам? — пожаловались они другу и коллеге Ельцина Сергею Перетрутову. — Задирает нос и не хочет здороваться с нами!” Перетрутов посоветовал обиженным держаться твердо и не здороваться с Ельциным первыми. Через несколько недель Ельцин доверительно сказал Перетрутову: “Послушай, Сергей Иванович, я делаю что-то нехорошее? Знаешь, люди отворачиваются от меня. Право, отворачиваются…” Перетрутов посоветовал Ельцину взглянуть на себя. Ельцин казался искренне удивленным». На следующее утро он начал здороваться первым, и вскоре эту историю забыли[3].
Широко известен и другой случай — с Микунисом, который был директором крупнейшего в Свердловске домостроительного комбината.
Ельцин уже почти два года проработал в ДСК главным инженером, создал там «комплексную бригаду», которая, в соответствии с последними веяниями, обеспечивала объект от рытья котлована до сдачи комиссии. На собрании в главке заслуженный строитель, директор ДСК Аркадий Микунис начал расхваливать комплексную бригаду. Тогда начальник главка Гиренко потребовал у него конкретных цифр. Микунис смутился и «поплыл». Немедленно для отчета прямо с какого-то объекта был вызван Ельцин. После того как он долго отвечал на все вопросы, без шпаргалки назвал всех членов бригады, в мельчайших подробностях рассказал о ее работе, Гиренко сказал: «Вот как нужно докладывать!»
У Микуниса сразу после планерки случился сердечный приступ. Ельцин не испугался партийного нажима Гиренко. Ельцин и Микунис были из разных поколений. По-разному относились к партийной иерархии и субординации.
Ельцин вырос в эпоху, когда руководитель не мог обойтись без постоянных разносов, крика, грубой брани, митинговых речей. Обратной стороной этого стиля был так называемый «душевный разговор» один на один или те моменты истины, когда руководитель «с открытой душой» обращался к простому народу за помощью. Ельцинский стиль исключал и то и другое.
Он просто требовал выполнять работу качественно и в срок. От него исходили та бешеная энергия, та страсть, которая исключала использование и грубой брани, и начальственного окрика, и лицемерного «душевного разговора» как знаков традиционной для России системы отношений «барин — холоп». Ельцин любого человека воспринимал только как работника.
Это была фигура как бы с другими корнями и с другой этикой (помните «староверцев» и «их моральный кодекс сдержанности, усердия и упорное противостояние трудностям»?).
Именно это было непереносимо, особенно поначалу, для сотрудников, для коллективов, которые он пытался заставить работать по-другому.
«Работа», как понятие, в России всегда включает в себя целый пласт человеческих взаимоотношений, довольно тонких, неявных, даже незримых. Отношения «начальник — подчиненный» всегда осложнены здесь целым рядом обстоятельств: симпатиями и антипатиями, традициями и ритуалами, семейными отношениями, связями. Словом, «работа» — это целый мир, где человек не просто трудится, а живет, существует во всей полноте своих проявлений, в том числе дружеских и даже любовных, поэтому одномерный ельцинский подход всегда и всеми поначалу воспринимался в штыки.
Вообще этот «мир», социальная гармония, прочное устройство российской жизни — такая сложная штука, что говорить о ней через запятую, лишь в контексте чьей-то биографии, вроде как-то и не с руки. Тем не менее говорить надо, коль уж Б. Н. постоянно вступает с ней в такое жесткое противодействие.
Мир этот, как я уже замечал, держится на бесчисленном количестве взаимосвязей, обязательств, на внутреннем равновесии, а отнюдь не на формальном «порядке». Нет, важно другое — то, что отнюдь не на виду. То, что внутри этой гармонии, внутри этой системы.
Работяги плохо работают, пьянствуют, даже воруют, ленятся, забывают о трудовой этике. Но в нужный момент, когда начальник их от души попросит, они совершают чудеса. Такие чудеса трудового героизма, которые никто, кроме них, не может совершить. Это норма. Не прописанная нигде. Ни в литературе, ни в Программе КПСС, ни в трудовом договоре. Но о ней знают все.
Начальник может занимать по отношению к рабочим головокружительно высокое место в производственной иерархии. Они целиком и полностью зависимы от него. Но благодаря этим неписаным правилам получается, что и он зависим от них. Вернее, не от них, а от того общего, коллективного мнения, которое складывается вокруг него — и по вертикали, и по горизонтали. Он может сколько угодно говорить о выполнении плана, о трудовой дисциплине, но рабочие знают — важно то, какую роль этот человек играет во всей остальной иерархии, в сложной системе взаимных обязательств и связей. Важно то, насколько он сам может оправдывать свой кредит доверия.
Непрозрачность — вот основа этого российского мира. Говорят одно, а имеют в виду другое. Молчат о главном. Понимают друг друга «с полуслова». Знают, как «надо» и как «не надо». Причем знают не из книг и бухгалтерских документов. Любое отступление от этих норм карается. Вызывает, как тогда говорили, «оргвыводы».
Зыбкое равновесие, нестабильная стабильность.
В послевоенную советскую эпоху появились люди, которые попытались сделать этот мир прозрачным.
Говорить правду вслух.
Недолгая, но действительно героическая попытка.
После назначения главным инженером СУ-13 Ельцин собрал руководителей управления и велел приготовить полный финансовый отчет: какими средствами они располагают, какие зарплаты выплачивались, какие были расходы на материалы, электроэнергию. Он хотел заставить этих людей научиться элементарно считать. Но мы строители, а не конторские крысы — возразил кто-то из них. Однако им все же пришлось погрузиться в лабиринты «социалистической бухгалтерии», расспрашивать своих подчиненных, мастеров и прорабов.
«Битва за прозрачность» продолжалась и в ДСК.
«В кабинете Ельцин чувствовал себя неуютно и при каждой возможности выезжал на объект… Иногда результат этих визитов бывал весьма драматичным. Как-то бригада монтажников из ночной смены на одном из участков комбината напилась допьяна и прекратила всякую работу. Узнав об этом, когда был еще в кабинете, Ельцин отправился разбираться в два часа ночи, пешком, так как автобусы уже не ходили. Когда проверка окончилась, возвращаться домой было уже поздно. Ельцин прямиком отправился обратно в кабинет и приказал бригаде немедленно явиться к нему. Одного за другим все еще пошатывающихся монтажников вызывали для беседы с начальником. После этой утренней накачки монтажники надолго забыли, как льется водка из горлышка бутылки» (Леон Арон).
Мы, конечно, можем улыбаться наивности американского биографа Ельцина. Ему кажется, что такого ночного случая было достаточно, чтобы они «надолго забыли». Как же, забыли они! «Мир», в котором жили эти монтажники, даже и не предполагал, что его можно поколебать такими наскоками.
В 1963 году Ельцин уходит из СУ-13, проработав там два года, в 1966-м он становится директором ДСК.
Между этими двумя событиями в Москве снимают Хрущева, на октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 года…
В ночь перед пленумом, на котором это произошло, Брежнев вызвал к себе начальника КГБ Семичастного. «Как вы собираетесь обеспечивать мою безопасность?» — напрямую спросил будущий генсек. Семичастный в ответ, тоже напрямик, спросил, что Брежнев имеет в виду. «Ты можешь поставить автоматчиков в моем подъезде, чтобы я мог спокойно заснуть?»
…После Хрущева в стране появилось сразу три «первых лица» — Генеральный секретарь Брежнев, Председатель Совета Министров Косыгин и Председатель Верховного Совета СССР Подгорный.
Понятно было, что Брежнев имеет гораздо больше влияния, но насколько он самостоятелен в своих действиях при такой «тройной схеме», простые коммунисты могли лишь гадать. Всем импонировал тихий, немногословный Косыгин, промышленник, высоколобый директор завода, умный и сдержанный человек. Его хотелось видеть во главе страны, его экономической реформе верили.
Однако Брежневу между 1966 и 1968 годами удалось тихо свернуть реформу и отстранить от власти всех, кто имел на нее хотя бы теоретические шансы. В 1968-м он введет танки в Чехословакию. Плоды полного брежневского единовластия страна начнет собирать немного позже, несколько лет спустя.
Ни в одном тексте, ни в одних мемуарах, воспоминаниях, записках, интервью я ни разу не нашел упоминания о том, что Ельцин хоть с кем-нибудь обсуждал все эти политические события, высказывал оценки. Кажется, что грызня кремлевских бульдогов под ковром его вообще в те годы не волнует. Это мир настолько далекий от него, что даже бесстрастно интересоваться им не имеет никакого смысла. Вместе с ним «не интересуется» им и вся страна (очередной парадокс советской жизни!), гораздо привлекательнее другое: спорт, особенно хоккей, космос, телевидение и кино, строительство нового жилья, своя работа, своя семья.
Паспортист, заполняя личное дело Ельцина, в графе «правительственные награды» впишет по ошибке: жена Анастасия (1932 г. р.), дочь Елена (1957) и дочь Татьяна (1960)[4].
Ошибки на самом деле никакой нет. Только награды эти — не от правительства.
Младший брат Ельцина Михаил, вслед за Борисом поступивший на строительный факультет УПИ, бросает институт и идет на стройку рабочим. «У вас, инженеров, зарплата такая, что я на стройке больше заработаю», — просто скажет он брату. В 1972 году, когда их отца Николая Игнатьевича Ельцина разбил тяжелый инсульт (он скончался в 1977-м), брат Миша вместе с родителями переехал в Свердловск.
Ельцин тяжело переживал болезнь и смерть отца. С родителями виделся довольно часто, каждое лето приезжал к ним в Бутку (о чем речь еще впереди). Когда Николая Игнатьевича свалила болезнь и он почти не вставал с постели, для семьи наступили тяжелые годы.
Наина Иосифовна часто приезжала помочь ухаживать за тяжело больным свекром. Клавдия Васильевна, мать Ельцина, после смерти мужа почти каждый день заходила к внучкам проведать, помочь, накормить… Жили с 1977 года они почти рядом, Михаил поменял квартиру ближе к Борису. Валентина, младшая сестра, жила в Березниках, она окончила Пермский технологический и осталась в родном городе, как и отец, работая в строительном управлении химзавода.
— Кстати, Наина Иосифовна… А как складывались отношения между двумя братьями? — спросил я. — Миша ведь другой человек, он отказался вступать в партию, когда ему предложили, предпочел другой жизненный путь. Не было трений каких-то, разногласий, споров или неурядиц?
— Да нет, что вы, никогда! Самые нежные были отношения, самые близкие. И жили рядом, и Клавдия Васильевна часто бывала у нас, и Миша. Вот в газете написали, что когда Борис Николаевич умер, Миша отказался приехать на похороны. Конечно, он приехал, хотя у него больное сердце.
Ну кто мог придумать это! Вот он сидел на том же месте, где сидите вы, взял в руки эту газету, поднял на меня глаза, побледнел весь и спросил: «Ная, ну что это? Как так можно?» А что я могла ему сказать? Судиться с ними? Не хочу…
В 1965 году, когда отец Ельцина вышел на пенсию, случилось важное событие в его жизни, важное и, я бы сказал, символическое — был куплен дом в Бутке, в том самом селе, где родился старший сын Боря. Ельцины вернулись в родные места.
Отныне и до самого окончания школы Лена и Таня Ельцины на все каникулы отправлялись в деревню. К бабушке и дедушке. Родители навещали их регулярно — Наина Иосифовна на поезде или вместе с Борисом Николаевичем на служебной машине — приезжали на день, на выходные.
Здесь, в Бутке, было хорошо и детям, и взрослым. Вольный воздух, деревенские друзья, лошади, рыбалка, лес, поле, речка. Часто в дом заходила родня. И дальняя, и близкая. Родни в Бутке, в соседнем Басманове, много.
Кстати, о родне.
— Борис Николаевич в те годы был уже большим человеком в городе, все об этом знали, — продолжаю я выспрашивать семейные подробности у Наины Иосифовны. — Наверное, к нему обращались с просьбами кого-то устроить, чем-то помочь, что-то достать?..
— Нет, никогда.
— А почему? Все знали, что у него
— Трудно сказать… Мне кажется, все Ельцины были такие. Борис Николаевич практически никогда не пользовался служебным положением, чтобы как-то обойти закон, или сделать кому-то протекцию, как сейчас говорят, «решить чью-то проблему», или что-то еще. Обращались, может быть, но не ко мне. Может, к Клавдии Васильевне? Но и она мне ничего не говорила. Как-то это не было принято. Он очень этого не любил, и все это знали.
— Но ведь бывают, как бы это сказать, неразрешимые ситуации, когда очень нужна помощь? Неужели ни разу он или вы не отступили от этого правила?..
Она надолго задумалась.
— Да, вы знаете, со мной это один раз было. Наша однокурсница оказалась в очень сложной семейной ситуации, и ей срочно нужно было поменять квартиру, взамен старой, расширить жилплощадь. Я позвонила тоже нашему однокурснику, в институте которого она работала, и просто сказала: ну неужели ты не можешь помочь?
…Однажды Б. Н. позвонил жене на работу и сказал, что через три часа они уезжают в отпуск. Он взял путевки, билеты, надо быстро собраться. Она заплакала. Как в отпуск? Как через три часа? Это было слишком неожиданно. Даже для нее, которая всегда была готова к его сюрпризам.
— Сейчас за тобой заедет водитель. Приезжай скорее домой, у нас мало времени.
Он никогда не присылал за ней на работу водителя.
Она приехала домой и первым делом увидела его.
Он был дома! Днем! Он ждал ее дома… Она не могла на него сердиться.
Н. И. быстро собирала вещи, настолько быстро, что в чемодане оказались два ботинка на одну ногу.
Воспоминание об этих двух ботинках стало семейной легендой.
Импровизации, сюрпризы, неожиданности наполняли семейную жизнь, как и его подарки. Его подарки ей. «То придет с огромным букетом пионов, то принесет какой-то невероятный отрез ткани и, как фокусник в цирке, начинает вынимать его из кармана, а то привез из какой-то поездки безумно красивые туфли и, как ни странно, они подошли! На дне рождения его коллеги, Житенева, прямо за столом положил передо мной какую-то коробочку и кивает — мол, открой. Я ничего не поняла, решила, что это подарок имениннику, вручила, стала произносить тост, он открывает, а там женские серьги! Раздался хохот, а Борис улыбается и говорит: “Да это же тебе!”… Я их до сих пор ношу, эти серьги».
— Наина Иосифовна, — спросил я. — А вот как вы ощущали себя с ним все эти годы? Он был непредсказуем? Или постоянен, надежен, то есть за ним вы были «как за каменной стеной»?
— Да…. — немного подумав, ответила она. — Как за каменной стеной. Не потому что он добывал какие-то там блага. Он вообще не знал, что такое деньги в бытовом, житейском смысле. Просто, понимаете, я прожила всю жизнь с очень интересным, глубоким человеком…
Еще, к слову, об отпусках. Два-три раза ездили в Болгарию, Румынию. В любимый Кисловодск. В 1975 году он организовал выезд в Болгарию всему студенческому братству, наступил «их год», условленный заранее, и Б. Н. оформил документы всем своим однокурсникам, даже невыездным, работавшим на секретных объектах, через обком партии (значит, все-таки воспользовался «служебным положением», отметил я про себя), 40 человек отправились на Золотой Берег. В 1970-м такое же удивительное путешествие эта огромная компания, уже с семьями и детьми, совершила на теплоходе по Каме (потом по Волге до Ростова-на-Дону, затем самолетом до Геленджика, на Черное море) — каждый день КВН, концерты, песни, стенгазеты, стихи… «Лена и Таня до сих пор вспоминают это путешествие», — замечает Наина Иосифовна.
В 1969-м, за год до этого, на двух машинах три семьи отправились в автомобильное путешествие — «Волга» и «москвич» их друзей совершили головокружительный маршрут. Из Свердловска двинулись по направлению к Каспийскому морю, но из-за плохой дороги туда не доехали, вернулись на Урал и уже через Оренбург по Симферопольскому тракту — на море Азовское, а потом и на Черное. Ночевали в палатках. В каждой машине сидели трое взрослых и три ребенка.
Но как бы ни складывались отпуска, кое-что оставалось неизменным — Лена и Таня отправлялись в Бутку, а супруги Ельцины оставляли от отпуска одну неделю для
«Река Чусовая, вероятно, будет в непродолжительном времени служить одним из любимых мест для русских туристов, ученых и художников. Немного найдется таких уголков на Руси, где сохранилась бы во всей своей неприкосновенности суровая красота дремучего северного леса, где перед вашими глазами в такой величайшей панораме развертывались бы удивительные картины гор, равнин и скал, где, наконец, само население, образ его жизни, историческое прошлое, нравы, условия труда — все было бы преисполнено такой оригинальности и своеобразной поэзии», — цитирует слова Д. Н. Мамина-Сибиряка современный писатель Алексей Иванов в своей книге «Message: Чусовая» (тех, кто захочет узнать подробнее о тех местах, где сплавлялся на лодке вместе с женой будущий первый президент России, отсылаю к этой книге).
Кстати, о нравах и образе жизни населения…
— Значит, у вас была лодка, Наина Иосифовна? — спрашиваю я.
— Да нет, какая лодка. Лодку-плоскодонку брали со спортивной базы. Лодка — это была не моя забота…
— Ваша забота была понятно какая: накормить.
— Да, целый день плыли, вечером останавливались, разводили костер. Однажды с нами плыл секретарь обкома по сельскому хозяйству. Так он, представляете, взял с собой целую клетку живых кур! Я, конечно, участия в этом не принимала, как их там, бедных, резали и ощипывали, не видела, но несколько вечеров подряд варила «царскую уху» с курятиной.
Эту «уху» Н. И. вспоминает со смехом. Солидно подошел к делу сплава по реке Чусовой секретарь по сельскому хозяйству. Порадовать решил первого.
Сплавлялись, как правило, в компании, обедали прямо в лодке, на реке. Лодка скользила мимо разрушенных церквей, тихих деревень, мимо «суровой красоты дремучего северного леса». Застывшее время и тихое течение.
Ну а как же текущие дела, неужели Ельцин все бросал на эту неделю?
— Нет, иногда останавливался в каком-нибудь селе и звонил прямо с почты. Мобильных телефонов тогда не было.
Единственный раз за все годы, когда сплавлялись не по Чусовой, а по реке Белой, их доставили к началу маршрута не на машине, а на вертолете.
В семье Ельциных никогда не было никакой прислуги, домработницы, няни. Подруги на работе говорили Н. И.: ты своих девочек даже через дорогу
Это была непростая, но очень счастливая жизнь. Впрочем, такой жизнью жили многие.
Ельцин, работавший в СУ-13 и ДСК, уходил рано утром, когда девочки еще спали, и приходил очень поздно, когда они уже спали. Порой видел свою семью по будням несколько минут в день. В новом пятиэтажном доме бабушки-пенсионерки во дворе даже не подозревали о его существовании. Они постоянно видели только Наину, которая вела куда-то за руки двух маленьких девочек.
По воскресеньям Ельцин приглашал своих трех женщин пообедать в ресторане.
Увидев однажды днем, как он ведет за руки Лену и Таню, бабушки в один голос сказали:
— Милая, как мы рады за тебя, какого ты мужа хорошего себе нашла, как он любит твоих девчонок.
«Да это же их отец», — опешила она.
Бабушки долго не хотели ей верить. В этом доме они уже жили больше года, но отца двух дочерей видели в первый раз.
Та «семейная тайна», которую он тщательно хранил от посторонних, от коллег по работе, драгоценность, которую он оберегал от чужого глаза в своем закрытом личном пространстве, была очень простой: любовь.
Наина Иосифовна вспоминает еще один случай, тоже психологически чрезвычайно достоверный. Ельцин тогда работал главным инженером или начальником ДСК. Они жили в двухкомнатной квартире. Б. Н. приболел, и к нему домой пришла сотрудница треста подписывать какие-то документы. Ельцин играл с девочками, и когда сотрудница вошла в комнату, она увидела, как он сидит с ними под столом.
«Я никогда не забуду ее лицо, — говорит Наина Иосифовна. — Она просто обомлела. Это… это Борис Николаевич? — только и могла вымолвить она.
Вид Б. Н., который играет под столом с детьми, настолько поразил ее воображение, что она долго не могла прийти в себя».
Будучи абсолютно поглощенным своей работой, которая была его главной страстью, не менее страстно и любовно он умудрялся относиться и к своей семье. Это, как мне кажется, было каким-то важным условием для него, условием цельности, прочности, гармоничности его душевного склада. Он бережно охранял этот
Конечно, Н. И. порой очень не хватало его присутствия, его поддержки — Ельцин, как я уже говорил, не просто много работал, он
Однако периодически со здоровьем что-то случалось. Это были довольно жестокие и неожиданные кризисы, как будто сверху в него летели остро наточенные, нацеленные стрелы, и лишь чья-то рука в последний момент отводила удар.
Брюшной тиф после таежного похода в детстве, разорвавшаяся в руках граната, ангина с осложнением на сердце в студенческие годы, первый сердечный приступ в 1968-м, жестокий отит в 1973-м, язва в 1980-м, словом, поводы для тревоги были. Но в целом его могучий организм успешно справлялся с нагрузками.
Никакие «вредные привычки» в то время поводом для тревоги тоже еще не являлись. Да их, собственно, и не было. Во время дружеских застолий Б. Н. оставался праздничным, веселым, искрящимся дружелюбием и смехом. При этом не терпел пьяных, никто никогда не видел его в непотребном виде, от него, как вспоминает Наина Иосифовна, «даже не пахло алкоголем».
Это была гармоничная жизнь. И для нее. И для него.
Почему-то Наину Иосифовну не мучила, не беспокоила даже тень предчувствия: так не может продолжаться вечно. Рано или поздно в системе, где он работает, произойдут какие-то изменения. Потому что эта система теперь называлась одним тревожным словом: власть. Эвфемизм «работа в партийных органах» отнюдь не успокаивал. Власть есть власть. Там может случиться все что угодно.
«Непереводимое русское слово, которое сочетает в себе силу и правление», — говорит американский биограф Т. Колтон.
Я бы добавил еще одну черту — неупорядоченность, непредсказуемость, нестабильность власти по-русски. На обычном бытовом языке это означало простые вещи: рано или поздно его должны были повысить, словом, перевести. Но куда?
В 1960 году второй секретарь Свердловского горкома Федор Морщаков уговорил Ельцина вступать в партию. В 1968-м Яков Рябов предложил перейти на работу в обком.
Почти восемь лет он будет работать в Свердловском обкоме КПСС заведующим строительным отделом и секретарем по строительству (1968–1976). Затем около девяти лет — первым секретарем, хозяином области (1976–1984), потом почти на семь лет растянется горбачевский период, с его взлетами и падениями (1985–1991), затем восемь с половиной лет он будет первым президентом в совершенно новой стране, Российской Федерации (1991–1999) и семь лет — пенсионером номер один (2000–2007).
О первом обкомовском периоде нам известно очень мало, и по некоторым свидетельствам есть ощущение, что он для Ельцина был непрост: бывший главный инженер, начальник СУ-13 и ДСК не привык находиться на положении подчиненного, а здесь начальников очень много, здесь он, волей или неволей, оказался в довольно густой тени основательных, кряжистых, столбовых цековских бояр, настоящих партийных бонз, первых секретарей обкома — сначала Константина Николаева, потом Якова Рябова.
Первые восемь лет в Свердловском обкоме Ельцин даже не зам, даже не второй и не третий человек, он — всего лишь руководитель отдела, скромный партийный управленец, наблюдающий, как крутятся шестеренки могучего партийного механизма, одна из которых — он сам.
Странная роль для него.
За эти годы ему не раз делали предложения переехать из Свердловска. В Москву, в аппарат Госстроя. В Костромской обком партии, вторым секретарем. Переезжать он не хотел, но каждый раз приходил к Рябову — советоваться. Рябов отвечал: не торопись.
Сидеть на подчиненной должности ему было трудно. Ждал ли он возвышения самого Рябова? Или просто не видел подходящих вариантов?
Ответ кроется, на самом деле, в чем-то другом. Ельцин в обкоме попал в совершенно новую для себя систему. С иным уровнем ответственности. С иным уровнем задач. В один из элементов огромной, сложной системы управления целой страной. На ее изучение и освоение действительно ушли долгие годы.
В СУ-13 и ДСК Ельцин строил дома, целые кварталы новых пятиэтажек, строил «объекты соцкультбыта», то есть школы, магазины, прачечные, строил объекты промышленные — тот же камвольный комбинат. Став «заведующим отделом обкома», он оказался лицом к лицу с подлинными масштабами советского строительства и советской экономики.
Попробуем хотя бы в общих чертах оценить эти масштабы. Свердловская область была настоящим промышленным гигантом. Область занимала территорию, равную «четырем пятым» Великобритании, она была по площади и по населению больше, чем многие союзные республики. Но дело, конечно, не в этом.
На ее территории находились 740 заводов и фабрик. Большинство из них переехало сюда во время войны. После войны некоторые предприятия вернулись обратно в Москву, некоторые остались здесь. Средний Урал производил сталь, миллионы тонн стали, трубы, вагоны; давал стране уголь и руду, станки; но главное — он производил танки, ядерные боеголовки, двигатели для военной техники, обогащал уран, даже производил бактериологическое оружие.
О масштабах военного производства говорит всего один факт (его приводит в своей книге «Гибель империи» Егор Гайдар): на момент начала горбачевской перестройки в СССР было в
И их производили все больше и больше.
Основные мощности по выпуску танков находились как раз на Урале: в Нижнем Тагиле, на Челябинском тракторном и в самом Свердловске, на так называемом «Уралвагонзаводе».
Все эти огромные заводы, железные рудники, объекты «цветмета» и «химпрома», прокатные станы, необходимые оборонной промышленности (они выпускали, конечно, и мирную продукцию), постоянно перестраивались, реконструировались, обрастали новыми цехами, инфраструктурой. Наконец, в Свердловской области постоянно возводились все новые и новые заводы и фабрики. Финансировались это строительство и эта реконструкция центральными министерствами, а строили их уральские рабочие.
Всем этим строительством и должен был руководить Ельцин, как главный прораб этого невидимого миру (Свердловская область была закрытой для иностранцев) гигантского промышленного конгломерата.
Разумеется, он не отвечал за финансирование, не занимался самими проектами. Но ответственность за конечный результат лежала, тем не менее, именно на нем. Столкнувшись с масштабами того, что происходило на этой гигантской индустриальной площадке, Ельцин был озадачен — на своих строительных должностях такого абсурда он, конечно, еще не встречал.
Со своих подчиненных, будучи главным инженером СУ-13 или начальником ДСК, он требовал разбираться в бухгалтерии, строго считать зарплаты и нормы выработки, учитывать электроэнергию, строительные материалы, следить за каждым центнером бетона и за каждой панелью, не разбазаривать ценные вещи, наподобие оконного стекла или сантехники… Особенно ценной деталью были унитазы и раковины. Прораб или начальник участка должны были отчитаться перед ним за каждый хрупкий фаянсовый предмет.
Здесь же, на этих всесоюзных стройках, пропадали и уходили в небытие целые вагоны леса, тонны железа и бетона, миллионы рублей.
Директор свердловского строительного треста «одалживал» другому директору (оборонного завода) состав дефицитного бетона, а тот мог запросто его не вернуть. Не помогали ни телеграммы в министерство, ни обращения в ЦК. Образумило должника только вмешательство обкома, то есть Ельцина. Он не понимал: как можно легально украсть состав бетона!
Министерство в Москве могло начать строительство целого нового цеха химического комбината в чистом поле, как вдруг выяснилось, что шестисот рабочих, которые должны были на нем работать, неоткуда взять. Их нет в природе, об этом просто никто не подумал!
Когда Ельцин, уже в качестве первого секретаря, добился, чтобы один из промышленных гигантов начал подсобное производство и стал выпускать стальные бороны для уральских колхозов (боронить землю), эти бороны (на военном заводе их сделали сразу столько, что хватило бы на все колхозы Среднего Урала) немедленно конфисковали и увезли на юг России, на Ставрополье или в Краснодарский край, не возместив заводу ни копейки. И таких примеров десятки, сотни.
Масштабы промышленного производства и строительства перекрывали все эти «мелочи», все эти «запланированные» потери.
«Освоение капиталовложений», ключевое понятие для советской экономики того времени, было одновременно и основным парадоксом, с которым столкнулся Ельцин в качестве заведующего строительным отделом обкома партии.
В промышленности и промышленном строительстве «осваивали» миллионы, миллиарды государственных рублей, то есть выпускали все больше продукции, строили все больше заводов, чтобы выпускать еще больше продукции, это был процесс, у которого не видно краев, осмысленных пределов, конечных или промежуточных станций, динамики развития.
Разумеется, Ельцин понимал, откуда берутся деньги на эти гигантские капиталовложения: именно в эти годы идет освоение новых нефтяных месторождений в Западной Сибири, Свердловский обком отвечает за строительство новых «ниток» нефтепроводов и газопроводов, по которым текут, утекают эти золотые реки — сырьевые запасы страны.
Однако в целом разум был не в состоянии охватить эту махину, которая подчинялась вовсе не какому-то единому центру, единому планированию, а только своим собственным, стихийным законам экстенсивного развития — выпускать все больше стали, все больше танков, все больше обогащенного урана, химикатов, станков, строить все больше заводов…
Для чего?
Любой человек (особенно человек с подготовкой и психологией гражданского, городского строителя) был бы поражен этой открывшейся ему общей картиной советской промышленной стихии.
Но поражали не только ее масштабы, но и содержание.
Обладая той информацией, которой располагал он, работая со всеми предприятиями Свердловской области, со всеми министерствами, которые что-то строили и производили на ее территории, он теперь мог сказать определенно:
Ничем иным это лихорадочное производство танков, ракет, бомб, военных самолетов объяснить было невозможно. Никакими потребностями «мирного сдерживания». Между тем такое открытие входило в явное противоречие с официальной пропагандой и каждодневной газетной риторикой.
Никто не говорил открыто советским людям, что они должны готовиться к войне. Напротив, официально все усилия советских лидеров направлены на достижение мира, все их заботы о том, как построить счастливую мирную жизнь. Слово «мир» было ключевым, доминирующим в газетном пропагандистском языке.
Люди, производившие эти танки, эти двигатели, эту сталь для танков и двигателей, начинявшие боеголовки обогащенным ураном, порой жили в довольно тяжелых условиях. Вокруг Уралмаша до середины 70-х годов существовал целый квартал, целый город, состоящий из одних бараков, еще довоенной или послевоенной постройки, худые дощатые сараи, продуваемые ветром, с «коридорной системой», порой с одной кухней и санузлом на десятки семей, а иногда и без них — то есть с «удобствами» на улице.
Люди, производившие мощные танки, начинявшие их сложнейшей техникой, делавшие сталь, вагоны, грузовики, после работы стояли в очередях за мылом и стиральным порошком, не говоря уж о масле и мясе. Они плохо одевались, порой отказывали себе в самом необходимом.
Как строитель Ельцин к тому же прекрасно знал, сколько лет этим людям придется ждать своей отдельной квартиры. Знал он и другое, уже не мог не знать, не понимать в эти годы: советская власть экономит на людях, на качестве их жизни, на легкой промышленности, на культуре и медицине, но не экономит на «оборонке», тратит, а порой и разбазаривает огромные средства в тяжелой промышленности и строительстве.
Почему?
К войне, на самом деле, готовились плохо. А вернее сказать, готовились к прошлой войне. Это была фикция, блеф, чтобы оправдать капиталовложения, чтобы обеспечить скрежет этого гигантского механизма. Война была необходима лишь как немой лозунг, как обоснование этой затратной, неокупаемой, гигантской по своим масштабам экономики.
Ельцин, опытный строитель, успешно вливается в эту систему. Получает массу благодарностей, поощрений, в частности орден «Знак Почета» (в народе его называют «веселые ребята»: на ордене изображено сразу двое тружеников), потом медаль «За трудовое отличие» и «40 лет победы в Великой Отечественной войне» и т. д. и т. д. Строительство прокатного стана на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле — по сути, огромного завода, станет лишь одним из его успешных проектов, самым крупным по масштабам, но лишь одним из десятков и сотен, которыми он руководил в эти годы своего «заведования отделом».
Если бы не рухнувший в 1966 году новый пятиэтажный дом, меланхолически замечает в своей книге мемуаров его начальник Рябов, Ельцину бы уже тогда досталась высшая награда родины — орден Ленина. И тогда…
И тогда жизнь его повернулась бы иначе? Вряд ли. Несмотря на то, что алгоритм его поведения, его служебные функции, роль в иерархии ощутимо меняются, не меняется самое главное — личная программа, мотивация, цель.
На этот раз технология «бунта» явно не подходит. Против такой чудовищной махины не забунтуешь — раздавит. Значит, уместна другая технология: «вживания», «освоения», «адаптации». (По крайней мере, так это выглядит из дня сегодняшнего.)
И он начинает адаптироваться.
Чтобы осознать масштаб строек, какими занимается Ельцин в эти годы, достаточно посмотреть какой-нибудь советский фильм конца 50-х — начала 60-х годов. Съемки тогда велись на реальных объектах. Котлованы до горизонта, эстакады в несколько километров, башенные краны высотой в небо, вереницы грузовиков длиной в танковую колонну, человеческий муравейник, упорно организующий пустое, незаполненное пространство.
Величие этих строек вполне сопоставимо со стихийной, космической незавершенностью процесса. Если жилой дом просто нельзя оставить в середине строительства, бросить недостроенным — будущие жильцы замучают жалобами! — то завод или цех, стоящий в чистом поле, бросить недостроенным можно: на год, на два, на три. На десять… Если на строительстве жилого дома строители будут экономить на унитазах и кирпичах, то на строительстве завода будут тратить тонны леса и оборудования, нимало не заботясь о том, насколько это оправданно. Это и есть подлинная гармония, гармония социалистического хаоса. Не менее сильная, чем стихия рынка, которую Ельцин попытается понять и освоить уже в Москве.
Однако будет большим преувеличением сказать, что именно «хаос» управляет этой стихией. Целый этап своей жизни, восемь первых лет в обкоме, Ельцин потратит на то, чтобы изучить главный механизм, приводной ремень, тот язык, на котором ведется управление всеми этими хаотично-планомерными процессами.
Этот механизм называется очень просто — «партийная работа».
Приводной ремень — это «партийные органы»: партсобрание, партком, райком, горком, конференция и отчетно-выборное собрание, бюро и пленум обкома, наконец, ЦК.
Язык — это партийный язык.
Конечно, Ельцин — советский человек, да еще и руководитель, и все эти премудрости ему, по идее, должны быть хорошо знакомы. Но одно дело знать, другое — говорить самому. Попробовать на
А ведь тогда, в то время, без этого языка, без этих строгих партийных иероглифов — не происходило буквально ничего. Все тайны жизни укладывались в этот набор зашифрованных знаков.
Ельцину, который привык мыслить и говорить предельно конкретно, освоить его было не так уж легко.
Вот, например, довольно интересный отрывок из книги мемуаров одного из его тогдашних «товарищей» по партийной работе — Виктора Манюхина, первого секретаря Свердловского горкома КПСС. В начале 80-х Манюхин получил предложение (или приказ?) стать, как сказали бы сегодня, вице-спикером, то есть зампредом Президиума Верховного Совета РСФСР. Многие крупные партийные чиновники заседали в Советах всех уровней — вместе с простыми рабочими, колхозниками, учеными, учителями и артистами. Итак, Манюхин…
«С Верховным Советом России старого состава у меня связан ряд воспоминаний, — пишет он. — Первое и для меня очень важное — это избрание меня заместителем председателя Верховного Совета РСФСР десятого созыва. Было так. Когда меня избрали депутатом Верховного Совета РСФСР, накануне первой сессии звонит вечером Борис Николаевич и говорит: “Слушайте, вас на первой сессии изберут замом председателя, не пугайтесь, будете сидеть в президиуме”. Поблагодарив за доверие, я не понял до конца, что это такое. И пошутил: мол, чего бояться, мало ли в каких президиумах мне приходилось сидеть. “Недооцениваете вы этот шаг”, — сказал Борис Николаевич и положил трубку.
По заведенной традиции, представитель партии коммунистов сидел слева от председателя за первым столом президиума, члены Политбюро и министры находились сзади на отведенных местах. Был интересный порядок открытия сессии. Мы, председатель и его замы, собирались за сценой в комнате президиума, а соседняя комната, более крупная, предназначалась для членов Политбюро. Здесь же стоял овальный большой стол с напитками и минеральной водой, фруктами. И вот, когда на часах было ровно без двух минут десять, наш председатель становился на порог соседней комнаты и приглашал членов Политбюро занять места в президиуме, т. к. сессия начинает работу. По заведенному, как потом выяснилось, порядку все члены ПБ, тогда во главе с Генсеком Л. И. Брежневым, входят в нашу комнату и с каждым зампредом здороваются за руку. Первым идет Л. И., за ним М. А. Суслов, А. П. Кириленко, А. А. Громыко и другие. Когда Леонид Ильич сделал шаг назад и пропустил остальных, я пожимал руки другим членам ПБ, но все время чувствовал на себе тяжелый, пристальный взгляд какого-то человека. Когда я оглянулся, то увидел взгляд Л. И. — прямой, немигающий, периодически генсек причмокивал губами. У него в то время была поставлена оросительная присоска во рту для увлажнения горла. Так говорили.
Ну, думаю, что-то будет. Такой взгляд, изучающий и прямой, ничего хорошего не сулит. Но все обошлось. Он даже не сглазил.
Потом впереди председатель, а за ним замы по ступенькам поднимались в президиум сессии, занимали места за первым столом, и тогда только появлялись члены Политбюро. Все встают, бурно аплодируют. В первый раз, не зная этой процедуры, эти аплодисменты мы отнесли на свой счет, но, обернувшись назад, стали тоже аплодировать: не в зал, а чуть с разворотом. Получилось так, что от того кресла, где я сидел, до места Л. И. было метра полтора. Учитывая громкий глухой бас Л. И., я часто становился невольным слушателем разговоров его, особенно с Косыгиным. Обсуждались разные вопросы: от цен на “москвич” и горючее до производства мяса в стране».
Строжайший ритуал, четкое соблюдение всех деталей, всех пунктов регламента: члены Политбюро и собираются в отдельной комнате, и выходить на сцену должны в определенном порядке, и садиться строго в соответствии со своими постами в партии. Манюхин мимоходом замечает, что говорят между собой Брежнев и Косыгин о вещах вполне приземленных (от производства мяса до цен на автомобиль) и на простом, понятном всем языке.
Но вот на трибуну выходит Леонид Ильич Брежнев, и…
«Наша партия делает все для укрепления коммунистического движения в мире. Мы исходили и исходим из того, что современная международная обстановка, обострение классовой борьбы на мировой арене настоятельно требуют мобилизации всех возможностей антиимпериалистических, революционных сил. И понятно, что именно коммунистическое движение призвано сказать свое веское слово в пользу еще более действенного объединения усилий всех революционных борцов, всех сторонников мира, национальной независимости, демократии и социализма» (Л. И. Брежнев. Речь на XX Ленинградской областной партийной конференции, 16 февраля 1968 года).
И опять-таки — ни одного лишнего, случайного слова. Если силы — то антиимпериалистические. Если арена — то мировая. Если движение — то коммунистическое.
Да, конечно, есть речи парадные, официальные, торжественные. Есть — будничный, рабочий партийный язык. Но в том-то и дело, что одно неотделимо от другого. Именно эти затверженные наизусть формулы, «китайская грамота» партийных документов и есть та удивительная протоплазма механики власти, которой успешно овладевает молодой обкомовец.
А куда ж деваться?
Поставить вопрос на бюро, заслушать отчет, довести до сведения, открыть прения, избрать в президиум, подготовить выступающих — эти и многие другие глаголы и существительные, в обычной жизни почти не встречающиеся, предстоит ему впитать, выучить, ввести в контекст своей собственной, индивидуальной речи.
«Текущие задачи», «передовой опыт», «коммунистическое рабочее движение», «ленинский комсомол», «международный империализм», «обострение классовой борьбы на современном этапе» и, конечно, конечно, «роль Леонида Ильича Брежнева» во всем этом — должны не просто отскакивать от зубов, а стать частью твоего существования, мышления, сна и бодрствования.
Оказывается, это партийное краснобайство, праздное пустословие — имеет глубочайший смысл. Особый византийский язык, которым владеет лишь каста управленцев. А кто не владеет его оттенками, никогда не достигнет высших ступеней иерархии, как бы хорошо он ни разбирался в строительстве, черной и цветной металлургии, машиностроении.
Величественность, ритуальность, неизменность священных символов и жестов — вот основа того зомбирования, с помощью которого эта каста управленцев держит под контролем страну.
Зачем он ругается с подчиненными? Зачем пытается жестко атаковать их? Подчиненные должны любить своего начальника! Боготворить его! Начальник — из высшей касты!
Этой хитрой партийной науке учит его Рябов, заприметивший молодого строителя еще в горкоме. Этому главному партийному искусству — политической воле и величественности — учится и он сам.
Однако, овладев этой грамотой, Ельцин умудрился, как мы увидим позднее, сохранить и свой собственный, индивидуальный язык.
Из книги Я. Рябова «Мой XX век. Записки бывшего секретаря ЦК КПСС»:
«1976 год был наполнен большими и серьезными событиями в жизни области и моей тоже. Много и часто ездил по Среднему Уралу, разбирался с делами на месте, принимал решения и реализовывал их.
Девятую пятилетку (1971–1975 гг.) закончили с хорошими показателями: рост объема производства составил 135 процентов, более 90 процентов прироста продукции получено за счет роста производительности труда. Многие предприятия промышленности, строительства и сельского хозяйства, а также тысячи передовиков производства были награждены государственными наградами. Я был награжден вторым орденом Ленина, Б. Ельцин — орденом Трудового Красного Знамени». Несколько дневниковых записей 1976 года:
«
Продолжаю цитировать эту книгу. Не могу отказать себе в этом удовольствии:
«12 октября 1976 года в первой половине дня по спецкоммутатору позвонил Леонид Ильич, спросил: “Яков Петрович, снег выпал?” Я сказал: “Да, а в отдельных местах даже до 15 см”.
— В Москве тоже выпал, черт бы его побрал. Надо убирать урожай, а он мешает.
— Да, это действительно большая помеха. Но все равно, Леонид Ильич, область выполнит все свои обязательства по сельскому хозяйству. То, что я обещал в августе, когда вы мне звонили из Ялты, мы всё сделали.
— Это хорошо, — сказал Леонид Ильич. — Но я хотел с тобой поговорить о другом. У вас самолеты на Москву летают каждый день?
Я сказал, что да.
— Будь у себя. Я тебе позвоню после обеда, чтобы ты прилетел завтра. Я с тобой хочу поговорить. Но никаких материалов с собой брать не надо. Ни по экономике, ни по промышленности, ни по селу.
Я сразу понял, что вопрос, видимо, будет о моей новой работе. Но куда? Хотя в последнее время мне многие намекали, что я скоро “загремлю” в Москву, я особого значения таким слухам не придавал. Но этот разговор — серьезный, многозначительный.
…Леонид Ильич встретил меня тепло и радостно, расцеловались. Беседа была обоюдно заинтересованной и длилась почти полтора часа. Разговор шел о моем предстоящем назначении секретарем ЦК КПСС. Мне поручалось вести и руководить всем военно-промышленным комплексом вместо Д. Ф. Устинова, которого назначили министром обороны СССР. На прощание он подарил мне свою фотографию в маршальской форме с автографом и пожеланиями. Он попросил, чтобы я сегодня же или завтра утром улетел домой и ни с кем сегодня не встречался. Я так и сделал.
Первую половину дня я рассматривал ход строительства жилья и соцкультбыта городов области. Усложнилась обстановка в торговле. Появились сбои с продажей масла и колбасы. Кроме того, люди начали готовиться к ноябрьским праздникам. Но все равно надо принимать меры. Я позвонил А. Н. Косыгину, и он дополнительно выделил 3 тыс. тонн мяса и 800 тонн масла».
Именно назначение Я. Рябова сыграло свою роль в карьере Ельцина.
Цепочка событий: смерть министра обороны СССР маршала Гречко, назначение на эту должность Дмитрия Устинова, долгие годы руководившего советским ВПК, выдвижение бывшего свердловского «первого» секретарем ЦК КПСС, который, вероятно, должен был составить некий противовес всемогущему Устинову, поскольку Брежнев не любил в своем окружении слишком сильных фигур (Рябов описывает в книге свой серьезный конфликт с Устиновым по поводу производства новых танков на Урале), и т. д. и т. д.
Пути истории непредсказуемы. Именно так секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин стал первым секретарем.
Незадолго до этого, в 1972 году, власть в Грузии неожиданно поменялась, вместо Мжаванадзе пришел молодой амбициозный председатель грузинского КГБ Эдуард Шеварднадзе, который устранил прежнего хозяина республики путем хитроумных маневров (в том числе открытием огромного количества уголовных дел на окружение «первого»), — а Геннадия Колбина, второго секретаря Свердловского обкома, направили на укрепление этой сложной республики — вторым секретарем ЦК компартии Грузии (второй секретарь в республике — всегда русский, «комиссар» из Москвы). Это произошло в 1975 году, за год до назначения Ельцина.
Яков Рябов до всех этих событий прочил на свое место именно Колбина. Колбин и был тем
«После избрания секретарем ЦК КПСС передо мной встала серьезная проблема — кого рекомендовать первым секретарем Свердловского обкома партии, — продолжает Рябов. — Этот вопрос в голове уже крутился не один день, задолго до Пленума ЦК. Выбор оказался небольшой. Г. В. Колбина (бывшего второго секретаря) из Грузии не отдадут. Е. А. Коровин — отличный и честный человек, добросовестный партийный работник — имел проблемы со здоровьем. К тому же он был несколько слабохарактерным и поэтому просто мог не справиться с такой тяжелой и многогранной работой. Еще одна кандидатура — А. А. Мехренцев, директор одного очень важного оборонного завода. После долгого раздумья я решил предложить кандидатуру Б. Н. Ельцина. Я хорошо знал его тяжелый характер и то, что слабым местом у него является незнание промышленности и недостаточная культурная подготовка. Но были у Ельцина и положительные стороны: он хочет и может работать, достаточно волевой и сумеет заставить работать кого угодно. Он знает область, и его там знают.
С таким предложением я и решил идти к Л. И. Брежневу, надеясь, что мой ученик и выдвиженец продолжит добрые традиции, заложенные нашими предшественниками в умножении величия Среднего Урала.
…Брежнев спросил меня: “Почему вы рекомендуете Ельцина? Он ведь не второй секретарь обкома, не депутат Верховного Совета, мы его в ЦК не знаем. И. В. Капитонов дал мне объективку на второго секретаря вашего обкома товарища Коровина”. Я высказал свои доводы. Леонид Ильич со мной согласился и попросил с пленумом обкома не тянуть. Я сказал ему, что сейчас очень подходящий момент для встречи — Ельцин здесь, в Москве, на курсах партработников, и его в любое время можно пригласить.
— Очень хорошо, — сказал Брежнев. — Пригласите его ко мне, а в области пока ничего знать не будут.
С Борисом я переговорил, подсказал ему, как надо себя вести на предстоящей встрече.
На следующий день мы с Капитоновым представили Ельцина Брежневу, состоялся нормальный деловой разговор. Брежнев заметил, что я рекомендовал не второго секретаря обкома, а его, простого секретаря. Хоть в практике подбора партийных кадров это явление нормальное, все-таки в связи с этим накладывается дополнительная ответственность. Борис Николаевич поблагодарил Л. И., Политбюро, секретарей ЦК и заявил, что он приложит все силы, чтобы оправдать их доверие. На этой же встрече определили и день проведения областного пленума.
2 ноября 1976 года состоялся пленум обкома КПСС, на котором Б. Н. Ельцина избрали первым секретарем…»
И вот еще одна важная цитата из Рябова:
«…Тогда у меня не было сомнений, что все сделанное в области нашими предшественниками и нами продолжит мой партийный ученик и выдвиженец Б. Ельцин».
Рябов искренне считает, что вот тогда, в 1982 году, существовал некий «правильный» Ельцин, его ученик.
В области меж тем действительно не знали о том, кто будет первым секретарем.
Не знал о деталях своего назначения и сам Ельцин.
В своих мемуарах он вспоминает: ходили слухи, но ничего точно не было известно.
Неожиданно, прямо с занятий в академии, его вызвали в Кремль. Зачем, почему — никто толком не говорил. С ним побеседовали Капитонов, затем Кириленко, затем Суслов.
Наконец, кабинет Брежнева.
«А, так это он собирается взять власть в Свердловской области?» — солидно пошутил генсек. На замечание Рябова, что его выдвиженец «еще ничего не знает», ответил: как не знает, если собирается взять власть?
Игра продолжалась до самого последнего момента.
Рябов предупредил Ельцина о возможном назначении, но день и час строго держал в секрете, памятуя о пожелании генерального «пока в области ничего не говорить».
…Ельцин никогда не готовил себя к партийной карьере. Ни в школе, ни в институте он не был комсомольским активистом, «секретарем ячейки», комсоргом, профоргом, пропагандистом. Из всех видов общественной жизни всегда выбирал только физкультуру и спорт.
Когда ему исполнилось 30 и он стал главным инженером, его вызвали в горком. Партийный секретарь доходчиво объяснил молодому Ельцину, что должность, к которой он стремится, без партбилета невозможна.
Согласитесь, странно, что такие вещи приходится
Но прошло 15 лет, и на посту первого секретаря обкома он снова ведет себя, по меньшей мере, нетипично.
Да, его работа по всем показателям — образец активности, деловитости и трудолюбия, стремления сделать область передовой, первой и т. д. Итог этой активности — переходящее красное знамя ЦК и Совета министров, которое он получал семь лет подряд, своеобразный партийный вымпел
Однако «добрые дела» на посту первого — строительство метро, к примеру, или дороги Свердловск — Серов (куда когда-то сослали его деда), связывающей центр области с приполярным, северным Уралом, — это пока лишь первые шаги, продолжение карьеры строителя.
Ну а что же его собственные начинания, как тогда говорили, «почины»? В области не хватает мяса, и он бьется, чтобы организовать прямые поставки курятины с юга страны, строит птицефабрики. При нем в магазинах города появляется даже свежая рыба: в колхозах срочно выкапывают пруды, чтобы разводить диковинную форель.
В перенаселенном заводском городе не хватает жилья — Ельцин разворачивает «молодежное» строительство: мужчины в свободное от работы время строят дома для своих семей, рассчитывая получить его не через 10–15 лет, как принято по советским меркам, а через три-четыре года (так называемые МЖК). Область давно ждет нового здания для своего знаменитого музыкального театра — и Ельцин строит его. Однако в скором времени обнаружится новый, принципиально другой
Уже в первой его речи после избрания первым секретарем обкома этот стиль обнаружится во всей полноте: Ельцин ритуально посвящает первые абзацы перечислению успехов, ритуально прославляет «ленинский ЦК» и «лично Леонида Ильича» и затем упорно, жестко, фундаментально анализирует проблемы, недостатки, провалы, зияющие ямы развитого социализма.
И в речи перед свердловским партийно-хозяйственным активом в 1976-м, и в речи перед делегатами XXVI съезда КПСС, когда слушать его будет огромный зал, все делегаты съезда (а за спиной будут сидеть Брежнев, Суслов, Кириленко, главные партийные бонзы) через пять лет, в 1981 году, — он так же фанатично и одержимо будет перечислять проблемы…
Недостаточная разработка железной руды, медленный рост выработки электроэнергии, низкий уровень механизации, невыполнение плана по производству товаров народного потребления, недостаточная эффективность капиталовложений, огромная доля ручного труда, катастрофическая нехватка жилья, ликвидация бараков и полуподвальных жилищ идет слишком медленно, города недостаточно снабжаются мясом, молоком, яйцами, в угрожающем состоянии коровники, плохо строятся новые механизированные фермы, строительство дорог в сельской местности находится в плачевном состоянии. Что нового в этом перечислении проблем? Что выплывает из этих рядов сухих цифр? Хаотичная реальность советского хозяйства? Или другое — извечное
Он постоянно на виду у ЦК. Рекордные урожаи 1976 и 1977 годов, область перевыполняет план по заготовкам зерна, целую группу товарищей, ни много ни мало 1700 человек, награждают орденами, медалями, знаками отличия, сам первый секретарь области вручает золотые звезды Героя Социалистического Труда и ордена Ленина председателю колхоза и директору совхоза. Леонид Ильич Брежнев лично поздравил тружеников области и позвонил первому секретарю.
В газете «Правда» товарищ Ельцин выступает с огромным интервью по поводу своих любимых «комплексных бригад» (другое название этого метода — «бригадный подряд», словосочетание, в те годы знакомое даже школьнику, настолько часто оно повторялось в официальных речах и газетных передовицах).
Ельцин становится членом ЦК КПСС, затем — депутатом Верховного Совета СССР. Выезжает в ФРГ в качестве главы делегации КПСС.
Но в чем же его «нетипичность»?
И где начинается тот, другой Ельцин, с каково момента?
И в чем он «другой»?
В 1979 году секретарь ЦК КПСС товарищ Рябов прибыл в Свердловск. Он посетил родной Нижний Тагил и на банкете в узком кругу сказал несколько слов, после которых его карьера неожиданно приняла совершенно иной оборот.
До этого визита в Свердловск Рябов, напомню, работал секретарем ЦК по вопросам оборонной и тяжелой промышленности, армии, космоса. Это была чрезвычайно важная позиция в Секретариате ЦК КПСС. Достаточно сказать, что на этом месте при Хрущеве работал Л. И. Брежнев. Рябову остается ждать совсем немного до того момента, когда он станет членом Политбюро.
После визита Рябов мягко и изящно перемещается на другую работу, вбок и вниз, становится заместителем председателя Госплана СССР. Это по партийно-советской иерархии тех лет было серьезным понижением.
Что же такого сказал там, на банкете, Рябов?
«Этого дурака пора убирать», — якобы сказал он про Брежнева. Эту легенду повторяют многие, особенно зарубежные исследователи жизни Ельцина. Не будем столь легковерны. Все было гораздо сложнее.
«С 1 по 9 февраля 1979 года я был в Свердловской области как кандидат в депутаты Верховного Совета СССР… В Нижнем Тагиле я встречался с избирателями на ведущих заводах города, в культурных, учебных, медицинских и коммунальных учреждениях, на стройках. Пришлось постоянно выступать и отвечать на множество вопросов. К сожалению, было много вопросов по состоянию здоровья Л. Брежнева.
Я пытался уходить от этого вопроса, но на встрече с членами бюро Нижнетагильского горкома партии 9 февраля, там же были и некоторые члены бюро обкома партии, в том числе Б. Ельцин — первый секретарь обкома, председатель КГБ по Свердловской области, начальник УВД и другие ответственные работники, в том числе и из аппарата ЦК КПСС, поднялся вопрос о состоянии здоровья Генсека. Я, как мог, убеждал друзей не поднимать этого вопроса, но они пошли в лоб: “Яков Петрович, ведь вам известно, весь мир говорит о плохом здоровье Брежнева, а вы, секретарь ЦК КПСС, не хотите сказать правду своему многолетнему узкому составу товарищей”.
И я рискнул: “Ну, что особенного, если заболел Генеральный секретарь? В руководстве страной на хозяйстве Политбюро, Секретариат ЦК КПСС — здесь полное единство и дружная работа. Неужели мы не сможем прикрыть заболевшего руководителя?” Вот мои слова. На этом мы закончили встречу, и утром 10 февраля я улетел в Москву.
15 февраля со мной о чем-то невнятно поговорил Брежнев. Как я понял его, он говорил о выполнении решения ЦК КПСС по укреплению Госплана СССР и сказал, что более подробно со мной поговорит Суслов. Так я и не понял, что же имел в виду Брежнев.
Через несколько минут позвонил мне Суслов и попросил зайти к нему. Зашел, поздоровались. Он пригласил меня сесть и спрашивает: “С вами говорил Леонид Ильич?” Я сказал: “Да, говорил, но я так и не понял, что он хотел сказать”. Суслов методично начал вести речь о том, что Политбюро 31 августа 1978 года приняло решение о совершенствовании работы Госплана СССР и укреплении его кадрами. “Вы этот вопрос готовили вместе с товарищем Долгих. Сейчас встал вопрос о направлении в Госплан на укрепление ответственных, знающих промышленность работников. Леонид Ильич вносит предложение направить вас туда первым заместителем к товарищу Байбакову”» (Яков Рябов «Мой XX век»).
Уникальная брежневская система власти четко сработала и на этот раз. Генеральный сам звонил каждому первому секретарю обкома или республики, всем влиятельным лицам страны, поздравлял со всеми успехами, интересовался делами, был в курсе всех личных обстоятельств — здоровья, семейного положения, и уж тем более мимо него не проходило то, что говорил «первый» о нем лично. Брежнев, которому предстоит умереть через два года, уже сильно дряхлеет, мозг его в полуразрушенном состоянии, сознание слабеет на глазах, отказывает речь, — но система, созданная им, работает безотказно!
В этой системе Ельцину жить и работать. После понижения неугодного Рябова он остается без поддержки в Москве. Его «дружба» с другим свердловчанином, членом Политбюро А. П. Кириленко, ничего не решает: Кириленко слишком давно сидит в Кремле, Ельцина он близко не знает.
Б. Н. сколько угодно может гордиться трудовыми рабочими починами и переходящими красными знаменами своей области, но в новой ситуации ему нужно выбирать и новую стратегию поведения во власти. Его упоминания Брежнева в речах и докладах остаются спокойно-ритуальными. При этом их количество уменьшается год от года. Если в первые годы своего секретарства Ельцин дарит ему на 75-летие портрет, выполненный уральскими мастерами из малахита и яшмы, вставляет его цитаты в свои речи, то уже через три года он дает указание своим помощникам: упомяните Брежнева только в начале и конце доклада, этого будет достаточно.
Б. Н. одним из первых понимает: эта эпоха действительно постепенно уходит в прошлое.
И вот тут-то и выясняется, что язык, тот самый партийный язык, на котором говорит Ельцин, категорически
Цветистый стиль шамкающего генерального усыпляет. Звонкий и жесткий голос первого секретаря — пугает, настораживает.
Ельцин постепенно, шаг за шагом поворачивает навык партийной речи в совершенно иную сторону, медленно прощупывает новое пространство, на котором никто из его предшественников еще не бывал. Да и не хотел бы быть!..
Первый такой пример — «картофельная речь» 1978 года. Вместо того чтобы разослать обычную разнарядку по предприятиям, он выступает с речью по местному телевидению — и напрямую обращается к согражданам, минуя административные рычаги, с просьбой помочь области в уборке овощей и картофеля. Говорит первый секретарь тихо, сдержанно, но убедительно.
Внявшие ему свердловчане, почти 90 тысяч человек, участвуют в той картофельной битве «по велению совести», как потом напишет об этом Ельцин в своей брошюре «Средний Урал». Причем, на мой взгляд, сегодняшняя ирония тут совершенно не уместна.
Разнарядки и приказы в связи с «картофельной» речью Ельцина никто не отменял, напротив, испуганные этой речью мелкие начальники лишь удвоили и утроили свое рвение, в этом можно не сомневаться. Важен сам посыл, импульс, который демонстрирует здесь Ельцин, уже через два года после своего назначения — он хочет обращаться к людям напрямую, минуя партийные комитеты и прочие приводные рычаги.
— Я в то время была секретарем парткома своего института, — рассказывает Наина Иосифовна. — Нас всех по разнарядке, группами по несколько десятков человек посылали на поля собирать овощи. Причем интересно, что собирали мы овощи не только для Свердловска, но и для Москвы, она обеспечивалась в первую очередь. Помню, был какой-то неурожайный год, и нам в колхозе строго приказали — морковь покрупнее класть в отдельные мешки, для Москвы. Помельче — для нашего Свердловска. Так вот, после того дня, когда Борис Николаевич выступил по местному телевидению, мы как обычно собрались у электрички. Но выпал снег. Убирать картошку под снегом невозможно. Я позвонила своему секретарю месткома и говорю: надо отменять выезд. Снег идет. Через некоторое время он мне перезвонил и заявляет: не знаю, Н. И. Люди говорят: мы не можем отказаться, к нам же обратился Борис Николаевич! Лично, по телевидению. Мы не можем его подвести… Ну, что ж делать. Поехали собирать картошку под снегом.
Я спросил Наину Иосифовну: что это значило вообще — быть женой первого секретаря обкома в те годы?
— Что вы имеете в виду?
— Ну… на улицах вас, например, узнавали?
— Нет. Я заходила в магазин каждый день (с работы, если не торопилась, шла пешком, как сейчас помню, тридцать пять минут), стояла в очереди за продуктами, как все. И никто со мной не заговаривал, никто не узнавал. Ну, правда, был один случай, я ехала на трамвае на работу, была ужасная давка. И вот на остановке сдавили так, что стою ни жива ни мертва. Всё новые пассажиры наседают, дышать нечем. И вдруг кто-то крикнул: ну, ладно нас, но хоть жену первого секретаря-то не давите! Что со мной было… Я выскочила из трамвая красная как рак, на остановку раньше. Это, видимо, кто-то из проектантов меня узнал, как я потом догадалась.
— Ну, все-таки небольшой круг людей вас знал?
— Был один смешной случай, я выезжала в командировку в какой-то город, сейчас уже не помню, какой. По делам проекта встречалась с местным начальником, руководителем горисполкома. Он меня спросил: а вот в обкоме работает Ельцин, вы с ним не родственники?
— И что вы ответили?
— Не призналась, конечно. Однофамильцы, говорю. Прошло некоторое время, он приезжает в Свердловск и опять ко мне: а вот я видел, как вы в театре сидели рядом с товарищем Ельциным. А сказали, что вы не родственники. Я говорю: ну, значит, родственники.
Наина Иосифовна работала в институте со сложным названием «Союзводоканалпроект» 29 лет. До самого их переезда в Москву она будет ходить на эту работу, а вернее, ездить на трамвае. Ни разу служебная машина мужа, уже первого секретаря обкома, не довозила ее дальше трамвайной остановки, даже когда они возвращались из Балтыма, свердловского пригорода, где была летняя резиденция «первого» — деревянная дача с камином и бильярдом.
Она всегда покупала продукты сама, стояла в очередях, выслушивая жалобы покупателей на нехватку того или сего (а в советское время в «дефиците» могло оказаться всё — и мясо, и молоко, и масло, и стиральный порошок, и крупа, и даже соль). Вполне возможно, что жалобы эти были нарочито громкими, потому что предназначались лично ей.
— Было такое, Наина Иосифовна, чтобы вам высказывали претензии в магазине на плохое снабжение или старались пропустить, наоборот, без очереди?
— Никогда. У нас в институте было так называемое плановое проветривание помещений, все выходили в коридор, кто-то курил, кто-то просто разговаривал. Когда я стала женой первого секретаря, разговоры в коридоре, конечно, изменились по содержанию. Жалобы на плохое снабжение. Вот в Челябинске, например, мыло в магазинах есть, а у нас даже мыла нет. Но я реагировала очень просто, поворачивалась к ним и спрашивала: что вы мне-то это говорите, вы же знаете, что я все равно ничего не в силах изменить?
— А с мужем вы обсуждали подобные вопросы?
— Обсуждали, конечно. Но я видела, как он старается улучшить жизнь людей. При нем снабжение стало чуть получше: появились в свободной продаже куры, яйца, даже живая рыба, стали разводить в прудах какую-то форель… Потом я же слышала эти его ночные разговоры, когда в городе, например, оставалось муки на два-три дня, как он выбивал эти фонды, решал… Я не удивлялась, у всех тогда жизнь была тяжелая.
Я с ним другое обсуждала. Меня же часто, как секретаря парткома, вызывали в райком, заставляли по много часов сидеть на конференциях, на учебе… Я часто ему говорила: Боря, я не понимаю, чем конкретно заняты все эти люди, партработники, что они делают, зачем они нужны, какая от них польза.
— А он?
— А он отвечал: ну ты знаешь, эта такая система, что я могу поделать. Ты же видишь, чем я занят, какие вопросы решаю. Я ему тогда говорила: но ты решаешь конкретные, насущные проблемы людей, а они? Ну вот, на этом разговор и заканчивался.
…Ельцин, как первый секретарь обкома, получал в те годы 600 рублей. Наина Иосифовна, как главный инженер проекта, около трехсот. По тем временам немало.
— Наина Иосифовна, а где вы деньги держали?
— А я вам сейчас скажу. У нас был трельяж, рядом с кроватью, там в ящичке для документов, бумажек разных и хранили деньги.
— Не откладывали?
— Нет, никаких сбережений у нас не было. Со студенческих времен мы с Борисом, как память, хранили две сберкнижки. На каждой было, по-моему, по пять рублей новыми деньгами.
— А на что тратили?
— На жизнь…
— Ну а конкретнее?
— Ну, как все — на еду, на одежду. Для больших покупок — на мебель или телевизор, например, деньги занимали.
Не пользовалась жена крупного строительного начальника, а затем и самого крупного босса Свердловской области и такой вещью, как «блат» в салоне для новобрачных или магазине «Синтетика», где жены руководителей могли купить себе по знакомству дефицитную, то есть импортную, одежду, обувь, косметику.
Предпочитала покупать вещи в командировках (в «закрытых» оборонных городках, где всегда было «московское снабжение»). Ей не хотелось носить те же модные новинки, что носили продавщицы свердловского ЦУМа. Поэтому она часто заказывала вещи в ателье по собственным идеям, картинкам и выкройкам из журналов. «Мне было неловко, стыдно покупать “дефицит”», — говорит сама Наина Иосифовна.
…Она знала, что он никогда и ничего не покупает сам.
Каждое утро в кармане его пиджака должны были оказаться неизменные 10 или 25 рублей, он должен был знать, что они всегда там, чтобы чувствовать себя спокойно. Как правило, деньги оставались нетронутыми.
— Ну, хорошо, — спрашиваю я. — А одежда для девочек? Неужели Лена и Таня не просили купить вас джинсы, например?
— Просили, конечно. Но я сказала: к фарцовщикам не пойду. Вот когда появятся в магазинах, тогда и купим. Их одежда ничем не отличалась от одежды сверстников. Ну, потом, когда поехали в отпуск, в Болгарию, купили им джинсы местного производства.
Мясо с рынка, путевки в Кисловодск, болгарские джинсы, финские сапоги, платье, купленное в командировке в «закрытом городе» Глазове, где «хорошее московское снабжение», книги, ну, вот, собственно, и всё…
Это был привычный стиль жизни, нормальный, естественный, органичный для них обоих. Крупные покупки делались случайно, экспромтом. Когда однажды позвонила подруга и предложила купить спальный гарнитур из карельской березы, она поняла, что советоваться с мужем бесполезно. Заняла у подруги недостающие 300 рублей. Когда Ельцин пришел домой и увидел новую мебель, удивился: «А зачем?» — «Ну, так, по случаю. Случайно. Тебе что, не нравится?» — «Да нет, почему…»
Гарнитур из карельской березы, купленный в долг, за 600 рублей, единственный, должно быть, элемент «роскоши» в их квартире. Машину он покупать не хотел. Не было необходимости…
18 декабря 1982 года Ельцин вновь выступает по местному телевидению — с ответами «на вопросы телезрителей». Свердловская студия, заранее объявив об этом эпохальном событии, получила в свой адрес около тысячи писем. Ельцин отвечает на вопросы в течение двух часов двадцати минут. Одной из тем в вопросах и замечаниях было использование казенных машин женами и детьми начальников разных уровней, в том числе и обкомовских. Отныне, объявил Ельцин своим коллегам на бюро обкома, машины будут использоваться только для служебных нужд.
Войдя во вкус, Ельцин продолжает встречаться с людьми уже без посредничества телекамер. Он общается с преподавателями общественных наук, журналистами, студентами, директорами школ, рабочими…
Чем больше встреч — тем лучше. Чем больше вопросов — тем яростнее его напор, тем жарче атмосфера в зале. Его выступления собирают сотни и тысячи людей. Ответы поражают откровенностью. В нем обнаружился
Выступлением первого секретаря обкома Ельцина студенты были потрясены. «После того вечера мы были готовы для него на всё. Если бы Ельцин приказал нам штурмовать обком, мы бы пошли!» — через много лет вспоминал один из участников встречи во Дворце молодежи. Ельцина спрашивают: где жить женатым студентам с детьми, почему в общежитиях такая сырость и множество насекомых, почему в консерватории заставляют играть на инструментах с порванными струнами? И он отвечает на все записки! На сотни записок! Встреча длится пять часов.
Это было неслыханно.
Когда он приехал к шахтерам северо-уральского бокситового рудника, пачки записок бросали прямо на сцену, где он выступал. Записки шахтеров распределялись по темам — нехватка продуктов в магазинах, отсутствие чая, постельного белья. Ельцин, по воспоминаниям очевидцев, взял «бельевые записки» и устремился с ними за стол президиума, где сидели руководители предприятия.
Однако апофеозом ельцинского стиля можно назвать его ответы на вопросы директоров школ Свердловской области. Вот он читает записку из зала: «Директор банка не выделяет фондов для строительства и ремонта школы». Пауза. Ответ: «Уже выделяет, поговорите с ним после собрания». Районный общепит отказывается открыть в маленькой школе столовую, считая это расточительством. «Уже не отказывается», — комментирует Ельцин.
То, что он говорил на встречах с людьми, действительно потрясало своей жесткой откровенностью.
Нет надежды на отдельную квартиру для каждой семьи до 1990 года. Нормирование отпуска продуктов питания (мясо по талонам, масло по талонам) будет продолжаться. Один килограмм мясных продуктов на человека — по праздникам, это всё, на что могут рассчитывать студенты, как и все остальные жители Свердловской области.
Он говорит о скрытой инфляции: «повышение цен на книги связано с повышением цен на бумагу, типографское оборудование, материалы», о закрытом постановлении ЦК и Совмина — временно приостановить строительство всех культурных, спортивных, административных зданий, недостроенных больше чем наполовину. «Строительство плавательных бассейнов в одиннадцатой пятилетке запрещено постановлением Совета Министров», — скажет он, отвечая на одну из записок.
Естественно, такое постановление не прочтешь в газете. Это значит только одно — в экономике страны наметился явный кризис, страна вынуждена затянуть пояса.
Он говорит вещи, которые в такой аудитории говорить партийному лидеру просто непозволительно. Откуда он знает, что ему — можно?
Его речи, его «горькая правда», его ответы на любые записки — не просто любовь к эффектам. Это — риск. Да еще какой.
После его бесед по местному ТВ выступления свердловских руководителей с ответами на вопросы и письма стали регулярными, Ельцин обязал их говорить в студии, в прямом эфире. Первоначально передача была озаглавлена «Руководители отвечают на вопросы народа», потом ее сменили на более нейтральное, что-то типа «Лицом к лицу».
Во время его выступлений в «задней комнате» сидит целая команда: помощники, референты, машинистки, которые перепечатывают вопросы, посылают жалобы на места, звонят, тут же пытаясь получить ответ, пытаясь решить конкретную проблему. Это не просто популизм, это — работа.
Однако и эффектные жесты не чужды этому новому ельцинскому стилю. «Правда ли, — спрашивает его ехидный студент из зала, — что вы носите итальянскую обувь?» Он выходит из-за трибуны и показывает ногу в ботинке: «Свердловская обувная фабрика!»
Или вот деталь — строительство шахматного клуба. Чемпион мира Анатолий Карпов в одной из своих статей в журнале «Шахматы в СССР» написал, что в такой большой области, как Свердловская, нет шахматного клуба. Ельцин немедленно начинает строительство шахматного клуба, приглашает Карпова его открыть, в руках у свердловских шахматистов плакат, на котором крупно изображена карповская цитата.
— А теперь разорвите! — И Карпов, под общий смех и аплодисменты, разрывает плакат.
Ельцин — человек красивого жеста. Вернее, он чувствует, ценит жест, хотя по-прежнему вынужден, как и все партийные работники того времени, замыкаться в скорлупу готовых формулировок и череду мероприятий. Но всё в его поведении говорит о том, что скорлупа трещит, раскалывается на нем. Он — больше этой скорлупы.
Он — публичный политик, первый и, может быть, пока единственный в стране.
«Соседи» Ельцина, первые секретари Пермской, Тюменской и других областей, до которых доходят слухи о «концертах» Ельцина, отзываются о них со сдержанным неодобрением.
Куратор Свердловской области в ЦК кладет опасные отчеты о его публичных выходах в народ на дальнюю полочку, «закрывает глаза» на эту очевидную крамолу, уж очень велик авторитет «первого» и в ЦК, и в области: зачем начинать мышиную возню вокруг его странных эскапад, а потом, может быть,
Осторожность и склонность «закрывать глаза» (а вдруг так надо?) есть и в реакциях партийной прессы на его «популизм».
Стенограммы его многочасовых бесед с народом «Правда», разумеется, не публикует, вместо этого — короткие деловые ответы товарища Ельцина «на письма трудящихся». Да и сам он, скорее всего, не считал свои публичные выступления каким-то прорывом.
Лишь потом станет понятно, что именно эти «ответы на записки» и способность к многочасовым выступлениям, публичное бесстрашие окажут огромное воздействие на судьбу Ельцина.
Главная сфера его деятельности (как и всех прочих первых секретарей) — необходимость «выбивать фонды», ресурсы для области из Москвы, из центральных органов. Добиться разрешения, высочайшей подписи, «положительно решить вопрос».
Так, после несметного количества согласований ему удается, наконец, запустить сооружение свердловского метро.
Чтобы началось финансирование строительства Свердловского метрополитена, было необходимо решение Политбюро. Ельцин, вопреки всем правилам, лично «продавливает» этот вопрос на приеме у Брежнева, пользуясь хитрой механикой кремлевских связей. Вот что он сам пишет об этом: «…Я, зная стиль его работы в тот период, подготовил на его имя записку, чтобы ему оставалось только наложить резолюцию. Зашел, переговорили буквально пять — семь минут — это был четверг, обычно последний день его работы на неделе, как правило, в пятницу он выезжал в свое Завидово и там проводил пятницу, субботу, воскресенье. Поэтому он торопился в четверг все дела закончить побыстрее. Резолюции он сам сочинить не мог. Говорит мне: “Давай, диктуй, что писать”…»
Ельцин продиктовал.
То же самое было с бараками. Бараки стали головной болью свердловских секретарей. Переселить тысячи семей, десятки тысяч людей в новые благоустроенные квартиры — это казалось несбыточной мечтой. Где их взять, эти квартиры?
Ельцин «заморозил» очередь на жилье на три года, отдал практически все квартиры, куда должны были — строго в порядке очереди — заселять работников свердловских учреждений, заводов и фабрик, под программу сноса бараков и выселения семей из полуподвалов. Очередь зароптала. Посыпались жалобы в Москву, в министерства и ведомства.
Но люди, которые официально, по советским нормам жилья, ждали свою квартиру, жили (и Ельцин, сам ребенок барака, прекрасно это понимал) в гораздо лучших условиях, чем обитатели всех этих свердловских «шанхаев». В бараках не было иногда даже водопровода, стены продувались, сырость стояла неимоверная.
«Замораживание очередей означало отказ тысячам “ветеранов, инвалидов, многодетных семей, молодых специалистов” в квартирах, которые они ждали годами, зачастую десятилетиями. Обком просто забрал жилищные фонды предприятий — достроенные, почти достроенные и даже будущие жилые дома для работников — и отдал их жителям бараков…» (Леон Арон).
В Москве Ельцин отстоял свою позицию. «Барачный» люд, который и не мечтал при своей жизни увидеть над головой нормальный потолок, пользоваться личным санузлом и выйти на свой балкон, — одним махом оказался перенесенным в новую жизнь. Бульдозеры разнесли бараки. Грузовики убрали обломки.
От бараков осталось одно лишь воспоминание.
В конце 70-х была принята «Аграрная программа партии». Советское государство выделило немалые средства на то, чтобы «поднять» деревню, наконец-то накормить страну. Каким-то невероятным административным усилием Ельцин переводит часть инвестиций из Центрального Нечерноземья на свой Средний Урал.
Проблема продовольственного обеспечения остается самой мучительной вплоть до последних дней его руководства областью. Да, он выбивает из центра тонны масла и мяса «к ноябрьским праздникам» или «к Первомаю», но ведь это — не выход. Не помогают ни птицефабрика, ни прямые поставки овощей и фруктов с юга, ни хваленая «гидропоника», ни удобрения, ничего…
Наина Иосифовна жалуется соседке по лестничной клетке — Борис целыми ночами сидит над учебниками по животноводству и думает над тем, как поднять надои у коров.
— Знаете, что меня поражало? — вспоминает Н. И. — То, что и ночью, во сне он продолжал думать. Рядом с кроватью оставлял такой маленький блокнотик с карандашом. Ночью просыпался, что-то записывал. Иногда я это замечала, а иногда просто просыпалась утром и видела, что листки в блокноте исписаны. Я ему говорила: «Как же ты спишь, если и во сне продолжаешь думать?»
На Урале, чтобы обеспечить цифры «заготовок» мяса, порой забивают скот даже худой, недокормленный, молодых телят. Эта печальная традиция идет еще от «дяди Андрея», всемогущего Кириленко. Отсутствие мяса в продаже — хроническая беда. Устранить ее Ельцин, конечно, не в силах. Но какие-то сдвиги есть и в этой, самой трудной для него, области. Мясо, хоть и куриное, благодаря построенным птицефабрикам появляется на прилавках, фрукты и овощи, пусть и подмороженные, поступают в продажу, уральские колхозы и совхозы ощущают опеку партийного босса, который открывает им серьезную кредитную линию.
Но не менее существенны в работе «первого» и другие дела, которые приходится решать за плотно закрытыми дверьми, в режиме строгой секретности. Первым из таких дел становится авария на Белоярской АЭС. К счастью, трагедию удалось предотвратить. Обошлось без жертв и без радиоактивного выброса. Иначе наряду со словом «Чернобыль» мы бы сейчас говорили и «Белоярск».
А вот на закрытом заводе в Свердловске, где производили бактериологическое оружие — смертельно опасные вирусы, трагедия произошла. Около сотни людей умерли в одночасье от странной болезни. Их мозг был поражен одинаковой красной пленкой. Позднее, когда было проведено расследование, стало понятно, что симптомы эти похожи на заражение сибирской язвой.
Или вот — снос дома Ипатьева, старинного особняка в центре Свердловска, где была расстреляна царская семья. Закрытое постановление Политбюро, нажим Рябова, который в свое время отложил снос, а теперь рьяно взялся за него, жесткая позиция КГБ во главе с Андроповым, и Ельцин вынужден «положительно решить вопрос». От дома Ипатьева остается пустое место, ровная площадка. Происходит это в течение буквально одной ночи.
— Наина Иосифовна, не было каких-то разговоров, волнений среди людей, например, в вашем институте, вообще в городе, по поводу сноса Ипатьевского дома? — спрашиваю я.
— Вы знаете, не было. Наверное, историки, краеведы были взволнованы, может быть, даже писали какие-то письма, ходили к Ипатьевскому дому, но вообще город этого не заметил. Мы в институте проектировали коммуникации под автостраду, которая должна была пройти на этом месте по генеральному плану города, так что все знали, что снос неизбежен. Ну а что он должен был сделать, по-вашему? Положить партбилет на стол?
— То есть город ничего не знал?
— И о Белоярской АЭС, и об утечке вируса сибирской язвы мы узнали много позднее, через несколько лет. Тогда об этом никто не говорил. И дома он об этом молчал.
— Но ведь по этому поводу наверняка приезжали из Москвы какие-то проверки, комиссии…
— Гостей из Москвы вообще было много. Он обязательно их встречал, выезжал в область, были, конечно, и обязательные ужины. Довольно часто. Меня туда не приглашали.
— Ну… а вас это не раздражало, не смущало?
— Нет. Я знала, что это необходимая часть его работы — встреча гостей из Москвы. Да и почему меня должно было это раздражать… Он приходил совершенно нормальный, по дороге никуда не заходил…
Смысл этой последней оговорки Н. И. для непонятливых читателей объясню специально. Мы не раз во время интервью об этом с ней говорили.
За всю жизнь — ни разу ни одной сцены. Ни одного повода для ревности, для семейного скандала. Ни разу в жизни они серьезно не поссорились.
Во многих воспоминаниях о Борисе Николаевиче вы найдете щекочущие эпизоды о том, как Б. Н. выпивал: с друзьями, коллегами по работе. Уж во время «встречи гостей из Москвы» это был, уверяю вас, просто обязательный партийный ритуал. Но — «приходил домой совершенно нормальный, по дороге никуда не заходил». Почему, собственно, она должна была волноваться? Что бы о нем ни писали, вот вам свидетельство из первых рук — свою семейную, личную жизнь берег, как святыню.
— Кстати, — добавляет она, — довольно часто гостей из Москвы он приводил к нам домой. Причем всегда экспромтом. Как правило, звонок из машины: Наина, готовность номер один. Иногда приходили по пять-шесть человек. Помню, так у нас в доме побывали министр здравоохранения СССР Петровский, работники ЦК, фамилий сейчас уже не вспомню…
— Непростая задача для хозяйки — принять экспромтом пять-шесть человек.
— Ну а что? Пожарить картошку можно всегда. Он, кстати, был очень неприхотлив в еде. Любимое блюдо — картошка с тушенкой. Он и здесь, в Москве, частенько просил ее приготовить. Часто у нас бывали пельмени. Мы их крутили с Клавдией Васильевной, матерью Бориса Николаевича, впрок.
Кстати, о жареной картошке с тушенкой и о дачах на Балтыме.
Жизнь секретари обкома на этих дачах вели вполне патриархальную: у каждого была пара соток, на которой выращивали картошку, морковку, какую-нибудь зелень. Картошка, стало быть, была своя. Хранили коллективно, в общем погребе. Окучивали и убирали тоже сообща («ну, как сообща, просто собиралось несколько семей»), помогали дети, это был день уборки урожая, потом устраивали праздничный общий ужин.
Все везли домой собранную картошку. Жили в одном подъезде, в доме на улице Рабочей молодежи, он так и назывался, «секретарский», его охраняли.
Летом на Балтыме постоянно обязательный при Ельцине волейбол, опять же вместе с детьми, баня, зимой — лыжные прогулки, потом жарили сосиски на костре. В подъезде — дружные, соседские отношения. Если кто-то делал пирог с рыбой или что-то еще готовил праздничное — приглашали соседей.
Эта патриархальная, соседская простота отношений в своем свердловском «политбюро» кажется ему вполне естественной. Проблемы — на работе, приятельские отношения — вне ее. Когда в Москве в 1994 году будет построен «ельцинский дом» на Осенней улице, он рассчитывал перенести в Москву те же отношения: «дружить домами», снимать рабочее напряжение.
Ему еще тогда, в 1994 году, будет казаться, что всё войдет в свою
Оказалось — не в его.
Дети Ельциных, Лена и Таня, ходили в девятую школу, «с физико-математическим уклоном», одну из лучших в городе. Наина Иосифовна не любила бывать на родительских собраниях, девочек всегда хвалили («мне было как-то неудобно все это слушать»).
Но однажды ее все-таки вызвали в школу.
— Ситуация была такая. Многим девчонкам купили на зиму финские сапоги, дорогие, они стоили, по-моему, 120–140 рублей, почти зарплата учительская, и они пришли в них в школу, как положено, оставили в раздевалке — в школе все должны ходить в сменной обуви. И вот у одной из девочек сапоги украли. Лена, как комсорг класса, пошла к директору «защищать права» своих одноклассниц, добиться, чтобы больше не оставлять сапоги в раздевалке. Ведь если у кого-то снова украдут, родители больше такие не купят! И вот после этого случая учительница биологии, недовольная таким самоуправством, стала к Лене придираться. Например, отвечает у доски кто-то, она прерывает и поднимает ее: Ельцина, продолжай! Ребята удивлялись: что она к тебе привязалась?
Так вот, именно эта учительница вызвала меня в школу. В обеденный перерыв я зашла в школу, в лицо ее я не знала, нашла кабинет биологии. Она вышла в коридор и, покраснев, выпалила мне прямо в лицо: «Я не могу поставить вашей девочке пятерку!» — «Это ваш вопрос, — сказала я ей тогда. — Я не понимаю, зачем вы меня вызвали. Вы учитель, вы решаете, я тут ни при чем». Повернулась и ушла.
— Так и осталась четверка?
— Да…
— А других проблем в школе с девочками не было?
— Нет, никогда…
Вернемся, однако, к его проблемам.
Еще один «неприятный» вопрос, которым его заставляют заниматься в те годы — так называемое «дело журнала “Урал”». Журнал, опубликовавший скандальный роман Константина Лагунова «Бронзовый дог» (о нравах и образе жизни богатых тюменских «нефтяников», удельных князей советского времени, тема, актуальная до сих пор) и повесть Николая Никонова об обнищавшей русской деревне «Старикова гора», подвергается обкомовской проверке.
Ельцин вызывает на бюро членов редколлегии, грозно требует принять меры. Бюро обкома выносит выговор главному редактору товарищу Лукьянину. Тюменская партийная организация (которая и подняла в ЦК весь этот скандал) может быть довольна.
А Лукьянин продолжает работать…
Но тут интересен итог разбирательства. Свердловская (теперь екатеринбургская) интеллигенция, когда настало время ругать Ельцина, вспомнила про эту историю. «Пострадал прогрессивный журнал…» Но не будь действия первого секретаря с его грозным «бюро» столь решительными — и редакцию «Урала» ожидал бы полный разгром. Это были нешуточные андроповские времена. Вполне возможно, Ельцин спас Лукьянина.
Однако возможно и другое — в своей области он должен
Тоже самое касается и излюбленного жанра «ответов на записки». Он лично готов бороться и с порванными струнами на пианино, и с отсутствием мяса, и с бараками, и с грязными наволочками у шахтеров, и с отсутствием столовой в сельской школе.
Он лично накажет всех виновных. Он лично разберется с сельским хозяйством, надоями молока, гидропоникой в почве, запасами электроэнергии и репертуаром театров.
Он лично отвечает за всё.
Не хочу быть неверно понятым. Конечно, Ельцин — вовсе не замаскированный оппозиционер. Не Лех Валенса в строгом партийном костюме. Секрет в другом.
Главная крамола Ельцина этих обкомовских лет, которую не заметил никто (в том числе и он сам), — не в его излишней публичности, не в откровенности перед любой аудиторией, а в его внутреннем ощущении своей независимости. В его уверенности, что он должен решить любой вопрос самостоятельно.
Сам.
Однако большая, реальная политика не делается на виду.
Советская реальная политика — это прежде всего искусство неформальных контактов. Умение быть нужным и стать своим. Умение быть хорошим и надежным партнером для большого человека или группы больших людей. Умение оказаться в нужном месте в нужное время.
Когда говорят: он «тащил его наверх», «он взял его с собой», «такой-то был лично предан такому-то и благодаря этому сделал карьеру» — в этом всегда слышен пренебрежительный оттенок, интонация осуждения. На самом деле без этих хитросплетений и немыслима карьера как таковая.
Звезда Михаила Сергеевича Горбачева затеплилась во время его задушевных бесед с Андроповым, который поправлял здоровье во время летних отпусков в Ставропольском крае (в Минводах и Кисловодске), карьера Черненко — во время работы Леонида Ильича Брежнева первым секретарем солнечной Молдавии. И таких примеров немало. И не только в нашей отечественной истории.
Фактор, который можно условно назвать «давнее знакомство», играет огромную роль в важнейших государственных назначениях и в XVIII, и в XIX, и в XX веках. Человека нужно
Кто же вытащил Ельцина наверх? Кто ему покровительствовал? Кто рассчитывал на него в дальнейшем? В чью «команду» он входил?
Никто. Ни в чью.
Во всей партийной карьере Ельцина — вопиющее отсутствие политического закулисья. Вся она состоит из этих неожиданных рывков, спуртов, как в беге на длинную дистанцию, когда державшийся до какого-то момента в «общей группе» Спортсмен финиширует, оставляя всех за спиной.
Тридцатилетний инженер, еще недавно — скромный мастер и прораб, начальник участка, которому еще много лет пахать и пахать до повышения, — вдруг врывается в строительную элиту самой индустриальной области.
«Хозяйственник», да еще не самый заметный, да еще не имеющий богатого партийного опыта, становится первым секретарем области.
Малоизвестный провинциал, только поверхностно знакомый с Горбачевым лично, — возвышается до кандидатов в члены Политбюро.
Изгнанный из большой политики, не имеющий никакого ресурса во власти — избирается первым президентом России.
Само время, сама эпоха выталкивают его наверх.
Обкомовский период его жизни — с одной стороны, самый спокойный, с другой — и самый противоречивый. Будущий революционер, рьяно и последовательно выполняющий решения партии и правительства. Будущий ниспровергатель основ, который эти основы успешно оберегает и укрепляет. Парадокс? Да. (В истории таких парадоксов хоть пруд пруди.)
Но парадокс Ельцина — особого свойства. Идеалист с огромной верой в себя, в свои безграничные силы — он мог потерять этот идеализм на крутых ступенях своей головокружительной карьеры, мог сломаться, мог «врасти» в свою эпоху, в свое время, и не пойти дальше… Однако он сохранил и цельность характера, и волю, и свое безграничное, невероятное упрямство, умение пройти весь путь до конца. В этом-то и загадка.
…Но зато этот период — и самый гармоничный в его жизни. Здесь он достиг самого главного для мужчины его возраста — абсолютной уверенности в себе. Внешние обстоятельства жизни полностью совпали с тем, что бурлило внутри.
«А вообще, конечно же, в те времена первый секретарь обкома партии — это бог, царь. Хозяин области… Мнение первого секретаря практически по любому вопросу было окончательным решением. Я пользовался этой властью, но только во имя людей, и никогда — для себя. Я заставлял быстрее крутиться колеса хозяйственного механизма. Мне подчинялись, меня слушались, и благодаря этому, как мне казалось, лучше работали предприятия», — пишет он в «Исповеди на заданную тему».
Об этом гармоничном самоощущении говорят и, казалось бы, самые мелкие детали.
«Ельцин любил проводить несколько дней редкого отдыха в Бутке. Его родители вернулись туда… чтобы окончить жизнь так, как начинали: возделывая небольшой огород. Деревенские соседи были немало удивлены, увидев, как владыка области… вскапывает огород, носит воду из колодца и колет дрова…
Поначалу многие, в основном близкие и дальние родственники, стали приходить к нёму со своими многочисленными проблемами. Ельцин попросил мать остановить этот поток нуждающейся родни: “Я должен подходить ко всем одинаково”.
Однако Ельцин занимался личной благотворительностью. Посылал в детские дома изрядные гонорары, получаемые из центральных газет и партийных журналов. Однажды во время визита на один из свердловских заводов к нему подошла скромная уборщица и пожаловалась, что осталась без средств из-за черствости бюрократов… Но оказалось, что для улаживания потребуется время. Ельцин вернулся к женщине, ждавшей у двери директорского кабинета. “Возьмите, — сказал он и сунул ей в руку деньги. — Раз обещал помочь, я буду помогать вам лично, пока дело решается”» (Леон Арон).
Власть не тяжела для него — ни в какой ситуации. Даже в самой щепетильной. Он чувствует ее, как человек чувствует кожу. То есть попросту не замечает. Ему понятны ее границы. Ему ведомы ее бездны и искусы. Он легко избегает и того и другого.
Он — на своем месте.
В начале 1984 года на областную конференцию Свердловской партийной организации приехал новоиспеченный член Политбюро, бывший первый секретарь Томской области.
Вот что пишет об этом секретарь Свердловского горкома Виктор Манюхин в своих мемуарах:
«…Должен был прибыть к нам новый член Политбюро Егор Кузьмич Лигачев. Как-то за обедом, а секретари обкома обедали в буфете на этаже первого секретаря, Борис Николаевич сказал: “Вот звонил сейчас в Томск, спрашивал у коллеги, что любит Лигачев, чем его кормить, сказали, что спиртное он не пьет, любит гречневую кашу с молоком. Вот и организуем ему эту кашу. Всего он будет у нас 5 дней. На все дни распишем секретарей для работы с Кузьмичом. Я с ним буду только на конференции”».
Ельцин выполнил свое обещание: секретари обкома и горкома сопровождали Лигачева в его поездках по области, Б. Н. — нет. Это немало удивило его подчиненных. С членом Политбюро Андреем Кириленко Ельцин всегда ездил сам…
Новые члены Политбюро — Горбачев и Лигачев — были выдвиженцами Юрия Андропова. Все знали, что это — его молодые наследники, особенно М. С. Горбачев. Перед смертью Андропов попросил обоих приехать к нему на дачу, о чем-то долго говорил с ними, лежа в постели. После смерти Юрия Владимировича Горбачев, несмотря на глухое сопротивление престарелых членов Политбюро, быстро выдвинулся на пост второго секретаря, по идеологии, вел заседания Политбюро в отсутствие вечно больного Черненко, и хотя вокруг него шла глухая возня — старики, «брежневцы», старались оттеснить его от трона — постепенно всем стало ясно, что он и есть реальный наследник.
С самого начала Лигачев и Михаил Сергеевич были неразлучным тандемом. Оба они — из одного поколения с Ельциным, причем возглавляли области, гораздо менее значимые по масштабам и промышленному потенциалу. Оба уже давно вызывали у него ревнивое раздражение своим внезапным и труднообъяснимым взлетом.
«Минеральный секретарь» (как острили тогда злые языки) Горбачев организовывал отдых — обеды, ужины, прогулки, охоту — влиятельных секретарей ЦК и министров, лечивших в Кисловодске и Пятигорске свои усталые пищеварительные тракты. Там он и познакомился с Андроповым.
…Лигачев, приехавший на конференцию в Свердловск в начале 1984 года, показался Ельцину довольно странным человеком. Эта его излюбленная гречневая каша с молоком, которую надлежало готовить заранее, старательно афишируемая трезвость (на самом деле, от коньяка он вовсе не отказался), навязчивый томский патриотизм (Ельцин даже велел главному архитектору города Белянкину сесть в машину с Лигачевым и поспорить с ним насчет «угрюмой свердловской архитектуры», не идущей, разумеется, в сравнение с прекрасным Томском), восторженность и вместе с тем напускная суровость — ему это казалось позерством.
Вполне рабочая, как считал сам Ельцин, его собственная речь на партийной конференции и вполне будничные для
Он никак не мог успокоиться и всё продолжал говорить и говорить о том, что именно такой — принципиальный, предметный, содержательный — анализ проблем остро необходим сейчас, «в нашу эпоху», «в наше время». Прозрачный намек на то, что Лигачев гораздо больше всех присутствующих знает о том, что это за время и что это за эпоха, не понял только ленивый.
Лигачев, как показалось Ельцину, постоянно на что-то намекал, сыпал псевдонародным юмором, был перманентно возбужден и ни о чем не говорил прямо. Первый секретарь | проводил гостя с чувством облегчения.
…Однако встреча оказалась важной: Лигачев не забыл доклад Ельцина на конференции, содержавший, как всегда, огромную порцию жесткой критики, его прямые ответы на вопросы из зала и немедленно переговорил с Горбачевым о нем. У Горбачева тоже был опыт личного общения с Ельциным, причем не самый приятный.
Вот как сам Б. Н. описывает их первую встречу с Михаилом Сергеевичем в 1983 году:
«В Свердловск приехала очередная комиссия из ЦК. Их было много тогда. Эта проверяла положение дел на селе». («Что-то они там не то сажали или не так сажали, их за это ругали, я уж не помню», — сказала Наина Иосифовна, когда я попросил ее вспомнить об этой первой
Постановление Секретариата ЦК о положении дел в сельском хозяйстве Свердловской области Ельцин посчитал несправедливым и прямо на бюро обкома высказал свои претензии работнику ЦК Капустяну. Тот в ответ подготовил записку в Секретариат ЦК с жалобой на поведение Ельцина — тот, де, нарушает партийную дисциплину.
И вот тогда Ельцина вызвали в Москву, для беседы с членом Политбюро Горбачевым, который отвечал за сельское хозяйство.
«…Он встретил, как будто бы ничего и не произошло, мы поговорили, и уже когда я уходил, он мне говорит: “Познакомился с запиской?” — с каким-то чувством внутреннего неодобрения моих действий. Я говорю: “Да, познакомился”. И Горбачев сказал сухо, твердо: “Надо делать выводы!” Я говорю: “Из постановления надо делать выводы, и они делаются, а из тех необъективных фактов, изложенных в записке, мне выводы делать нечего”. — “Нет, все-таки ты посмотри”, — он, кстати, со всеми на ты. Вообще со всеми абсолютно. Я не встречал человека, к которому он бы обратился на вы. Старше его в составе Политбюро — и Громыко, и Щербицкий, и Воротников — он всех на ты. Или это недостаток культуры, или привычка, трудно сказать, но когда он “тыкал”, сразу возникал какой-то дискомфорт, внутренне я сопротивлялся такому обращению, хотя и не говорил ему об этом».
Горбачев, конечно, запомнил это «внутреннее сопротивление» свердловского секретаря, и когда Егор Лигачев стал рьяно расхваливать Ельцина, поначалу отнесся к этому сдержанно. Но потом обстоятельства резко изменились.
1984 год — особый в истории страны. И дело не только в том, что постепенно, шаг за шагом начинает сдавать позиции брежневское поколение, престарелые вожди партии. Кризис начался гораздо раньше: проблемы в экономике и война в Афганистане, бесконечный больничный режим Брежнева, разлитое в воздухе ощущение тревоги…
Руководитель военно-промышленного комплекса Устинов, который невероятно усилил свои позиции на посту министра обороны, и Андропов, ставший вторым человеком в партии, уйдя из КГБ, — именно этот союз, как ни парадоксально, и обозначил рубеж системного кризиса. Кризиса, рокового для СССР.
ВПК, армия, госбезопасность — этот сжатый воедино кулак оказался сильнее, чем вся брежневская система «сдержек и противовесов», его личного контроля над партией.
Брежнев никогда не слыл интеллектуалом, был рыхлым лидером в идеологии, но его огромное чутье и здравый смысл обеспечивали баланс сил, так нужный этой огромной стране и на внешней, и на внутренней арене.
Переломным стало решение «тройки» (Брежнев — Андропов — Устинов) о вторжении в Афганистан в 1979 году.
Если бы Брежнев продолжал сохранять свою силу и влияние, он бы никогда не допустил этой военной авантюры. Как бы ни оправдывали ее задним числом некими геополитическими выгодами, результатом афганской войны на тот момент стали экономическое ослабление страны, международная изоляция, бойкот Московской Олимпиады.
…С точки зрения простого советского человека, Олимпиада казалась вершиной международного признания. И это было абсолютно правильное ощущение: никакие международные встречи на высшем уровне, конференции, саммиты, переговоры, дипломатические контакты, культурные обмены не фиксируют статус страны в глазах всего мира так, как это делает Олимпиада. Обычно в спортивных книгах пишут, что Московская Олимпиада была актом признания наших спортивных заслуг в послевоенные годы. Не только это — Олимпиада стала оценкой роли нашей страны в целом, ее роли в окружающем мире.
К сожалению, именно в канун
В результате половина сильнейших в спортивном смысле держав — участниц Олимпиады — не прислала к нам официальных делегаций. Самые сильные спортсмены не приехали в Москву. Резко упал уровень борьбы, упала цена московских медалей. Телетрансляции уже не шли по всему миру в обычных объемах. Смысл Олимпиады — не только спортивный, а прежде всего политический, — наполовину потерялся.
…Впрочем, простой советский человек почти не заметил этого досадного недоразумения. С его точки зрения все было в порядке — праздники, забеги, старты, медали, великолепное шоу закрытия с олимпийским Мишкой в темно-синем московском небе. Какие пустяки по сравнению со всеми этими очередными американскими кознями!
Но это был очень болезненный удар по престижу СССР. Тот аванс, который международное сообщество щедро выдало нашей стране, был потрачен ею наполовину впустую.
Последние годы Брежнева — до сих пор достаточно загадочная страница нашей истории. Самоубийство генерала Цвигуна, близкого к Брежневу, заместителя председателя КГБ, противостояние КГБ и МВД (после смерти Брежнева генерал Щелоков, руководитель советской милиции, тоже застрелился, а зять Брежнева Юрий Чурбанов, первый заместитель Щелокова, надолго оказался в тюрьме) — все это обросло детективными версиями, стало предметом для разного рода домыслов, но так и не сложилось в единую картину.
Сюда, в эту же недописанную панораму, нужно добавить и те масштабные, на высшем государственном уровне расследования, уголовные дела, в которых принимали участие десятки и даже сотни следователей прокуратуры, — все они были развернуты по инициативе Андропова.
Борьба за «социалистическую законность», с коррупцией велась, однако, крайне избирательно и почти всегда затрагивала людей, как правило, очень близких Брежневу: членов его семьи, его друзей, его ближний круг. Традиционно это изображается у нас как борьба «честного» Андропова с «нечестным» брежневским окружением.
Но возникает закономерный вопрос: почему Брежнев, который так бдительно следил за лояльностью партийной верхушки, не спускал даже легкого намека на свое ухудшавшееся здоровье, тщательно подсчитывал упоминания своей персоны в публичных выступлениях, — прощал Андропову эти страшные закулисные удары? Чем Андропов так парализовал Брежнева, каким образом ему удалось так усилиться во времена его правления?
Эта странная логика их отношений еще нуждается в расшифровке, в разгадке. Но каковы же были реальные результаты политического усиления Андропова? В чем была его основная стратегия, как государственного деятеля?
Я бы назвал эту стратегию мобилизационной.
И знаменитая «борьба с коррупцией» — лишь часть мобилизационной внутренней политики, и объявленная Горбачевым антиалкогольная кампания (которая целиком вписывается в андроповскую концепцию «жесткой власти»), и борьба «за трудовую дисциплину», которая началась в недолгие месяцы правления Юрия Владимировича, — все это кусочки, фрагменты целого.
А «целое», увы, было таким: подготовить общество к предвоенной конфронтации. Именно этот курс на будущую неизбежную войну, по крайней мере, на гораздо более жесткую внешнеполитическую борьбу (взамен брежневской «разрядки»), на мой взгляд, был для Андропова ключевым. Его вехи — агрессия в Афганистане, новый виток гонки вооружений, борьба за очень жесткий государственный порядок внутри страны.
Брежневский СССР воспринимался Западом как неизбежная часть целого, мировой системы. Но с того момента, когда так невероятно усилился Андропов, начался кризис в отношениях между Востоком и Западом. Именно этот кризис привел к лихорадочной горбачевской «перестройке», завел страну в тупик, в конечном счете похоронил СССР.
Вместо врастания Советского Союза в мировую экономическую систему (что уже началось при Брежневе, когда объемы торговых контрактов росли, продавали нефть, покупали зерно, технику, и не только) СССР постепенно начинает скатываться в экономическую яму.
Возможно, это лишь один из вариантов ответа на мучающий всех нас вопрос — когда и как начался глобальный, системный кризис советского строя? Но чем больше вариантов — тем вернее мы когда-нибудь приблизимся к истине.
Год 1984-й.
Теперь уже социалистические страны бойкотируют Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Гибель южнокорейского пассажирского «боинга», который был сбит нашим истребителем, окончательно омрачила отношения с Западом. В это же самое время (середина 80-х) падает цена на нефть, а вместе с ней — и показатели добычи нефти в СССР. Меж тем новый президент США Рейган резко посягает на еще одну «святая святых» советской внешней политики — пытается нарушить паритет в области вооружений. Без нефтедолларов догонять США в широко разрекламированной космической военной программе очень тяжело. Советское военное производство и так съедает одну треть бюджета.
Страна встает в бесконечную очередь за «дефицитом». Дефицитом является всё: от хрусталя и золота — до туалетной бумаги, мяса, сыра и колбасы.
И все это — на фоне непрекращающейся череды смертей высших руководителей, когда всем становится вдруг понятно, что во власти творится что-то не то. Что нет самого механизма передачи этой власти.
В это же самое время на головы советских людей обрушивается всё новая идеологическая белиберда. Сегодня трудно это представить, но в 1984 году открываются уголовные дела за просмотр домашнего видео; запрещают слушать или исполнять рок-музыку (некоторые рок-музыканты и их менеджеры оказываются под следствием, на грани ареста, или уже за решеткой). Вводится ограничение на размер приусадебных участков (в который раз за послевоенный период); запрещают продавать клубнику на рынке «по спекулятивным ценам».
То же и в идеологии: запрещают писать то, что еще вчера было вполне допустимо, запрещают упоминать в печати тех, кто еще вчера составлял гордость советской культуры (Любимов, Аксенов, Кончаловский). Борьба с диссидентами и со всем «диссидентским» взмывает на новый виток. Брежневская относительная вольготность навсегда уходит в прошлое.
Но однозначно определить начало 80-х как «мрачную эпоху», пожалуй, все-таки невозможно. Политика и будничная жизнь людей уходят все дальше друг от друга, между ними целая пропасть. Вот простой вопрос — какие кинопремьеры в 1984 году стали самыми запоминающимися? «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Фильмы про любовь. Фильмы, абсолютно лишенные советских стереотипов. Что в них главное? Простые чувства. Ощущение незамысловатого жизненного уюта, уникальности частного существования.
И не случайно таких фильмов было в том тревожном году больше всего, по крайней мере, они
Вот это главное наследие брежневской эпохи — некая аморфная успокоенность, застывшая общественная атмосфера — будет потеряно уже в ближайшие пару лет.
Для «простых советских людей» этот слом эпох не казался таким уж очевидным. Но для первого секретаря Свердловского обкома наступила пора делать решающий выбор.
И в его личной карьере, и в жизни страны близилась некая критическая точка.
…Однажды, в начале зимы 1977 года, Наина Иосифовна встретилась со своей институтской подругой. Подруга преподавала в УПИ, куда год назад поступила старшая дочь Ельциных. Она поспешила порадовать Наину Иосифовну: ее девочка такая способная! Лена лучше всех решает задачи, всем помогает делать «начерталку»! Все в группе учатся по ее конспектам!
Что-то в интонации преувеличенного восторга не понравилось Н. И., и она осторожно спросила: ну а что тут такого? Лена всю жизнь получала одни пятерки, еще во втором классе отказалась от маминой помощи с уроками… Да как же ты не понимаешь, продолжала восхищаться ее однокурсница, у нас на кафедре все уверены, что дочка первого секретаря поступила по блату! Иначе, мол, и быть не может!
«Как видишь, может».
Этот разговор Н. И. вечером пересказала дома Лене и Тане.
Таня, всю зиму выбиравшая, куда поступать, вдруг наотрез отказалась учиться в Свердловске: «Не хочу, чтоб на меня показывали пальцем».
Это был настоящий удар для Наины Иосифовны.
— Куда же ты собираешься поступать? Где ты намерена учиться?
— Не в Свердловске!
Через пару месяцев Таня, упорно изучавшая справочник для поступающих, выбрала МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК). В Уральском политехническом и Уральском университете такого факультета еще не было. Кибернетика в СССР была абсолютно новой, лишь недавно разрешенной научной дисциплиной.
— Да ты же не сдашь экзамены!
— Тогда и приеду, — хладнокровно отреагировала Таня.
Наина Иосифовна стала наводить справки у подруг, дети которых уже учились в Москве. Она не могла себе представить, что Таня, абсолютно домашний ребенок, окажется в незнакомом городе одна, без друзей, без родственников, «без никого». Думать об этом было просто невыносимо.
Но отец неожиданно поддержал младшую дочь.
— Если решила, пусть едет! — заявил Б. Н. на семейном совете. Таня была счастлива.
Первый экзамен в МГУ, письменную математику, она сдала на тройку. Кстати, на этом экзамене отсеялась половина из поступавших. Из оставшейся половины несколько человек сдали на «пять» и на «четыре». Все остальные получили «три». Тройка — это было вполне нормально.
Наина Иосифовна не знала, радоваться или огорчаться. Скорее, обрадовалась. Ей так не хотелось, чтобы дочь оставалась в Москве! Но она недооценила Танин характер. Устную математику Таня сдала на «пять». Ей задавали все новые и новые дополнительные вопросы, но она выдержала. Физика — тоже «пять». Сочинение — «четыре». Поступила!
Таниной головой, упорством, характером можно было гордиться. Но горечь от разлуки была слишком велика. И действительно, домашний ребенок в первый год жизни в Москве почувствовал серьезный дискомфорт. «Я никак не могла привыкнуть к Москве, — рассказывала Таня. — Прежде всего привыкнуть к людям. Они показались мне закрытыми, вечно спешащими и, честно говоря, высокомерными. На нашем курсе, по крайней мере, москвичи держались особняком, отдельно от иногородних».
И в Москве Таня продолжала держать свою линию: в ответ на вопросы однокурсников о том, кем работает в Свердловске папа, отвечала: «Строителем».
И все-таки уже на втором курсе завесу секретности Тане сохранить не удалось. Борис Николаевич, зная, что дочь живет в общежитии, на самообеспечении, решил сделать ей шикарный подарок: набор «несгораемой» тефлоновой посуды производства свердловского оборонного завода. Не знаю уж, насколько нужна была Тане эта посуда, но когда Б. Н. появился со своим громадным свертком на проходной общежития МГУ, ему пришлось предъявить документ, в котором было начертано: «Первый секретарь Свердловского обкома КПСС». На проходной дежурил Танин однокурсник. Вскоре весть разлетелась по общежитию, и Тане пришлось держать ответ.
— Ты же говорила, что у тебя папа простой строитель?
— Ну, значит, не простой.
Эта проблема будет преследовать ее всю жизнь. Как распознать, почему этот человек хочет с тобой общаться — потому что ты дочь первого секретаря или потому что ты — это ты?
Единственный «блат», который Таня использовала с удовольствием, — театральная касса в закрытой партийной гостинице «Октябрьская», где останавливался Борис Николаевич, когда приезжал в командировку. «После папиных командировок в Москву у меня начинался настоящий театральный “загул”: Таганка, “Современник”, Ленком, Большой театр…»
Н. И. продолжает уговаривать дочь перевестись в УПИ или в Уральский университет. Аргументы основательные — Свердловский политехнический в те годы по праву считался одним из лучших вузов страны. «Образование здесь не хуже! — горячо доказывала Наина Иосифовна дочери. — А там ты одна, без родителей, без друзей!»
Весной Таня приехала в Свердловск, пару раз походила на лекции в УрГУ.
«Хорошие здесь преподаватели, — сказала она спокойно. — Мам, но знаешь, я посмотрела, у нас на ВМК преподают
Наина Иосифовна поняла — сопротивляться дальше бесполезно.
А вскоре произошло большое событие: Таня вышла замуж за своего однокурсника, Вилена, симпатичного и умного парня. Свадьбу отметили скромно, в ресторане одной из московских гостиниц (были только родители жениха и невесты, свидетели, плюс Б. Н. пригласил нескольких коллег из Свердловска), ели, пили, кричали «горько». Играла музыка…
Но Таня отчего-то не очень веселилась. Ей не нравился, как она сказала маме, «весь этот официоз».
«Ни за что не выйду замуж в институте!» — говорила когда-то себе Ная Гирина, студентка УПИ. Спустя много лет Таня, ее дочь, поступила иначе.
…Через два года они расстались. У Тани остался сын — Боря Ельцин младший.
Большая квартира на набережной Рабочей молодежи как-то вдруг разом опустела… Лена со своей семьей тоже стала жить отдельно. В 1979 году у нее родился первый ребенок, дочь Катя. В 1983-м — дочь Маша. Со своим мужем, штурманом гражданской авиации Валерием Окуловым, Лена жила на окраине Свердловска, неподалеку от аэродрома Кольцово, где работал Валера, в маленькой двухкомнатной квартире.
…Однажды Наина Иосифовна проснулась в слезах.
«Борис меня спрашивает: ты что, почему ты так рыдаешь? Что тебе приснилось? И я отвечаю: мне приснилось, что мы переезжаем в Москву».
При этом она по-прежнему упрямо верила, что будет жить здесь, в Свердловске, вернее, продолжала упорно цепляться за эту надежду. Но постепенно Н. И. стала все чаще задумываться о том, что страшный сон, скорее всего, сбудется. Мужа уже не раз и не два приглашали на работу в столицу, с каждым разом все более настойчиво, он отказывался, но рано или поздно это должно было случиться.
…3 апреля 1985 года Ельцин ехал в обком. По спецсвязи прямо в машину ему позвонил Владимир Долгих, член Политбюро, секретарь ЦК по промышленности. Предложил возглавить отдел строительства, то есть стать его непосредственным подчиненным.
Ельцин, недолго думая, отказался.
Но вскоре, через пару недель, ему позвонил уже Егор Лигачев, второй человек в партии. Его аргументы были совсем не такими холодными и бесстрастными, как предложение Долгих. Он напомнил Ельцину и о партийной дисциплине, и о том, что наступает «наше время», «наша эпоха». Шли первые месяцы правления нового Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева.
Существует маленькая деталь, записанная биографами со слов членов бюро Свердловского обкома партии: товарищ Ельцин сломал карандаш, который вертел в руке, — именно в тот момент, когда объявлял о своем переводе в Москву (заведующим отделом строительства ЦК КПСС) в начале 1985-го. Движение случайное, может быть, бессознательное, но им — запомнилось.
Своим назначением Ельцин был едва ли доволен. Это было нарушение негласного правила. Предыдущие свердловские «первые» — Андрей Кириленко и Яков Рябов — шли прямиком в секретари ЦК КПСС.
Первые два месяца супруги Ельцины жили в новом корпусе партийной гостиницы «Октябрьская» на Якиманке (ныне «Президент-отель»), Все вещи, книги, упакованные в контейнеры, оставались дома, в Свердловске, в пустой квартире на набережной Рабочей молодежи.
«Я уехала с ним сразу, можно сказать, в чем была, — вспоминала Наина Иосифовна. — Все вещи упаковывала моя сестра. Я считала, что не могу оставить Бориса ни на один день. Съездила на два дня в Свердловск, уволилась с работы. В Москве начала искать место в проектном институте, а потом поняла, что — нет. Я проработала в своем “Союзводоканалпроекте” столько лет, среди родных людей. У нас был замечательный коллектив. И я сразу почувствовала, что здесь, в Москве, работать просто не смогу.
Борис с утра уходил на работу, а я оставалась одна. Куда идти в этом незнакомом чужом городе, не представляла. Я всегда не любила командировки в Москву. Старалась закончить все дела за один день и вечером улететь обратно в Свердловск. И вот я здесь и, возможно, навсегда… Однажды вечером я возвращалась в гостиницу и вдруг так разрыдалась, не могу идти, ничего не вижу перед собой. Вернулась в свой гостиничный номер, позвонила в Свердловск, подруге. Ничего ей, конечно, не сказала, просто спросила, как у них дела, какие новости. И потом приказала себе: всё, хватит. Так дальше невозможно. Надо начинать новую жизнь».
Тяжелое настроение было и у Бориса Николаевича. Он плохо представлял себе, что его ждет, мучился ожиданием, неопределенностью.
Наконец через два месяца получил повышение — стал секретарем ЦК КПСС по строительству. Повышение последовало быстро, даже быстрее, чем он ожидал. Сразу изменилось настроение.
Уже по приезде в Москву Ельцины получили квартиру в новом доме на 2-й Тверской-Ямской, в районе Белорусского вокзала. «Это была очень хорошая квартира, удобная, — вспоминала Наина Иосифовна. — Тихий двор, рядом улица Горького, магазины. Но сам район произвел на нас угнетающее впечатление — шумное движение, трамваи ходили под окнами, загазованность. Летом окна откроешь — слой гари на подоконнике».
Новому секретарю ЦК дали в Москве не одну, а сразу две квартиры — на две семьи. Нужно было выбирать — кто из дочерей будет жить отдельно. Поскольку в семье Лены росли уже двое детей — семья старшей дочери была больше, — решили, что к родителям переедет Таня с Борей, которому в тот момент исполнилось четыре года.
«У маленького Бори была такая маленькая комнатка, кладовка с окном, метра три-четыре. Там помещалась только кровать и тумбочка. Зато он спал отдельно, — вспоминает Таня. — Большую гостиную и папин кабинет мы занимать не стали. Таким образом, оставались еще две комнаты — моя и родительская». Кабинет и спальня супругов Ельциных окнами выходили на улицу. Трамваи продолжали по ночам будить обитателей новой квартиры, так же как в Свердловске, в их «секретарском» доме.
Первое лето семья жила на даче в Успенском, где делила небольшой деревянный дом с другой семьей — видного работника ЦК Анатолия Лукьянова. Отношения были самые теплые, Таня и Лена дружили с его дочерью Леной Лукьяновой.
Постепенно жизнь налаживалась.
Наина Иосифовна с утра провожала маленького Борю в детсад, затем заходила к Лене (им дали трехкомнатную квартиру в районе Театра Советской армии, затем они поменяли ее на квартиру поменьше, но ближе к родителям, на улице Александра Невского). Там Наина Иосифовна помогала дочери с внучками: Катей и маленькой Машей. Затем возвращалась домой, обходя окрестные магазины. Продукты, по свердловской привычке, покупала сама. Довольно быстро разобралась, где лучше брать молочные продукты, где сосиски, где овощи. Когда муж стал кандидатом в члены Политбюро, первым секретарем горкома партии, ее привычки, как ни странно, не изменились. Белье в стирку или вещи в химчистку тоже носила сама — стояла в очередях за «дефицитными» продуктами.
Правда, продуктов этих становилось все меньше, а очередей — все больше. «Как-то я стояла в угловом гастрономе на улице Горького, за курами. Прошел уже, наверное, год с тех пор, как мы переехали в Москву. Куры были какие-то неубедительные, худые и синие, я попробовала выбрать получше, спросила о чем-то продавщицу и тут же получила мощный отпор: много вас тут, выбирать она будет! Я стала оправдываться и вдруг услышала позади себя иронический голос: знала бы она, что обслуживает жену первого секретаря горкома партии, наверное, не кричала бы так…»
Это говорил их сосед по дому, вроде бы ученый, Наина Иосифовна знала его в лицо. Другим соседом был молодой врач-реаниматолог из ЦКБ. «Его звали Андрей, и мы с ним дружили», — вспоминает Таня. Через четыре года он очень помог Ельциным, когда здоровье Б. Н. ухудшилось после самолетной аварии и операции в Испании. Были в подъезде и старые свердловские знакомые, коллеги Б. Н. — Петровы и Житеневы.
Тем не менее ощущение, что атмосфера в этом доме совершенно другая, чужая, холодная, никак не проходило. Здесь жили ответственные работники ЦК КПСС, среди них Строев, Зюганов. Общаться семьями — среди коллег по работе здесь в Москве было как-то не принято. ЦК был слишком
Итак, в первой половине 1985 года Ельцин работает завотделом, потом секретарем ЦК по строительству. Его новая работа — огромное поле для деятельности человека, который знает стройку «как свои пять пальцев» (характерное для него выражение). Он пытается «наметить реальную программу выхода отрасли из кризиса», постоянно в командировках (кто-то подсчитал, хотя цифру эту проверить трудно, что новый секретарь ЦК в эти месяцы ездил по стране больше, чем все остальные секретари вместе взятые). Он полон планов, он готов работать круглые сутки, он — при деле. Впрочем, это «дело» (стройка в масштабах всего Союза) оборачивается порой весьма неожиданными поворотами. Приехав в Ташкент, на пленум республиканского ЦК партии, Ельцин совершенно неожиданно оказывается в своеобразной осаде («очень скоро вокруг гостиницы собрались люди, требовавшие, чтобы их пустили ко мне для разговора»). Тема для разговора одна и та же: коррупция нового руководителя Узбекистана Усманходжаева. Ельцину приносят целую папку компрометирующих документов. Он, собрав факты, в Москве рассказывает обо всем этом Горбачеву. Однако реакция Горбачева резко отрицательная: Усманходжаев — честный коммунист, его оговаривают специально. Главное — за него ручается второй человек в партии, Егор Лигачев.
Этот эпизод надолго запомнился Ельцину.
23 декабря 1985 года Ельцина вызвали на заседание Политбюро и сказали, что он должен возглавить Московскую городскую партийную организацию.
Конечно, это заседание было лишь последним шагом в целой цепи согласований и утверждений. Ельцин прошел многих секретарей, включая Лигачева, Капитонова и, конечно, генерального секретаря Горбачева, некоторое время он просто ждал решения этого вопроса…
Но вопрос решался на удивление стремительно. Это было понятно для Ельцина — Михаил Сергеевич вел остаточные бои с членами брежневской команды, с ненавистными ему «стариками» (к которым, конечно, не относился министр иностранных дел Громыко, первым решительно поддержавший его в тот судьбоносный вечер, когда Политбюро утверждало кандидатуру нового генерального). «Старики» напоминали о временах, когда против него, Горбачева, плели интриги, пытались «отодвинуть», не допустить, чтобы он вел заседания Политбюро.
Бывшие первые секретари Москвы и Ленинграда, Гришин и Романов, должны были уйти на пенсию как можно скорее. Затем такая же судьба постигла Тихонова, Пономарева. 80-летнего Громыко можно было оставить в покое, он был не опасен.
Первый секретарь Московского горкома Виктор Гришин встречался с генеральным секретарем Черненко перед самой его смертью, когда больной Константин Устинович голосовал на выборах в Верховный Совет. Телерепортаж об этом — больной, едва удерживающий равновесие Черненко стоит рядом с растерянным Гришиным, что-то ему говорит, с трудом произнося слова, — сослужил правителю Москвы крайне плохую службу. Поползли слухи: Гришин — «наследник»! Сам Горбачев позднее упорно отрицал, что Гришина могли воспринимать «наверху» как преемника Черненко. Анатолий Лукьянов всерьез называл имя другого претендента — Григория Романова. Но факт остается фактом: Гришин и Романов были отправлены в отставку сразу, в течение нескольких месяцев после воцарения Горбачева.
Слухи о том, что Гришин доживает последние недели, быстро разнеслись по Москве.
Ельцин начал заниматься делами города уже осенью 1985 года.
«Новый заведующий строительным отделом ЦК, — пишет в своих мемуарах Владимир Ресин, который при Лужкове долгие годы возглавляет строительную отрасль столицы, — пристально следил за делами в Москве и заметил: начальника “Главмосинжстроя” (то есть Ресина. — Б. М.) Московский городской комитет партии утвердил без его ведома, не согласовав вопрос в ЦК. Так я попал между молотом и наковальней, между Гришиным и Ельциным.
Моя карьера чуть было не закончилась. Ельцин не хотел меня утверждать, потому что формально нарушен был ряд процедурных моментов, соблюдаемых при выдвижении руководящих кадров. Но причина, конечно, была глубже, пока мало кому известной».
Ресин встретился с новым заведующим строительным отделом ЦК и вместо десяти минут проговорил с ним час. В конце встречи Ельцин сказал: «Я к вам приеду!»
«Мы проехали в его большом черном “ЗИЛе” по многим районам и объектам. Ельцин спрашивал, сколько работает членов партии и комсомольцев, сколько москвичей и иногородних, так называемых лимитчиков. Их Москва принимала по лимиту, выделяемому заводам и стройкам по решению инстанций.
Ельцин интересовался, сколько у нас холостяков и семейных, сколько людей с высшим и средним образованием, где рабочие повышают образование, учатся. Конечно же, спрашивал о заработках.
Мы пообедали в заводской столовой и продолжили объезд. В тот день я понял: это наш будущий первый секретарь МГК».
Далее Ресин подробно описывает механизм, с помощью которого Горбачев поменял в Москве «хозяина города»:
«В органе ЦК КПСС газете “Советская Россия” появилась критическая статья, разорвавшаяся как бомба. В ней утверждалось, что дела на стройках Москвы идут плохо. По “сигналу” печати к делу по решению ЦК подключился Комитет народного контроля СССР. Его сотрудники насобирали компромат: искажение государственной отчетности, “очковтирательство”, нарушение установленного правительством порядка приемки в эксплуатацию жилых домов… Началась шумная борьба с приписками, недоделками, низким качеством. То был сигнал, что Виктору Васильевичу Гришину пора уходить со сцены.
…Пленум горкома партии единогласно избрал первым секретарем МГК Бориса Николаевича Ельцина. Тогда я услышал его в Колонном зале Дома Союзов. Он выступил на городской партконференции с отчетом МГК КПСС, которым до того не руководил.
Ельцин, как никто до него, уделил в отчетном докладе много места реконструкции столицы. Он признался, что не решен в принципе вопрос — как и куда развиваться городу. Тогда всем собравшимся в Колонном зале московским руководителям стало ясно, почему из Свердловска первого секретаря обкома перевели на второстепенную должность заведующего строительным отделом ЦК…»
Знал ли Ельцин о том, что ему предложат возглавить столицу в тот момент, когда уезжал из Свердловска? Нет. Это подтверждает и Наина Иосифовна — «нет, не знал». Должность секретаря ЦК по строительству его вполне устраивала, он собирался работать на ней долго. Я привожу эту версию Ресина лишь для того, чтобы подчеркнуть: назначение Ельцина первым секретарем Московского горкома было абсолютно неожиданным, оно многим казалось нелогичным, сенсационным.
В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС Борис Николаевич Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро.
…На всех своих работах он привык сначала детально, тщательно изучать
Красивый, но сильно обветшавший центр, перегруженные магистрали, грязные улицы, одинаковые спальные районы, заводские корпуса, торчавшие тут и там без всякой системы, пустыри, бесконечные заборы и какая-то печать суетливой запущенности на всем.
Он не мог привыкнуть к Москве. Пытался вжиться, войти в нее, как простой прохожий, пешеход, — и не мог.
…«Разведки боем», вроде той, которую он провел с Владимиром Ресиным (с восьми утра до десяти вечера), были в его практике не единожды. Как-то раз пересел из удобного ЗИЛа в московский троллейбус, в самый час «пик». Растерянная охрана пыталась оттеснить от него «простых москвичей», штурмующих двери на остановке. И не смогла. Высокого, мощного Ельцина стиснула толпа ошалевших от давки пассажиров. Проехав несколько остановок, он с трудом прошел к выходу.
Первое открытие, которое сделал: Москва перегружена людьми. Перегружено всё: транспорт, магазины, школы, детские сады, больницы, очередь на жилье возрастает с каждым годом.
Причина — «лимитчики». Их неубывающий поток. Артерии города закупорены. Не хватает самого необходимого. Общежития, в которых жили люди с временной пропиской («лимитчиков» набирали не только московские строительные тресты, но и все крупнейшие заводы, автобусные парки, жилконторы, милиция), поражали своей запущенностью и неустроенностью. Люди ютились в них годами, порой в антисанитарных условиях, даже не мечтая о сносном жилье. Старый жилищный фонд — тоже в плачевном положении.
Это, как строитель, он отметил сразу.
Генеральный план развития Москвы — первое, с чего начал Ельцин в качестве столичного градоначальника. Разработками нового генплана, которые начали делать при Ельцине, еще долго пользовались новые руководители Москвы.
Но планы планами, а ограничить въезд в Москву привозной рабочей силы он хотел уже сегодня, сейчас. Все возрастающий поток «лимитчиков», по мнению нового первого секретаря позволял московскому руководству прикрывать низкую производительность труда, неэффективность капиталовложений. Это и стало лейтмотивом его первых атак на московскую рутину.
Вопрос о неэффективности производства не был новостью для московских руководителей: из года в год они слышали с высоких трибун одну и ту же песню. Но он впервые был поставлен настолько остро и настолько грозно. Ельцин связал два понятия воедино. «Лимита» — бесправная, забитая, полулегальная — была той московской тайной, которую хранили «по умолчанию», десятки лет, считая неизбежной платой за рост мегаполиса.
С 1964 по 1985 год в Москву приехали более семисот тысяч рабочих (это только официальная статистика). Ельцин называл их «рабами развитого социализма конца XX века». И конкретизировал свою мысль: «Они были намертво привязаны к предприятию временной московской пропиской, общежитием и заветной мечтой о прописке постоянной. С ними можно было вытворять все, что угодно, нарушая закон, КЗОТ, они не пожалуются, никуда не напишут. Чуть что — лишаем временной прописки, и катись на все четыре стороны…»
Этот приток «лимитчиков» «развращал» (слово Ельцина) руководство предприятий. Руководители не ощущали необходимости модернизировать производство и механизировать ручной труд. Треть городского трудоспособного населения занималась тяжелой физической работой!
Что же предлагал смелый свердловчанин московским промышленным зубрам? Каков был его план?
Хотя ежегодный рост производства в Москве планировался на скудные 2,8 процента, Ельцин обещал, что в ближайшие пять лет он возрастет «не меньше» чем на 125–175 процентов. Это достижение будет обеспечено громадным увеличением производительности труда (20 процентов ежегодно), модернизацией промышленности и снижением доли ручного труда (на 20 процентов в год).
Сегодня мы смотрим на этот ельцинский план другими глазами. Москва, наполненная новыми «лимитчиками», мигрантами, гораздо более бесправными, чем в советское время, — такова грустная картина нового времени. Но для биографии нашего героя эти невыполненные планы, несбывшиеся надежды важны не меньше, чем его дела. Ельцин уже тогда, в 85-м, увидел масштаб кризиса — увидел раньше, чем его коллеги из Политбюро.
Важно и то, как он изучал этот кризис — не только на бумаге с помощью статистических отчетов. Ельцин особенно любил внезапные наезды к проходным московских заводов, когда приходила утренняя смена (то есть в шесть-семь утра. — Б. М.). Однажды утром к нему подошли не менее сотни рабочих и сообщили о своих бедах: тяжелейшие условия труда, такие же условия быта, полное безразличие руководства. «Надо было видеть, с каким раздражением люди говорили об этом», — сказал Ельцин на пленуме МГК. А вот что говорил сам Ельцин в интервью латвийскому журналисту А. Ольбику в августе 1988 года: «Если я, например, собирался на какой-либо завод, то я предварительно намечал маршрут, по которому обычно добираются до завода рабочие. К примеру, основной поток рабочих завода имени Хруничева направляется со стороны Строгино. В шесть часов утра я садился здесь на автобус, добирался на нем до метро, пересаживался снова на автобус и к семи оказывался у проходной предприятия. И не ждал, когда приедет директор, шел в цеха, в рабочую столовую. И когда затем разговор заходил об “адовых” сложностях транспорта, я отчетливо понимал озабоченность рабочих».
Своих новых коллег по бюро горкома он точно так же заставлял, в прямом смысле, срываться с места и ехать на предприятия, разговаривать, бесконечно беседовать с людьми, разбираясь с потоком их протестов и жалоб. Это стало его стилем — и грозным упреком для старого московского руководства.
Вскоре после того, как Ельцин принял в городе власть, был составлен план вывода вредных производств из столицы и запрета строительства в Москве новых заводов, фабрик и административных зданий.
Другим новшеством Ельцина стал запрет на снос исторических зданий. Реставрация памятников истории и культуры в Москве началась также при Ельцине. Он издал постановление, по которому из центра города, по крайней мере с первых этажей исторических зданий, выводились конторы, главки, институты, — на их месте должны были появиться кафе, рестораны, магазины. Именно Ельцин начал отмечать в Москве День города — традиция, которая сохраняется и сейчас, через 20 лет.
Но Борису Николаевичу требовалось доказать, что его напор — не пустые слова, не просто обещания.
В подтверждение серьезности своих намерений он взялся за «святая святых» московской власти: партийную элиту Москвы.
«Из тридцати трех первых секретарей райкомов партии, — пишет Ельцин в «Исповеди на заданную тему», — пришлось заменить двадцать три. Не все они покинули свои посты, потому что не справлялись, некоторые пошли на выдвижение. Другие были вынуждены оставить свои кресла после открытого, очень острого разговора у меня или на пленуме районного комитета партии. Большинство сами соглашались с тем, что не могут работать по-новому. Некоторых пришлось убеждать. В общем, это был тяжелый болезненный процесс».
Шлейф от тех «открытых, очень острых» столкновений с московским руководством тянулся за ним еще долгие годы. Его обвиняли в жестокости, в том, что ломал судьбы. Он был вынужден отвечать:
«Тяжелое впечатление на меня произвел трагический случай с бывшим первым секретарем Киевского райкома партии. Он покончил с собой, выбросившись с седьмого этажа. Он не работал в райкоме уже полгода, перешел в Минцветмет заместителем начальника управления кадров, обстановка там вроде была нормальная. И вдруг, совершенно неожиданно, такой страшный поворот. Кто-то ему позвонил, и он выбросился из окна. Позже, когда меня принялись травить, и этот трагический случай кто-то попытался использовать в своих целях, заявив, что этот человек покончил с собой из-за того, что я снял его с работы… Даже легенда была сочинена, будто он вышел с обсуждения на бюро и выбросился из окна. Это была абсолютная ложь. Но больше всего меня поразило то, что люди даже смерть человека пытаются использовать как козырную карту…»
Однако то, что новый первый секретарь МГК затронул основы основ московской номенклатурной жизни, вторгся в самые закрытые зоны, поломал давно сложившиеся правила игры, — не подлежит сомнению. Это было потрясением такой силы, что для очень многих московских руководителей небо над головой действительно померкло. Они были к этому не готовы.
Не готовы были к такой мощной атаке и в Политбюро.
«Хотя Горбачев был поначалу доволен ретивостью нового московского секретаря, взявшегося проветривать горкомовские коридоры, не считал его (Ельцина. — Б. М.) важной политической фигурой на своей шахматной доске. По словам дочери Горбачева, в ежевечерних домашних “разборах полетов” фамилия нового первого секретаря горкома почти не упоминалась», — пишет Андрей Грачев, пресс-секретарь первого и последнего президента СССР. Думаю, впрочем, что «не упоминалась» фамилия «Ельцин» и по другой причине. Постоянные «вылазки» Ельцина, тот бешеный темп, с которым он вторгается в тихую и сонную Москву — за один день он может постоять у заводских проходных, поговорить с людьми на автобусных остановках, посетить десяток магазинов, заехать в научный институт, а уж потом провести бюро горкома, — для его шефа Горбачева, увы просто непредставимы.
Ельцинские публичные «концерты» он воспринимает со все более возрастающим раздражением.
Примерно с конца 1986 года Горбачев перестает встречайся с Ельциным один на один. Эту пустоту немедленно заполняет второй секретарь ЦК Егор Лигачев, который (то ли выполняя пожелание генерального секретаря, то ли по собственному рвению, скорее всего, и то и другое вместе) начинает яростно влезать во все московские дела, поправлять, вмешиваться, звонить, часто и бестолково, доводя Ельцина до белого каления. Лигачев недоволен то его борьбой с партийными привилегиями, то «идеологически невыдержанными» заявлениями, то какими-то совсем уж странными «московскими недостатками», о которых Егор Кузьмич узнает из газет.
Горбачев ведет на Политбюро сложную игру. Заговаривает зубы консерваторам, упорно проталкивает свои идеи, осаживает каких-то неведомых радикалов и демократов, вежливо «раскланивается» со старыми брежневскими динозаврами: первым секретарем ЦК Компартии Украины Щербицким, Андреем Громыко. Он посылает свои «стрелы» в разные стороны, в несколько сторон одновременно, удерживая только ему понятный «баланс сил».
Но Ельцин категорически не понимает своей роли в той сложной политической конструкции, которую выстроил Горбачев.
Поддакивать он не умеет. Отделываться формальными многозначительными замечаниями — глупо, не имея контакта с генеральным. Это будет хорошая мина при плохой игре, блеф, на который он не способен. И он пытается выражать свое мнение открыто, выступать серьезно — и снова и снова ощущает все тот же вакуум, гнетущую вату, которой его обложили.
Получается, что Горбачев просто не предусмотрел его в своей игре!
Просто «заткнул» им «московскую брешь», формально заполнил кадровую пустоту, подставил его, как пешку, в сложном и длинном розыгрыше, в своей шахматной партии.
Первое открытое столкновение Горбачева и Ельцина произошло на заседании Политбюро 19 января 1987 года при обсуждении проекта доклада к пленуму ЦК о кадровой политике.
Все присутствующие высказывались «по кругу». Подошла очередь Ельцина. «Говорил он… резко, безапелляционно», — вспоминает Виталий Воротников, член горбачевского Политбюро.
Что же говорил в тот день Ельцин?
«Прошу правильно понять мои предложения. Откровенно их изложу.
Первое. Несколько завышены оценки состояния перестройки. Состояние кадров таково, что опасно поддаваться оптимизму. Некоторые не готовы к революционным переменам.
Второе. Оценка 70-летия. Ее ждут. Надо иметь мужество до конца сказать, что в торможении виноваты и Политбюро того состава, и ЦК.
Третье. О гарантиях успеха. Гарантии, которые перечисляются, — это социалистический строй, советский народ, партия. Но они были и все эти 70 лет! Поэтому никакие это не гарантии невозврата к прошлому. А гарантии вытекают из тех тем доклада, которые в его конце. И главная среди них — демократизация всех сфер жизни.
Четвертое… Стоит сказать, что кадры очень глубоко поражены… И не произошло во многих эшелонах ни обновления, ни перестройки. Критика в докладе направлена только вниз…
Шестое. Перечень особо пораженных территорий. Названы Узбекистан, Казахстан, Москва. Я бы добавил: Ростов, Киргизия.
Генеральный секретарь осторожно осаживает Ельцина: «Это
И еще. Выступление Ельцина резко отличается от реплик других выступающих и по форме. Он, по сути, выступает с
Ельцин продолжает:
«…Длительное пребывание в должности одного лица девальвирует и отношение к делу, и отношения с другими. Возникает самоуспокоенность.
Взяв слово в конце обсуждения, Горбачев посетовал на то, что Ельцин
«Все это не выходило за рамки обычных дискуссий на Политбюро, — вспоминает еще один бывший член Политбюро В. А. Медведев. — Но Борис Николаевич воспринял это болезненно. Все разошлись, а он остался в своем кресле. Он сидел с перекошенным от досады лицом… Стучал кулаками по столу». В своих мемуарах Медведев приводит записки, которыми он обменивался со своим коллегой А. Н. Яковлевым (там же, на Политбюро) в связи с выступлением Ельцина:
«
На следующий день после заседания Горбачев созвонился с Воротниковым и сказал, что выступление Ельцина оставило у него «неприятный осадок». «Методы Ельцина — заигрывание с массами, обещания, перетряска кадров, много слов, мало конкретной работы. Состояние хозяйства и торговли в Москве, несмотря на огромную помощь других республик, не улучшилось. Все время ссылки на прежние упущения».
В тот же день Воротникову (у которого был день рождения) позвонил Ельцин. Вспоминая этот звонок, Воротников так передает его слова:
«— Занесло меня. Видимо, я перегнул где-то, как считаете?
— Нередко и другие вступают в споры. Только ведь надо как-то спокойнее выступать. Ты всегда обвинитель. Говоришь резко. Так нельзя.
— Согласен, такой характер» (В. И. Воротников «А было это так… Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС»).
«Перегибать палку» он тем не менее продолжал и дальше. Вот одна из характерных записей, которые сделали помощники Горбачева во время одного из заседаний Политбюро:
«24 марта 1987 года.
Плюрализм полный. В печати публикуют все, что угодно и не извиняются, когда выясняется, что врут или оскорбили… Отменили цензуру, но отменили и государственное руководство духовной жизнью совсем. И вот результат.
Горбачев снова «тушит» огонь, который раздувает Ельцин. Он слишком резок в оценках. «Старики» слушают его крайне раздраженно. Горбачеву это не нужно.
Однажды Ельцин во время заседания Политбюро пожаловался на то, что в Москве не хватает пекарей, некому печь хлеб. Громыко раздраженно заметил: «И что, решением Политбюро вас еще учить, как лапти плести?» Поднялся дружный хохот. В игру Горбачева на Политбюро Ельцин явно не вписывался.
Вспоминает пресс-секретарь Горбачева — Андрей Грачев: «Теоретические дискуссии об истинных заветах Ильича, о невыкорчеванном наследии сталинизма… явно увлекали Горбачева, и он с удовольствием на долгие часы втягивал в них членов Политбюро, во-первых, потому, что эти дебаты стали для него способом саморазвития, во-вторых — из-за того, что, перечитывая Ленина (томик из собрания сочинений всегда лежал на столе у Михаила Сергеевича. — Б. М.), он незаметно для себя начинал в него “играть”, стараясь перенести в доставшееся ему послебрежневское Политбюро атмосферу острых идейных баталий…
Уже в решающие годы, когда закладывался фундамент его проекта и каждый месяц из отпущенного ему Историей срока и кредита народного доверия был на счету, выявилась та особенность Горбачева-политика, которая, в конце концов, обрушила недостроенное им здание перестройки: граничившее с отвращением нежелание заниматься рутинной, повседневной, систематической работой. Его зажигали и увлекали “большие дела”, крупные идеи, судьбоносные решения, проекты, уходящие (и уводящие) за горизонт повседневности. Самым интересным собеседником был для него тот, кто отвлекал от будней, от скучной текучки, приглашал в разреженную атмосферу мира высоких идей.
Американский госсекретарь Дж. Шульц вспоминает, как, начав однажды с Горбачевым условленные переговоры о ракетах и боеголовках, они незаметно перешли на глобальные сюжеты и рассуждения о перспективах развития мира в ближайшие 15–20 лет. В результате “скучный” подсчет боеголовок был быстро свернут и передоверен экспертам, а собеседники часа на два погрузились в футурологию, поломав график встреч генсека».
Ельцин воспринимал это нежелание генсека заниматься скучной рутинной работой, «текучкой» очень остро. Он видел за этим нечто другое — не грандиозные планы и стратегическое мышление, а отсутствие нормального, рабочего механизма принятия решений.
«Заседания Политбюро были по четвергам, — вспоминает Наина Иосифовна. — Борис Николаевич приходил оттуда совершенно больной. На него смотреть страшно было. Однажды сказал: я с этой бандой больше разваливать страну не хочу!»
…Почему Ельцин, прекрасно понимавший, что судьба подарила ему огромный карьерный взлет, не упивался своей новой ролью, не обживал ее тихо, спокойно, а упрямо лез на рожон? Что он видел на этой самой «земле» такого, что приводило его в состояние тревоги, беспокойства, которое он отчаянно пытался передать членам Политбюро, и Горбачеву в первую очередь?
Попробуем посмотреть на тогдашнюю Москву его глазами.
Начал с самого вроде бы простого — с магазинов. Считал, что снабжение в Москве, как ни странно, самый больной вопрос. Хотя снабжаться столица, по идее, должна была гораздо лучше, чем другие города в России — он это точно знал.
Унылый ассортимент, очереди, подозрительно-оживленная толкотня в подсобках, неприветливые продавцы. Мясо, даже куриное, масло, майонез, крупы, сыр, колбаса — все было в дефиците. За всем надо «стоять». Однажды, во время таких своих «прогулок», он заглянул в первый попавшийся гастроном и начал, как обычно это делал в Свердловске, допрашивать продавщицу, что у них есть, почему нет того и этого, как вдруг она почти истошно завопила: а кто ты сам такой, чтоб тут порядки наводить, из ОБХСС, что ли?!
Вызвал испуганного директора, отчитал, записал в блокнот всё — номер магазина, фамилию директора, отсутствие в ассортименте тех и этих товаров, вышел…
Пусть хоть немного пошевелятся.
Был случай, поразивший его. Выходя из одного магазина, он почувствовал торопливые шаги за спиной, уже около остановки автобуса, где его ждала машина. За ним бежала молодая девчонка.
— Товарищ Ельцин! — зашептала она горячо и страстно. — Можно вас на минуточку?
И она рассказала ему всё: как ее взяли в магазин и заставляют обвешивать, обманывать покупателей, прибегать к сотне различных ухищрений, чтобы получить левые деньги и «отстегивать», делиться со всеми — заведующим отделом, директором магазина; что так делают все — делятся, отстегивают наверх, в райторг, в главк, по цепочке; что все повязаны круговой порукой, и вырваться невозможно, а увольняться ей некуда, она молодая мать, и приходится, вы же понимаете, жить в этой системе, и плакать по ночам, и не смотреть в глаза покупателям, сделайте что-нибудь, сделайте…
Эта история имела продолжение. Он вызвал девушку в горком, дал поручение следственным органам, ждал результата и дождался — полетели новые головы, последовали новые громкие увольнения (хотя уже очень много ответственного народа в Москве он и так успел поснимать с их постов). Но интуиция подсказывала ему — эту систему быстро не сломать.
Да и надо ли было ее ломать вообще? — вот что самое главное.
Ельцин понимал, с чем столкнулся, — а столкнулся он не просто с системой воровства, с «торговой мафией», нет — столкнулся с закоренелой
«Столы заказов», спецбуфеты, распределители, закрытые столовые, спецотделы магазинов, продуктовые «Березки» (в них дефицитные продукты можно было купить за валюту)… Все то, что не попадало в общедоступные магазины, от мармелада до финского сервелата, всё растекалось мелкими ручейками по холодильникам, сумкам, «дипломатам», авоськам москвичей ежедневно и ежечасно. Обогащая при этом (ну а как же!) всех тех, кто распределял эти ручейки, — и деньгами, и ответными услугами, да и просто социальной значимостью гордой и таинственной профессии «работника торговли».
Так было удобно, хотя все в один голос проклинали эту систему, — поскольку то была единственная возможность получить из этих ручейков хоть что-то.
Ельцин увольняет директора Мосторга, старшего следователя городской прокуратуры по особо важным делам, которого уличат в связях с руководителями московской торговли, директоров овощебаз, начальников районных трестов… В 1986 году руководитель райторга (невероятно высокая должность по московским понятиям, обладатель священного доступа на тортовую базу, к любому дефициту) мог слететь со своей золотой должности из-за такого пустяка, как «недостаточное обеспечение москвичей прохладительными напитками в летнее время». Кары посыпались на головы торговой касты, которой и сам ОБХСС был нипочем, — да еще и по причинам нелепым и пустым, по их мнению. Однако скучающие продавщицы с газировкой и соками появились действительно на каждом углу.
Ельцин попытался расшатать торговую систему и по-другому: если нельзя победить «левые» свертки и пакеты (хотя когда на одном из заводов он обнаружил сразу три «спецбуфета», он с яростью закрыл их; но это были эпизоды, крохи), то можно хотя бы снизить цены на свежие овощи и фрукты на рынке, можно организовать прямые поставки из колхозов и совхозов, «ярмарки выходного дня» (они существуют в Москве до сих пор), куда прямо на машинах будут привозить свежую зелень, картошку, овощи, а летом и осенью — фрукты, причем прямо оттуда, где все это растет.
Он горячо пробивал эту идею, громыхал на планерках по поводу отвратительной системы хранения и переработки овощей и фруктов, добился того, что первая ярмарка прошла с громадным триумфом — пели и плясали коллективы народного творчества, покупатель радостно уносил в сумках «зеленые витамины»…
На открытии азербайджанской ярмарки (цены на ней и так были ниже обычных) на Усачевском рынке он неожиданно обратился к продавцам с импровизацией: что, неужели жалко для москвичей, которые работают на всю страну, сбросить цены на полтинник, на рубль? Продавцы под красноречивыми взглядами азербайджанской элиты, сопровождавшей Ельцина, посовещались и тут же поменяли ценники.
Ярмарки были событием. О них передавали репортажи по телевизору, писали в газетах, но вскоре и эта история стала унылой реальностью — овощей и тем более фруктов почему-то все равно не хватало, стоять в очередях надо было к разным лоткам, да еще и на улице, из привычных магазинов хорошие овощи и фрукты исчезли совсем, началась рутина, грязь, никакого праздника и никакого удовлетворения.
Молодые люди 80-х и тем более 90-х годов рождения не знают, не помнят атмосферы советского магазина, не помнят его специфического запаха и вида (например, казарменного запаха опилок зимой на грязном полу продмага), им не приходилось, расталкивая локтями других покупателей, мчаться к прилавку универсама, когда туда с грохотом выбрасывали (именно презрительно выбрасывали) мороженые куриные тушки и завернутые в серый замызганный целлофан обломки трески океанической. Они не разбирали на составные части мокрый бумажный пакет с мерзлой картошкой, не видели очередей за водкой, бурлящих ненавистью, которые сделали жизнь совсем невыносимой. Они даже не знают, что такое талоны (на сахар, на табак, на водку, на мясо, на стиральный порошок)… Жизнь в СССР знакома им только из кадров кинохроники — величественная вереница баллистических ракет на Красной площади, улетающий в небо олимпийский Мишка… Когда-то я думал: как хорошо, что наши дети этого не помнят, не знают.
Теперь иногда думаю — жаль.
Жаль, потому что тогда иначе относились бы к прошлому. И к настоящему тоже.
Впрочем, проблема лимитчиков, снабжения, «руководящих кадров» — все это не исчерпывает того, что стало головной болью Ельцина московского периода. Он привык «ставить проблемы» и работать с ними — это был его метод, его конек. Те же самые проблемы были и в Свердловске. Да и везде, по всему СССР.
Но в Свердловске все для него было понятно: устройство самой жизни, устройство власти, социальной среды, глубина и степень этих отдельных проблем. Здесь, в столице империи, его давили именно непрозрачность, спутанность всех социальных отношений. Устройство московского мира.
Пытаясь поставить под контроль лишь одну составляющую этого мира — проблему «лимитчиков» или, например, торговлю, — он сразу болезненно задевал всю систему. Это ведь не торговля сама по себе, «торговая сеть», распределение продуктов, а гораздо более тонкий, чувствительный, определенным образом настроенный механизм.
В Свердловске была только одна «спецполиклиника» (знаменитая больница № 2), которая обслуживала одновременно всю свердловскую номенклатуру по трем категориям, от секретарей обкома до ветеранов партии. В Москве таких ведомственных больниц и поликлиник — десятки, а может быть, сотни. У писателей — своя поликлиника, у железнодорожников своя, у ученых сразу несколько. Это были уже не отдельные льготы, а система жизни. Удобно, вольготно устроившийся московский «мир» за десятки послевоенных лет оброс огромной разветвленной инфраструктурой социальных подачек, благ, льгот, привилегий. И представить свою жизнь без этой системы отказывался категорически.
Но как разрушить одну систему привилегий (например, в торговле), не трогая другую (в медицине, образовании)?
Тяжелая кавалерийская атака, предпринятая первым секретарем Московского горкома товарищем Ельциным, на самое элитарное звено московской образовательной системы — МГИМО (Московский институт международных отношений) и Дипломатическую академию при МИДе, где учились дети дипломатов и высших партийных руководителей, внешне прошла вполне успешно: проверки, выговоры, публикации в газетах. Ельцин боролся с несправедливым распределением учебных мест, по-русски — «блатом», с коррупцией и семейственностью. Но, увы, было совершенно понятно, что своей цели он не достиг. Мало снять с должности одного, другого, надо добиться резонанса, результата, поддержки. А вот с этим было плохо.
Ельцин берется за систему социального неравенства в образовании «снизу» — с системы средних школ. Ему непонятно, почему в Москве так много спецшкол (с углубленным изучением иностранного языка), где и учителя лучше, и учеников меньше, и поступить туда простому ребенку почти невозможно, и где учатся сплошь и рядом дети начальников. А есть школы остальные, рядовые, действительно «средние», где классы переполнены, учителя увольняются среди учебного года, где гораздо выше подростковая преступность, где нет. элементарных условий…
И опять, опять пытаются объяснить товарищу первому, намекнуть, дать понять окольным путем, что дети-то и есть в системе московского непростого мира самое нежное, уязвимое, центральное звено. Что
Ему непонятно. Непонятен сам принцип московской жизни, где все знают всех, где тонкие невидимые нити протянуты ото всех ко всем. Нет вертикали, одна сплошная горизонталь. И даже директор школы (всего лишь!) или ректор института (подумаешь тоже, шишка), с одной стороны, очень боятся этого нового, непонятного правителя Москвы, кандидата в члены Политбюро, свердловского чужака с его странными заскоками, а с другой стороны — этот же директор школы и этот же ректор, у которого учатся дети секретарей ЦК, министров, руководителей КГБ и МВД, чувствуют свой «запас прочности», понимают про себя: да ничего он не сделает, этот «чужой»! Руки коротки…
Важный вопрос: почему, собственно, тема «социальной справедливости» постепенно становится для Ельцина ключевой, центральной?
Позднее он заслужит упрек в популизме: мол, защищая «обиженных и угнетенных», разыграл самую удобную в политике карту. Однако мне более точной и в то же время более парадоксальной представляется другая мысль: будучи сам до мозга костей советским человеком, он был искренне потрясен той социальной пропастью, которая открылась ему в Москве, — пропастью между управляющими и управляемыми.
На самом глубоком, личностном, ментальном уровне Ельцин не приемлет устройство Москвы как микромира, который не подчиняется ничему, кроме своих собственных неписаных законов.
Он, «человек из Свердловска», был другим. Их семья была другой. Ельцины не уставали поражаться тому, как здесь, в Москве, в ЦК, устроена жизнь «начальников». На их провинциальный взгляд, эта «роскошь» была непомерной. На фоне всего этого привычка Наины Иосифовны самой ходить по магазинам за сосисками, курами и всем прочим, самой сдавать белье в прачечную выглядела уже почти смешной. Но она продолжала упрямо ей следовать.
Борьбу Ельцина с московским правящим классом интересно проанализировать в контексте горбачевской «перестройки». Вряд ли Горбачев, доверивший Ельцину Московскую партийную организацию и жизнь этого огромного города, мог себе представить, что Б. Н. за полтора года уволит львиную долю секретарей московских райкомов — больно затронет особую касту, в ведении которой находятся министерства, институты, академии и главки, связанную с центральной властью самым непосредственным образом.
Но вряд ли Горбачев понял подтекст этой борьбы.
В Москве Ельцин лишь воспроизвел свой глубокий конфликт с советским менталитетом. Конфликт руководителя, который требовал подчинения тех, кто должен подчиняться, и хорошей работы от тех, кто должен работать, — с системой двойных стандартов, когда говорят одно, а имеют в виду совсем другое, с системой связей и зависимостей. Разобраться в них было практически невозможно — можно было только принять на веру.
Он не хотел ее принимать. И в ответ система не приняла его.
Но есть и другая сторона этой борьбы.
В Свердловске Ельцин тоже видел мир «спецбуфетов» и «спецполиклиник» — и мир бараков, мир заводских проходных. Однако в своем городе он мог что-то изменить, сделать жизнь людей более сносной, добиться какого-то результата.
В Москве это было невозможно. Здесь гармония (если понимать ее как устойчивость системы) была как раз в том, что на одном конце «мира» были блага, а на другом — тяжелые условия жизни «лимитчиков». Одно обеспечивало другое. Одно зависело от другого. Всё было взаимосвязано. Всё сливалось в единую систему. И называлась она просто — столица империи.
Ельцин видел эту жизнь по-другому — глазами человека, который приехал сюда из глубины империи.
Принять эти контрасты как должное он не мог категорически.
Однажды Б. Н. попал в спальный район, где рассматривался вопрос о «благоустройстве», и этот его приезд был дотошно зафиксирован корреспондентами московских и западных газет. (Это была обычная «хрущоба», пятиэтажка, панельный дом в одном из спальных районов.)
«Когда Ельцин приехал, его тут же окружили плотным кольцом сотни кричащих людей, другие наблюдали с балконов. “Спуститесь в подвал! — кричали люди. — Мы по колено утопаем в вонючей грязи! Канализационная труба давно проржавела! Крыша протекает, и всем на это наплевать!” Ельцин спустился в подвал. Когда вышел оттуда, ему предложили взглянуть на кучи мусора во дворе, которые валялись там. Кольцо вокруг первого секретаря сжималось все плотнее. “Среди мусора ползают крысы, а рядом играют наши дети!” — кричали ему люди», — писал московский корреспондент одной из американских газет.
Все это было хорошо ему знакомо и по Свердловску. Там бывало порой и хуже.
Поразило не это, а само настроение толпы, те самые «отчаяние и ярость», невероятный выплеск коллективных эмоций, с которыми он столкнулся лицом к лицу. Именно здесь, в Москве.
Там, в Свердловске, людям помогало чувство стабильности, непреложности бытия — так всегда было и так всегда будет. Скудный быт, тяжелые условия, грязь, нехватка самого необходимого. Все это преодолевалось именно благодаря общему чувству народного упорства, терпения, покорности и фатализма — «после войны было гораздо хуже», «постепенно жизнь улучшается», «все равно ничего не изменишь», «надо жить, выживать, надо надеяться на лучшее». С этим настроением, миросозерцанием народа он привык иметь дело, ему было понятно — почему они терпят и на что надеются.
Здесь, в Москве, он внезапно ощутил — их терпение кончилось.
Это было совершенно новое, резкое и странное чувство.
Оно преследовало его повсюду.
В магазине, где на него налетела продавщица, или в уличной толпе, где он вечно наталкивался, выходя из машины, на чье-то перекошенное от эмоций лицо, а порой и не одно, а сразу несколько, которые излучали отнюдь не привычное любопытство, народное возбуждение или умиление тем, что «сам» пришел пообщаться, а именно это глухое отчаяние, эту ярость: «Передайте Горбачеву! Борис Николаевич! Мы за вас! Передайте Горбачеву!»… Обычно таких крикунов быстро оттаскивала милиция, но оставленный ими в воздухе тревожный импульс продолжал бить ему в спину.
И на встречах с разными «активами» — он ощущал эту нервозность, повышенную, нездоровую эмоциональность, разлитую в воздухе.
Да, терпение кончилось. И этот перелом настроения спровоцировал сам Горбачев. Любое непривычное, дразнящее,
Особенно остро он это почувствовал на встрече с представителями неформального общества «Память», которая состоялась в горкоме совершенно спонтанно — они сами, без предупреждения, собрались перед горкомом, милиция хотела вмешаться, но он не позволил разгонять толпу, обещал выслушать.
Это были необычные люди, пожалуй, он таких раньше не видел — многие с огромными бородами, с длинными волосами, другие бритые, в черных рубашках, мрачные, говорили с ним требовательно, сурово и на каком-то странном языке, старательно внося в свою речь старинные обороты и как будто постоянно на что-то намекая.
С одной стороны, ему была интересна эта встреча, он внимательно выслушал и пообещал помочь в деле охраны памятников старины (впрочем, многое из того, что они говорили, и так ему было хорошо известно), но главное впечатление осталось все то же — терпение кончилось, это уже другие люди, не такие, как прежде, они способны на многое. Они, говоря прямо, уже способны на бунт.
Он пытался передать это ощущение тревоги, закипающего котла, проснувшегося вулкана — в сухих деловых формулировках, например, выступая на Политбюро или на пленумах ЦК.
Речи и выступления Ельцина той поры вообще производят сегодня странное впечатление. Это не речи пламенного оратора, но и не речи скучного партийного функционера времен перестройки. В них слышен скрежет медленно сдвинувшихся колес истории, заржавевших от долгого ступора, страшный скрежет сознания, которое пытается вместить в себя реалии нового времени, — но выразить их на старом, привычном административном языке приказов и установок невозможно. В них слышно нагнетание тревоги и волнения, но только в построении фраз, в необычайном напряжении, с которым Ельцин, пытаясь сохранять спокойствие, говорит о том, что видит вокруг.
Вот один из самых характерных фрагментов его речей того времени: «Хочу откровенно высказать беспокойство по ряду вопросов. Много возникает “почему?”. Почему из съезда в съезд мы поднимаем ряд одних и тех же проблем? Почему в нашем партийном лексиконе появилось явно чуждое слово “застой”? Почему за столько лет нам не удается вырвать из нашей жизни корни бюрократизма, социальной несправедливости, злоупотреблений? Почему даже сейчас требование радикальных перемен тонет в инертном слое приспособленцев с партийным билетом?» И вот, пожалуй, самое важное, ключевое:
Что имеет здесь в виду Ельцин? То, что за внешними проявлениями, видимыми, поверхностными чертами советской стабильности прячется постоянно растущее напряжение. Вот это, пожалуй, тревожит его больше всего — невидимая, скрытая угроза. Ощущение надвигающейся беды.
Лекарство для всей страны он называет тут же, на том самом партийном съезде, с трибуны которого звучат эти слова: «Контроль всех надо всеми, сверху донизу». Лекарство для самого себя гораздо привычнее, из его свердловского арсенала: «горькая правда», которая, по его мнению, гораздо лучше, чем «сладкая ложь».
Во всех своих выступлениях он придерживается этого принципа. Называет абсолютно закрытые цифры, которые касаются и социально-экономического положения «трудящихся», и цифры по наркомании, проституции. Причем Ельцин озвучивает эти «закрытые цифры» и говорит «крамольные вещи» не только на пленумах горкома партии. Он собирает для своих публичных откровений то московский дипломатический корпус, послов иностранных государств, то журналистов, руководителей московских издательств и изданий, то дает интервью американскому телевидению. Встреча с московскими пропагандистами в Доме политпросвещения на Цветном бульваре продолжается шесть часов… Ему все равно, в какой аудитории это говорить.
Но так не положено! Так нельзя!
В январе 1987 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС. На нем Михаил Горбачев впервые произнес слово «демократия». В ином, не советском контексте. Нам нужна демократия на всех уровнях — сказал он. Это был водораздел, рубеж.
Почему партийная элита оказалась перед угрозой демократических выборов? Что подтолкнуло к этому генерального секретаря ЦК КПСС?
Можно искать ответ в мировоззрении самого Горбачева. В том, что политическая механика СССР к тому времени сильно заржавела, устарела. Но правильнее будет искать его не в политике, а в экономике.
Вот что писал (уже позднее, в 90-е) тогдашний премьер-министр СССР Николай Рыжков:
«В 1986 году на мировом рынке произошло резкое снижение цен на нефть и газ, а в нашем экспорте традиционно был высокий вес энергоносителей. Что было делать? Самое логичное — изменить структуру экспорта. Увы, сделать это достаточно быстро могли лишь самые экономически развитые страны. Наши же промышленные товары были на мировом рынке неконкурентоспособны. Возьмем, например, машиностроение. Объем экспорта его продукции по сравнению с 86-м годом не изменился, но ведь шла она практически только в страны СЭВ (социалистического содружества. — Б. М.). “Капиталисты” брали едва ли 6 процентов от всего машиностроительного экспорта! Вот почему мы и вывозили в основном сырье».
Договорим за Рыжкова — валюты экспорт нашего машиностроения в казну не приносил. Валюту приносили нефть и газ, а когда цены упали (до 19,9 доллара за баррель), бюджет страны резко «поплыл».
Но дело в том, что именно от валюты зависело главное — сумеет ли руководство СССР накормить свой народ. Избежит ли страна угрозы продовольственного кризиса. А эта угроза становилась все более реальной. «К середине 1980-х годов каждая третья тонна хлебопродуктов производилась из импортного зерна. На зерновом импорте базировалось производство животноводческой продукции… Сочетание масштабных расходов на зерновой импорт, которые было невозможно сократить (даже в урожайные годы СССР закупал зерно, поскольку брал на себя долгосрочные обязательства перед странами-импортерами — США, Канадой, Аргентиной, Китаем. — Б. М.)… при неконкурентоспособности обрабатывающей промышленности и непредсказуемости цен на сырье, поставками которого можно оплачивать импорт продовольствия — стали к середине 1980-х годов ахиллесовой пятой советской экономики» (Егор Гайдар «Гибель империи»).
Когда Горбачев пришел к власти, эту ахиллесову пяту еще можно было залечить, но для этого требовались радикальные меры. Например, серьезное сокращение капиталовложений в, обрабатывающую промышленность и вывоз сырья (цветных металлов, например) непосредственно на мировой рынок. Такая стратегия, пишет Гайдар, могла бы сильно поколебать ситуацию на мировом рынке, вызвать кризис, снижение цен, но, тем не менее, это был шанс. Другой шанс: сокращение госзаказа ВПК, уменьшение количества танков, ракет и прочего вооружения, которое СССР по-прежнему производил в размерах, пригодных для страны, стоявшей на пороге войны, но не для страны, которая стояла на грани экономической катастрофы.
Ельцин увидел масштабы этой грозящей катастрофы гораздо раньше своих коллег по Политбюро.
…Бюджетный дефицит, который рос из года в год. Вот что говорил об этом на пленуме ЦК КПСС тот же Н. Рыжков: «Страна подошла к двенадцатой пятилетке с тяжелым финансовым наследием. Мы давно уже не сводим концы с концами, живем в долг. Нарастающая несбалансированность стала приобретать хронический характер и привела на грань фактического разлада финансово-кредитной системы».
Отсюда вытекала необходимость медленно, постепенно повышать цены на основные товары и продукты, чтобы избежать товарного голода, «вымывания» товаров из торгового оборота. Ни первого, ни второго, ни третьего вовремя сделано не было.
Не буду утомлять читателя цифрами, важно понять суть — чтобы выпутаться из зерновой и нефтяной ямы, из лап финансовой катастрофы, правительству Горбачева надлежало принять, по сути дела, одно очень непопулярное решение: МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ. И меньше печатать денег. Но пойти на такое решение в политическом смысле было подобно самоубийству.
«Сказать первым секретарям обкомов, министрам, что капитальные вложения в их регионы и отрасли будут сокращены, что технологическое оборудование, которое они предполагали импортировать, не будет закуплено — прямое нарушение правил игры. При попытке двинуться в этом направлении судьба нового советского руководства, возглавляемого М. Горбачевым, отличалась бы от судьбы Н. Хрущева лишь тем, что отставка произошла бы немедленно», — пишет Егор Гайдар в книге «Гибель империи».
Из материалов Госбанка СССР: «Объем незавершенного строительства на конец 1989 года составил 180,9 миллиарда рублей, в том числе сверхнормативный — 39 миллиардов рублей…» За этой сухой цифрой — страшная правда. В то время как в стране нарастал дефицит продовольственных товаров и товаров широкого спроса (правительство Горбачева сократило закупки из-за рубежа) — новые заводы продолжали строиться.
Горбачев боялся своей элиты. Боялся трогать сложившуюся до него экономическую систему. Вспоминает Андрей Грачев: «Выяснилось, что сами по себе ни девиз “ускорения”, ни обращенный к каждому призыв “прибавить в работе” не меняли сложившейся практики, а тем более общего устройства жизни. Целостной же концепции реформы у нового руководства не было. Внимание распылялось, одна инициатива следовала за другой, в ход по преимуществу шли старые заготовки того времени, когда Горбачев вместе с Рыжковым, перелопатив сотни справок экспертов и академических институтов, готовили так и не пригодившиеся ни Андропову, ни Черненко материалы по научно-техническому прогрессу и возможной экономической реформе».
В результате на поверхности общественного сознания осталась лишь самая неудачная из горбачевских новаций — антиалкогольная. Вырубались виноградники, заколачивались старинные винные подвалы, ограничивалась продажа водки, закрывались заводы, производящие алкоголь. Бюджет понес гигантские потери.
Заставить людей больше работать путем таких нововведений и призывов — было такой же утопией, как заставить партийный аппарат поверить в «перестройку и ускорение». И Горбачев пытается переместить акценты: если экономику реформировать не удается, будем реформировать политическую систему.
Январский пленум ЦК формулирует задачу: руководители всех рангов, в том числе и партийных комитетов, должны избираться прямым и тайным голосованием. Демократизация должна пронизать все формы общественной жизни.
«Не надо бояться хаоса, — повторял он иногда эту загадочную ленинскую формулу, — пишет о Горбачеве его пресс-секретарь Андрей Грачев. — Формула звучала оптимистично, авторитет Ленина тоже должен был помочь сохранять самообладание. Нюанс, тем не менее, был существенным: Владимир Ильич призывал не паниковать перед лицом общественного катаклизма, разразившегося в России в значительной степени помимо воли большевиков… Горбачев же со своим благим проектом раскрепощения общества… объективно способствовал развязыванию “хаоса”, контролировать и регулировать который он к тому же собирался исключительно демократическими методами».
И поскольку позитивная программа экономических реформ у Горбачева никак не рождается, он решает консолидировать общество по-другому:
Понимал ли Горбачев, какого джинна выпускает из бутылки, когда приказал стране, в которой власть руководителей ничем не ограничена, а о рыночной экономике еще даже не говорили вслух, стать демократической? Конечно, нет.
В его новой схеме роль таких «тяжелых уральских танков», как первый секретарь Москвы, попросту не предусмотрена. На примере Ельцина, его противостояния с московским аппаратом Горбачев убедился, что прямая борьба с партийной рутиной попросту нереальна. Она ни к чему не ведет. Больше того — вызывает изжогу.
Копит глухой протест. Копит раздражение. А это опасно.
И что самое главное — слишком далеко заходит товарищ Ельцин в этой борьбе с московской администрацией. Играет с огнем. Его борьба за «социальную справедливость» с моральной точки зрения, конечно, оправдана. Но с политической — может привести к непредсказуемым последствиям.
Оглядываясь сейчас, с высоты уже нового века, на эти московские дела середины 80-х, испытываешь грусть.
Борьба Ельцина «с привилегиями» — с этими черными «волгами», которые останавливала ГАИ на въезде в Москву, строго проверяя у водителей «путевки» (не везут ли часом жену или дочку с дачи!), борьба со «спецшколами» и «спецвузами», борьба за «честную торговлю», борьба против «тяжелого ручного труда на производстве» — кажется на фоне сегодняшнего социального расслоения исторически обреченной. Та
Но понять этот ельцинский пафос в полной мере может лишь тот, кто жил тогда, в те годы. Привилегии московской знати были, конечно, пустяками в сравнении с сегодняшним богатством, но тот мир партийных господ и их слуг был характерен своим особым, зловонным запахом лицемерия и фальши.
Та скрытая за высоким партийным забором роскошь раздражала людей больнее, чем нынешняя — пусть и открытая, бросающаяся в глаза. Она была отвратительна по другой причине — ее прятали за фасадом высоких слов о честности, принципиальности, классовом подходе и заботе о «трудовом народе». Это был толстый слой умолчания, молчаливого согласия всех со всеми, молчаливого признания непреложных фактов, о которых никто никогда не говорил. Именно против него — этого молчаливого согласия — в 1986 году выступил Ельцин со всей силой своего характера и партийных принципов, понятых слишком буквально.
Горбачев — гибкий, подвижный, адаптивный, живший в Москве как член Политбюро с 1978 года — успел понять и принять правила этой игры.
Ельцин не собирался их принимать с самого начала.
Был ли у него выбор? Другой вариант поведения? Конечно, да. Можно было играть с Горбачевым в «командную» игру, чутко улавливать импульсы, идущие от генерального, попытаться встроиться, вжиться в горбачевскую систему власти и уже потом, укрепив свои позиции, заниматься реформами Москвы, глубоким переустройством столичной жизни. Но что-то мешало ему следовать этой привычной тактике. Ельцин
Он начал искать личной встречи с Горбачевым примерно начиная с весны 1987 года.
А чего ее искать? — скажет любой смышленый читатель. — Они же регулярно встречались на Политбюро!
И будет прав. Тем не менее Ельцин все-таки искал возможность встретиться с Михаилом Сергеевичем отдельно и обстоятельно, скажем так, обсудить возникшие у него проблемы.
Почему Горбачев откладывал и несколько раз переносил эту встречу?
Возможно, он не ждал от этой встречи ничего хорошего. Понимал, что у Бориса Ельцина какая-то проблема в отношениях со вторым секретарем Лигачевым или что-то еще, неприятное, чреватое скандалом, трещиной, выяснением отношений, долгим, мучительным — и ему не хотелось в это влезать. Ждал, что, может быть, проблема рассосется как-то сама собой или жизнь развернет ее в другую сторону, разложит как-то иначе, и тогда уж вмешаться будет нужно, необходимо…
А может быть, Горбачев был просто сильно раздражен, недоволен поведением Ельцина — и потому откладывал, переносил. Не хотел, чтобы это глубоко
Словом, история тянулась до самого лета.
А после лета, 12 сентября, вернувшись из очередного отпуска, Ельцин послал Горбачеву письмо. Довольно длинное, предупреждаю заранее. Вот оно:
«Уважаемый Михаил Сергеевич!
Долго и непросто приходило решение написать это письмо. Прошел год и 9 месяцев после того, как Вы и Политбюро предложили, а я согласился возглавить Московскую партийную организацию. Мотивы согласия или отказа не имели, конечно, значения. Понимал, что будет невероятно трудно, что к имеющемуся опыту надо добавить многое, в том числе время в работе.
Все это меня не смущало. Я чувствовал вашу поддержку, как-то для себя даже неожиданно уверенно вошел в работу. Самоотверженно, принципиально, коллегиально и по-товарищески стал работать с новым составом бюро.
Прошли первые вехи. Сделано, конечно, очень мало. Но, думаю, главное (не перечисляя другое) — изменился дух, настроение большинства москвичей. Конечно, это влияние и в целом обстановки в стране. Но, как ни странно, неудовлетворенности у меня все больше и больше.
Стал замечать в действиях, словах некоторых руководителей высокого уровня то, что не замечал раньше. От человеческого отношения, поддержки, особенно от некоторых из состава Политбюро и секретарей ЦК, наметился переход к равнодушию к московским делам и холодному ко мне.
В общем, я всегда старался высказывать свою точку зрения, если даже она не совпадала с мнением других. В результате возникало все больше нежелательных ситуаций. А если сказать точнее — я оказался неподготовленным со всем своим стилем, прямотой, своей биографией работать в составе Политбюро.
Не могу не сказать и о некоторых достаточно принципиальных вопросах.
О стиле работы Лигачева Е. К. Мое мнение (да и других) — он (стиль), особенно сейчас, негоден (не хочу умалить его положительные качества). А стиль его работы переходит на стиль работы Секретариата ЦК. Не разобравшись, копируют его и некоторые секретари “периферийных” комитетов. Но главное — проигрывает партия в целом. “Расшифровать” все это — для партии будет нанесен вред (если высказать публично). Изменить что-то можете только лично Вы для интересов партии.
Партийные организации оказались в хвосте всех грандиозных событий. Здесь перестройки (кроме глобальной политики) практически нет. Отсюда целая цепочка. А результат — удивляемся, почему застревает она в первичных организациях.
Задумано и сформулировано по-революционному. А реализация, именно в партии — тот же прежний конъюнктурно-местнический, мелкий, бюрократический, внешне громкий подход. Вот где начало разрыва между словом революционным и делом в партии, далеким от политического подхода.
Обилие бумаг (считай каждый день помидоры, чай, вагоны… а сдвига существенного не будет), совещаний по мелким вопросам, придирок, выискивание негатива для материала. Вопросы для своего “авторитета”.
Я уже не говорю о каких-либо попытках критики снизу. Очень беспокоит, что так думают, но боятся сказать. Для партии, мне кажется, это самое опасное. В целом у Егора Кузьмича, по-моему, нет системы и культуры в работе. Постоянные его ссылки на “томский опыт” уже неудобно слушать.
В отношении меня после июньского Пленума ЦК и с учетом Политбюро 10/IX нападки с его стороны я не могу назвать иначе, как скоординированная травля. Решение исполкома по демонстрациям — это городской вопрос, и решался он правильно. Мне непонятна роль созданной комиссии, и прошу Вас поправить создавшуюся ситуацию. Получается, что он в партии не настраивает, а расстраивает партийный механизм. Мне не хочется говорить о его отношении к московским делам. Поражает — как можно за два года просто хоть раз не поинтересоваться, как идут дела у 1150 парторганизаций. Партийные комитеты теряют самостоятельность (а уже дали ее колхозам и предприятиям).
Я всегда был за требовательность, строгий спрос, но не за страх, с которым работают сейчас многие партийные комитеты и их первые секретари. Между аппаратом ЦК и партийными комитетами (считаю, по вине т. Лигачева Е. К.) нет одновременно принципиальности и по-партийному товарищеской обстановки, в которой рождаются творчество и уверенность, да и самоотверженность в работе. Вот где, по-моему, проявляется партийный “механизм торможения”. Надо значительно сокращать аппарат (тоже до 50 %) и решительно менять структуру аппарата. Небольшой пусть опыт, но доказывает это в московских райкомах.
Угнетает меня лично позиция некоторых товарищей из состава Политбюро ЦК. Они умные, поэтому быстро и “перестроились”. Но неужели им можно до конца верить? Они удобны и, прошу извинить, Михаил Сергеевич, но мне кажется, они становятся удобны и Вам. Чувствую, что нередко появляется желание отмолчаться тогда, когда с чем-то не согласен, так как некоторые начинают “играть” в согласие.
Я неудобен и понимаю это. Понимаю, что непросто и решить со мной вопрос. Но лучше сейчас признаться в ошибке. Дальше, при сегодняшней кадровой ситуации, число вопросов, связанных со мной, будет возрастать и мешать Вам в работе. Этого я от души не хотел бы.
Не хотел бы и потому, что, несмотря на Ваши невероятные усилия, борьба за стабильность приведет к застою, к той обстановке (скорее подобной), которая уже была. А это недопустимо. Вот некоторые причины и мотивы, побудившие меня обратиться к Вам с просьбой. Это не слабость и не трусость.
С уважением, Б. Ельцин».
…Читать этот документ — сегодня намного более сложная задача, чем в 1990 году, когда он впервые был обнародован в книге Б. Н. Ельцина «Исповедь на заданную тему». Ну а для читателя моложе тридцати лет (а ведь таких будет становиться все больше!) этот текст и вовсе полон загадок, неясностей.
Почему автор письма так горячо беспокоится за судьбу неких «партийных комитетов» и «партийных организаций» — это одно и то же или все-таки разные вещи? Что такое «негатив для материала» и почему автор письма так его не любит? Что за комиссию создали без его ведома? Кто заставляет автора письма каждый день считать помидоры, вагоны, чай и другие, столь несхожие вещи?
Ну и главное: противоречия смысловые. Чего хочет автор письма — чтобы уволили его самого или наказали Лигачева? Он пытается предостеречь генерального секретаря от грядущих опасностей или высказать ему в лицо горькую правду о нем самом? В чем, так сказать, цель?
Я уж не говорю о таких темных оборотах его речи, как «небольшой пусть опыт, но доказывает это» или «мотивы согласия или отказа не имели, конечно, значения».
Наверное, вот так же современный читатель строчка за строчкой разгадывает откровения Мартина Лютера или Даниила Заточника. Страстный монолог кандидата в члены Политбюро точно также несводим к конкретным понятиям, давно утратившим свое значение, как и произведения «раскольников», реформаторов из далекого прошлого. Потому что ими движет нравственное чувство — так же как Ельциным. И это чувство проникает сквозь всю партийную схоластику его языка.
Тем не менее можно сказать, что именно с этого письма началась современная история России. Его можно считать первым документом нашей революции. Революция не выбирает себе вождей, первоисточников и документов. Она рождается спонтанно и вдруг. Наша — родилась из этого письма.
Между тем конкретный смысл послания исключительно прост. Ельцин хотел работать в Москве точно так же, как работал в Свердловске — то есть по открытым, понятным ему правилам игры. С «развязанными руками», независимо от политических игр в Кремле. Принимая всю ответственность на себя. В каком-то смысле это была утопия. Но сам он верил в реальность этой утопии.
Словом, задуматься было над чем. И Горбачев задумался. Посмотрим, что было дальше.
«Горбачев впоследствии скажет, — пишет американский биограф Ельцина Леон Арон, — что решил не спешить, а тщательно обдумать этот вопрос. О послании Ельцина он не сказал никому. По возвращении из отпуска позвонил Ельцину и предложил поговорить позже. По словам Горбачева, “позже” означало после очередного Пленума и празднования годовщины Октябрьской революции…»
Кстати, неверно, что «Горбачев не сказал никому» о письме Ельцина. Анатолий Черняев, помощник Горбачева, вспоминает:
«В отпуске, на даче в Крыму… захожу я в урочный час в кабинет к Горбачеву. Он что-то возбужденно говорит в трубку. Когда я вошел, разговор уже заканчивался. Сел, он мне протягивает листки: “Вот, почитай”. — “Что это?” — “Почитай, почитай”. Это было письмо Ельцина, в котором тот говорил, что больше “так” не может работать. Он, мол, выкладывается, не жалея себя, а ему вместо того, чтобы помочь, мешают. И мешает, ставит палки в колеса сам Секретариат ЦК, Лигачев лично. Просит об отставке.
“Что с этим делать?” — спрашивает М. С.
Я вспомнил, как Горбачев не раз — и на Политбюро, и по другим случаям — хвалил Ельцина, говорил о том, что ему достался “сложный и запущенный” объект — Москва, развращенная Гришиным и Промысловым… Через день-два я оказался вновь при их “пятиминутном” разговоре по телефону. Горбачев делал комплименты, упрашивал, уговаривал: “Подожди, Борис, не горячись, разберемся. Дело идет к 70-летию Октября. Москва здесь заглавная. Надо хорошо подготовиться и достойно провести. Предстоит сказать и сделать важные вещи в связи с этим юбилеем. Работай, давай как следует проведем это мероприятие. Потом разберемся. Я прошу тебя не поднимать этого вопроса (об отставке)”. Положив трубку, М. С. сказал мне: “Уломал-таки, договорились, что до праздников он не будет нервничать, гоношиться”».
«Ельцин утверждал, что понял его слова иначе. “Позже”, думал он, означало дня два, три, максимум неделю: все-таки не каждый день члены Политбюро уходят в отставку. Но прошла неделя, потом другая. Горбачев молчал» (Леон Арон).
На пленуме ЦК КПСС, который состоялся 21 октября 1987 года, Горбачев прочел доклад, посвященный семидесятилетию Октябрьской революции.
Это был единственный пункт повестки дня.
Ельцин поднял руку.
«
Почему Горбачев так явно настаивал на том, чтобы Ельцину предоставили слово (Лигачев явно не хотел этого)? Он мог отмолчаться, мог сам попросить Ельцина перенести его выступление за пределы пленума.
Он — настоял.
Я думаю, причина была простой. Горбачев вдруг понял, что этот вопрос все равно рано или поздно придется решать. Что его тактика оттягивания, замалчивания, ухода от ситуации — ни к чему не привела. Ельцин не услышал поданного ему сигнала утихомириться и подождать. И его административный бунт все равно был неизбежен. Что ж, в этом случае Горбачев решил предоставить ему такую возможность. Хочет — пусть выскажется. Перестройка так перестройка. Гласность так гласность.
Хочет бросить мяч — пусть бросает. Нарывается — получит.
Долгие месяцы копившееся раздражение на человека, который создал неудобную, запутанную, тяжелую, ненужную ему ситуацию в Политбюро, прорвалось в самый неожиданный момент. Горбачев
Думаю, что на него крайне неприятное впечатление произвела глухая угроза, прозвучавшая в самом конце ельцинского письма: «Надеюсь, у меня не будет необходимости обращаться непосредственно к Пленуму ЦК КПСС». Это был вызов.
Горбачев был потрясен и оскорблен намерением Ельцина решать свои мучительные вопросы поверх его головы. В тот момент, когда Ельцин поднял руку, он решил больше не жалеть, не сохранять этого странного человека, не ограждать его, а нанести ответный удар.
Анализ письма, его горячечного стиля, ясно показывал опытному человеку — «это действительно запутавшийся одиночка». И пленум его никогда не поддержит.
Итак, Ельцин.
«…Уроки за 70 лет тяжелые, тяжелые поражения. Власть в Политбюро, как и вообще в партийных комитетах, была в одних руках. И один человек был огражден от всякой критики. У нас нет сейчас в Политбюро такой обстановки, но наблюдается рост славословия со стороны некоторых членов Политбюро в адрес генсека. Сейчас, когда закладываются демократические формы товарищества, это недопустимо. Увлекаемся в эту сторону».
Предоставляя слово Ельцину, Горбачев еще, возможно, надеется — обстановка пленума его образумит. Личное письмо — это одно, пленум — совсем другое. Сияющие люстры Кремля, президиум, уважаемые люди, строгость и некоторая, я бы сказал, пафосность происходящего должны были повлиять на Ельцина. Должны были помочь ему облечь свою критику в более или менее удобоваримую форму, чуть сгладить, скруглить, сделать ее цивилизованнее — один джентльмен, пусть горячий, страстный, но все-таки джентльмен, решил высказать претензии другому — ну что ж, с кем не бывает. Пожурим обоих, дадим поручение, организуем комиссию, в конце концов! Выход-то всегда можно найти.
Вместо этого Ельцин нанес пощечину самому Горбачеву.
Не ослабил, а усилил градус своей крамолы.
Как будто это его заявление было последним.
Последним в жизни.
Горбачев открыл прения.
С критикой и осуждением Ельцина выступили 25 человек. Среди них — Эдуард Шеварднадзе, Александр Яковлев (главные демократы в Политбюро!), его свердловский товарищ Колбин, глава правительства Рыжков (тоже свердловчанин), председатель Моссовета Сайкин (пытался защитить, но очень слабо), председатель КГБ Чебриков, председатель Верховного Совета Громыко, академик Арбатов, его бывший шеф и покровитель в Свердловске Рябов, и список выступающих был бы еще длиннее, если бы Горбачев дал им волю!
«
Это — обсуждение. А вот что сказал Горбачев:
«Товарищ Ельцин считает, что дальше он не может работать в составе Политбюро, хотя, по его мнению, вопрос о работе первым секретарем горкома партии решит уже не ЦК, а городской комитет. Что-то у нас тут получается новое. Может, речь идет об отделении Московской парторганизации?»
Глубоко оскорблен был Горбачев и обвинением в создании нового культа личности: «Борис Николаевич, ведь известно всем, что такое культ. Это же система. Система власти. Ты смешал божий дар с яичницей. Тебе что, политграмоту читать?»
Ельцин ответил: «Сейчас уже не надо».
«
С какими целями здесь такие выступления? Дискредитировать Лигачева? Он же весь на виду. Да, идут всякие разговоры, радио заполнено слухами. Вон Арбатов рассказывает, как на Западе стараются столкнуть Горбачева с Лигачевым, а столкновение Лигачева с Рыжковым держат в резерве и т. д.
Нелегко работать в Политбюро и мне. Политбюро должно быть коллективным политическим органом, заниматься принципиальными вопросами. А ты опять лапшу вешаешь на уши.
Ничего в твоем выступлении нет конструктивного. И это в то время, когда нужны конструктивные идеи, когда всем надо напрягать силы. Просто ты выдал себя здесь. Я вот что хотел сказать еще: отчего это происходит? Теоретически и политически слабым оказался человек на таком посту, и понятно, что ему трудно. Мог бы сладить, если бы захотел. Но что сейчас говорить! Я лично в трудном положении.
Завершить хотел бы так: сгоряча не решать. Вношу такие предложения:
1. Пленум признает выступление Ельцина политически ошибочным.
2. Поручить Политбюро и МГК рассмотреть вопрос о заявлении Ельцина об освобождении его от обязанностей первого секретаря МГК КПСС с учетом обмена мнениями, состоявшегося на Пленуме ЦК».
Горбачев говорил еще долго.
Но Ельцину уже все равно. Он уже перешел черту, стал отступником.
Судьба его была решена.
Не скрою, я всегда любил именно этот момент его биографии.
Не 1991 год, не страшный штурм Белого дома в 1993-м, не решение идти на выборы в 1996-м, не драматичная история с операцией на сердце, не бесконечные выигранные им плебисциты, референдумы, вотумы недоверия, голосования, не его отставка… Нет, все это уже другой Ельцин — человек, который творит историю и знает об этом. Знает, что он будет это делать, несмотря ни на что. Несмотря в первую очередь на свои собственные слабости и ошибки.
Здесь еще другой Ельцин.
Его одолевают сомнения. Его охватывает ощущение катастрофы. У него колотится сердце, и чудовищный стресс вскоре бросает его на больничную койку.
Это — интуитивное, невероятное решение. И оттого в нем, представлявшемся тогда, 21 октября 1987 года, таким безумным и бессмысленным, оказалось так много смысла.
Летом 1987 года, перед тем как написать письмо Горбачеву с просьбой об отставке (или уже написав его), Борис Николаевич собрал свою семью — Лену, Таню и Наину Иосифовну, чтобы серьезно поговорить.
«Он вызывал нас по одной в свой кабинет, чтобы задать один и тот же вопрос, — вспоминает Таня. — В нашей жизни могут произойти большие изменения, сказал он, я могу лишиться своего поста, лишиться всего, квартиры, дачи, нам придется, возможно, уехать из Москвы, вы готовы к этому? Я сказала: конечно, готовы, папочка. Мы всегда за тебя, ничего, как-нибудь проживем. Но у меня сложилось четкое ощущение, что папа почему-то считал: уйдя из Политбюро, он может остаться первым секретарем Москвы. Какая-то надежда на это у него все-таки сохранялась».
Во время разговора с Наиной Иосифовной речь, конечно, тоже зашла о будущем.
«Ну уж начальником треста меня куда-нибудь возьмут», — сказал он. Я спросила: и где, в Свердловске? Он подумал и ответил: ну, а почему бы и нет? Но ты же понимаешь, сказала я, что в Свердловске тоже есть первый секретарь обкома партии. Он будет выполнять решения ЦК, никто тебе там не даст спокойно работать. Ну что ж, уедем куда-нибудь на Север, сказал Борис Николаевич. Слушай, вдруг возмутилась я, а почему ты обязательно должен думать об этом? Как нас прокормить? В конце концов, у нас взрослые дети, они нас как-нибудь обеспечат. Да и вообще, Боря, я буду мыть полы, работать уборщицей, но сыты мы будем, обещаю. Не думай об этом. «Ага, — сказал он торжествующе, — это я тебя проверял! Я ЖДАЛ, что ты скажешь…»
После пленума были тяжелые дни. После 21 октября еще почти три недели он, как робот, как живой труп, ходит на работу, выполняет обязанности, читает торжественные речи, посвященные юбилею Великого Октября — уже зная, что судьба его решена. Для него это пытка.
Возможно, эта пытка и добила его окончательно.
Ельцин чувствовал, как вокруг него образуется пустота. Поднявшись 7 ноября на трибуну мавзолея вместе со всеми советскими руководителями, он ощутил эту пустоту физически, — ему пожали руки два человека: руководитель Польши Войцех Ярузельский и кубинец Фидель Кастро. Все остальные сделали вид, что не заметили его появления.
Он стоял с непокрытой головой и смотрел на колонны демонстрантов. Они кричали «ура».
«9 ноября, — рассказывает Наина Иосифовна, — он приехал в горком партии, и у него был сердечный приступ. Именно сердечный приступ, ничто другое. Он оказался в отделении реанимации кремлевской больницы на Мичуринском проспекте. Я приходила туда в семь утра, а уходила поздно ночью, иногда ночевала прямо там, рядом с ним. Сразу обратила внимание, что его накачивают расслабляющими препаратами, которые очень плохо на него действуют: седуксеном, валиумом. Он не мог даже говорить, с трудом вставал с постели. Врачи внушали мне, что это необходимо. Но меня все больше охватывала тревога. Через два дня ему вдруг вкололи, наоборот, стимулирующее средство, кажется, ноотропил, он как-то сразу смог говорить. Раздался звонок Горбачева по ВЧ-связи. Я села рядом и все слышала. Горбачев сказал, что ему нужно “подъехать” на пленум горкома партии. “Михаил Сергеевич, — сказал Борис, с трудом выговаривая слова. — Я даже до туалета с трудом дойти могу”. Горбачев ответил сухо: ничего, врачи помогут. Я почти закричала: только через мой труп! Это невозможно! Борис сказал, что, если он не поедет, может быть разгром всей парторганизации. Что будет новое “ленинградское дело”, как в 50-х, когда всех посадили и расстреляли. Он почему-то был уверен, что бюро горкома будет его защищать, и единственный выход, чтобы спасти коллег — взять всю ответственность на себя. Но я продолжала сопротивляться».
И тут в дело вмешались врачи. Его подняли с постели и помогли переодеться. Ельцина шатало. В отчаянии Н. И. крикнула: «Где же ваша клятва Гиппократа?!» — «У меня свои Гиппократы», — сурово ответил ей кремлевский врач. Другой врач (когда Наина Иосифовна срочно привезла в больницу костюм) сказал ей: не беспокойтесь, ему сделают уколы, действия которых хватит примерно на час. Однако пленум горкома продолжался несколько часов. В больницу Ельцин вернулся в тяжелейшем состоянии.
Вообще эта традиция коллективного затаптывания, словесное битье розгами и пропускание «через строй», восходит к очень старым советским традициям, к партсобраниям 20—30-х годов, к открытым процессам, к морали сталинского государства.
Гениальный поэт Пастернак после такой публичной порки в Союзе писателей — умер.
Когда в тебя бросают камни люди, с которыми ты еще недавно здоровался за руку и шутил, — это особое состояние (единственный, кто после пленума молча пожал ему руку, был член ЦК Виктор Черномырдин).
Величественные партийные деятели, осудившие его на пленуме, были Ельцину еще под силу. Хотя умом он понимал, что тон их выступлениям задал Горбачев, что это — большая и сложная политическая игра, куда он по неосторожности «вляпался». Но в горкоме его ждала другая степень публичного остракизма.
Вот там он по-настоящему узнает, что такое спущенная с цепи свора.
Несколько часов подряд московские партийцы будут распинать его за всё. За грубость, за «кадровую политику» (слишком многих уволил), за популизм и высокомерие. Его сознание почти померкнет в шуме этих голосов — злобных, хлестких, как удар плетью.
Совершенно опустошенный, не понимающий, что говорит, Ельцин произносит сбивчивую и путаную покаянную речь. Именно этого и добивался Горбачев. Именно поэтому Ельцина накачивали сильнодействующими препаратами. Список выступающих на пленуме горкома подготовлен заранее. Горбачев выступил с еще одной речью, гораздо более мягкой и округлой. Обозначил задачи на будущее. Пожалел, что так получилось. Поставил вопросы принципиально и по-товарищески.
После того как голосование завершилось, люди начали выходить из зала. Ельцин остался сидеть на сцене, в президиуме. Он обхватил голову руками. Не мог встать.
Там, за кулисами, его снова ждали врачи.
Ельцина увезли в ту же больницу на Мичуринском проспекте. Наина Иосифовна вспоминает: «Когда его привезли с пленума горкома, я кричала, что так поступали только фашисты в концлагерях, что это даже хуже, что Горбачев палач. Не знаю, передал ли начальник охраны ему эти слова…»
«Лечение» продолжалось.
Он по-прежнему находился в полубессознательном состоянии под действием лекарств.
«Однажды собрался консилиум, и, как это у них было принято, за чашечкой кофе, в непринужденной обстановке, начали обсуждать вопрос о его состоянии здоровья. В этот момент позвонил Горбачев, Борис Николаевич разговаривал с большим трудом, но как я поняла, разговор шел о пенсии, — рассказывает Наина Иосифовна. — Я вмешалась после этого в разговор врачей и сказала, что говорить с ним о пенсии будет можно только тогда, когда он будет в адекватном, вменяемом состоянии. Можете отправить его в обычную городскую больницу, если не хотите им заниматься, но разговаривать с ним о пенсии сейчас невозможно. Через несколько дней позвонил Горбачев и сказал: “Борис, ты будешь работать в Госстрое, заместителем в ранге министра”. Помню, как ко мне в коридоре подошел врач-реаниматолог и тихо сказал: если вы хотите, чтобы он не стал инвалидом и вообще вышел отсюда живым, забирайте его отсюда скорее. Из этой реанимации. Я была смертельно напугана. И мы увезли его оттуда под подписку, что всю ответственность за его здоровье берем на себя.
…Мы забрали его и положили в санаторий, в Барвихе. Там он быстро пошел на поправку.
Выпал снег, и мы даже привезли ему туда лыжи».
Он не умер. Он не стал инвалидом. Он дышал, он ходил.
Он сделал свой первый шаг на новой лыжне…
9 ноября 1987 года, за два дня до пленума Московского городского комитета КПСС, Михаилу Сергеевичу Горбачеву доложили, что Борис Ельцин, бывший первый секретарь Московского горкома КПСС и бывший кандидат в члены Политбюро, совершил попытку самоубийства.
«9 ноября Ельцина, — пишет об этом его американский биограф Т. Колтон, — нашли в комнате для отдыха… в крови и тут же отвезли на “скорой” в кремлевскую больницу. Он поранил левую сторону грудной клетки… ножницами. Выбранный инструмент и поверхность ран показывают, что это было отчаяние чистой воды или крик о помощи, но не попытка самоубийства. Ельцин никогда не говорил о своей госпитализации откровенно, объясняя только, что у него был “срыв” и сильные боли в голове и груди…»
«Помню, сразу после Пленума, все эти дни у него жутко болело сердце. Когда я его видела вечером, он все время держался за левую сторону груди. Вообще, очень тяжело переживал, ведь он в один миг стал изгоем. Как папа на самом деле поранился ножницами, трудно сказать, но я уверена, что это был нервный срыв, а не попытка самоубийства. Если бы он хотел покончить с жизнью, он использовал бы пистолет. Ни тогда, ни позже мы с ним на эту тему не говорили. Слишком тяжелой она для него была», — вспоминает дочь Ельцина Татьяна.
Да, потом ни в одной своей книге, ни в одном интервью, ни в одной беседе Ельцин никогда не говорил об этом случае. Сам Горбачев впервые написал об этом в мемуарах 15 лет спустя.
Конечно, глубже зная Ельцина, Горбачев никогда бы не поверил этим слухам. Действительно, если бы Б. Н. решился на такое, в ход пошли бы скорее всего не ножницы. Тем не менее Горбачев поверил. Вернее, он просто не понял, что произошло.
Вообще за эти дни — с 21 октября, когда он выступил на пленуме ЦК, по 11 ноября, когда Ельцина в полубессознательном состоянии привезли на пленум Московского горкома, произошло немало событий.
Например, разговор помощника Горбачева Анатолия Черняева со своим шефом. Черняев написал письмо Горбачеву: о том, что Ельцина надо простить. Сейчас другая эпоха, и такие вопросы надо решить по-другому.
Через несколько дней, 3–4 ноября, на прием к Горбачеву начал проситься председатель исполкома Моссовета Сайкин, член бюро Московского горкома КПСС. «От имени и по поручению» членов бюро Сайкин хотел предложить Горбачеву компромисс: Ельцина, безусловно, удалить из кандидатов в члены Политбюро, но оставить его во главе Московской партийной организации.
Горбачев был крайне разозлен этой инициативой. Москвичи упорно продолжали настаивать на своем, несмотря на решение пленума ЦК. Это было неслыханно. Нужно было дать своевременный отпор. Пленум Московского горкома он решил собрать немедленно.
Еще один тревожный сигнал — демонстрации в Москве и Свердловске. В Москве несколько сот студентов и аспирантов МГУ собрались на площади перед главным корпусом и затем составили петицию в защиту Ельцина, которая попала в ректорат. Да, виновные наказаны. Но исключать из МГУ никого не следует, — распорядился Горбачев. Еще не хватало привлечь к этому делу внимание. В Свердловске несколько сот человек также собрались перед горкомом партии. Представитель горкома партии принял их обращение на имя членов Политбюро. Собравшиеся, после нескольких часов стояния под дождем, разошлись по домам.
Факты, увы, были неприятные. Единственное, что странным образом кольнуло Горбачева, — внезапное чувство удивления. Он не ждал, например, что каким-то студентам будет все это интересно. Кто-то явно их подстрекал. Но кто?
По всей стране проводились торжественные собрания, партконференции, посвященные семидесятилетию Великого Октября. Прошло торжественное собрание и в Москве. 6 ноября в Большом театре первый секретарь МГК КПСС читал с трибуны доклад перед московским «партактивом».
Голос Ельцина звучал глухо. Уже много ночей он провел без сна. У его постели постоянно сидела Наина Иосифовна, пыталась отпаивать его травами, заставляла пить снотворное, которое он не любил (после него весь день голова тяжелая), уговаривала успокоиться.
…Горбачев сидел напряженный, под торжественным сиянием знаменитой люстры. Все полтора часа, которые продолжался доклад, он, видимо, снова и снова прокручивал в уме нюансы и детали октябрьского пленума. Ведь он спросил его: как, сможешь работать после всего этого? И Ельцин не принял поданной ему руки! Публично, с трибуны подтвердил свой отказ работать в Политбюро! На что он рассчитывал? На то, что его поддержит Московская организация? Вот они, товарищи москвичи, сидят в зале, подсчитывают в уме «за» и «против». Посмотрим, как она его поддержит. Посмотрим…
Итак, еще лежа в больнице, Ельцин получил предложение стать первым заместителем председателя Госстроя СССР.
Если бы ему предложили уехать послом в какую-то страну (такой вариант Горбачев тоже обсуждал со своими помощниками) или что-то еще другое, обидное, унизительное в качестве работы, — он бы, наверное, все-таки уехал в Свердловск. Возможно, именно этого и не хотел Горбачев — продолжения эксцессов, демонстраций, народных волнений. Возвращение Ельцина в Свердловск, по мнению генерального секретаря, было бы политически опасным, скользким шагом.
Ельцин приехал в Госстрой еще в ранге кандидата в члены Политбюро.
«В приемную, — как писал позднее его помощник Лев Суханов, в то время работавший помощником председателя Госстроя, — сначала вошли телохранители, за ними — Ельцин. Подтянутый, в элегантном темно-синем костюме, белоснежной сорочке и стильно подобранном галстуке».
Ельцин старался «держать марку». Однако всем было очевидно, что он еще не отошел от болезни.
В комнате, примыкающей к кабинету, врачи из 4-го управления заставили повесить аптечку с обширным набором лекарств. Оборудовали сигнализацией его рабочий стол и стол заседаний. В комнате отдыха поставили диванчик.
Врачи не разрешали работать больше четырех часов в день. Ему, который привык начинать рабочий день в семь или восемь, а заканчивать порой в полночь! Он привык спать всего четыре часа — и ему этого хватало! Теперь же он приезжал в Госстрой, в новое массивное здание на Большой Дмитровке (там теперь находится Совет Федерации), садился за стол и… «Часто в ночные часы, — напишет Ельцин позднее в «Записках президента», — я вспоминаю эти тяжелые, быть может, самые тяжелые дни в моей жизни… Немногие знают, какая это пытка — сидеть в мертвой тишине кабинета, в полном вакууме, сидеть и подсознательно чего-то ждать… Например, того, что этот телефон зазвонит. Или не зазвонит».
В феврале его вывели на пленуме ЦК из состава Политбюро.
Он и это решение ЦК, хотя и совершенно формальное, пережил довольно тяжело, снова ухудшилось его состояние, снова врачи, уколы, лекарства…
Пытаюсь понять: неужели он ждал чего-то другого? Чего? Что кто-то из членов Политбюро поддержит его? Поговорит с ним? Что-то объяснит? Звонка Горбачева? Попытки примирения с его стороны?
Как реальный политик, партийный аппаратчик с огромным опытом работы, он этого ждать, конечно, не мог. Послестрессовое состояние, бесконечное перемалывание в голове одних и тех же фраз, фрагментов своего выступления — это понятно. Но тут что-то другое: он ждал, именно ждал, он прямо пишет об этом.
Мне кажется, его мучила, как ни странно это прозвучит, незавершенность того проекта, который он начал в Москве.
Искренняя вера в то (которая, кстати, двигала им и на октябрьском пленуме, и раньше, на заседаниях Политбюро), что москвичи будут за него, что они поддержат, вытащат его из этого кризиса, из этой ямы, — по-прежнему в нем существовала.
Горбачев сказал ему буквально следующее, когда предлагал этот пост в Госстрое: «Учти, в политику я тебя больше не пущу».
По всем прежним советским меркам, наказание для бывшего кандидата в члены Политбюро было очень мягким. Он остался министром, членом ЦК КПСС. Отсюда и этот тон Горбачева — мол, мы даем тебе приличную работу, оставляем в ЦК, но не думай, что все сошло с рук.
Однако эта двойственность принятого решения (попытка генерального смягчить жесткость публичной порки административными «цацками») отнюдь не успокоила Ельцина. Думаю, он все равно бы вернулся в политику — из любого города и из любой страны, в которую могли бы его отправить послом[5].
Но в данном случае, оставаясь в Москве, он оказался в эпицентре того мощного, глубокого, «подземного» резонанса, который вызвала его неожиданная отставка. Однако почувствовал он этот резонанс далеко не сразу.
Ельцин сделал не одну попытку стать в Госстрое «своим». Вот что пишет Лев Суханов о его первых месяцах работы:
«Почти весь 1988 год Ельцин находился под психологическим стрессом, что, однако, не мешало ему заниматься текущими делами. Пройти “через Ельцина” какому-нибудь захудалому проекту было так же трудно, как вспять повернуть северные реки. А, между прочим, этот сумасшедший проект уже обсуждался в Госстрое, как и строительство промышленных предприятий на Байкале… Ельцин был категорически против этих проектов, писал докладные, звонил знакомым министрам, связывался с самим Рыжковым. Тот, к его чести, всегда выслушивал Бориса Николаевича и обещал помочь».
И еще одна интересная деталь его нового места службы:
«Если перечислить все вопросы, которые за день должен был решать первый зампред (то есть Ельцин. — Б. М.), пришлось бы посвятить этому целый фолиант. Правда, много времени сгорало впустую. Одни только заседания в кабинете Баталина (председателя Госстроя, которого Ельцин хорошо знал еще по Свердловску. — Б. М.) чего стоили… Это были не коллегии, а нечто, напоминавшее театр одного актера, продолжающийся по четыре и более часов. Выдерживать это Борису Николаевичу было непросто. И действительно, после каждого такого заседания Ельцин возвращался к себе с жуткой головной болью. К тому же, стало известно, что Баталин получил сверху команду — собирать на Ельцина компромат…»
Кстати, его новый помощник в Госстрое, Лев Евгеньевич Суханов, остался с Ельциным надолго, работал в его команде. Так вот, Суханов, вероятно, был одним из первых, кто сообщил шефу о том, что его абсолютно закрытая, «засекреченная» речь на октябрьском пленуме продается около метро в отксерокопированном виде.
— Как это «продается»? — обомлел Ельцин. — Ну-ка, принесите.
Оказалось, что эта «речь» Ельцина, которую люди передают друг другу как самиздат, а некоторые предприимчивые товарищи даже продают у метро, не имеет ничего общего с тем, что он действительно говорил на пленуме. Больше того, позднее выяснилось, что по рукам ходит около восьми (!) вариантов таких вот «речей» Ельцина. Это был своеобразный литературный памятник, новая мифология. Но Ельцину было не до филологических изысков. Он прекрасно понимал, что такие же его «речи», размноженные в сотнях и тысячах экземпляров, сейчас гуляют по стране и попадают в том числе на столы советских руководителей и в КГБ.
Вот что, в частности, «говорил» Ельцин в этих многочисленных подделках:
«Войска нужно вывести из Афганистана. Думаю, именно над этим вопросом товарищу Шеварднадзе нужно как следует подумать. Сейчас он занимается другими делами, менее неотложными, и месяцами находится за границей. Вынужден просить Политбюро оградить меня от мелочной опеки Раисы Максимовны, от ее почти ежедневных телефонных звонков и нотаций».
Или вот еще из псевдо-Ельцина:
«Да, товарищи, мне нелегко объяснять рабочему, почему на семидесятом году своей рабоче-крестьянской власти он вынужден стоять в очереди за колбасой, в которой больше крахмала, чем мяса, в то время как у нас с вами на столах — осетрина, икра и прочие деликатесы, которые мы без всякого труда получаем из таких заведений, к которым его и близко не подпустят…»
Разумеется, Б. Н. испытывал разноречивые чувства, читая эти литые, как стихи революционных поэтов, пассажи от лица народного героя и заступника, товарища Ельцина.
Через «наивный лубок» прорывался весь тот социальный гнев, который накопился в народе за эти годы.
…Однако помимо этих интересных образчиков «народного» творчества были и другие: письма. Письма людей, которые выражали Ельцину поддержку, сочувствие, восхищение, восторг, любовь, все что угодно. Их были сотни. Наина Иосифовна складывала их в большую коробку. Сама читала, а Б. Н. пересказывала самое интересное.
Письма приходили и на адрес Госстроя. Почта не успела «опомниться», вовремя остановить второй поток на этот раз действительно народного мифотворчества. Затем писем стало меньше, их явно начали направлять уже в другие организации. В Свердловске, на почтовых ящиках в подъездах даже появились, например, такие объявления: «Письма в Госстрой на имя товарища Ельцина не будут приниматься к отправке».
Приходили к Ельцину посетители и лично. Например, Илья Иванович Малашенко, юрист, подполковник в отставке, пришел в Госстрой и пожелал видеть Бориса Николаевича, чтобы «просто пожать ему руку». Суханов немедленно ввел его в кабинет — для Ельцина это было лучшее лекарство.
Далеко не всегда это были обиженные, уязвленные люди, вовсе не обязательно они его о чем-то просили (да и чем, собственно, он мог им теперь помочь в своем положении?). И все же бросалась в глаза накопившаяся в людях потребность — что-то сказать, крикнуть властям в лицо какую-то свою правду, высказаться во весь голос о бедах, неурядицах, нехватках, которые их мучили. Вскоре подобные письма станут публиковаться во всех газетах и журналах. Но уже сейчас, примерно за год до этого, Ельцин понял — каким мощным катализатором народного недовольства стали его речь на октябрьском пленуме и его последующая отставка.
«Сам факт того, что Ельцин может каждый день ездить на работу, ходить по улицам, разговаривать с людьми, был впечатляющим символом новой терпимости…» (Леон Арон). Он ходил по городу, посещал театры, просто гулял, и с ним здоровались, его узнавали, ему улыбались и снова говорили что-то теплое, поддерживающее. И во время первомайской демонстрации люди подошли к Ельцину, пожимали руки, благодарили.
Все эти детали складывались в единую картину: несмотря на полное отторжение Ельцина в коридорах власти — не было даже и речи о его исчезновении, как публичной фигуры. Даже после смерти Сталина опальные руководители подвергались куда более жесткому наказанию: ссылка Маленкова, домашний арест Хрущева, полное исчезновение из публичной жизни Шелепина и т. д. (при Сталине их просто расстреливали).
Для того чтобы так же поступить с Ельциным, чтобы его имя навсегда исчезло со страниц прессы, из общественного сознания, от Горбачева потребовалась бы такая же жесткость. Но это шло бы вразрез с его собственными постулатами и даже собственным характером, а главное — само время, изменившееся время, не позволяло генсеку довести публичную казнь до конца, хотя он, возможно, и собирался это сделать еще в первую декаду ноября 1987-го.
— Вы не боялись, что вслед за отставкой последует и что-то другое, худшее? — спрашиваю я у дочери Ельцина Татьяны.
— Честно говоря, нет. Мы понимали, что наступили новые времена, что никаких особенных репрессий быть не может.
Худшее, что могло быть — его отправили бы назад, в Свердловск. Просто было страшно за него, за его состояние.
Вопрос к Наине Иосифовне:
— После всего, что случилось, как вы относились к его попытке реабилитации, к возвращению в политику? У вас не было опасений, что все может кончиться еще хуже? Не пытались его останавливать?
Она на некоторое время задумалась и ответила вопросом на вопрос:
— А как я могла его остановить? Он же не мог просто сдаться. Нет, это было не в его натуре.
Безусловно, в «реабилитации» активно принимала участие семья Бориса Николаевича. «Мы все, — вспоминает Таня, младшая дочь, — старались чем-то порадовать папу, что-то вкусное приготовить или купить, отвлечь, растормошить. А купить что-то тогда было трудно, годы были такие. Я помню, узнала, что в одном магазине “выбросили” чешское пиво, папино любимое. И я помчалась туда. Антиалкогольная кампания в разгаре, в магазине стоит страшная давка, все пьяные, ругаются. Я, наверное, единственный раз в жизни тогда простояла чуть не несколько часов среди пьяных мужиков, в этой толпе. И достоялась, купила два ящика. Но эти два ящика еще нужно было как-то вынести из магазина, хотя бы до такси дойти. Помню, один ящик несу в руках, другой толкаю перед собой ногой, но счастлива, что папе везу подарок».
Кстати, именно в этом, 1987 году Таня вышла замуж за инженера Леонида Дьяченко (близкие всегда звали его Лешей, отсюда и разночтение в именах, в прессе он то и дело возникал под именем Алексея). Они вместе работали в КБ «Салют». Таня, как математик-программист, работала в отделе баллистики, занималась мирным космосом, разрабатывала программу дальнего сближения космических аппаратов (для транспортных непилотируемых кораблей, которые привозят грузы на станцию «Мир»), Леша занимался двигателями. Он из потомственной семьи инженеров, отец его был заместителем генерального конструктора КБ, вся его семья тоже всю жизнь проработала в этом конструкторском бюро.
Вполне вероятно, что именно Леша подвозил на своей машине Таню с этими двумя ящиками с боем добытого дефицитного пива.
Новой фазой реабилитации Ельцина стали его публичные выступления, прежде всего интервью. Их было несколько и далеко не все из них увидели свет.
Первое интервью «Московским новостям» (газете, выходившей, кроме русского варианта, еще на нескольких языках) было опубликовано только на немецком. Даже не на английском!
Журнал «Огонек» свое первое интервью с опальным Ельциным уже подготовил к печати, но опубликовать не смог — главный редактор Виталий Коротич отнес текст беседы в ЦК, и как он потом рассказывал, А. Н. Яковлев запретил публикацию.
Зато постарались западные средства массовой информации. И если во время первого своего интервью с американской телегруппой Ельцин в основном отмалчивался, то в мае 1988-го (в интервью американскому журналисту Питеру Сноу) он будет гораздо более определенным. Сноу спрашивает его:
«Хотели бы вы, чтобы Лигачева сняли с должности, удалили от центра власти, так как он, по вашему мнению, противится реформе?» Ельцин, не колеблясь, ответил: «Да, хотел бы».
В ответ на вопрос, считает ли он, что между Горбачевым и Лигачевым существуют глубокие внутренние разногласия, Ельцин зло рассмеялся — тогда он считал, что Лигачев и Горбачев играют в одну игру.
А летом, в августе, во время отпуска в Латвии вышло первое интервью в советской газете. Оно было напечатано и в маленькой местной газете «Юрмала» (которую, тем не менее, читали сотни тысяч отдыхающих из всех уголков Союза), и в республиканской газете «Советская молодежь». Потом это интервью было перепечатано в десятках областных, ведомственных, районных газет СССР, несмотря на сопротивление партийных органов, — прогрессивные редакторы уже дышали воздухом гласности, почуяли «новые времена».
Что же говорил Ельцин латышским журналистам?
«Мы подавили человеческий дух. Люди оказались придавленными тяжестью сомнительных моральных стандартов, директив, которые невозможно оспаривать, постановлений. Мы приучили людей объединяться в
«Когда руководителю Агропрома деликатесы доставляют на дом, он вряд ли будет усердно работать над Продовольственной программой, — шутил в интервью Ельцин. — Продовольственная программа для него давно решена».
Все заметили эту шпильку в адрес Горбачева — Продовольственная программа партии была его детищем еще на посту секретаря по сельскому хозяйству.
Это говорил прежний Ельцин — не сломленный, не смирившийся, все такой же резкий и острый.
Кстати, именно там, в Юрмале, Ельцин впервые посетил большой теннис как зритель. Вот как это было.
«Я познакомился с Борисом Николаевичем Ельциным, — пишет Шамиль Тарпищев в своей книге «Первый сет», — в августе 1988 года, когда сборная СССР играла в Юрмале матч Кубка Дэвиса против команды Голландии». Ельцин вместе с Наиной Иосифовной пришел на стадион, чтобы поболеть за «наших». Тарпищев узнал Ельцина, усадил его в ложу для почетных гостей, вот и всё общение. «На следующий день в санатории “Рижское взморье” я играл пару с республиканскими начальниками, — продолжает Тарпищев. — Вижу, мимо корта идет Ельцин с женой: наверное, он отдыхал в этом же санатории. Я поздоровался с ним, пожал руку и обратил внимание, что она у Ельцина очень холодная. Да и выглядел он неважно: было видно, что держится на лекарствах».
На этот раз Ельцин и Тарпищев немного поговорили. А еще через год, снова встретив Ельцина в Юрмале, на том же пляже, Тарпищев уговорил его «поиграть пару».
«Спустя год на том же пляже я снова играл в футбол со своими теннисистами. Мяч откатился к воде. Я побежал за ним и увидел Ельцина: “О, Борис Николаевич? Вы здесь? Отдыхаете?” — “Шамиль, привет”. Оказывается, он запомнил мое имя. И я ни с того ни с сего предложил ему поиграть в теннис, не знаю даже почему. Он отнекивался: “Да я плохо играю”. — “Давайте попробуем пару”. — “Я пару вообще не играл”. В общем, я его уговорил — он согласился. И на следующее утро Сергей Леонюк, я, писатель Михаил Задорнов и Борис Николаевич сыграли пару. Ему понравилось».
Но вернемся в 1988-й. Через два-три месяца после отдыха на Рижском взморье произойдет еще одна «страшная крамола» в процессе реабилитации Ельцина — его первое публичное выступление в огромной молодежной аудитории, Высшей комсомольской школе. Слушатели школы, молодые люди со всех концов СССР, добились того, чтобы он приехал, хотя поначалу Ельцин отнесся к этому приглашению настороженно.
Это была еще одна победа «новой терпимости» над старой нетерпимостью.
Ельцин, как водится, выступал перед аудиторией несколько часов подряд.
Однако было бы неправильно приписывать все эти первые, маленькие победы Ельцина только его личной позиции, личной смелости.
Пока он осваивался в своей новой роли, очень многое изменилось и в стране в целом. Изменения шли настолько быстро, что за ними было просто не уследить…
13 марта 1988 года Горбачев улетал с официальным визитом в Югославию. В закрытом правительственном аэропорту «Внуково-2» его, как всегда, провожала официальная делегация — Рыжков, Лигачев, Яковлев.
Горбачев знал, давно знал, это была азбука власти — любое отсутствие первого лица в стране — это риск. Всегда! Но успокаивал себя — летит ненадолго. Да и что могло случиться?
Только что отгремела вся эта история с Ельциным: пусть неприятная, но важная — показательный урок всем, кто хочет раскалывать единство в руководстве страны. Отгремела, слава богу, без каких-то серьезных последствий.
Ну что они могут сделать? Подготовить внеочередной пленум, сколотить группу из членов Политбюро, противников перестройки? Нет предпосылок. В Политбюро как минимум половина — его твердые, искренние, убежденные сторонники, остальные — скрытные фигуры, молчуны, типа Воротникова, председателя Совмина РСФСР, или Чебрикова, председателя КГБ, но — не страшные, без позиции, без агрессии, которую он всегда очень тонко чувствовал в людях.
Удар последовал неожиданный и тяжелый — публикация в «Советской России». Статья Нины Андреевой, преподавательницы общественных наук (истории КПСС или политэкономии социализма) из Ленинграда, с одиозным названием «Не могу поступиться принципами».
С точки зрения идеологической, ничего нового в статье не было.
Те же самые аргументы, которые мусолились сейчас везде и всюду, да и чего было ожидать другого от замшелых партийных догматиков, от людей, жирно и вольготно, безбедно, бессмысленно просидевших в своих креслах долгие десятилетия: не трогайте Сталина, он наше знамя боевое, с его именем в атаку ходили, его сам Черчилль уважал, хотя и буржуазная был гнида, не трогайте наших высоких моральных ценностей (и Сталин — одна из них), не трогайте наш социализм, вы — пятая колонна западного мира, наймиты, продажные шкуры, прочь из нашей страны… Всё знакомо. До боли знакомо. Пещерный сталинизм.
Новизна была в подаче — в том, как расположена статья, какое ей отведено место на газетной странице, в том, как поработали над ней партийные писатели старой закалки. Каждая фраза отточена, доведена до иезуитской схоластики, выстроена, как в отчетных докладах Брежнева — чувствовалось, читалось:
Вот в чем главная пакость.
Довольно быстро стало известно: статью читал Лигачев, и читал
Проверить было нельзя, невозможно, не проводить же формального расследования через Комитет партконтроля, не затевать же скандал, хотя подобные предложения были.
…Нет, он ответит так же, как они, их же оружием. Это будет статья в «Правде», которая всё расставит по местам, утихомирит страсти, прекратит ненужную мышиную возню вокруг этого пасквиля.
Вызвал Яковлева, дал ему поручение. Однако прежде чем всё решилось в его пользу, Горбачев пережил на Политбюро очень тяжелый момент. Вот как это было, судя по записям, сделанным В. Медведевым, а также помощниками Горбачева А. Черняевым и Г. Шахназаровым:
«23 марта в комнате президиума во время перерыва на съезде колхозников произошел следующий разговор.
Его перебивают… мол, очень стоящая статья. Обратите внимание…
Опять наперебой хвалят статью.
Неловкое молчание, смотрят друг на друга.
А на февральском Пленуме я не “свой” доклад делал. Мы его все обсуждали и утвердили. Это доклад Политбюро, и его пленум утвердил. А теперь, оказывается, другую линию дают… Я не держусь за свое кресло. Но пока я здесь, пока я в этом кресле, я буду отстаивать идеи перестройки… Нет! Так не пойдет. Обсудим на Политбюро».
«Двухдневное заседание Политбюро, — пишет другой помощник Михаила Сергеевича, Андрей Грачев, — устроенное им для выяснения отношений внутри партийного руководства, превратилось в своеобразное “собрание по китайскому методу”.
Каждый из членов Политбюро и Секретариата должен был высказать свое отношение к “манифесту антиперестроечных сил” (так была официально заклеймена эта публикация в редакционной статье в «Правде» от 5 апреля, написанной Яковлевым…). Одним, и в первую очередь самому Е. Лигачеву, пришлось оправдываться и доказывать свою “полную непричастность” к появлению статьи, другим, как, например, В. Воротникову, поторопившемуся назвать ее “эталоном”, или В. Долгих — каяться и объяснять, что они невнимательно ее прочитали и проглядели антиперестроечный пафос… И хотя итогом изнурительного марафонского заседания стало столь желанное для генсека единодушие, расчистившее путь подготовке к партконференции, никто уже не заблуждался насчет этого вымученного единства. “И с этими людьми надо двигать вперед перестройку!” — жаловался Михаил Сергеевич после заседания своим помощникам».
…Он долго и трудно создавал в Политбюро баланс сил, правильный, аккуратный баланс. Все знали, что Егор Лигачев — убежденный, пламенный коммунист, он уравновешивал западника Яковлева, создавал почву, прокладку, твердую землю, на которой М. С. чувствовал себя легко, спокойно… Все знали, как важен для него этот баланс, эта возможность маневра, равновесия, не случайно же произошла эта драматическая история с Ельциным, который был крайним антиподом Лигачева и пошел на него в прямую атаку.
И вдруг всё изменилось. Всё покосилось.
Нарушился баланс. Зашатался трон. Он терпеть не мог все эти старорежимные, монархические штампы, — но куда было от них деваться, они точно передавали ощущение темной, страшной природы его власти, о которой он очень не любил задумываться, не хотел ее признавать.
Но она, тем не менее, существовала, эта природа власти, и вот теперь он задумался о ней по-другому, иначе, задумался трезво, с учетом всех событий последних месяцев.
Они все
И он верил, что управлять страной, даже такой, как СССР, все-таки можно без страха, просто правильно выстраивaя людей, правильно объясняя им какие-то вещи, убеждая, личным примером в первую очередь. Искусно лавируя между противоречиями, политическими флангами, интересами, как между рифами и течениями, спокойно ведя свой корабль в четком направлении, по карте.
И вот — пробоина.
В Политбюро Горбачев заседал с 1978 года, уже десять лет. Однако ничего подобного никогда не видел и не слышал. Это очень похоже на раскол, на начало заговора. На какой-то ползучий переворот. На возникновение антипартийной, антигосударственной группировки. Сможет ли он совладать с ситуацией, справится ли?
На его месте Брежнев стал бы постепенно, планомерно смещать, отодвигать от власти потенциальных врагов. Хрущев объявил бы им открытую анафему. Сталин просто ликвидировал бы в одночасье. Горбачев пошел другим путем. Самым органичным для себя — путем политических маневров.
Михаил Сергеевич был искренним, убежденным коммунистом. Слова «социалистический выбор», «Великий Октябрь», «революция», «Ленин» — были для него священны. Они были символом его веры.
«Ленин, которого он действительно неоднократно перечитывал, магнетизировал не только своим интеллектом, но и… способностью безоглядно менять свои взгляды, веруя только одному богу — политической реальности, принося ей в жертву любые теоретические догмы и схемы, включая и свои собственные» (Андрей Грачев).
Горбачев не стал ждать очередного съезда партии, чтобы поднять принципиальные вопросы, как это было положено по Уставу КПСС. Он объяснил эту спешку ускорившимся темпом перемен. Нет времени ждать…
XIX партконференция, таким образом, была как бы промежуточным, экстренным съездом партии.
Ельцин был избран на конференцию в составе карельской делегации. Почему именно карельской? Вокруг его кандидатуры шла серьезная борьба в местных партийных организациях, давление «низов» наталкивалось на жесткое сопротивление «верхов», в том числе и самого Горбачева. (Многотысячные коллективы свердловских предприятий настойчиво предлагали его в свои делегаты, но тщетно.) Наконец его включили в список делегатов в Петрозаводске. Однако делегация карельских коммунистов должна была, «по плану рассадки», оказаться на балконе. Максимально далеко от трибуны. Даже спуститься в зал во время заседания член карельской делегации мог, лишь преодолев несколько кордонов. Это была интересная деталь.
Горбачев на конференции впервые публично огласил свой план «демократизации», а вернее, советизации СССР. Этот план он вынашивал и выстраивал со своими экспертами и помощниками в течение целого года. Центральной в этой концепции была идея возвращения к самой выборности органов власти, как таковой. С одной стороны, эта выборность должна была помочь Горбачеву в его борьбе с «консерваторами и бюрократами», с затаившимися «брежневцами», с партийным аппаратом на местах, который по-прежнему представлял для него опасность. С другой — укреплял его позиции в борьбе с «радикалами» типа Ельцина, с неорганизованной толпой, с уличной стихией протеста… Это была мощная страховка. Рессора. Новый инструмент стабилизации.
Формально все органы власти на территории СССР — и партийные, и советские — были выборными. Центральный комитет КПСС избирался на партийном съезде раз в пять лет. Делегаты самого съезда избирались местными партийными организациями. Состав Политбюро утверждался и изменялся на пленуме ЦК. Областные партконференции точно так же избирали состав обкома, обком выбирал бюро. Раз в пять лет проводились выборы и в Советы народных депутатов всех уровней, в том числе в Верховный Совет СССР и РСФСР, где рядом с представителями власти заседали «благонадежные беспартийные» — знатные рабочие и колхозники, ученые и артисты. Это была сложная многоступенчатая система руководства страной, на каждой из ступенек которой действовал свой сложный механизм назначения, утверждения и избрания.
Однако всем и каждому в СССР было понятно, что никаких выборов на самом деле нет. Для того чтобы человек попал в избирательный бюллетень или в резолюцию о выборах партийного органа, его должны были прежде всего утвердить «сверху». За то, чтобы товарищ Ельцин стал первым секретарем Свердловского обкома, проголосовали члены областного комитета партии, около ста человек. Но — лишь после того, как Политбюро
За все время существования СССР никаких серьезных сбоев машина власти практически ни разу не давала. Голосовали всегда, и за тех, за кого нужно.
Горбачев решил изменить механизм власти.
Теперь секретарь партийного комитета должен был «совмещать» две должности: свою и должность председателя местного совета. Выбираться партийным руководителям надлежало при этом прямым тайным голосованием на альтернативной основе на обе (!) должности.
На взгляд западных историков перестройки (например, Леона Арона), это была настоящая революция «сверху». Теперь партия подчинялась суду общественного мнения: руководители партийных органов на местах обязаны избираться в местные Советы. Однако на взгляд тех, кто был современником этих событий, выборы были «общим местом», о них не говорил только ленивый, выборы руководителей обсуждались не только в «Огоньке» и «Московских новостях», но и на страницах самой что ни на есть партийной печати. Вводя принцип «совмещения» через поправки к конституции, Горбачев, на взгляд только-только пробующей голос демократической оппозиции, уходил, убегал, ускользал от главного вопроса: об отмене партийной монополии на власть. Не было в горбачевских «поправках» и конкретного разъяснения: а что делать, если местного партийного руководителя не выберут? Именно за эту половинчатость решений Ельцин критиковал идею горбачевской выборности, на первый взгляд вполне здравую.
…Поначалу делегаты партконференции просто не поняли, о чем идет речь. Леонид Ильич Брежнев тоже когда-то «совмещал» две высшие должности в стране — генсека партии и Председателя Президиума Верховного Совета СССР Что, теперь партийные секретари тоже должны «совмещать»?
Зная о том, как устроены мозги у его товарищей, генеральный секретарь доходчиво объяснял им, стоя на трибуне в Кремлевском дворце съездов под огромным портретом Ленина: нет, не совмещать, а избираться на основе прямых, всеобщих и альтернативных выборов. Соревнуясь с другими кандидатами. Больше того, объяснял Горбачев, поскольку постепенно вся полнота власти должна перейти к Советам (представляю себе, как страшно, тяжело «заскрипели мозги» в этот момент у более чем четырех тысяч партийных делегатов, сидящих в этом зале), те же секретари партийных комитетов, продолжал Горбачев, которые
Делегаты XIX Всесоюзной партийной конференции высказали Михаилу Сергеевичу свои обоснованные сомнения.
А надо ли? А стоит ли так вот сразу? А не будет ли тут недопонимания у некоторых товарищей?
На что Михаил Сергеевич сказал им прямо: без этого пункта резолюция партконференции даже не будет поставлена на голосование.
Пошумев, партконференция успокоилась и проголосовала. Забегая вперед можно сказать — успокоилась и зря, и не зря. Никто, конечно, и не думал потом снимать с должности тех секретарей обкомов, райкомов, которые проиграли выборы в местные Советы у себя в областях и районах. Но, проиграв эти выборы, они проиграли и свое будущее. Власть уходила от партии семимильными шагами, уходила быстро, как вода при отливе, как дневной свет зимой. И сделать с этим уже ничего было невозможно.
Когда делегаты уже начали вставать для исполнения заключительного партийного гимна (напомню, что это был «Интернационал», то есть «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущенный и в смертный бой идти готов…»), Горбачев поднял руку, вновь попросил слова и вышел на трибуну.
Он достал из кармана пиджака сложенную вчетверо бумажку, развернул ее и, внимательно глядя в текст, попросил делегатов партконференции принять еще одно, срочное постановление: о проведении в следующем году Всесоюзного съезда народных депутатов СССР, о порядке его формирования, о рабочих органах съезда и т. д. и т. д.
Ошарашенные этим заявлением, делегаты молча подняли руки. Каждый, напомню, не просто голосовал, а держал в руке мандат партконференции, держал высоко над головой, по старой советской традиции.
Вообще-то им уже хотелось домой.
Формально делегаты проголосовали (еще не понимая этого) за отмену партийной монополии на власть. Власть, которая устанавливалась в итоге Гражданской войны, путем расстрелов, лагерей, жестокой борьбы с другими революционными партиями, политическими движениями, которые еще существовали в 1917 году. Власть, которая держалась диктатурой, кровью, постоянной угрозой войны и страданиями народа, давно уже начала незаметно, медленно рассыпаться. Власть, которая возникла на основе разрухи, на основе самого тяжелого и кровавого в русской истории «национального согласия», когда общество хотело уже хоть какой-нибудь власти, пусть даже страшной, людоедской, но способной остановить катастрофу, саморазрушение страны — под влиянием самой логики исторического процесса начала менять свою природу.
Никто этого по-настоящему не понял. Ни делегаты конференции, голосовавшие за это решение своими мандатами, ни сам Горбачев, ни его сторонники в Политбюро. Никто не знал, не предполагал, к чему приведет это «совмещение должностей», эти выборы. До полного саморазрушения советского политического строя оставались еще долгие три года.
Все эти новации Горбачева на Всесоюзной партконференции не привлекли и большого общественного внимания. Их как бы пропустили мимо ушей. Никто им не верил. Никто не понимал, чего он хочет. Это был официоз. Какая-то сложная государственная механика, означавшая некие формальные «подвижки» (как любил говорить Горбачев), но не реальные движения. Никто (и в первую очередь сам Горбачев) не мог представить себе масштаба изменений, которые обрушатся на страну вместе с этими выборами народных депутатов, которые были назначены на 1989 год.
Привлекли внимание, создали ажиотаж вокруг конференции — совсем другие моменты.
Громким общественным событием стала попытка устроить публичную порку главному редактору «Огонька» Виталию Коротичу. Больше десяти лет спустя Виталий Алексеевич рассказывал автору этих строк: «Я чуть не умер от страха на этой партконференции, когда выходил на трибуну. Это было просто ужасно».
А история состояла в следующем: незадолго до конференции «Огонек» напечатал статью следователей Генеральной прокуратуры Т. Гдляна и Н. Иванова. Статья мгновенно стала знаменитой. В ней черным по белому впервые за всю историю страны было сказано: многие партийные чиновники самого высокого ранга погрязли в коррупции, взяточничестве. Есть факты, прямые улики, доказывающие это.
Один из делегатов, выступая с трибуны, зачитал эту выдержку из «Огонька» и потребовал, чтобы член КПСС Коротич вышел на трибуну и ответил перед партконференцией за гнусную клевету.
Зал тревожно зашумел.
Пока Коротич шел по дорожке между рядами к трибуне, вслед ему неслись выкрики: «Позор! Негодяй! Двурушник!» Зал едва ли не свистел и уже определенно шикал, когда он начал говорить.
Единственное, что поддерживало Коротича в этот момент — присутствие на трибуне Горбачева. Горбачев гневно сверкал очками в унисон залу, но что-то подсказывало Коротичу, что он не отдаст его этой беснующейся массе. Каждый раз, когда на партийном пленуме, съезде, то есть на собрании большинства, начиналась такая публичная порка очередного оппортуниста или отщепенца, будь то Ельцин, Коротич (или год спустя, на съезде народных депутатов, академик Сахаров), — Горбачев испытывал очередной приступ, его душил страх, ведь точно так же эта партийная масса может однажды растоптать и его.
…Коротич попытался отвести обвинения. Вот как он сам вспоминает этот эпизод:
«Сохранилось фото, где я стою на трибуне с гербом, широко разинув рот, а мне в затылок глядят с совершенно непохожими выражениями лиц испуганный Горбачев, злой Лигачев и удивленный Щербицкий». Коротич пишет о том, как встретил его партийный зал, что он почувствовал, когда вышел на трибуну. «На сей раз там царила ненависть. Такая густая и холодная, что я вздрогнул и понял: долго говорить с этой трибуны ОНИ мне не дадут. Минуты три будут набирать воздух в легкие, а затем затопают, заорут и не позволят больше сказать ни слова, сгонят с трибуны… Я четко сказал самое главное: что в стране должен быть единый закон, которому обязаны подчиняться все, включая высших чиновников коммунистической партии, и попросил не препятствовать законному следствию. Затем повернулся к Горбачеву и подал ему папку в конверте… “Это большой секрет, Михаил Сергеевич!” — сказал я, протянув конверт. “Давай, давай!” — скороговоркой ответил Генсек и взял конверт у меня из рук». (Конверт, содержавший материалы уголовного дела, передал Коротичу следователь Иванов непосредственно перед началом конференции. — Б. М.) «Ходили чудовищные слухи о том, что я передал Горбачеву едва ли не полный список его Политбюро. Ничего подобного: в конверте были личные дела достаточно высоких партийных чиновников из аппарата ЦК; именно эти люди, а не выставочная, портретная часть партии (Коротич имеет в виду портреты членов Политбюро, которые вывешивались во всех общественных местах СССР. — Б. М.), управляли страной».
Итак, публичная порка оказалась смятой, скомканной. В данном вопросе Горбачев не поддержал обличительный пафос делегатов.
На XIX партконференции, порой так сильно напоминавшей брежневские съезды КПСС, прозвучали и другие необычно смелые речи.
И прежде всего — речь Ельцина.
Он готовился к ней весь июнь.
— Папа очень волновался, — вспоминает Елена, старшая дочь Ельцина, — когда писал эту речь. Дело происходило на даче в Успенском, где мы тогда жили летом. Он каждый день приносил новый вариант тезисов, читал их вслух. Всего таких вариантов было девять. Мы обсуждали, что-то советовали. Потом достали старую пишущую машинку, кажется, «Ундервуд», начали печатать… Он не хотел, чтобы текст выступления попал в чужие руки.
У этой речи обязательно должна была быть идея. Подсказал эту идею Ельцину не кто иной, как старый брежневский волк, председатель Комитета партийного контроля, член Политбюро товарищ Соломенцев.
После интервью Ельцина американским журналистам Соломенцев вызвал его на Старую площадь и твердо заявил, что член ЦК не может позволять себе таких высказываний в отношении членов Политбюро и вообще должен согласовать все свои интервью и публичные заявления с вышестоящими органами. «Такова партийная дисциплина, Борис Николаевич. Или вы о ней впервые слышите?»
Михаилу Соломенцеву Ельцин тогда, в начале июня, ответил, что будет и дальше откровенно говорить, что думает. Когда угодно и кому угодно. Но именно это столкновение дало ему ключ ко всей речи, шифр, с помощью которого он выстроил всю систему своих аргументов.
— Этой идеей, — говорит Татьяна, младшая дочь Ельцина, — стала
Однако для начала нужно было элементарно попасть на эту трибуну. Как это сделать?
Ельцин сидел на балконе Дворца съездов вместе с членами карельской партийной делегации. В первый же день конференции он послал записку в президиум с просьбой дать ему слово. Ответа не было. На четвертый день конференции он предупредил своих товарищей, что хочет попросить слова. Те отнеслись к его желанию с пониманием. Никто даже не спросил, что именно он хочет сказать, — все с нетерпением ждали его речи.
Горбачев огласил список выступающих перед голосованием (за постановление конференции). В списке его снова не было.
И вот он спустился вниз. Надо представить себе этот грандиозный, помпезный зал Кремлевского дворца, чтобы оценить всю картину: он дошел до самого президиума с мандатом делегата в поднятой руке. Поднялся на три ступеньки и сказал, что требует дать ему слово.
Горбачев и Соломенцев начали совещаться.
Понятно, что творилось в этот момент в душе у Горбачева. Проблема, которая давно отошла, казалось бы, на второй план и уступила место новым, более сложным, снова стояла перед ним во весь свой немалый рост.
К Ельцину подошел один из работников Общего отдела ЦК и предложил выйти в комнату президиума, чтобы там обсудить ситуацию «вместе с Михаилом Сергеевичем». Однако Ельцин понял: выходить из зала нельзя! Больше его сюда не пустят. То же самое ему шептали и журналисты: не выходите, Б. Н.!
Он отказался выходить и стал ждать. К нему подошел еще один ответственный товарищ и передал слова Михаила Сергеевича: выступление обязательно будет, но сейчас нужно вернуться на балкон, к карельской делегации.
Ельцин снова отрицательно помотал головой, сел на свободное место в первом ряду, недалеко от трибуны, прямо против Горбачева.
Наконец Соломенцев встал и сказал, что слово предоставляется товарищу Ельцину, члену ЦК, первому заместителю председателя Госстроя СССР.
Вначале Ельцин отвечал на «давно накопившиеся вопросы».
Он рассказал, что его «нечленораздельное» выступление на пленуме Московского горкома было вызвано тяжелым физическим состоянием: он был болен. Что он готов ответить перед лицом партконференции, что же именно он говорил в интервью западным журналистам, в этом нет никакого секрета, и еще раз (!) в присутствии четырех тысяч замерших от изумления делегатов повторил свой ответ на вопрос, считает ли он, что товарищ Лигачев должен быть «удален» из Политбюро: да, считает!
Затем — о проблемах, как же без них…
Первый пассаж — есть ли в партии зоны «вне критики». Генеральный секретарь в своем выступлении сказал, что их нет. Неправда, есть черта, которую никто не смеет переступить. Второе — привилегии партийной знати, все эти особняки, дачи, «санатории такого размаха, что становится стыдно».
Создание механизма, который бы обеспечил гарантии против создания «нового культа личности». Стрелы Ельцина были по-прежнему нацелены в тех, кто сидел в президиуме и внимательно его слушал.
«В ряде стран, — говорил Ельцин, — установлен порядок: уходит лидер — уходит руководство. У нас во всем привыкли обвинять умерших. Сейчас получается: в застое виноват один только Брежнев. А где же были те, кто по 10, 15, 20 лет, и тогда, и сейчас в Политбюро? Каждый раз голосовали за разные программы. Почему они молчали, когда решал один с подачи аппарата ЦК судьбы партии, страны, социализма?.. Почему выдвинули больного Черненко? Почему Комитет партийного контроля, наказывая за относительно небольшие отклонения от норм партийной жизни, побоялся и сейчас боится привлечь крупных руководителей республик за взятки, за миллионный ущерб государству и прочее?.. Считаю, что некоторые члены Политбюро, виновные как члены коллективного органа, облеченные доверием ЦК и партии, должны ответить: почему страна и партия доведены до такого состояния? И после этого вывести их из состава Политбюро. (
И наконец, то, ради чего вышел на трибуну.
Политическая
Ельцин стоял на трибуне живой и здоровый.
Но слово было настолько сильным — ведь о реабилитации невинно осужденных (Бухарина, Каменева, Зиновьева, тысяч и тысяч других) говорила вся страна, писала вся пресса, — что оно зацепило. Поразило цель.
Зал замолчал.
Зал начал слушать еще внимательнее.
«Товарищи делегаты! Щепетильный вопрос. (
Он сделал это специально, чтобы Горбачев не прерывал его во время этой, самой важной, части выступления, не гнал с трибуны. Сделал вид, что собирает бумаги, хмуро оглянулся на президиум. Зал зашумел сильнее, и тогда Горбачев сказал:
«Борис Николаевич, говори, люди просят. (
Ельцин сказал:
«…Вы знаете, что мое выступление на октябрьском пленуме ЦК КПСС решением пленума было признано “политически ошибочным”. Но вопросы, поднятые там, на пленуме, неоднократно поднимались прессой, ставились коммунистами. В эти дни все эти вопросы практически звучали вот с этой трибуны и в докладах, и в выступлениях. Я считаю, что единственной ошибкой было то, что я выступил не вовремя — перед семидесятилетием Октября… Я остро переживаю случившееся и прошу конференцию отменить решение пленума по этому вопросу. Если сочтете возможным отменить, тем самым реабилитируете меня в глазах коммунистов. И это не только личное, это будет в духе перестройки и, как мне кажется, поможет ей, добавив уверенности людям…»
Горбачев вновь оказывался перед необходимостью бороться с отступником. Проигрывать Ельцину вот так, на глазах у всей страны, он не мог, не имел права. Таким образом, его реформаторская линия сразу становилась как бы раздвоенной, некрепкой и неуверенной. Пунктирной.
Но на этот раз Горбачев окончательно решил занять позицию над схваткой. Пусть Ельцина наказывают другие. Пусть товарищи откровенно выскажут все, что думают. Он дал ему слово, он был честен. Дальше — не его дело. Он просто будет слушать…
А послушать было интересно. На трибуну поднялся первый секретарь ЦК Эстонии Вайно Вяльяс. Рассказал, что, когда он был послом в Никарагуа, товарищ Ельцин приезжал туда с делегацией и, зайдя с визитом на текстильную фабрику, увидел почти голого, раздетого ребенка. Нищего ребенка, товарищи. «Что с тобой, не хочешь работать? Почему ходишь без брюк?» — якобы сказал товарищ Ельцин ребенку. Эстонский секретарь не мог скрыть своего возмущения бестактным поведением товарища Ельцина в Никарагуа. Но зал Дворца съездов остался в некотором недоумении.
Секретарь парторганизации свердловского завода имени Калинина Волков сказал: «Да, Ельцин очень тяжелый человек. Суровый, может быть, даже жестокий. Но как руководитель партийной организации он сделал многое, чтобы повысить авторитет партийного работника… Его слово не расходилось с делом». И снова зал застыл в каком-то непонятном смятении. Жестокий, но слово не расходится с делом. Как реагировать? Шуметь? Возмущаться? Волковым? Ельциным? Кем? Или лучше сидеть тихо?
Наконец на трибуну вышел взволнованный Егор Лигачев, которого Ельцин снова, уже во второй раз, публично, на сей раз в присутствии телекамер и журналистов, предложил уволить из Политбюро. Такой наглости от Ельцина он, конечно, не ожидал.
Лигачев говорил очень долго. Но только одна фраза навсегда увековечила его имя.
«Борис, ты не прав!» — сказал Егор Кузьмич.
В стенограмме конференции будет записано следующее: «Борис, ты пришел к неверному выводу!» В отчете, который опубликует газета «Правда»: «Он пришел к неверному выводу».
Тем не менее это слышала вся страна. Новые правила, которые ввел Горбачев (телетрансляции, присутствие журналистов), сделали свое дело. Плакаты и значки с надписями: «Борис, ты прав!» за считаные недели заполнили столицу. Их гордо носили на пиджаках и кепках. У столицы и у страны было иное мнение, отличное от мнения членов Политбюро.
Горбачев попытался ответить Ельцину. Казалось бы, от него можно было ожидать нового жесткого удара. Но сам ход партконференции изменил атмосферу, царившую в зале, и удар подвергся амортизации — слишком накаленной была полемика в целом, слишком острой ситуация, чтобы направить отрицательную энергетику речи лишь в одно русло. Горбачев резко критиковал Ельцина, но при этом напомнил о его заслугах перед Московской партийной организацией, процитировал секретный доселе отчет об октябрьском пленуме, где было сказано, что Ельцин сам попросил об отставке.
Первые часы после обсуждения его выступления дались Ельцину очень тяжело. Никто из членов карельской делегации не смотрел на него, все пытались как-то отвернуться или отвести глаза. Это было самое тяжелое. Он вышел из зала, нашел медпункт для делегатов и попросил сделать ему укол. Засуетились медсестры… В кабинет зашел дежурный врач и внимательно, строго поговорил с ним. Постепенно сердцебиение успокоилось. Он вернулся в зал и сел на свое место. Опустил голову. И в этом момент началось голосование по главным вопросам.
Несмотря на то, что шестеро из одиннадцати выступавших сурово осудили Ельцина, а такие, как Волков, оставили двойственное чувство у партийной аудитории, было совершенно ясно: не будет реабилитации, но не будет и осуждения. Президиум проиграл Ельцину по очкам.
Это была еще одна маленькая, важная победа. Впрочем, такая ли уж маленькая?
По сути дела, реабилитация состоялась. Страна вновь увидела его, не сломленного.
Именно с этого момента началась подлинная слава Ельцина. Вновь на его имя хлынули тысячи писем.
Однако было бы совершенно несправедливо свести все значение XIX партконференции к эпизоду «Борис, ты не прав!».
Весь этот форум был совершенно оглушительным по его общественному звучанию. По сути дела, на нем реабилитировали саму идею демократии, пусть еще в зачаточном, сугубо советском виде. За этой «частичной реабилитацией» демократии открывалась бездна смысла.
Правда, вчитаться в этот смысл тогда было суждено немногим. Один из вчитавшихся — ответственный работник ЦК КПСС, позднее пресс-секретарь Горбачева Андрей Грачев. Вот что он пишет о XIX партконференции:
«По накалу страстей, выплеснувшимся эмоциям, сломанным ритуалам и нарушенным табу конференция и впрямь напоминала остросюжетную пьесу.
Главное же, она бесповоротно покончила с мифом о монолитности рядов КПСС, вскрыв реальный плюрализм и неожиданную многопартийность советской политической элиты, до того времени закатанной в тесное консервное пространство однопартийного режима. “Конференция все это расшатала, — до сих пор с воодушевлением вспоминает Михаил Сергеевич. — Я стоял у руля во время этой бури все 10 дней и думал, что мы перевернемся. Причем многие делегаты были куда радикальнее меня”».
Да, действительно, запретов было нарушено немало.
«Что это за перестройка? — спрашивал уральский металлург, стоя на высокой трибуне. — Магазины снабжаются продуктами так же плохо, как и раньше. Мяса не было раньше, нет и теперь. Товары народного потребления исчезли».
И наверняка эффект этого «консервативного» выступления был куда большим, чем многие либеральные речи. Конференция впервые поставила многие вопросы, которые просто-напросто не могли быть сформулированы раньше: о бюджетном дефиците и инфляции, о национальных отношениях. Именно этого и боялось руководство КПСС. То, что произошло на конференции, заставило их, наконец, очнуться от усыпляющего гипноза горбачевских речей и заставить думать о собственном спасении.
«Признается это или нет (что партконференция расколола монолитное единство партии. — Б. М.), сути не меняет, — написал во время конференции в личной записке Горбачеву Валентин Фалин, руководитель Международного отдела ЦК. — Ничего не изменяет и то, что обе фракции говорят на внешне схожем языке. То обстоятельство, что делегации с готовностью аплодировали налево и направо, лишь усугубляет ситуацию, ибо в какой-то
Замечательный документ — эта записка Валентина Фалина. Она отражает всю силу брожения, идейного раскола, силу подземных толчков, которые сотрясали партию, ее руководителей в эти десять тревожных дней. Когда каждое слово, казалось, увлекает в пропасть и Горбачева, и Политбюро, и всю КПСС. Ведь выступали на ней не только «демократы». Выступали и люди совсем иного плана, и их было большинство.
«Я ему как-то говорю, — вспоминал А. Яковлев, — Михаил Сергеевич, с этой партией вам дальше совсем худо будет, всё исчерпало себя. А он мне: “Ты не торопись, не торопись. Вот в ноябре соберем съезд и расколем партию”. До ноября того 1991 года еще год был!»
Но назвать «мягкими» и беззубыми кадровые решения Горбачева после XIX партконференции все-таки никак нельзя. Он отправил, как пишет А. Грачев, «…в добровольную отставку после XIX партконференции 100 с лишним (!) членов ЦК». Почти наполовину обновился и состав Политбюро.
На пост своего заместителя (секретаря ЦК, который занимался идеологическими вопросами) он назначил Вадима Медведева, пытаясь навсегда прекратить конфликт двух непримиримых противников — Яковлева и Лигачева. А главное, практически ликвидировал святая святых ЦК — работу его Секретариата.
Поначалу партийная масса восприняла эти изменения спокойно — как возвращение к брежневским временам, когда власть постепенно сосредоточивалась в руках одного человека. Не все поняли, к чему ведет Михаил Сергеевич широкую реформу партийного аппарата. Лишь немногие из его ближайшего окружения знали: реформа власти зайдет гораздо дальше, чем думают большинство членов КПСС. Горбачев, по-прежнему панически боявшийся партийного переворота, будет все больше убирать власть из-под старых партийных структур и сосредоточивать ее в своих руках.
Интересно читать сегодня мемуары бывших соратников и помощников Горбачева — Болдина, Черняева, Грачева, Шахназарова. Все они задают Михаилу Сергеевичу массу вопросов: почему тогда, во время партконференции, которая явно обозначила раскол в партии, он не создал внутри КПСС новую, «здоровую» партию, партию демократической ориентации? Почему не убрал из Политбюро Лигачева и других консерваторов (как настаивал Ельцин)? Почему, с другой стороны, не «услал» самого Ельцина за границу, послом в какую-нибудь престижную страну?
Вот этого, последнего, упрека М. С. мог бы и избежать — от своих бывших друзей.
Ведь дело не в Ельцине, — дело в характере последнего генерального секретаря. В его странных пропорциях, в его двойственной природе, в его изломах и отсветах, отражавших эту масштабную, глубокую и в то же время пугливую душу.
Горбачев попросту
Виталий Коротич, легендарный главный редактор журнала «Огонек», описывает в своих мемуарах несколько важнейших встреч с Горбачевым, которые многое прояснили ему в характере последнего генерального секретаря.
«Зависимость руководителя страны от его приближенных, от аппарата нарастала постоянно. Он почти всегда вспыхивал, если задевали кого-нибудь из “ближнего круга”, он боялся приближенных и всегда подчеркивал, что не даст их в обиду. Неприятелей крушил, как умел (велел мне думать о серии статей, сокрушающих Ельцина)… Постоянно неуверенный в себе, генсек хитрил и нашаривал опоры, которых на самом деле в природе не было. Он готов был сдать и сдавал многих людей, искренне ему веривших, так и не решился встать на сторону интеллигенции, не понял Сахарова, сгонял его с трибуны (предварительно вызволив из ссылки). Он, имея собственные чиновничьи рефлексы, каждому хотел определить в жизни фиксированное, зависимое местечко, а сам был зависим больше других».
Коротич неоднократно вступал в публичную полемику с оппонентами гласности — вторым секретарем ЦК Лигачевым, министром обороны Язовым. На одной из встреч с читателями в Ленинграде Коротич высказался недвусмысленно: «Старательно подбирая слова, не называя фамилий, я сказал, что некоторые руководители умеют окружать себя дураками. “Но надеюсь, — сказал я, — что это ненадолго. Идет разоружение. Я полагаю, что самые большие ракеты и самых больших дураков уберут в первую очередь”». В Москве его ждал разнос от Горбачева.
«До сих пор самое неожиданное для меня в той встрече — густой мат, которым встретил меня тогдашний вождь советских трудящихся… В паузах громовой речи, с упоминанием моей мамы и других ближайших родственников, Горбачев указывал на толстую стопку бумаги, лежавшую перед ним, и орал: “Вот всё, что ты нес прошлым вечером в Ленинграде! Вот как ты оскорблял достойных людей! Я что, сам не знаю, с кем мне работать? Кто лидер перестройки, я или ты?!” — “Вы, — категорически уверил я Горбачева. — Конечно же, вы и никто другой!” — “То-то”, — сказал генсек, внезапно успокаиваясь, и дал мне бутерброд с колбасой.
“Лигачев семнадцать лет в ЦК: тебе кажется, он не подготовлен к своей должности?! — орал Михаил Сергеевич, плюясь крошками. — Ты вот и силовых министров вроде Язова терпеть не можешь, а ведь мы вместе лизали жопу Брежневу, все! Это было и прошло, а сегодня надо объединять, а не оскорблять людей!”
Когда Александр Яковлев, прихрамывая, выводил меня из горбачевского кабинета, в дверном проеме он нагнулся к моему уху (знал, наверное, место) и сказал: “Вы понимаете, что только что Горбачев вас спас? Сегодня чуть позже будет заседание Политбюро, где министры госбезопасности и обороны потребуют снять вас с работы…” До сих пор помню чувство, окатившее меня в тот момент, когда я понял, что… главный руководитель страны разорялся для чиновничьих микрофонов, установленных у него в кабинете».
Подытожим сказанное Коротичем: Горбачев, реформируя систему, одновременно боялся ее. И, разумеется, боясь, пытался сохранить ее главные механизмы.
Вспоминая годы Горбачева, Андрей Грачев пишет: «На эту многоликость, как бы ускользающую “истинную его сущность”, отражавшую одновременно и непрерывную внутреннюю эволюцию и, конечно же, изощренную политическую тактику, стали позднее со всё большим раздражением реагировать в его близком окружении, где каждый имел основание считать в тот или иной период Горбачева своим единомышленником.
Главное же, он не знал, чего хочет История, куда, в конце концов, она вывезет и выведет его самого, его страну и затеянную им реформу. В таких случаях он следовал, очевидно, золотому правилу летчиков-испытателей, попадавших во внештатную ситуацию… если не знаешь, что делать, не делай ничего. Так и Горбачев в ситуациях политической вибрации считал наиболее разумным довериться естественному ходу событий, видя свою роль в том, чтобы с помощью словесной анестезии успокоить, утихомирить, усыпить взбудораженное общество, предоставив возможность хирургу — Истории — делать свое дело».
Между тем никакой определенности не было и для Ельцина.
Он попробовал трезво оценить ситуацию: по-прежнему диссидент, по-прежнему одиночка, по-прежнему враг или изгой дня партийного аппарата… Но тем не менее он постепенно вновь втягивался в орбиту большой политики.
Вот вопрос слушателей Высшей комсомольской школы во время встречи с Ельциным 12 ноября 1988 года, уже после XIX партконференции: «В народе вы не менее популярны, чем Горбачев. Могли бы вы возглавить партию и государство?» Он отвечает сдержанно: «Когда у нас будут выборы с несколькими кандидатами, я смогу участвовать в них, как и любой». Но в этом же выступлении Ельцин говорит о Горбачеве с уважением, как о безусловном лидере, как о «единомышленнике». В то же время он подвергает все новой и новой жесткой критике горбачевские реформы — и «зоны, закрытые для критики», и «поправки к Конституции», то самое «совмещение постов», которое М. С. считает революционным.
И вот что интересно: за несколько дней до этого, 7 ноября, он направляет Горбачеву телеграмму, где
Выборы — вот новое слово, дающее ему надежду.
Он будет в них участвовать.
Выборы становятся главным содержанием политической борьбы и для Горбачева. Он тоже ждет от них очень многого. Выборы всё расставят по местам. Равнодушных, серых чиновников они заставят зашевелиться. Врагов перестройки заставят притихнуть. Экстремистов, популистов — соревноваться в честной борьбе за доверие людей. Он же выигрывает в любом случае! Он — организатор, он режиссер этих выборов, которые перевернут картину мира. Он получает фору по всем пунктам, преимущество на всех досках! В этом его сложно выстроенном, продуманном ходе в игре — всё хорошо и всё гармонично.
И лишь одна маленькая тень лежит на его глобальном, серьезном решении, которое удалось провести в жизнь на партконференции. Он понимает: Ельцин тоже будет участвовать в выборах. Его речи сыграют свою роль и в этой игре. Ну что ж… Пусть попробует.
Целостность, баланс, равновесие сил, устойчивая гармония были внутренними богами Горбачева. Давно, всегда. Начиная перестройку, он понимал, что сейчас это самое главное — баланс, равновесие, устойчивость. Поэтому — одно уравновешивает другое. Одна фигура — другую. Одна идея — другую. И так во всем. Обязательно во всем.
Надо было закончить эту позорную войну в Афганистане. Да! Но не сразу. Не одним махом. Армия — это сложная, чересчур инерционная машина, грозная сила. Генералы не поймут, если после стольких лет кровопролитных боев им прикажут немедленно отступать, признать поражение. Дал задание Международному отделу. Международный отдел подготовил для Афганистана нового лидера. Убедили военных, что при поддержке Народной армии Афганистана обстановка в стране останется стабильной и без нашего присутствия.
Началась подготовка к выводу войск. Это была победа, его победа. А благодаря чему? Благодаря балансу сил. Спокойной, разумной, взвешенной политике.
Одновременно одобрил запуск нового поколения вооружений для армии и флота, безумно дорогого. Новые подводные лодки с крылатыми ракетами на борту по замыслу Генштаба и Минобороны должны были компенсировать потери в ядерной мощи после ввода в действие договоренностей с американцами, сокращения ракетного щита.
В то же время Шеварднадзе курсировал по всему миру, убеждая Запад в том, что все это не игра, не новая «разрядка», под прикрытием которой СССР только усилит свою военную мощь, а реальная новая философия для всего мира. Философия общих ценностей и общих подходов.
…1988 год принес в общество какое-то невнятное ощущение надежды. Оно было во всем. Заканчивалась тяжелая война в Афганистане. В прессе начали появляться первые острые статьи о чернобыльской трагедии 1986 года (тогда масштабы аварии атомного реактора, повлекшей за собой чудовищную экологическую катастрофу, власть просто замолчала, попыталась скрыть).
Газетные публикации вообще стали заметно ярче, свежее, острее. В воздухе витали новые слова, к которым еще не успели привыкнуть. «Общечеловеческие ценности», например. Что они означают в реальной жизни, было не совсем понятно, но и ничего угрожающего в них пока тоже не было. Героями телепрограмм стали такие люди, как академики Лихачев и Панченко, настоящие русские интеллигенты. Академик Сахаров и его жена Елена Боннэр выступили инициаторами создания общества «Мемориал» (среди учредителей которого, кстати, был и Борис Ельцин).
Слова «гласность», «перестройка» как-то уже привычно рифмовались с «нравственным идеалом», «культурой», и шестидесятники осторожно начали говорить о возвращении в нашу жизнь великих имен и великих идей. Заговорили о возвращении и тех, кто уехал на Запад: Солженицына, Любимова, Аксенова, Войновича, чьи книги уже начали готовить к изданию.
Надежда была даже в спортивных новостях — наши атлеты удачно выступили на Олимпиаде в Сеуле, завоевали больше золотых олимпийских медалей, чем ожидали, сборная по футболу под руководством великого Лобановского играла в финале чемпионата Европы. Театры радовали новыми премьерами, журналы — новыми публикациями, причем такими, о которых было даже трудно мечтать в прежние времена. В кинотеатрах шла «Асса», фильм о молодом поколении, которое ждет перемен, и, это было очевидно, — дождется.
Начали открываться первые частные кафе, рестораны, магазины, посреднические фирмы, первые кооперативы.
В международной политике СССР вроде бы прочно взял курс на отказ от принципов холодной войны. Горбачев начал регулярно встречаться с лидерами крупнейших держав; Миттеран, Рейган и Тэтчер (затем Буш и Мейджор) стали его постоянными собеседниками. Хотя и на правах ассоциированного члена, в качестве гостя, но советский лидер и его министры начали принимать участие в совещаниях С-7 (клуба наиболее развитых капиталистических стран, как писали тогда советские газеты).
Объединение Германии стало главной европейской темой. Падение Берлинской стены было, и все это понимали, началом новой эпохи.
Слово «Perestroyka» зазвучало на всех языках. Западный мир с осторожным любопытством присматривался к нашим внутренним реалиям. Впервые за многие годы резко увеличилось количество иностранцев, приезжающих к нам, и количество наших людей, выезжающих за границу. Контакты расширились. Это означало, что до нас быстрее начали «доходить» западные новинки и новости и просто всё современное: фильмы, мода, журналы, книги, новые идеи, имена, технологии…
Начался постепенный отток из СССР тех, кто давно мечтал уехать. Слово «отказник» уходило из лексикона. Люди, которые ждали разрешения на выезд лет по 10–15, уже ни на что не надеясь, начали паковать чемоданы. Локальная еврейская эмиграция постепенно перерастала в эмиграцию «четвертой» или уже «пятой» волны. За этих людей было радостно, потому что сбывались их мечты. Но и грустно — уезжали родственники, друзья.
С другой стороны, уже тогда было понятно: если «железный занавес» окончательно рухнет, рухнет и сама система. Вся ее сила была в изолированности, отдельности от остального мира. Но это казалось делом далекого будущего…
Казалось, что даже дышать стало как-то легче, свободнее. Прозрачный, праздничный воздух свободы как-то сам собой проникал в легкие, кружил голову, заставлял задумываться о тех
Но глухие толчки, подземные удары нарушали это хрупкое, зыбкое, только-только наступавшее ожидание обновления и благополучия.
1988-й — год первых страшных погромов на территории СССР. Фергана, Новый Узень, потом Сумгаит, где произошли массовые убийства на национальной почве.
Сведения об этом были засекречены, доходили до Москвы очень глухо. Советская система цензуры пока еще действовала. Однако уже было понятно — с Советским Союзом что-то не так. Он начинает дышать трудно.
Вообще главная линия, по которой шли грандиозные изменения, я бы обозначил как разлом монолита.
В стране впервые официально появились богатые люди, быстро делавшие огромные состояния (по советским меркам).
Впервые появились и люди, которые открыто заявили, что существуют в отдельной субкультуре и не хотят жить по общим законам. Это так называемые «неформалы» всех мастей: от подростков, бунтарей улиц («металлистов», панков и хиппи), до первых политизированных структур — общества «Память», экологов, общества «Мемориал». Все они приводили в ужас правоверных советских людей, но ничего поделать с их существованием никто уже не мог: посадить, выслать, перевоспитать, уничтожить, высечь, вытравить — все эти глаголы оказались далеко в прошлом. Самостоятельные жизненные пласты двигались в едином пространстве, но отдельно друг от друга.
Впервые открыто заговорили о наркомании и проституции — оказывается, в СССР эти явления тоже были, да еще каких масштабов! Впервые люди осознали, что живут по-разному, в разных мирах, в какой-то мере, в разных странах внутри единых границ.
Одна, единая на всех страна, просыпавшаяся с гимном и засыпавшая с ним же, казалось, абсолютно одинаковая в каждой клеточке, в каждом уголке, — постепенно, но явно начала становиться разной.
В это время я работал в молодежной газете и в 1988 году написал статью под названием «Ходоки». Ее героем стала Нина Павловна Пащенко, бухгалтер из Киргизии, которая приехала в Москву обивать пороги Генпрокуратуры, Верховного суда, Верховного Совета и других инстанций (она добивалась отмены несправедливого, по ее мнению, приказа об увольнении). К тому времени, как мы познакомились, Нина Павловна жила в Москве с маленькой дочерью уже больше года, на птичьих правах, не имея прописки (а без прописки она не могла устроиться ни на какую официальную работу), обслуживая инвалидов, с которыми делила крышу за нищенские деньги или просто за кормежку.
Существование ее было ужасно, но меня поразило мужество, достоинство этой женщины, с которым она рассказывала о себе, и самое главное — ее абсолютно святая, фанатичная вера в то, что справедливость восторжествует! Нина Павловна считала, что ее уволила «местная мафия» (то есть приходящие к власти киргизские кланы), что поскольку во всех газетах говорят о чести, достоинстве, правде, справедливости, то ей обязательно должны помочь, ведь слова чего-то стоят.
Нина Павловна каждое утро покупала несколько газет: «Комсомолку», «Литературку», «Правду» и другие; читала она, конечно, «Огонек», «Московские новости», читала с упоением, потому что каждое издание в качестве главного блюда преподносило разоблачения, острые статьи, «командировки по тревожному письму». Вырезала эти статьи, читала и перечитывала их. Аккуратно складывала. Берегла газетные вырезки, как свою главную реликвию. Смысл повседневной жизни Нины Павловны сводился к тому, чтобы прокормить дочку и к тому, чтобы читать, читать и читать…
Ну, и писать, конечно. Мне она показала толстенную пачку своих писем в инстанции с официальными ответами. В ответах не было ничего обнадеживающего. Никто «делом» Нины Павловны заниматься не хотел.
Я узнал, что таких людей, «ходоков», в Москве уже настолько много, что они, объединившись, раскинули палаточный городок рядом с ГУМом, на Красной площади, объявили голодовку и требуют от власти решить их наболевшие, безысходные ситуации, в результате которых они стали беженцами и изгоями. Кого-то уволили, кого-то выгнали из квартиры, кому-то не платили пенсию или пособие. Это были мелкие проблемы, но все вместе они не сводились к перечню жалоб, все вместе они образовали какое-то новое и довольно тревожное социальное явление.
Нина Павловна Пащенко была, по сути дела, первой встреченной мной
Такие «ходоки», вдохновленные гласностью, накопившие боль, обиду, разочарование, гнев на власть, на всё устройство жизни, которые теперь они выплескивали в своих письмах и поступках, — и стали первым электоратом Ельцина, вернее, важной частью его электората. Он сам — обиженный, выгнанный, отщепенец, изгой для советской элиты — стал их знаменем, символом веры.
А таких людей в стране, которая вследствие горбачевской «гласности» начала просыпаться от социального сна, от жуткой апатии и неверия и заговорила во весь голос, становилось все больше и больше. Именно они стали ельцинской аудиторией, к которой он обращался поверх голов делегатов партконференции, через прессу, через своих сторонников и добровольных помощников. Их становилось все больше и больше. Тексты его речей и выступлений, реальных и выдуманных, расходились по стране в тысячах экземпляров, и эти «слепые» ксерокопии (на них едва можно было разглядеть буквы) горели огнем жажды социальной справедливости, о которой он говорил неустанно, в каждой своей публичной атаке на власть.
С помощью этих ксерокопий, с помощью потока писем в газеты и журналы (десятки тысяч их посылались каждый день в Москву) происходила переоценка всех ценностей советского человека.
Он больше не был готов терпеть, советский человек.
Вот этот итог 1988 года, итог социальный, был, пожалуй, самым серьезным. На фоне всех остальных, громких и впечатляющих событий он как бы затерялся, ушел в тень. Власть догадывалась, что происходит нечто подобное. Но она не учла масштабы этого нового явления и скорость, с какой это новое явление разрасталось.
В жизни самого Ельцина в 1988 году тоже происходили очень важные и довольно тонкие личностные изменения. Он не смог бы рассказать о них никакому интервьюеру, даже если бы захотел, настолько они были неуловимы, ощущались лишь подсознательно, но именно эти изменения стали ключевыми для всей его дальнейшей судьбы.
От того мрачного февраля, когда его продолжали мучить головные и сердечные боли, тяжелая бессонница, до августа, когда он в Юрмале впервые увидел теннисный матч и захотел взять в руки ракетку, вернуться к спорту, — прошло всего несколько месяцев. Но за эти месяцы к Ельцину вернулось нормальное самоощущение.
Он больше не был «человеком системы», советским руководителем высшего ранга («утешительная» должность в Госстрое только подчеркивала статус изгоя), он был отныне «отдельно» от должностного ранга; сам по себе, просто человеком, который ходит по улице, встречает людей, разговаривает с ними… Но человеком особенным. Человеком, который воплощал в себе надежды, иллюзии, веру многих людей. Каждый его шаг по этой новой для него территории частной жизни все более укреплял его в новом статусе. Открывал все более головокружительную перспективу.
Ельцин стал героем народа, первым в стране публичным политиком. И если вначале он только присматривался к этому своему новому положению, то с лета 1988 года утвердился в нем окончательно.
У него появлялись все новые и новые добровольные помощники, единомышленники. И если сперва их роль была не очевидной, не ясной и к этой своей новой свите он относился сдержанно, то постепенно их роль оформилась: «доверенные лица», которые по новому закону о выборах народных депутатов могли представлять его интересы в различных регионах Союза, предлагали ему выдвигаться кандидатом в депутаты от Сахалина, Камчатки, Киева, Одессы, Хабаровского края, Красноярска, Ленинградской области, Мурманска, Москвы и т. д. и т. д….
Выступая перед слушателями Высшей комсомольской школы в конце 1988 года, Ельцин сдержанно говорил, что «еще не решил», где ему баллотироваться. Но он не сказал, что выбирать ему придется почти из пятидесяти регионов страны.
Видеть Ельцина «своим» депутатом хотели везде.
Однажды, находясь в Испании, Ельцин попал в авиакатастрофу. Потом, по хронологии, я еще вернусь к этому эпизоду, но здесь хочу выделить один очень важный, на мой взгляд, психологический момент.
Перед вылетом самолет местной авиалинии два раза меняли и все равно не угадали — машина в воздухе вдруг начала терять высоту, что-то забарахлило в моторе…
И лишь один человек повел себя в этот момент странным образом: в момент падения самолета Ельцин
Кто-то крикнул:
— Борис Николаевич, пристегивайтесь, что вы делаете!
Но он молчал, бледнел и только смотрел в окно. Своим настроением Ельцин заразил и сидевшего рядом помощника, Льва Суханова. Тот тоже не посмел пристегнуться, решил быть с шефом до конца, и когда самолет все-таки приземлился — не рухнул, а именно приземлился, дотянул до земли, но очень жестко («удар был страшный», как писал Ельцин в своей книге) — Суханов отделался легко, а вот Ельцину пришлось перенести в местной больнице срочную и рискованную операцию на позвоночнике.
А вот другой известный эпизод. Автомобильная авария в центре Москвы (он как будто нарочно собирал все виды катастроф, падений, столкновений, все возможные варианты). Средь бела дня, на Тверской, юркий «жигуленок» неожиданно врезался в бок его черной служебной «Волге», которая мчалась в центр.
Три дня Москва была наполнена одной этой темой, три дня лихорадочно выясняли все вокруг (журналисты, демократическая общественность, добровольные помощники, следователи, простые обыватели): а кто же он, владелец «жигуленка», с какой целью выскочил навстречу черной «Волге» товарища Ельцина? Ведь если бы удар пришелся чуть в сторону, ох, несладко пришлось бы Председателю Верховного Совета РСФСР..
Откуда он вообще взялся, этот водитель-пенсионер, да не подосланный ли это казачок, да не из бывших ли, ветеранов, понимаешь, спецслужб, не из красно-коричневых ли? Зачем погнал чуть не на таран?
Огромный, все заглушающий хор голосов, задающих неудобные для власти, для товарища М. С. Горбачева лично вопросы. И слабый-слабый голос пенсионера в ответ: простите, не заметил…
А почему не заметил? А потому что машина товарища Ельцина ездит по центру города на своей, положенной таким машинам, скорости, но без включенного проблескового маячка и без сирены. Потому что товарищ Ельцин запретил водителю ездить с сиреной и мигалкой… Категорически отказался пользоваться этой привилегией.
А знаменитое падение Ельцина с моста в районе Рублево-Успенского шоссе 28 сентября 1989 года?
Над ним потом издевались, приписывали ему любовные похождения, пьянку, что чуть ли не сам упал с моста, нарочно, и, конечно, надо было что-то отвечать, хотя бы проводить собственное расследование, давать ну хоть какую-то версию, но он опять упрямо молчал — претензий ни к кому не имею. Извините.
Между тем падение произошло с большой высоты, в полубессознательном после шока состоянии он провел в очень холодной воде достаточно продолжительное время — угроза для жизни Бориса Николаевича была. И нешуточная.
Непонятно было одно: откуда она исходила?
Он запомнил — ему накинули мешок на голову. В воде удалось освободиться. Но мешка не нашли.
Он запомнил — подъехала сзади машина. Но постовые милиционеры, вытащившие его из воды, факт существования «чужой», с визгом шин уехавшей машины не подтвердили.
Он запомнил — ударили по голове, скинули, очнулся уже в воде.
Горбачев, следователи, министр внутренних дел Бакатин, потом Коржаков в своей книге, да вообще все, кто как следует прокатился после на этой теме, в один голос сомневались: если бы ударили по голове, где же рана? И вообще, разве отделался бы тогда так просто товарищ Ельцин Борис Николаевич? Нет, увы, не отделался бы…
Михаил Сергеевич с пеной у рта требовал от него объяснений. И логично требовал — страна-то была возмущена, версия о покушении была на устах всей демократической общественности.
А Ельцин — молчал.
На заседании сессии Верховного Совета говорить
Решили, что он что-то скрывает. На самом деле, если посмотреть всю цепочку, все подобные факты за всю его жизнь, — нормальная реакция.
Не было ничего, говорите? Ну, значит, не было.
Так было покушение или нет? Выскажу свою версию, поскольку за прошедшие почти 20 лет никаких новых фактов в этой истории не появилось…
Подобные молниеносные нападения КГБ совершал мастерски, когда нужно было запугать людей: несговорчивых информаторов, тех, кто на что-то не соглашался, кто «неправильно себя вел», чье поведение не нравилось. Использовались для этого самые разные схемы — от обычных телефонных звонков до наездов автомашиной на близких родственников и избиений в подъездах.
Ельцина припугнули молниеносно. Он даже не успел ничего понять. Но понял главное — в эту игру он с ними играть не будет. Не будет жаловаться, просить защиты у этой власти, не будет разбираться с КГБ. Но ненависть к тем, невидимым, кто отслеживает каждый шаг и способен напасть из-за угла, сохранил в себе навсегда.
Интересно, что версия Коржакова, его телохранителя, теперь, через много лет, полностью совпадает с официальной версией, на которой настаивали Горбачев и Бакатин — «ничего не было».
— Долгое время, — говорит Наина Иосифовна, — я пыталась понять, какую роль играет Александр Васильевич в нашей жизни. И долгое время мне казалось, что он появился при Борисе не случайно, не по своей инициативе. Никаких доказательств у меня, конечно, нет, но я не могла отделаться от мысли, что в КГБ его приставили к Борису Николаевичу, чтобы он следил за ним. И что его увольнение из КГБ, и «добровольная охрана», что все это часть большой игры. Потом, после 1991 года, эти опасения прошли, но время от времени возникали вновь… Его очень не любила внучка Бориса Николаевича, Катя. Мы ее переубеждали — ну посмотри, Александр Васильевич добрый, как он помогает дедушке. А она отвечала: «А вы посмотрите, какие у него злые глаза».
Все эти его падения, физические и политические, аварии, крушения, столкновения, путчи — всё вместилось в шесть лет, с октября 1987-го по октябрь 1993-го. Дальше кризисы изменились, изменилась их природа. А тогда, в эти первые годы, было очевидно, что кто-то упрямо испытывает его на физическую прочность, на жизнестойкость.
И, как будто понимая это, он каждый раз упрямо молчал, не делал заявлений, не устраивал шума, не поднимал скандала.
Потом его славе уже не смогут помешать никакие досадные неприятности. Напротив, от всех этих «историй» она только растет как на дрожжах, и кажется, что, если бы Ельцин просто споткнулся на улице, это сразу бы стало событием общенационального масштаба… Слава растет независимо от него, фантастическая, непонятная, великая.
Он сам пытается как-то объяснить ее, даже отшутиться. «Это не потому, что я обладаю какой-то особенной привлекательностью. Нет, косые взгляды антиперестроечных сил, в том числе части руководства, целый год делавших табу из фамилии Ельцин, вредивших всевозможными способами, породили мощное давление в противоположную сторону», — говорит он в одном из интервью.
Безусловно, он прав, ельцинский миф родился вопреки официозу, всяческим попыткам вытолкнуть его из политики. Но даже если бы этих попыток не было, если бы
Слишком велика была потребность в лидере. Потребность в сказочном герое, в богатыре, который и в огне не горит, и в воде не тонет.
И даже эти странные, почти нелепые происшествия встраивались в тот же богатырский контекст. Впрочем, все они могли окончиться вполне трагично, а не нелепо, и, кстати, чудом не окончились.
11 февраля 1989 года, меньше чем за две недели до официальной даты окончания выдвижения кандидатов на Первый съезд народных депутатов СССР, Ельцин летит в военном самолете в Пермь. Сперва, впрочем, вылетел из Москвы в Ленинград, чтобы «запутать следы». Там его встретили «некие товарищи», перевезли на военный аэродром и отправили в Пермь на военном борту, «в обнимку то ли с крылатой ракетой, то ли со снарядом», как он пишет в мемуарах.
У читателя может возникнуть вопрос: почему кандидат в депутаты должен «запутывать следы»? Но такова была реальность его кампании — предвыборные собрания жестко контролировались из Центра, да и местными партийными органами, поэтому поневоле приходилось прибегать и к такой вот конспирации.
Насчет ракеты — не шутка.
Он летит в крылатом военном грузовике, прижавшись к холодному металлическому туловищу огромного снаряда, под оглушительный шум моторов (никакой звуковой изоляции не предусмотрено, как и прочих удобств)…
Что делает он, бывший первый секретарь обкома, бывший кандидат в члены Политбюро, в этом холодном и шумном отсеке, между небом и землей, между прошлым и будущим?
Его слава, его борьба толкают его сами, он и впрямь словно парит над всеми препятствиями.
Кстати, летит он, чтобы баллотироваться в народные депутаты, не куда-нибудь, а в Березники, в город своего детства. Этот удивительный предвыборный трюк ему удастся, как и многие другие: власти в Березниках не будут готовы к его приезду, не успеют подготовить и окружное собрание, земляки будут приветствовать его овацией, и, стоя в этом скромном провинциальном зале, на фоне красных флагов и портрета Ленина, он вдруг почувствует удивительное волнение.
Военное детство встанет перед его глазами. Встанет ровно на секунду, чтобы уступить место другим захватывающим впечатлениям той предвыборной кампании.
Была поставлена четкая задача: Ельцин не должен пройти выборы. Как эта задача решалась? В своей книге «Исповедь на заданную тему» Б. Н. цитирует одну из многочисленных «методичек», которые в те дни держали на своем столе партработники.
«Как ни парадоксально, являясь сторонником нажимных, авторитарных методов в работе с кадрами, он считает возможным входить в общественный совет “Мемориала”. Не слишком ли велик диапазон его политических симпатий? И “Мемориал”, где он оказался в одной команде с Солженицыным, и “Память”, на встречу с которой он с охотой пошел в 1987 году. Не та ли это гибкость, которая на деле оборачивается беспринципностью?»
«Что движет им? Интересы простых людей? Тогда почему их нельзя практически защищать в нынешнем качестве министра? Скорее всего, им движут уязвленное самолюбие, амбиции, которые он так и не смог преодолеть, борьба за власть. Тогда почему избиратели должны становиться пешками в его руках?»
«Это не политический деятель, а какой-то политический лимитчик».
Трудно себе представить, удивляюсь я вслед за Ельциным, что вот эту галиматью читали в московских райкомах партии! Собирали уважаемых людей — преподавателей вузов, директоров предприятий, руководителей районных организаций, от торговли и общепита до милиции и народного образования — и читали им вслух про то, что «Ельцин сторонник нажимных методов…». Мол, идите к простому народу, товарищи активисты, соберите его у себя там, на предприятиях, и объясните, что голосовать за Ельцина никак нельзя.
Да простым людям к этому моменту было уже наплевать не только на то, с кем он там встречался и каких методов он сторонник. Если б народу даже сказали, что Ельцин берет деньги от американских империалистов, пьет кровь христианских младенцев, имеет гарем и виллу на Канарах, — все равно бы не поверили. Ельцин в 1989 году — это герой, рыцарь, защитник, заступник, Добрыня Никитич и Илья Муромец, Иван-дурак и Емеля, Иван-царевич и Серый Волк в одном лице. Ельцин — всё!
Райком — ничего…
Если бы хоть одного из слушателей этой райкомовской пропаганды подняли на трибуну и честно спросили бы его мнение, знаете, что бы он им сказал, если б набрался духу?
— Ребята, — сказал бы он им. — Если вы хотите его закопать, то закапывайте. Арестовывайте, ссылайте, убивайте, прячьте в неизвестном месте, если у вас хватит смелости. Иначе — вы ему только помогаете.
Конечно, против выдвижения Ельцина кандидатом в народные депутаты СССР действовали не просто отдельные работники конкретных райкомов и обкомов — Мобилизована была вся власть на местах. Ему отказывали в аренде залов для предвыборных собраний, переносили их даты, не пускали в зал тех, кто, по мнению властей, был «неблагонадежен», проводили «антисобрания» и «антимитинги».
Однако эта советская система в условиях открытой публичной политики действовала хоть и жестко, но крайне неуклюже. За Ельциным же стояла стихия… Стихия народной поддержки, неуправляемая, мощная, абсолютно бескорыстная.
Но самое главное — сам Ельцин в этой стихии чувствовал себя как рыба в воде, легко и уверенно. Это был первый и практически единственный на всем пространстве СССР политик, абсолютно готовый к публичности.
В более чем десяти регионах России, где его выдвигали в депутаты, на собраниях выступали его «доверенные лица». Ельцин рассылал вместе с ними свои письма, в которых он благодарил за поддержку. Но ни в одном письме не было даже намека, где же именно он будет баллотироваться. Он не желал раскрывать карты.
Это была лихо закрученная предвыборная интрига, которая приносила свои плоды. Но вскоре стало ясно, что Ельцин будет баллотироваться в столице. Причем почти во всех ее районах. «Москвичи не приняли тебя, Борис», — сказал когда-то ему Горбачев.
Не приняли? Вот сейчас и посмотрим.
В Кунцеве, возле кинотеатра, на холодном октябрьском ветру его ждали, причем ждали не один час, около сотни сторонников с плакатами: «Борис Ельцин — выбор народа», «Если не Ельцин, то кто?». Это были не выборщики окружного собрания, а простые активисты, которые не принимали участия в самом голосовании. Но когда собрание началось, они не ушли домой. Собрание продолжалось девять часов. Ельцин оказался в списке кандидатов.
А вот как проходило его выдвижение в Черемушках, по описанию британского журналиста:
«Битком набитый зал в районном Доме культуры и разочарованная толпа, стоящая под снегом в надежде хотя бы мельком увидеть его, крикнуть ему пару слов, прикоснуться к кумиру. Когда Ельцин заговорил, люди достали блокноты и авторучки — одни по привычке, другие из подозрения, что пресса не дает правдивого отчета ни о чем, что говорит или делает Ельцин. Им повезло оказаться в зале, и они считали своим долгом сообщить правду тем, кого там не было».
Им повезло оказаться в зале…
И действительно, в те январские и февральские дни 1989 года в стране не было событий, которые вызывали бы больший ажиотаж, чем эти предвыборные собрания. Люди буквально ломились в зал, их отпугивали, отпихивали, оттаскивали от дверей милиционеры и дружинники, требуя «приглашений», которые выдавали райкомы партии. Возникала давка. В зале было душно. Собрания продолжались по девять, иногда по двенадцать часов. Ведь каждый кандидат поднимался на сцену, чтобы ответить (подробно ответить!) на вопросы избирателей. Ельцину задавали сотни вопросов, он выбирал из них самые злые и неприятные и отвечал в своей излюбленной, ироничной и жесткой манере. Делать это он умел еще со свердловских времен: не зря часами держал внимание целых стадионов…»
Ничего подобного страна не видела и не слышала десятки лет. Ощущение того, что с трибуны говорят незаученные тексты и что можно задавать любые вопросы, было ни с чем несравнимо. Оно опьяняло.
Так что же говорил кандидат Ельцин?
В речи, которую Ельцин произнес в тех самых Черемушках (Гагаринский избирательный округ), он «призвал к контролю народа над партией, к социальной справедливости», к «возрождению духа сочувствия».
Надо отдать 4-е управление Минздрава (так называемую «кремлевку») пенсионерам, сиротам и афганским ветеранам. Спецраспределители должны быть закрыты. Выборы на всех уровнях должны быть тайными и конкурсными, с несколькими кандидатами…
Власть должна перейти к выборным органам (съезду). Партия должна перестать играть руководящую роль, а подчиняться решениям съезда (так же, как и правительство, и все политические и общественные организации, — «без исключения», подчеркивал Ельцин, выдерживая свою знаменитую долгую паузу). Политика, экономика и культура должны быть децентрализованы. Средства массовой информации также должны быть подотчетны «обществу в целом, а не группе людей». В новом советском парламенте народные депутаты должны иметь возможность требовать общенародного референдума — «по наиболее важным политическим вопросам».
Однако краеугольным камнем всех его предвыборных речей по-прежнему оставалось требование социальной справедливости: «расширить снабжение продуктами, потребительскими товарами, услугами и жильем», «сократить оборонные и космические программы для проведения сильной социальной политики», «ликвидировать продовольственные пайки и специальные распределители».
Ельцин употреблял все те же слова из горбачевского лексикона — плюрализм, перестройка, но его речь была совсем не похожа на «Обращение Центрального комитета к партии, ко всему советскому народу», опубликованное в «Правде» 13 января, «навстречу выборам».
Эффективность Ельцина-политика в предвыборной гонке была выше эффективности его оппонентов ровно настолько, насколько его предвыборная программа отличалась от этого невнятного документа.
Чутко чувствуя настроение аудитории, он шел на несколько шагов впереди своих оппонентов. Он говорил — пусть осторожно и с оговорками — то, что они еще боялись сказать. Он ставил цели, которые еще сияли для большинства где-то вдалеке.
Например, право на «индивидуальное» владение землей. Словосочетание «частная собственность» было еще запретным даже для него, борца за социальную справедливость и ниспровергателя основ. «Я бы не стал употреблять этот термин. Нужно учитывать народную психологию», — сказал Ельцин, комментируя земельную реформу в Эстонии, где уже (!) вернули наследникам права на земельные участки.
«А вообще называйте как угодно. Главное — вернуть человеку и его детям чувство хозяина земли», — добавляет он.
Вот это умение Ельцина остаться в рамках общепринятой социальной морали и вместе с тем — сдвинуть ее вперед, расширить рамки дозволенного — тоже из арсенала его публичной политики, которым тогда, повторяю, никто еще не владел.
Московские политические обозреватели, Андраник Мигранян и Виталий Третьяков, сразу обратили внимание на это отличие. Мигранян назвал ельцинские постулаты «опасными». Они, мол, упрощают реальные проблемы. Третьяков поставил вопрос иначе: для чего Ельцин идет в политику, отказываясь ради депутатского мандата от министерского кресла? Чтобы завоевать власть? Получается, он борется за власть? Разве так можно?
Поведение Ельцина и анализ его программы действительно приводили к таким выводам: этот политик хотел прийти к власти — через выборы, через народное мнение, через публичные методы борьбы! Это было настолько невероятно для нашей политической традиции, настолько странно и необычно, что вызывало у элиты (в том числе и у самых умных обозревателей) естественное отторжение. В стране, где власть доставалась только в рамках жесткой кулуарной схватки, где ее нужно было заслужить в кабинетах вышестоящего начальства, проходя всю иерархию, ступенька за ступенькой, это казалось дерзким вызовом. Это казалось даже аморальным.
Ельцин опережал их всех на целый круг! На это нельзя было не ответить.
«Популизм» Ельцина, то есть лозунги его политической программы, которые тогда казались несбыточными и невыполнимыми, — надолго приклеится к нему как политический ярлык. Но вот что интересно: пройдет два-три года и то, что он тогда декларировал, станет реальностью: рынок, частная собственность, в том числе и на землю, многопартийность, приватизация предприятий. А вот популярными эти лозунги сразу быть перестали. Но Ельцин упрямо продолжал следовать своей программе, уверенный, что только на этом пути общество ждет социальная справедливость.
Январский пленум ЦК КПСС 1989 года, где выбирались 100 делегатов от КПСС на будущий съезд народных депутатов, стал еще одной публичной «поркой» для Ельцина.
Впрочем, теперь гневные речи партийных товарищей в адрес Б. Н. воспринимались уже совсем иначе. Если в 1987 году люди лишь робко прислушивались к Ельцину (и подпитывали свой интерес в основном слухами), то через два года он был уже безусловным лидером общественного мнения. Поэтому «порка» и возымела обратный эффект.
Новую кампанию начал член ЦК, «знатный московский рабочий» Тихомиров. В своем выступлении на пленуме и в своей пространной статье, опубликованной затем в газете «Московская правда», Тихомиров задавал такие риторические вопросы: почему член ЦК КПСС товарищ Ельцин говорит в своих выступлениях о многопартийной системе? Кто давал ему такие полномочия? Зачем Ельцин призывает создать в новом законодательном органе «оппозицию в 20–30 процентов»? Откуда он знает, сколько процентов оппозиции нужно советскому народу? И зачем она вообще нужна? И наконец, почему Ельцин, когда он, простой рабочий Тихомиров, привел в Госстрой своего друга, изобретателя и рационализатора, заставил их ждать в приемной четыре часа?
«Этот токарь не только превосходно знал подробности политической платформы Ельцина, — с удивлением писал московский корреспондент одного из западных изданий, — он также был хорошо осведомлен о его личной жизни». По-рабочему прямо высказался Тихомиров на пленуме о том, что дочка Ельцина почему-то живет в стометровой квартире, ездит на госстроевской машине, что сам Ельцин получил дачу от министерства, члены его семьи по-прежнему пользуются услугами 4-го управления Минздрава, а сам он недавно заказал путевку в санаторий! И все это — на фоне его разговоров о социальной справедливости! Нехорошо, товарищ Ельцин. Там и сям, заключил Тихомиров, демократизация привела к появлению демагогов, которые порочат партию и советскую власть, и чем больше грязи в их речах выплеснется, тем больше они довольны. Коммунисты не позволят свершиться «покушению на партию»!
Токаря Тихомирова поддержали на пленуме бригадир строителей из Москвы, колхозник из Ленинградской области, сапожник из Кишинева, причем ни один из них не повторял другого, а приводил свои аргументы и факты на эту же тему: «Нехорошо, товарищ Ельцин!» Ельцин слушал их речи с некоторым болезненным изумлением. Он не ожидал, что все это будет повторяться снова и снова. Ему казалось, что в этот раз они уже не посмеют давить на него так грубо…
Пленум ЦК поручил Комитету партийного контроля при ЦК КПСС провести «проверку» деятельности товарища Ельцина. И создал комиссию для этой проверки.
Справедливости ради хочу заметить, что членство Ельцина в ЦК уже тогда, в 1989 году, выглядит действительно странно. Он и по внутреннему ощущению, и по идеологии, и по способу жить давно уже вне этой партии. Вот он дает интервью корреспонденту Би-би-си:
— …Многие смотрят на вас как на альтернативу, как на основателя новой партии, новой системы в Советском Союзе.
Ельцин отвечает:
— Я не давал оснований так думать. Другое дело, что у меня в программе есть целая серия очень революционных… мер. Но я не основатель новой политической оппозиции. Не лидер оппозиционной партии.
— Но люди хотят от вас этого.
— …Не говорите, что я призываю к созданию оппозиционной партии. Нет! Для этого еще нет условий.
Ельцин имеет в виду простую вещь: он еще сам не готов к созданию альтернативной партии. Он и впрямь по своей натуре человек глубоко государственный. Членство в ЦК КПСС помогает ему сохранить это ощущение, хотя само по себе уже выглядит анахронизмом — слишком быстро развиваются события. Стихия народной поддержки, народного гнева — кромсает это самоощущение в клочья. Он с системой или против нее? Он внутри системы или уже вне ее?
Пожалуй, Ельцин в 1989 году и сам не знает ответа на этот вопрос.
Однако атака «рабочего Тихомирова» придает ускорение его предвыборной кампании. То, что еще не было сделано его «доверенными лицами», его активистами, его листовками — доделал этот знатный рабочий. Москва взорвалась от возмущения.
На другой день после публикации письма Тихомирова в «Московской правде» в центре Москвы собрался митинг в семь тысяч человек.
Через несколько дней после пленума — еще один митинг, десять тысяч человек.
Затем Ельцин выступает на АЗЛК, по заводскому радио. Там его, прямо на своих рабочих местах во время обеденного перерыва, слушают 70 тысяч человек. По всей стране в это же время идут десятки митингов в его защиту. Один из самых известных — в Уральском политехническом институте, где его хорошо помнят. Это была первая мощная волна митингов в защиту Ельцина, и детали этих событий весьма примечательны.
Москва. Улица Горького, памятник Юрию Долгорукому (он весь оклеен листовками и плакатами: «Ельцин — народный депутат!», «Руки прочь от Ельцина!»). Из мегафона звучит напряженный голос: «Люди чувствуют обман и ложь… Десятки лет нам твердили, что народ и партия едины… Теперь ясно, что авангард партии, ее Центральный комитет, пошел против народа…»
«Ельцин! Не трогайте Ельцина! Ельцину — да! Мафии — нет!» — скандирует толпа. Милиция блокировала площадь.
Вдумайтесь в эти факты.
Митинги на крупнейших заводах, в институтах, на окраинах и в центре столицы. Официально Ельцин пока еще никто, кандидат в депутаты. «Пропустят» его на съезд или нет, еще вопрос. Почему же милиция разрешает эти митинги? Почему заводское или институтское начальство не боится их проводить?
Ответ один — система уже не работает так, как раньше. Полностью ограничить свободу выборов уже невозможно. Не пустить Ельцина на завод тоже невозможно — этому воспротивится заводской комитет. Запретить митинг в институте невозможно — по той же причине. Ельцин — один из тех таранов, которые «пробивают» эту новизну: то есть невозможное делают возможным.
На том самом пленуме, который устами рабочих, колхозников и сапожников так жестко осудит Ельцина, он, вместе со всеми голосуя за кандидатов «красной сотни», то есть депутатов от КПСС, единственный во всем зале поднимет руку «против» — голосуя против Лигачева.
Сто человек депутатов, за каждого голосуют единогласно, и Горбачев, внимательно глядя в зал под сверкающей кремлевской люстрой сквозь знаменитые очки в золотой оправе, сделает вид, что не понял — «единогласно», «что?», «ты, Борис Николаевич?», «один воздержался». Ельцин не станет уточнять, воздержался так воздержался…
Горбачев как будто извиняется перед залом, как будто ему неудобно за того, кого он позвал за праздничный стол, а этот «гость» так откровенно нарушает правила установленного этикета, ну, ничего, товарищи, мы с ним разберемся, потом…
Но потом, в кулуарах, к Ельцину подходит заслуженный седой маршал и молча жмет руку, а в ответ на удивленный взгляд тихо шепчет: «Я тоже хотел голосовать против Лигачева…»
— Что же не проголосовали?
— Я уже закрыл глаза… начал поднимать руку… духу не хватило…
Духу не хватило? Боевому маршалу?
Выборы. Новые выборы. Другие выборы. Все только начинают понимать их правила. Постепенно. Не сразу. Закрывая от страха глаза.
Но кто-то должен их объяснять. Кто-то первый. У кого хватит духу.
Окружное предвыборное собрание. Колонный зал Дома союзов. Самый престижный, после Кремлевского дворца, зал Москвы. Последняя ступенька перед выборами. Здесь нет митингов и демонстраций. Здесь сидит сытая, хоть и испуганная московская элита: секретари парткомов, руководители предприятий, крупнейшие специалисты, городские чиновники. Этот барьер ему не пройти! Просто по определению они не могут за него проголосовать! Может быть, этим объясняется спокойствие властей, разрешающих все эти митинги? Они верят в избирательный закон, придуманный Горбачевым. Верят, что всё под контролем.
«Всем было известно, — пишет Ельцин, — чем кончится окружное собрание, аппарат наметил двух кандидатов — Ю. Бракова (директора автозавода «ЗИЛ». — Б.М.) и космонавта Г. Гречко. У меня была единственная надежда на то, что все-таки удастся переломить зал и зарегистрировать всех, тогда появлялся реальный шанс. (Закон о выборах оставлял такую лазейку, окружное собрание могло внести в бюллетень двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов, а могло всех кандидатов. — Б. М.) Но по настроению зала я чувствовал: в этот раз номер не пройдет, в голове у каждого заученно сидели две фамилии…»
Перед самым собранием космонавт Гречко подошел к Ельцину и сказал, что хочет снять свою кандидатуру. Ельцин не дрогнул ни одним мускулом лица. «Нет, подождите, подумайте…» — тихо, почти не разжимая губ, сказал он Гречко. «Я все решил. Борис Николаевич», — так же тихо ответил Гречко и пошел обратно к своему месту.
Когда космонавт (после того как подробно ответил на все вопросы из зала) подошел к трибуне и сказал, что снимает свою кандидатуру, в зале был шок. Подготовленный сценарий был сорван. Работники горкома партии засуетились, но было уже поздно. Зал дружно голосовал за Ельцина. В бюллетень внесены две кандидатуры: Браков и Ельцин.
Космонавт Гречко объявил о своем решении в два часа ночи, перед окончательным голосованием. По правилам окружного избирательного собрания двое кандидатов должны были быть внесены в избирательный бюллетень. Браков получил в Колонном зале 577 голосов выборщиков, Ельцин — 532.
Однако когда к избирательным урнам пришли уже миллионы москвичей, картина была совсем иной.
Ельцин выиграл выборы в Москве с каким-то фантастическим преимуществом. Он набрал 91,53 процента от числа голосовавших (проголосовало при этом почти 90 процентов избирателей). За него отдали свои голоса 5 миллионов 238 тысяч 206 человек. Пять миллионов!
За Бракова проголосовали около четырехсот тысяч москвичей. Это чудо — всеобщая поддержка оппозиционного кандидата, кандидата с ярко выраженной радикальной программой, кандидата опасного, влекущего за собой нестабильность и перемены, — нуждается сегодня хоть в каком-то объяснении. Что, люди в СССР были так недовольны своей жизнью? Объяснение находится в самом слове «чудо». Голосование было таким, потому что люди ждали от Ельцина чего-то невозможного, сверхъестественного.
Даже кандидаты в депутаты советских времен, когда везде выбирали только одного депутата, без права выбора, порой не могли похвастаться столь высоким процентом. За эти «портретики» голосовали (всегда послушно и всегда покорно) по противоположной причине — потому что чудес не бывает. Абсолютное безверие сменилось абсолютной верой.
Но, пожалуй, главное потрясение ждало Ельцина впереди — это был сам Первый съезд народных депутатов, открывшийся 25 мая 1989 года в Кремлевском дворце.
Страна обратилась в слух. На Смоленской площади толпа людей собралась перед витриной радиомагазина, в которой были выставлены несколько работающих телевизоров. Такие же толпы стояли везде, где можно было увидеть или услышать съезд. Телевизоры и радиоприемники работали всюду — в машинах (водители в жаркий день открывали дверцы, и звук разносился по всем улицам города, было странное ощущение, что съезд транслируют прямо с неба), в кабинетах, жилых домах, на кораблях и в поездах, и те, кто не имел возможности в рабочее время смотреть или слушать прямую трансляцию, чувствовали себя глубоко обделенными. «Никто не трудится, все смотрят съезд», — озабоченно сказал кто-то из депутатов.
«Те десять дней, которые почти вся страна, не отрываясь, следила за отчаянными съездовскими дискуссиями, дали людям в политическом отношении гораздо больше, чем семьдесят лет…» — пишет Ельцин, имея в виду 70 лет советской власти. И продолжает: «В день открытия съезда это были одни люди, в день закрытия они стали уже другими». Он не оригинален в этой оценке.
«Десять дней, которые потрясли мир» — типичный заголовок для советских газет 1989 года.
Прямая трансляция съезда перевернула представления о рамках гласности. Следить за тем, как развивается главное политическое событие в режиме реального времени, — это было потрясающее ощущение. И страна пережила его впервые в своей истории. Однако, судя по опросам, проведенным в начале XXI века, примерно половина населения России сегодня уже не знает, что это было за событие и чем оно примечательно.
Первый съезд народных депутатов СССР отличался от аналогичных событий прежде всего по атмосфере, по интонации выступавших на нем людей. Вероятно, он был похож на Учредительное собрание 1917 года, которому предстояло определить судьбы конституции и будущее России и которое, увы, не успело этого сделать. Выходя на трибуну, депутаты говорили не только о законах или о процедурах, которые им предстояло утвердить (хотя и о них тоже). В подтексте каждого выступления дышал сам
Я лично не помню больше такого собрания, события, которое бы сильнее передавало ощущение творящейся истории, чем этот съезд.
В зале сидели 2250 народных депутатов СССР. 750 из них представляли «общественные организации». (Коммунистическая партия Советского Союза также числилась в списке «общественных организаций», ей полагалось 100 мест.)
Остальные 1500 мест были распределены между территориальными округами.
Состав Верховного Совета СССР, избиравшийся с 1936 года, кстати говоря, был значительно меньше. Соответственно, в этот раз в зал Кремлевского дворца съездов попали представители не просто разных республик, национальностей, краев и областей. Тут были люди, которые получили мандат от конкретных районов, практически от конкретных деревень, аулов и станиц. Это был почти Земский собор советской эпохи.
Члены Политбюро находились в зале, среди делегации КПСС. Сама огромная сцена КДС в первый момент трансляции была совершенно пуста. Гигантский портрет Ленина, сиротливо висящий над ней, лишь подчеркивал впечатление зияющей пустоты. Сегодня это кажется пустяковой деталью. Тогда же это стало сенсацией. «Президиума» в первые минуты съезда не было. Его тоже нужно было избрать (хотя, конечно, имена тех, кто будет сидеть в президиуме, были известны заранее).
Впрочем, «чудеса демократии» начались еще раньше. Вот что писал об этом в своих воспоминаниях Анатолий Собчак, приехавший из Питера в Москву за несколько дней до съезда:
«В Москве выяснилось, что подготовка… уже идет. Нам было сказано, что сначала пройдет встреча российских депутатов с руководством партии и российским правительством».
Вести встречу должен был член Политбюро Виталий Воротников. Но вскоре выяснилось, что вести ее он не в состоянии. Депутатская масса бурлила и задавала вопросы. Собчак пишет: «…Оказалось, что он, опытный аппаратчик старого закала, председательствовавший на сотнях мероприятий государственного масштаба, абсолютно не умеет управлять форумом несогласных. Он привык иметь дело с живыми автоматами, а тут… сник и растерялся».
Встречу начал вести Горбачев.
На вопрос Собчака о том, будут ли подвергаться предварительной цензуре выступления депутатов и решения съезда, Горбачев ответил:
— Всё будет решать съезд. Мы за вас, товарищи, решать не собираемся, а тем более оказывать давление.
«При этом я физически ощутил обаяние и силу личности Горбачева», — добавляет Собчак. Однако настырный ленинградский юрист вовсе не собирался успокаиваться, «физически ощутив обаяние и силу личности» первого лица в государстве.
«Нас ознакомили с результатами Пленума ЦК (он состоялся накануне) и рекомендациями по назначению на высшие государственные должности, — пишет Собчак. — Я был удивлен и возмущен предложениями по кандидатурам Председателя Верховного суда и Председателя Комитета конституционного надзора. На высший юридический пост страны — Председателя Верховного суда СССР — Центральный комитет предлагал неизвестного в юридическом мире человека, лишь несколько месяцев проработавшего председателем Московского городского суда, а до этого имевшего только опыт работы народным судьей». Собчак выступил, и все предложенные кандидатуры (кроме председателя Совета министров) были отвергнуты… Политбюро созвало новый пленум ЦК и предложило съезду новые кандидатуры.
Собчак писал: я поднялся на эту трибуну и не почувствовал ни робости, ни волнения. «Сбывался десятилетней давности сон» («странный» сон, в котором он, молодой юрист, стоит на трибуне и говорит правду руководителям Советской страны).
Думаю, что ощущение «сна», — для кого-то страшного, для кого-то триумфального и счастливого, — было в те дни не только у Собчака.
На этом фоне речь Ельцина[7] (в ней он перечислил основные постулаты своей предвыборной программы) стала лишь одним из событий съезда в ряду других. Да, он никогда не умел витийствовать, брать красотой стиля. Как всегда, сжато, сухо, глуховатым голосом изложил свои короткие тезисы. Интрига, связанная с ним, осталась за рамками его выступления. В политическом театре Ельцина никогда не было «системы Станиславского», один сплошной «экшн» — действия, поступки.
Однако в данном случае «экшн» оставался за кадром, а на сцене выступили совсем другие «артисты». Ректор Московского историко-архивного института Юрий Афанасьев. Профессор Ленинградского университета, блестящий юрист Анатолий Собчак. Академик Дмитрий Лихачев. Один из самых известных экономистов своего времени Гавриил Попов. Юрий Власов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (он произнес самую гневную, самую яркую речь на съезде, в основном посвященную зловещей роли КГБ в жизни советского общества; зал слушал его, едва дыша). Это были высокообразованные, эрудированные, сверкающие красноречием люди. Мы и не знали, что о политике можно говорить так интересно. У всех, смотревших трансляцию, было ощущение взрыва, какого-то словесного вулкана.
Но шок был не от этих речей — шок был от мысли: почему не они сидят в Политбюро? Почему не они нами руководят, если уж теперь им позволено обращаться к нации во весь голос?
Среди делегатов на съезде был и академик Сахаров. Диссидент, который еще два года назад отбывал бессрочную ссылку в Горьком.
Горбачев назвал его по имени-отчеству, Андрей Дмитриевич, поскольку слово «товарищ» здесь явно не подходило. Выступая, Сахаров сразу сказал, что съезд должен быть высшим органом власти в стране. И предложил закрепить это в специальной резолюции (не закрепили).
Выступление Сахарова было еще одной оплеухой советской власти. Однако вскоре страна вспомнила, что по-прежнему живет при ней. 2 июня, на девятый день работы съезда, на трибуну поднялся депутат от Украины Сергей Червонопиский, ветеран афганской войны, молодой человек на протезах.
«Уже утром, — писал Собчак, — в фойе Дворца съездов появились листовки. В них сообщалось, что Сахаров дал интервью канадской газете “Оттава ситизен” и сообщил, что во время афганской войны с советских вертолетов расстреливали попавших в окружение своих же солдат, чтобы те не могли сдаться в плен».
Речь Сергея Червонопиского была гневной. «Мы до глубины души возмущены этой безответственной, провокационной выходкой известного ученого и расцениваем его безличностное обвинение как злонамеренный выпад против Советских Вооруженных сил. Рассматриваем как дискредитацию, как очередную попытку разорвать священное единство армии, народа и партии. Мы восприняли это как унижение чести и достоинства…»
Уходить с высокой сцены на протезах депутату от Украины было еще труднее, чем подниматься. Зал едва ли не стоя, бурной овацией провожал молодого ветерана. Когда Сахаров попросил слова, его встретили улюлюканьем, свистом, не давали говорить, захлопывали. Сахаров, пытаясь защищаться («я только хотел сказать…» — но остальная речь потонула в шуме), страшно заикался, бледнел, его было жаль. Он ушел с трибуны, сгорбленный, потрясенный[8].
Однако Сахаров вовсе не был сломлен этим инцидентом, как могло показаться поначалу. Он был внутренне готов к такой реакции. «Выступая на съезде в последний день его работы, — пишут историки М. Геллер и А. Некрич, — Сахаров предложил исключить из Конституции СССР статью 6, предоставляющую партии тотальную власть в стране, и говорил о том, что Михаил Горбачев собрал в своих руках почти неограниченную власть. Председательствовавший Горбачев неоднократно пытался прервать речь депутата Сахарова, который спокойно продолжал говорить. Тогда был выключен микрофон. Страна могла видеть оратора, но не слышать его. В заключительном слове Горбачев счел необходимым “отбросить инсинуации относительно того, что я сосредоточил в своих руках всю власть”. Это, заверил генеральный секретарь и Председатель Верховного Совета, противоречит “моим идеям, моему представлению о мире и даже моему характеру”».
В сентябре 1989 года в интервью для «Ле Монд» на вопрос «Какого вы мнения сегодня о Михаиле Горбачеве?» Сахаров ответил: «С одной стороны, я понимаю, что он — инициатор перестройки, которая была исторической необходимостью. С другой стороны, я вижу, что он ведет себя очень нерешительно… Так что создается впечатление, что единственным реальным изменением был его собственный приход к власти. Это, может быть, некоторая утрировка, но все же это так».
Тем временем съезд и его трансляция на всю страну продолжались.
Режиссер трансляции выхватывал отдельные лица. Крупные планы.
Эти лица, задумчивые, тяжелые, возмущенные, радостные, буквально обрушивались с экрана на зрителей, как яркая иллюстрация к словесным баталиям: это были прежде всего естественные реакции, какой-то поток открытых эмоций…
Телевидение как бы помогало донести до массовой аудитории идеи Первого съезда. Но, собственно, в чем же состояли эти идеи?
В том, что богатейшая страна мира в мирное время живет по продовольственным талонам, по «карточкам» (Юрий Власов)? Но мм знали это и без них. В том, что роль КПСС нужно ограничить, приняв «специальный закон» (Ельцин)? Но в это никто не верил. В том, что в экономике необходимы глубокие и радикальные реформы (Попов)? Да, но это было известно и до Первого съезда.
Нет, особая новизна съезда была именно в нем самом. В открытости его демократических процедур. В свободе высказывания. В том, что можно было попросить слова, не предупреждая заранее президиум и явно не «визируя» сам текст выступления. В том, как съезд выбирал верхнюю палату и ее председателя. Это была школа парламентаризма для всей страны. Это была политика — открытая, драматичная, остросюжетная, понятная для всех.
В книге «Исповедь на заданную тему» Ельцин пишет: «После столь убедительной победы на выборах пошли активные слухи, что на съезде народных депутатов я собираюсь бороться с Горбачевым за должность Председателя… Не знаю, где рождались эти слухи — среди моих сторонников, вошедших в раж в связи с победой, или, наоборот, в стане моих противников, перепугавшихся столь бурной реакции москвичей, но слухи эти продолжали упорно циркулировать».
Примерно за неделю до открытия съезда Горбачев позвонил Ельцину и предложил ему встретиться. Они встретились в Кремле.
«Встреча продолжалась около часа, — пишет Ельцин. — Впервые после долгого перерыва мы сидели друг против друга, разговор был напряженный, нервный, многое из того, что накопилось у меня за последнее время, я высказал ему».
Собеседники плохо понимали друг друга. Наконец, почувствовав, что беседа явно не клеится, Горбачев смягчил тон и спросил о ближайших планах Ельцина. «Я ответил сразу, — все решит съезд. Горбачеву этот ответ не понравился, он хотел все же получить от меня какие-то гарантии и потому продолжал спрашивать — а как я смотрю на хозяйственную работу, может быть, меня заинтересует работа в Совмине? А я продолжал твердить свое — все решит съезд».
О каких гарантиях говорит Ельцин?
Выборы Горбачева Председателем Верховного Совета — один из самых драматичных моментов съезда. Будем ли выбирать из
Эта идея настолько взволнует депутатов, что они будут ее обсуждать несколько часов. Для некоторых из них, опьяненных свободой высказывания, она станет глубоко принципиальной — никому не известный депутат Оболенский потребует внести себя в списки для голосования. Альтернативный кандидат в председатели Верховного Совета — кощунство! Теперь Ельцину становятся понятными сомнения и страхи М. С.
Этот почти трехтысячный зал, составленный процентов на семьдесят из элиты, из чиновников, далеко не так лоялен к генеральному секретарю, он глухо ропщет, он раздражен, он почувствовал свою силу. И, скорее всего, Горбачев боялся, что Ельцин возглавит именно эту, консервативную волну стихийного протеста против главного «прораба перестройки».
Ельцина пытаются внести в список, но он берет самоотвод. На вопрос одного из депутатов: почему взял самоотвод при выборах председателя — отвечает с некоторой заминкой: «Я, как член Центрального комитета, должен подчиниться решению пленума партии…»
Другой процедурный момент, вызвавший бурю в зале, — избрание членов Верховного Совета, то есть тех депутатов, которые будут работать «на постоянной основе», в комитетах и комиссиях, разрабатывать законы и постановления, словом — будущей политической элиты. Списки заранее готовились и утверждались в Политбюро. Советская партийная машина еще действует.
Ельцина нет в списках этой «будущей политической элиты». Разговор в Кремле не забыт. В Верховном Совете ему нет места.
И тогда происходит очередное чудо — депутат Казанник, профессор-юрист из Омска, отказывается от своего места в Верховном Совете и просит включить в список для голосования Ельцина. Горбачев понимает: мешать Ельцину сейчас опасно. Раскол, «раздрай», которого он так боялся на съезде, ему не нужен.
«…Горбачев понимал, — вспоминает Попов, — что, если Верховный Совет, куда не избрали ни Сахарова, ни Афанасьева, ни меня, вообще окажется без оппозиционных депутатов, то сделать его рычагом давления на ЦК, как мыслилось Михаилу Сергеевичу, никак не удастся. Я провел с Горбачевым переговоры. Он мне сказал: “Не вижу выхода”. — “А если мы сами найдем выход, — спросил я, — вы нас поддержите?” — “Да”, — ответил он. И сдержал свое слово. Дальнейшее хорошо известно. Сибирский депутат Алексей Казанник после моего разговора с ним принял решение отказаться работать в Верховном Совете. Следующим за ним по числу набранных голосов шел Ельцин. Так он и попал в Верховный Совет. Но тут “агрессивно-послушное большинство”, раскусив нашу уловку, возмутилось и стало требовать новых выборов. Горбачев ответил: мол, все по регламенту. Если кто-то отказывается, то проходит следующий за ним».
Кстати, почему Ельцин не выставил свою кандидатуру при выборах Председателя Верховного Совета, не составил конкуренции Горбачеву? Сам он в своих воспоминаниях говорит об этом как-то уклончиво. Потому что не хотел проигрывать? Ведь «агрессивно-послушное» большинство съезда вряд ли стало бы за него голосовать.
Вряд ли только поэтому.
Шанс побороться за голоса, устроить шумный скандал на съезде, набрать, как сказали бы сейчас, «лишние очки», то есть повысить свой рейтинг — у него все-таки был.
Так все-таки что? Неуверенность? Осторожность? Трезвый расчет?
Я думаю, причина глубже: Ельцин никогда не ставил себе целью бороться лично с Горбачевым. Он понимал его значение, его роль в истории. По крайней мере, тогда, в 1989 году, дело обстояло именно так.
Сегодня, спустя 20 лет, я пытаюсь осознать, охватить всю картину целиком и определить суть того, что происходило тогда, в мае 1989 года. А суть, мне кажется, такова: через два с половиной года, в декабре 1991 года, развалится вовсе не СССР — великий, могучий, железобетонный, сплотивший навеки, скрепивший стальными цепями и народы, и территории, нашпигованный ракетами и окруженный по периметру всех морей подлодками и авианосцами, — нет, развалится что-то совсем иное, не похожее на СССР, потому что в мае 1989 года родилось совершенно другое государство, особая, уникальная
Всё в этой стране Горбачева абсолютно противоречиво. В ней спокойно существует то, чего в принципе не бывает, не может быть: коммунистическая партия, которая добровольно отдает свою власть; имперское государство, благосклонно взирающее на то, как рождается «демократический сепаратизм» на его окраинах; наконец, лидер этого государства и глава этой партии, который пытается балансировать на острие лезвия вместе со всем народом, чтобы никому не было обидно, больно, некомфортно, — вместо того, чтобы создать новую партию и новую страну.
Съезд народных депутатов — квинтэссенция этой странной «страны Горбачева». Здесь всему есть место, здесь каждый может считать себя победителем. И старый коммунист, и интеллигент-демократ, и матерый аппаратчик, и только что возникший из политического небытия персонаж — все они здесь и уместны, и необходимы.
Но насколько она жизнеспособна, эта страна?
Она начнет разваливаться в начале 1991 года, затрещит по швам, но пока… Пока это победа. И плодами этой победы надлежит воспользоваться — всем, кто сидит в этом зале, полном чудес и несбыточных обещаний.
…Помимо публичных демократических процедур и драматических голосований второй важнейшей особенностью съезда было создание так называемых
Эти комиссии — особая страница нашей истории.
Комиссий создано три: по пакту Молотова — Риббентропа, по деятельности следственной группы Гдляна и Иванова и по расследованию событий в Тбилиси.
Страна, которая ждала этих выборов и этого съезда как манны небесной, продолжала выплескивать из себя глубоко запрятанные комплексы, обиды, прежде всего национальные, несбыточные надежды и агрессию.
Поэтому съезд был вынужден слушать генерала Родионова, который пытался объяснить, каким образом в Тбилиси в апреле 1989 года при разгоне толпы у Дома правительства 19 человек погибли от саперных лопаток десантников[9]. Объяснить было нелегко: кто именно отдавал приказ о применении войск, так и осталось загадкой. Горбачев был за границей, находившийся на «хозяйстве» второй секретарь Лигачев ответственности на себя не взял. Однако очевидно, что не сообщить Горбачеву о том, что происходит в Тбилиси, он просто не мог, не имел права.
Поэтому съезд был вынужден выслушивать взаимные обвинения, порой доходящие до оскорблений депутатов от Армении и Азербайджана, публично вываливших во всей неприглядности и кровавой пене карабахскую проблему. Поэтому зал, процентов на семьдесят заполненный простыми, твердокаменными советскими чиновниками, с тяжелым изумлением взирал на депутата Ландсбергиса, музыковеда (!) из Литвы, который, взобравшись на трибуну, очень жестко объяснял съезду, что решения его неправомочны, потому что республики Прибалтики отныне не могут считаться советскими.
И наконец, вопрос о репрессиях, исторической реабилитации, о сталинских преступлениях.
А если уж зашла речь о Сталине, то говорить надо и о репрессированных народах, а значит — о
Еще одной комиссии (во главе с А. Н. Яковлевым) поручено разобраться в том, существуют ли на самом деле так называемые «протоколы Молотова — Риббентропа».
Протоколы 1939 года о разделе Европы между Сталиным и Гитлером,
Партийная пропаганда исходила из того, что, если подлинники и сохранились, они никогда не будут обнародованы.
Эта тяжкая проблема тоже легла на плечи Горбачева. И Болдина, многолетнего помощника Горбачева, нового руководителя Общего отдела ЦК КПСС (Лукьянов на съезде стал первым заместителем Председателя Верховного Совета).
О существовании протоколов официально знали, получается, только трое — Горбачев, как хозяин сейфа, Лукьянов и он. Неофициально — несколько больше. Был еще Андрей Андреевич Громыко, великий советский дипломат, который в свое время и отдал их Сталину, понимая, что в МИДе они находиться не должны. Но Громыко так стар, и, кроме того, он знал столько этих советских секретов, что существование протоколов было всего лишь одним из них, из тех, которые Громыко должен был хранить вечно. Человек-сейф. Человек, полный секретов. Весь состоявший из секретов.
А тут — всего лишь один. И не дает жить спокойно. Всего один, но какой!
«Когда я вступил в должность заведующего общим отделом ЦК, — пишет Болдин, — мне доложили, что секретные протоколы хранятся в архиве. Причем оказалось, что они не законвертированы, не имеют особых грифов и штампов, а потому могли быть доступны многим работникам ЦК». Болдин немедленно попросился на доклад к Горбачеву.
«Секретные протоколы состояли, если мне не изменяет память, из двух листков текста, завизированных Риббентропом и Молотовым, а также довольно большой карты западных районов СССР и сопредельных стран, подписанной Риббентропом и Сталиным. Подпись Молотова на секретном протоколе была сделана латинскими буквами… Не думаю, что это случайность. Скорее всего, он рассчитывал на то, что достоверность документа может быть поставлена под сомнение. Впрочем, Сталин не хитрил, и три буквы его имени и фамилии “И. Ст.” на карте ставили всё на свои места».
«М. С. Горбачев, — пишет Валерий Болдин, — внимательно прочитал протокол и развернул на столе карту со старой и новой границей на Западе. Это была крупномасштабная карта с обозначением городов, населенных пунктов, железных и шоссейных дорог, рек, возвышенностей и низменностей. Все надписи на ней были сделаны на немецком языке. Генсек изучал линию согласованной границы, разделившей полвека назад две могущественные державы, и комментировал свои наблюдения, изредка задавая мне вопросы. Он не удивился наличию таких документов, скорее в его интонации было раздражение, что пришлось прикоснуться к прошлому.
— Убери подальше! — сказал он в заключение».
Протоколы начали искать не только за рубежом, где, по понятным причинам, интерес к ним был огромен. Их стали искать секретарь ЦК А. Яковлев и В. Фалин, руководитель Международного отдела. Болдин доложил об этом Горбачеву, но тот лишь коротко бросил:
— Никому ничего показывать не надо. Кому следует — скажу сам.
Так вот, на Первом съезде народных депутатов СССР произошел эпизод, совершенно потрясший Болдина, руководителя горбачевской канцелярии, вообще-то говоря, убежденного коммуниста.
«…На съезде народных депутатов, где обсуждался вопрос о советско-германских протоколах и о положении дел в Прибалтийских республиках, М. С. Горбачев неожиданно для меня сказал, что все попытки найти этот подлинник секретного договора не увенчались успехом». Болдин обомлел, он не ожидал, что его» шеф может так спокойно лгать, «глядя в глаза» съезду.
Однако история на этом не закончилась. «Спустя некоторое время после своего выступления на съезде народных депутатов М. С. Горбачев спросил меня, как бы между прочим, уничтожил ли я протоколы. Я ответил, что сделать это без специального разрешения не могу.
— Ты понимаешь, что представляют собой сейчас эти документы?!»
Горбачев хотел, чтобы Болдин сам уничтожил документы, без прямого приказа. Но Болдин не понял намека. И это возмутило генсека.
Почему Горбачев так боялся этой карты с пометками Сталина и Риббентропа? Почему хотел ее уничтожить, если верить Болдину? Почему обманывал даже своих ближайших соратников, друзей — Александра Яковлева, например? Нетрудно понять, что публикация «протоколов» давала мощный козырь движению за выход прибалтийских республик из состава СССР. Их аннексия в 1940 году, таким образом, могла быть приравнена к гитлеровской аннексии Чехословакии. Горбачев панически боялся развала СССР. Но кто знает — обнародуй он эту зловещую тайну вовремя, прояви мужество в этом вопросе, может быть, и сам вопрос решился бы по-другому?
Однако Болдин, отдадим должное его честности, протоколы не уничтожил. Их нашел в сейфе генерального секретаря после августа 1991 года Борис Ельцин, нашел и обнародовал.
…Но вернемся в 1989 год, к съезду.
Горбачев был взволнован не только остротой полемики между «демократами и консерваторами», не только тем, что так сильно звучит национальный вопрос, но и тем, что создана комиссия по работе следственной группы Гдляна и Иванова. Дело в том, что деятельность этой комиссии могла коснуться и его лично.
«Не знаю, когда начал пользоваться услугами спецслужб по подслушиванию разговоров генсек, — пишет Валерий Болдин, в то время руководивший общим отделом ЦК, — скорее всего, одновременно с восхождением на олимп политической власти. Но мне пришлось столкнуться с этим впервые, когда следственная бригада Прокуратуры СССР, возглавляемая… Гдляном и Ивановым…имела неосторожность тронуть ставропольское прошлое генсека…»
Сама история, конечно, не стоила выеденного яйца, но последствия она имела весьма печальные. И прежде всего — для психики Горбачева.
«Видимо, они (следователи Гдлян и Иванов. — Б. М.) чувствовали слабость доказательств и возможные последствия этого. И скоро, как они утверждали, в деле замелькали фамилии Лигачева, Медведева, Яковлева, а затем и Горбачева. Но в это время действия Гдляна и Иванова уже находились под контролем технических средств подслушивания, что достаточно ясно показывало движущие пружины многих утверждений, недозволенные методы допросов, беспочвенность выводов. Службы КГБ знали тогда всё и, наверное, могли принять меры. Но генсек не спешил пресечь неправомерные действия.
Со временем М. С. Горбачев все больше входил во вкус изучения расшифровок бесед своих оппонентов. Если первое время он сам получал такого рода информацию, конвертовал и возвращал в КГБ, то с ростом объема бумаг поручил это делать мне, кроме особо секретных документов. Так продолжалось до Первого съезда народных депутатов.
Избрание ряда политических противников Горбачева депутатами, видимо, серьезно озадачило В. А. Крючкова. Я был свидетелем разговора по демофону (громкой связи. — Б. М.) М. С. Горбачева с председателем КГБ, когда Владимир Александрович доложил, что его специальные службы больше не могут вести записи разговоров депутатов.
— Михаил Сергеевич, люди у меня отказываются это делать, и я не имею права настаивать. Это нарушение закона, — говорил Крючков.
— Ты что, Володя, говоришь? Политическая борьба нарастает, а вы все хотите отсидеться в сторонке. Думайте, как сделать.
…Разумеется, главным объектом интереса в то время был Б. Н. Ельцин. Однако после избрания его в Верховный Совет СССР, а позже президентом России спецслужбы не могли делать то, что нарушало дозволенные методы. И в этой связи Крючков вновь поставил вопрос перед М. С. Горбачевым. Но получил однозначный, раздраженный ответ:
— Мне что, нужно учить КГБ, как следует работать?»
Огромная библиотека с записями чужих разговоров, по словам Болдина, не только существовала в сейфе у Горбачева, но и пополнялась даже во время его отпуска.
Он всегда хотел знать, что они говорят, что они делают. Кстати, самих членов Политбюро прослушивание, по крайней мере официально, никогда не касалось…
Таковы были правила игры.
Ожидание заговора постепенно перерастает у Горбачева в настоящую манию. Главное, чего он боится, — Ельцин объединится с консерваторами в Политбюро и на съезде. Поэтому для него так важно показать, что Ельцин — радикал, «разнузданный демократ».
Ельцин получает на съезде пост главы Комитета по строительству и архитектуре. Теперь он абсолютно легально присутствует в высшем законодательном органе страны, Верховном Совете СССР.
Доволен ли этим Горбачев? Вряд ли. Но, скорее всего, этот вопрос давно потонул в сонме других, поднятых съездом. Горбачев измучен. Он горд этим съездом и одновременно подавлен им.
Осенью этого года КГБ положил на стол Горбачеву еще одну порцию интереснейших документов.
9—17 сентября 1989 года Ельцин по приглашению Фонда социальных изобретений посетил США. В США его принимал институт Эсален в Сан-Франциско. До этого, в течение первой половины 1989 года, он уже не раз рассматривал различные приглашения. Ехать как государственное лицо, на государственном уровне, он уже (или еще) не мог. Ехать за чей-то счет, выступать с лекциями как частное лицо — не хотел. Фонд социальных изобретений сумел решить эту проблему.
О СПИДе, страшной неизлечимой болезни, только-только заговорили, эта была очередная острая тема, поднятая в печати в период гласности и перестройки. Советская медицинская промышленность одноразовых шприцев не производила. А за границей они стоили копейки.
Советники предложили Ельцину: гонорар, полученный за публичные выступления в США, может быть потрачен на покупку одноразовых шприцев. Ельцин встретился с послом США в Москве Дж. Мэтлоком и объяснил ему цель этой поездки. Мэтлок, в свою очередь, взглянул на программу визита и отметил, что Ельцину предстоит за восемь дней выступить перед разными аудиториями не менее 20–30 раз. «Это напряженная программа, и я надеюсь, ваш труд будет оплачен», — вежливо сказал посол США. «Я собираюсь купить одноразовые шприцы для наших больниц», — ответил ему Ельцин.
Мэтлок был прав. Программа и впрямь получилась чудовищно напряженной.
Ельцин прилетел в Нью-Йорк. В 7.15 утра он дал интервью для программы «Доброе утро, Америка» на канале Эй-би-си. Потом поехал на Фондовую биржу. Затем последовали другие встречи и интервью, а в полдень он выступил с лекцией на обеде в Совете по международным отношениям. После этого он записал интервью для «Часа новостей Макнейла/Лерера», выступил в Колумбийском университете и отправился на ужин в «Ривер-клубе», устроенный Дэвидом Рокфеллером. Незадолго до полуночи он сел на самолет, отправлявшийся в Балтимор.
И это была программа только одного, первого дня!
Везде он отвечал на многочисленные вопросы. Это одновременно придавало кураж, дополнительные силы — и жутко выматывало. Отвечать на вопросы американцев, которые практически ничего не знали о нас, кроме того, что мы «империя зла», было нелегко.
На всех приемах ему предлагали водку. Он просил воды. «Я свалюсь от первого же глотка», — вежливо объяснял он радушным хозяевам, имея в виду свою крайнюю усталость.
«Один из гостей на завтраке, разговаривавший с Ельциным после выступления, узнал, что россиянин не спал последние 40 часов и страдал от нью-йоркской влажности и 35-градусной жары. “Если я умру от усталости, — сказал ему Ельцин, — пожалуйста, договоритесь, чтобы мое тело отправили в Свердловск — упакованным в сухой лед”».
Ельцин осмотрел все главные достопримечательности Нью-Йорка, включая, разумеется, статую Свободы. Но главной достопримечательностью для него оказался рядовой придорожный супермаркет в Хьюстоне.
«Это произошло по дороге в аэропорт после короткого визита в Центр космических исследований имени Линдона Б. Джонсона: Ельцин, в первый и последний раз за поездку, посетил американский магазин — супермаркет “Рэндолл”» (Леон Арон).
Ельцин хотел войти в магазин неожиданно, как в Свердловске или в Москве, и экспромтом, чтобы хозяева «не успели подготовиться». Он ожидал увидеть в крупном магазине много покупателей, чтобы пообщаться «с простыми людьми» и узнать, «какие у них проблемы». Однако магазин в это время суток был почти пуст. Это первое, что его поразило. Обилие света, калейдоскоп красок, чистота и блеск витрин и прилавков ослепили человека, который привык к невзрачности советских универмагов и гастрономов.
«Ельцин спросил одного из работников магазина, сколько наименований продуктов имеется в наличии. “Около тридцати тысяч”, — ответил тот. Они изучали сыры и ветчины, считали разные сорта колбас — и сбивались со счета», — пишет его помощник Суханов.
Затем Ельцин остановил одну покупательницу, извинился и спросил, каков доход ее семьи и сколько они тратят на еду. «Три тысячи шестьсот долларов в месяц, из них сто семьдесят долларов в неделю уходит на продукты». Это были ошеломляющие цифры. Советская семья тратила на еду львиную долю своего месячного дохода (почти 60 процентов). И притом на еду, которая совсем не так выглядела и не так пахла, как здесь, в супермаркете «Рэндолл».
Этот «культурный шок», пережитый Ельциным (обычный магазин, придорожный, в каком-то местечке, говорил он, не в Нью-Йорке!), очень многое определит в дальнейшей судьбе нашей страны. Ельцин бывал за границей и раньше, однако в Европе он входил в магазин в сопровождении партийных товарищей — застегнутый на все пуговицы секретарь обкома и кандидат в члены Политбюро, — а здесь он попытался увидеть этот мир глазами простого человека из России.
Увиденное поразило этого «простого человека». В супермаркете «Рэндолл» он вдруг окончательно понял, что есть иная цивилизация, иная потребительская культура, иной мир — который недоступен для его соотечественников.
И это открытие он справедливо посчитал
В самолете он сидел, «обхватив голову руками», пишет Суханов, задавая самому себе один и тот же вопрос: «Что они сделали с нашим бедным народом?»
…Изучая график его поездки, я прихожу к выведу: вряд ли сам Ельцин захотел такой плотности встреч и впечатлений. Скорее, это американцы захотели показать ему ВСЁ, всю страну, от больничной палаты Рейгана до свинофермы в штате Индиана. Хотя в Нью-Йорке, например, он настоял на встрече с бездомными — и ему эту встречу устроили, «ноу проблем». Он вообще хотел как можно больше встречаться с «простыми американцами». Но и здесь его порой поджидали потрясения: так, например, на столе у «простого фермера» он увидел сразу два компьютера, с помощью которых тот изучал цены, динамику спроса и т. д. Это сразило Ельцина не меньше, чем супермаркет. Он постоянно повторял: «Лигачева бы сюда». Егор Кузьмич теперь был переброшен на сельское хозяйство и горой стоял за колхозы. «Сколько
Этот эпизод теперь, спустя два десятилетия, уже нуждается в пояснении. Ельцин имеет в виду, что на подобной свиноферме в СССР работали бы сотни людей. И работали с меньшей эффективностью.
Кроме того, во время этой поездки были встречи с американским истеблишментом. Дэвид Рокфеллер, крупнейший советолог Джордж Кеннан, Сайрус Вэнс (бывший госсекретарь США), конгрессмены и политологи, профессора и политические обозреватели, с которыми он встречался, — все они влиятельнейшие люди Америки, вхожие на политическую кухню этой страны, но не имевшие на ней официального статуса.
Еще в Москве, разговаривая с послом Мэтлоком, Ельцин сказал, что хотел бы поговорить с президентом Бушем. Что он должен передать ему «послание», очень важное для судьбы перестройки. В Кремле внимательно следили за тем, как отреагируют на это американцы.
Огромная волна публикаций, интервью, сенсационные заявления Ельцина сделали свое дело — американская администрация решила принять Ельцина в Белом доме, но сделать это так, чтобы Горбачев ни в коем случае не обиделся. Это была довольно хитроумная операция.
Кондолиза Райс, в то время специальный помощник президента Джорджа Буша-старшего, встретила его у западного крыла Белого дома. В машине Ельцину торжественно объявили, что официальная встреча с президентом не состоится, но, конечно, представитель нового советского парламента будет встречен радушно — его примет советник президента по национальной безопасности генерал Брент Скаукрофт. Ельцин был раздражен, уязвлен…
«Холодные правила хорошего тона, принятые в Белом доме при Буше, не допускали внезапного появления на горячей кухне истории какого-то ранее неизвестного человека, тем более этого грубого сибирского великана: большого, неуклюжего, в плохо сидящем костюме и дешевом галстуке» (Леон Арон).
Но дело, конечно, было не в костюме и не в галстуке (все костюмы сидели на Ельцине безупречно, это может подтвердить любой, кто когда-нибудь его видел), не в манерах Ельцина и не в его репутации, дело было даже не в высокомерной чопорности Буша и не в его осторожности. Ельцин ассоциировался с новыми идеями, с народной, хотя и довольно тихой пока, «революцией снизу». Ельцин был сильной оппозицией Горбачеву — в Белом доме понятия не имели, как к этому всему относиться.
Для Ельцина же встреча с президентом США была делом принципа.
«Они доехали до стоянки… — продолжает американский биограф. — Ельцин отказался выходить из автомобиля. Его уговорили и провели в нижний коридор западного крыла… “Те, кто должен увидеться с президентом, входят в Белый дом в другом месте!” — сказал он Кондолизе Райс. Она ответила, что он приехал сюда не для встречи с президентом. Его ждет генерал Скаукрофт. Это вызвало бурю протестов…»
Читать это описание довольно любопытно. Ельцин упирался до последнего момента. Кондолиза Райс прилагала титанические усилия для того, чтобы он все-таки согласился подняться на нужный этаж. Ельцин объявил, что без своего помощника Суханова он никуда не пойдет. Это не входило в договоренности и было против установленных правил, но ему тут же сделали уступку. Гостям выдали бирки «Посетитель».
— Я Ельцин, а не посетитель, — проворчал он.
Генерал Скаукрофт проговорил с ним несколько минут, после чего в его кабинет «случайно» зашел президент Буш. Он улыбался, жал руки и стоя приветствовал московского гостя.
Московский гость поднялся со своего места и обнаружил, что Буш такого же высокого роста, как и он сам. «Мы стоим друг друга», — сказал Ельцин.
Встреча продолжалась 16 минут, по записи Скаукрофта. Буш спросил Ельцина о Горбачеве — как он к нему относится? Ельцин ответил, что, как и многие, он восхищается усилиями Горбачева, но важно двигаться дальше и дальше вперед…
Впрочем, все это было уже не важно. Это была победа. Победа явная и безусловная.
«Нам много описывали и вас, и ваши убеждения, — сказал Ельцину телеобозреватель Джим Лерер. — А как бы вы описали ваши убеждения и самого себя?» — «Как меня следует называть? — ответил Ельцин вопросом на вопрос. — Трудно сказать. Я — за радикальные перемены».
За несколько часов до встречи с Бушем в Вашингтоне Ельцин прилетел в Балтимор. И хотя личный самолет Дэвида Рокфеллера, на котором Ельцин прибыл из Нью-Йорка, совершил посадку в час ночи, в номере гостиницы их уже ждал накрытый стол с закусками и напитками. И еще расписание завтрашнего дня: 7.45 — торжественный завтрак, затем — лекция, затем — встреча с высокопоставленными университетскими профессорами и политиками. Взволнованные и переполненные впечатлениями, Ельцин со своими помощниками и друзьями проговорили до четырех утра. В эту ночь он заснуть не смог. Когда в пять утра Суханов узнал, что его шеф еще не спит, он быстро пошел к нему, увидел его несчастное лицо и затем услышал: «Очень тяжело мне. Никак не могу уснуть».
Несмотря на то, что Ельцин был близок к обмороку, помощник Ельцина Ярошенко повел его прогуляться в пять утра по парку. Но и это не помогло. Тогда Ельцин прибег к последнему средству — он принял две таблетки снотворного и заснул как убитый.
Через два часа организатор мероприятия доктор Мюллер приехал за ним, чтобы отвезти на встречу «с балтиморским высшим светом». Ельцин просил отменить все мероприятия. «Борис Николаевич, они говорят, что не переживут такого разочарования», — бубнил переводчик. «Это я не переживу сегодняшний день, скажите им», — ответил Ельцин.
Вскоре Ельцина под руку ввели в переполненный зал. Как только он там появился, глаза его зажглись. «Как будто кто-то включил кнопку», — вспоминал один из его помощников. Но это произошло только через час. Целый час он сидел в кресле и приходил в себя. Дальше он только набирал обороты, выступал все увереннее и агрессивнее. Однако эти несколько часов, во время которых он пытался преодолеть действие снотворного, принятого за два часа до встречи, стоили ему дорого.
…Недобросовестные корреспонденты есть не только у нас. Крошечная заметка корреспондента Пола Хендриксона под рубрикой «Стиль» (!) в газете «Вашингтон пост» пыталась пролить свет на его «неадекватное поведение». Корреспондент поговорил даже с уборщицей той гостиницы, где группу Ельцина ожидал накрытый стол. Она поведала ему, что обнаружила пустую бутылку из-под виски. Оставалось только сделать правильный вывод — Ельцин выпил весь виски в одиночку.
Между тем ни один человек в этот день (включая Скаукрофта и президента Буша) не говорил, что видел Ельцина нетрезвым. Его публичная лекция, видеозапись которой показало затем советское телевидение, говорит о том, что человек, произносящий ее, находится в состоянии крайней усталости, напряжения, перевозбуждения, что ему очень тяжело, что ему трудно говорить, но он говорит тем не менее со все возрастающей силой и энергией.
Однако зловредная заметка начала свой долгий путь в Москву. Сначала ее пересказала итальянская газета «Репубблика». А затем перевод из «Репубблики» появился в советской газете «Правда».
«От Бориса Ельцина, народного героя москвичей, Кассандры Горбачева… исходят бесконечные пророчества катастроф, сумасшедшие траты денег, интервью и особенно запах знаменитого кентукийского виски…»
Оказывается, за пять дней Ельцин выпил «две бутылки водки, четыре бутылки виски и бессчетное количество коктейлей». Он купил «новую одежду и обувь, полные коробки рубашек, два видеомагнитофона» (никаких рубашек и видеомагнитофонов он, конечно, не покупал). Ни в «Вашингтон пост», ни в итальянской газете «Репубблика» не было ни слова о том, что говорил Ельцин, с кем он встречался, как его восприняли в Америке. Поэтому обе статьи производили впечатление спущенных сверху, в лучшем случае — недобросовестных.
Публикация в «Правде» вызвала в стране удивление. Уж очень мелко сводились счеты. И мало кто из читателей газеты понимал: Кремль крайне раздражен тем, что Бориса Ельцина приняли в Белом доме.
В материале, перепечатанном в «Правде» из итальянской газеты «Репубблика», не случайно упоминались «мрачные пророчества» Ельцина. Пророчества действительно звучали.
Однако следует отметить, что он был далеко не единственным, кто предрекал советской экономике в ближайшее время тяжелейший кризис и вслед за этим взрыв социального протеста. Точно так же оценивали ситуацию наиболее авторитетные «экономические писатели» того времени: Селюнин и Шмелев, Лацис и Гайдар, Попов и Аганбегян. Однако в устах Ельцина критическая оценка тяжелой ситуации звучала уже не как прогноз эксперта, а как серьезное политическое послание.
Он постоянно говорил о том, что «люди устали ждать», что «если мы не изменим серьезно ситуацию в течение ближайшего времени, в стране будет социальный взрыв». Американцев, слишком благодушно настроенных по отношению к нашим «прекрасным переменам», он жестко предупреждал: «Вы просто не знаете реальной ситуации, не знаете, как живут люди в Советском Союзе».
В науке это называется «алармизм» (от англ. alarm) — состояние тревоги, которое передается от одного ко многим или от малой группы людей к большой.
Эти предчувствия, нарастающая волна беспокойства, раздражения людей проникли в него очень глубоко. Он ощущал их как чувствительный электроприбор.
Ельцина очень часто упрекали в том, что он «нагнетает обстановку». Однако в июле 1989 года он получил серьезный аргумент в защиту своего социального алармизма.
Забастовали шахтеры.
Забастовка шахтеров вновь перевернула представления о том, что можно и чего нельзя в СССР. А когда она перекинулась практически на все шахты Кузбасса и Воркуты, то стала событием и вовсе невероятным. Вместо того чтобы использовать все возможные средства для борьбы с забастовщиками (как это было бы при прежних правительствах) — угрозы, подкуп, применение войск и милиции, использование бесплатного труда зэков, попытку договориться «по-тихому», расчленить единый фронт на несколько частей, замолчать событие, наложить информационное вето на забастовку, — правительство Горбачева повело себя иначе.
К шахтерам выехала специальная комиссия под руководством члена Политбюро Николая Слюнькова. И вот к каким парадоксальным выводам она пришла: требования шахтеров объявлены справедливыми, виновными же в том, что случилось, целиком и полностью признаны местные власти.
Горбачев из Кремля, таким образом, поддержал шахтеров. Их требования и их борьба были признаны проявлением «широкой демократии». И самое главное, четко обозначены враги перестройки: чиновники, бюрократы, аппарат, местные элиты. Для последних это был ужасный сигнал. Ужасен он был еще и тем, что первым из московских политиков шахтерскую забастовку поддержал, конечно, Ельцин. И именно Ельцин стал тем политиком, кого бастующие шахтеры хотели видеть на переговорах в первую очередь, с кем были согласны вести диалог.
Такая последовательность событий не могла ускользнуть ни от местных верхушек, ни от политиков в Москве и на Западе. Горбачев боялся упустить инициативу! Он готов был пожертвовать поддержкой местных партийных руководителей, лишь бы не дать Ельцину набрать лишние политические очки. Но его жертва была несоразмерна выигрышу. Тесная связь Центра, Москвы, Кремля — со страной, с областными и краевыми городами, с местными «кремлями» — это и была при Брежневе основа государственной вертикали. Ситуация с Кузбассом ясно показала местным элитам, как именно центр собирается решать социально-экономические проблемы, включая даже голодные бунты: отдавать местных царьков на заклание разъяренной толпе.
…Еще одним важным событием года стало создание первой
В Координационный совет МДГ были избраны 25 человек, в том числе: академик Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Анатолий Собчак, Николай Травкин, Аркадий Мурашев, Юрий Черниченко, Геннадий Бурбулис, Юрий Карякин, Сергей Станкевич, академик ВАСХНИЛ Владимир Тихонов, Виктор Пальм (Эстония), Михаил Бочаров, Тельман Гдлян, Михаил Полторанин, член-корреспондент АН СССР Алексей Яблоков. Сопредседателями КС стали Б. Ельцин, Ю. Афанасьев, Г. Попов, В. Пальм и А. Сахаров, секретарем — Аркадий Мурашев.
Среди депутатов — членов МДГ — было несколько человек, непосредственно связанных с политическим неформальным движением: лидер Народного фронта Карелии Сергей Белозерцев, член Координационного совета Московского народного фронта Сергей Станкевич, представитель Ярославского народного фронта Игорь Шамшев, один из основателей Апатитского добровольного общества содействия перестройке Александр Оболенский. Тем не менее большинство членов МДГ принадлежали к советской статусной интеллигенции и придерживались далеко не радикальных взглядов. Только 49 процентов участников 1-й конференции МДГ однозначно высказались за многопартийную систему, еще 40 процентов — за дискуссию о введении многопартийности (5 процентов выступили за сохранение однопартийной системы). Большому числу депутатов из МДГ взгляды академика А. Д. Сахарова казались чрезмерно радикальными, и именно Сахаров получил наименьшее из пяти сопредседателей число голосов — 69 (Ельцин — 144).
Однако для своего времени все они были, безусловно, крайне радикальными, смелыми, бесстрашными людьми.
Горбачев был шокирован заявлением о создании Межрегиональной депутатской группы. Дело в том, что, сам этот шаг противоречил стройному плану Анатолия Лукьянова — взять под контроль съезд путем создания так называемых «территориальных групп», руководить которыми должны были проверенные партийные товарищи.
Выходка членов МДГ переворачивала ситуацию с ног на голову, потому что это было депутатское объединение по политическому принципу, по убеждениям, изначально заявленное как «фракция несогласных», как оппозиция, чего Горбачев побаивался и не хотел.
В момент, когда на трибуну вышел Юрий Афанасьев и объявил о создании МДГ, Горбачев потребовал прервать телевизионную трансляцию. И хотя в дальнейшем многие из этих людей, включая самого Юрия Афанасьева, позиционировали себя как «демократы горбачевской волны», из песни слова не выкинешь — так было.
Больше того, почти никто из членов МДГ не прошел на выборах в Верховный Совет. Именно тогда Юрий Афанасьев произнес с трибуны свое знаменитое определение съезда: «агрессивно-послушное большинство».
В том-то и дело, что «большинство» съезда, хотя и действовало по указке своих дирижеров, сидевших в окружении Горбачева, к представителям «московской группы», к «демократам», питало чувства самые искренние и однозначные — для них это были опасные выскочки, болтуны, политические проходимцы. Люди вне системы и опасные для системы.
И это «большинство» вполне добровольно, отнюдь не по приказу захлопывало, не давая говорить, Сахарова и Афанасьева, Собчака и Попова, мрачно замирало при появлении Ельцина, презрительно гудело при появлении на трибуне Галины Старовойтовой или Евдокии Гаер, которые представляли интересы «малых народностей» (Гаер — северных, Старовойтова — кавказских).
Отношение Горбачева к членам МДГ в какой-то степени сформировалось как отзвук на эту волну, которая шла оттуда, из гигантского зала — «долой, не хотим, хватит»… Вот что кричало «большинство» членам МДГ, сходившим с трибуны. И все же отношение Горбачева к левым (как он считал) депутатам было крайне противоречиво.
Это может показаться странным, но люди, входившие в Межрегиональную депутатскую группу, отнюдь не были врагами Горбачева. Напротив, некоторые из них на трибуне съезда сумели сформулировать программу горбачевской перестройки настолько прозрачно и конкретно, что она, наконец, стала понятной и большинству народа, сидевшему у своих телевизоров.
Можно даже утверждать, что почти все члены МДГ по-разному, но с уважением относились лично к Михаилу Сергеевичу, а некоторые просто благоговели перед ним. И тем не менее по какому-то сложному комплексу причин эта «оппозиция» была для Горбачева неприемлема, она не вписывалась в его планы, казалась ему опасной.
Дело доходило до абсурда. Эти люди, которые были настоящими харизматическими лидерами, с которыми он тепло здоровался на съезде, которых внимательно выслушивал и которые могли ему просто позвонить по телефону, — почти все находились под колпаком у КГБ, их телефоны стояли на «прослушке» (как говорят об этом воспоминания Болдина), за каждым их шагом следила агентура.
Но ведь по-другому и быть не могло!
Для КГБ СССР лица, выступавшие на демократических митингах, хотя и были народными депутатами, все равно оставались подстрекателями, врагами, опасными элементами, а вовсе не политическими союзниками. В случае необходимости КГБ собирался их арестовывать и даже «стрелять на поражение».
Огромные московские митинги, собиравшиеся в 1989 и 1990 годах, проходили при непосредственном участии лидеров межрегионалов — Ельцина, Афанасьева, Старовойтовой, Сахарова, Гдляна, Бурбулиса, Станкевича. Таким образом, все они автоматически попадали в разряд «экстремистов», хотя всегда пытались сделать все возможное для предотвращения любых столкновений, любых провокаций.
Вот так непросто все было заверчено и закручено в этой новой «горбачевской стране». С одной стороны — друзья. С другой — враги. С одной — реальные кандидаты на серьезное участие в парламентской политике. С другой — объекты для «наружного наблюдения».
Не было никакого единства и в среде самих «оппозиционеров». Это были очень разные люди, с разными убеждениями и разными характерами.
Погоду в МДГ делали «профессора», представители академической элиты. Все они, во-первых, были членами партии; во-вторых, людьми умеренных и осторожных взглядов. Все они (кроме Сахарова и Старовойтовой, а также молодых демократов новой волны) попали в политику, в общем-то, случайно. Перспектива вести за собой «массы», участвовать в митингах и демонстрациях, вести большую организаторскую работу, бороться с официальной властью (как-никак оппозиция!) и вообще бороться с кем-то и чем-то — их, по большому счету, сильно смущала. Роль экспертов, судей, учителей была для них намного привычнее.
Ну и, наконец, самое главное: у них была психология успешных, состоявшихся, востребованных обществом людей. В этом смысле Михаил Сергеевич Горбачев, как руководитель страны, открывший им путь наверх, в политику, был для них, так сказать, «базовой ценностью».
Не случайно осенью на совещаниях МДГ появился посланец Горбачева — Евгений Максимович Примаков. Многих из «профессорского крыла» МДГ он знал лично, разговаривал с ними на одном языке, от каких-то «необдуманных действий» мог отговорить и в любом случае представлял собой мост между властью и новоявленной оппозицией.
Николай Игнатьевич Ельцин и Клавдия Васильевна Ельцина (Старыгина).
Дом в селе Бутка.
Железнодорожная школа Березников, где учился Борис Ельцин
Борис Ельцин — студент.
Борис Ельцин (справа) в общежитии Уральского политехнического
Курсант Ельцин (второй слева) на военных сборах
Тренер женской волейбольной команды
Борис и Наина Ельцины — молодые супруги.
Молодой отец.
Наина Иосифовна Ельцина с дочерьми Леной (слева) и Таней (справа).
Семья Ельциных: Борис, Михаил (брат), Николай Игнатьевич, Наина, Клавдия Васильевна, Валентина (сестра), Елена и Татьяна (дочери).
Наина Иосифовна, Борис Николаевич, старшая дочь Елена.
Начальник ДСК.
Секретарь Свердловского обкома КПСС выступает на пленуме
Первый секретарь Свердловского обкома КПСС. На военных стрельбах
Борис Николаевич, Наина Иосифовна, внучка Маша.
Во время митинга.
Выход из состава КПСС.
Члены Межрегиональной депутатской группы на митинге.
Главное — впереди.
Кадидат в депутаты I Съезда народных депутатов СССР.
Торжественная присяга на Конституции. Первый всенародно избранный президент страны.
Вместе с М. С. Горбачевым
Обращение к народу России.
Вместе с Р. И. Хасбулатовым на Съезде народных депутатов РФ
Ельцин, Гайдар, Бурбулис (крайний справа) на матче футбольных команд руководства Москвы и правительства России
С матерью.
Настоящим большим политиком был здесь только Ельцин. За ним уже шли огромные массы людей. Он имел грандиозный опыт публичных выступлений, опыт руководства крупнейшим регионом. Он владел навыками организации и управления. Знал, как работает система власти.
Но именно это явное преимущество Ельцина смущало лидеров Межрегиональной депутатской группы. Одних он отталкивал своей слишком жесткой позицией по отношению к Горбачеву, других (как Сахаров и Старовойтова) — тем, что был еще недавно кандидатом в члены Политбюро, принадлежал к высшей партийной номенклатуре. Третьи не хотели вождизма, боялись, что имя Ельцина подавит всех остальных, они уйдут в его тень.
Поэтому было принято решение о коллективном руководстве МДГ.
Г. X. Попов в дальнейшем считал, что Ельцин «смертельно обиделся» на членов МДГ за это решение. Не простил их. Но это не так. Сам Попов при Ельцине стал мэром Москвы. В дни августовского путча 1991 года находился в Белом доме. Сохранял и позднее самые теплые отношения с президентом России. Афанасьев и Старовойтова в 1992–1993 годах работали членами Президентского совета, не раз обращались к Ельцину с просьбами и записками, которые он читал и выслушивал. Все, кто его знает, могли бы подтвердить — он не вел бы себя
— А вы бывали на заседаниях МДГ? — спрашиваю я у Наины Иосифовны.
— Несколько раз была.
— Как Борис Николаевич относился к этим заседаниям, что говорил после них?
— Относился очень серьезно, это была часть его политической борьбы. Другое дело, когда начался российский съезд и его выбрали Председателем Верховного Совета РСФСР, его интересы устремились в другом направлении. Но членов МДГ я видела не только на заседаниях в Доме кино. Они бывали и у нас дома. Попов, Собчак, да и многие другие. Приходило иногда по десять — пятнадцать человек. Были и просто человеческие контакты. Попов приходил к нам с женой, просто в гости, мы тоже бывали у него дома. Постоянно созванивались, договаривались о чем-то, иногда эти звонки продолжались и ночью. Борис Николаевич разговаривал по телефону с Сахаровым и с Боннэр, но дома они у нас не были.
Несмотря на то, что лично Горбачев относился к отдельным членам МДГ с симпатией, их политические позиции он по-прежнему не воспринимал. Им давали собираться только в Доме кино. Им запрещали выпускать и печатать свой информационный бюллетень. О их деятельности ничего не сообщалось в официальных отчетах со съезда. Горбачев отказывал группе в любом официальном признании — не хотел считать их полноправной фракцией нового союзного парламента.
У них не было никакого, даже призрачного, статуса. Ни одна их законодательная инициатива не могла быть принята к рассмотрению на съезде. Одним словом, Межрегиональная группа, созданная для конструктивной законодательной работы, буксовала на месте. Ее деятельность зашла в тупик, что не могло не сказаться и на атмосфере внутри нее.
Конфликт между членами группы достиг своего логичного развития поздней осенью 1989-го. Сахаров, Старовойтова и молодые демократы требовали объявить себя «политической оппозицией», организовать настоящую оппозиционную партию, чтобы добиваться изменений в конституции и, если потребуется, «бороться с существующим строем» не только через парламент, но и через акции массового неповиновения (забастовки, митинги, демонстрации).
Мнение профессорского крыла ярче всего выразил Анатолий Собчак. Он справедливо заметил, что настоящей оппозицией Горбачеву являются не они, а «агрессивно-послушное большинство», партийный аппарат, коммунистически настроенные депутаты. И становясь в оппозицию к Михаилу Сергеевичу, они (члены МДГ) объективно играют им на руку.
Ельцину было нелегко и слушать все это, и участвовать в дискуссии. На собраниях МДГ царила нервная обстановка, люди, глубоко уважающие друг друга, относящиеся с огромным восхищением к академику Сахарову, все-таки срывались на частности, не умея выработать общую платформу, порой не слышали друг друга, их привычная доброжелательность сменялась раздражением.
Постепенно ряды МДГ стали таять. Депутаты, первоначально объявившие о своем вхождении в МДГ, начали оттуда уходить.
…14 декабря 1989 года умер Андрей Дмитриевич Сахаров. Прощание с великим ученым и великим диссидентом состоялось в здании Академии наук на Ленинском проспекте, откуда Сахарова выдвигали депутатом на съезд.
Возможно, Сахаров умер от перенапряжения, вызванного сложной и очень непривычной для него обстановкой съезда. Сказались и глубокие переживания человека, который поверил, что изменения в стране, наконец, стали реальными, и был глубоко неудовлетворен тем, как тяжело это все происходит в жизни. И, конечно, это были последствия горьковской ссылки, где Сахаров не раз объявлял голодовку, писал безответные письма властям, страдал в домашней тюрьме.
Возле гроба Сахарова стояли прибывшие на несколько минут члены Политбюро. Стоял Горбачев. Стоял Ельцин.
Своей смертью Сахаров вроде бы просил их — объединиться, понять друг друга. Но тщетно.
Сахарова провожали на «правительственном» уровне.
Но «правительство» явно упустило возможность диалога с духовными вождями перестройки. Теперь это стало окончательно ясно. Горбачевская страна, где Сахаров стоит на одной трибуне с теми, кто его травил, где можно говорить всё, но нельзя ничего сделать, где есть парламент, но нет оппозиции, где все так неопределенно, зыбко и туманно, — это была страна без будущего.
Это случилось в летние дни 1990 года в квартире Ельциных у Белорусского. Наина Иосифовна вспоминает:
«Однажды он вернулся домой с заседания союзного съезда, совершенно больной, измученный, и вдруг сказал мне такую фразу:
— Надо спасать Россию!
Я, честно говоря, ничего не поняла и даже испугалась. Какая Россия? Тогда был Советский Союз, и никто в таких категориях еще не мыслил. Я так и спросила:
— Боря, ты о чем, какая Россия?
— Нашу Россию!
Я уложила его, дала какие-то лекарства, травы, пощупала голову — может, горячая? Потом позвала Таню и стала с ней советоваться: у папы, сказала я, что-то с головой. Мне кажется, он не в себе.
Таня спросила, что же меня так напугало. Я отвечаю: он все время говорит про то, что надо спасать Россию. “Ну и что?” — отвечает Таня. Я просто не понимаю, о чем он говорит… Что это?
Россию как отдельное государство я тогда себе не представляла. Он уже понимал, что грозит стране, и мыслил совсем другими категориями», — подытоживает Наина Иосифовна.
…Эти «другие категории» пока еще были внове даже для его жены. Но он понимал суть происходящего — страна под названием «СССР» постепенно становилась неуправляемой.
В январе нового, 1990 года Ельцин отправился с визитом в Японию. Приглашение поступило от телекомпании Ти-би-эс, а также от деловых кругов.
Как и в США, от Ельцина ждали многого. Ждали откровенной, ясной и, главное, — новой позиции по поводу волнующих тем: Курильских островов, перезахоронения японских военнопленных, погибших в годы войны, мнения о статусе прибалтийских республик в составе Союза, о перспективах перестройки в целом… Обо всем этом Ельцин говорил в популярном ток-шоу, которое транслировалось в прайм-тайм — в 11 вечера. Премьер-министр Кайфу, министр иностранных дел Накаяма, министр строительства Харада — официальный круг общения Б. Н. в Стране восходящего солнца; несметное количество бизнесменов и журналистов — круг неофициальный.
Было ясно, что Ельцина воспринимают в Японии как совершенно особую политическую фигуру. Большую роль в этом восприятии сыграли его встреча в Белом доме с президентом Бушем, ореол оппозиционного политика. Для Японии это привычно — «теневой» кабинет и «теневой» премьер-министр были частью своеобразного политического ландшафта этой страны, в которой только одна партия из года в год побеждала на выборах, но политическая борьба от этого не становилась менее острой.
Как и в США, помимо официальных встреч и бесед, японцы захотели показать Ельцину свою страну. В программе поездки были и остров Хоккайдо, и древний храм, и «завод по производству роботов», и «маленький семейный ресторанчик».
Ранним утром Ельцин посетил рыбный рынок в Токио.
«…Сплошные крытые ряды с огромными чанами, в которых плещется живая рыба. Кажется, вода льется отовсюду, и создается впечатление, что и в самом деле бредешь среди живого серебра, — вспоминает его помощник Лев Суханов. — Тут и тунец, и крабы, и устрицы, и омары. Рубщики мяса длинными блестящими ножами разделывают туши огромных трехметровых тунцов».
Невероятное изобилие. Избыточность красок и запахов. Ощущение прочности и стабильности бытия.
Это было общим и там, в Америке, и здесь, в Японии.
И на Западе, и на Востоке он сталкивался с одним и тем же вопросом — почему же
Тут дело не в технологиях, и не в культурных традициях, и даже не в трудолюбии народа. Ельцин прекрасно знал, как умеют работать русские, какими темпами, с какой отдачей.
Но в чем секрет этой избыточной материальной прочности, устойчивости западного и восточного миров? Почему в его родной стране материальная бедность, скудость, граничащая с нищетой, казарменные условия жизни — неизбежный спутник бытия? Этот вопрос не раз задавали себе многие русские люди за рубежом. Ельцин попытался ответить на него по-новому.
Уже начиная с 1989 года он живет проектом, который совершенно «выламывается» из прежней схемы его политической борьбы и в то же время органично продолжает ее.
Россия и Советский Союз — что это за конструкция? Казалось бы, такая знакомая, привычная с самого детства — теперь она стала казаться ему неправильной и непрочной. В ней гораздо больше загадок, чем разгадок.
…На март 1990 года назначены выборы российских депутатов. Многие соратники Горбачева потом не раз будут упрекать его в том, что он пошел на создание двух параллельных, очень похожих политических структур — союзного и российского съездов. Но, запустив этот процесс, Горбачев был уже не в состоянии его остановить. Выборы и сама атмосфера российского съезда сразу радикально отличались от съезда союзного.
Никаких «списков» от компартии, общественных организаций, объединений и прочих структур не предусматривалось. И вовсе не потому, что Горбачев хотел сделать российские выборы более демократичными. В России просто не было аналогичных структур. Не было, например, своей компартии или своей Академии наук, не было российских профсоюзов (они были организованы по отраслевому признаку). Один этот факт заставлял о многом задуматься.
Москва — это чья столица? России или целой империи, которая раскинулась практически на полмира?
Вот японцы ставят вопрос о Курилах. Для России, например, было бы выгодно использовать острова совместно — оставляя советскими, сделать их свободной экономической зоной. А для СССР с его сложными геополитическими интересами и статусом сверхдержавы экономическая выгода отходила на второй план.
Когда Ельцин руководил Свердловской областью, он наблюдал воочию, какой неистощимый источник ресурсов для всей страны находится на его территории: трубы для нефтепроводов и газопроводов, качавшие сырье на Запад, металл, машиностроительные заводы. А что получали уральцы взамен?
Он не раз задавал себе этот вопрос. Люди, непрерывно производившие военную и экономическую мощь всей страны, не могли даже нормально питаться. Завезти несколько тонн масла или мяса перед праздниками, чтобы «накормить область», становилось головной болью для любого первого секретаря. Даже для того, чтобы снести бараки и переселить людей в более-менее сносные дома, для того, чтобы построить для них метро, чтобы провести одну-единственную дорогу на Север, необходимую для жизнеобеспечения области, понадобились титанические усилия. Москва очень неохотно давала «добро», выделяла ресурсы на Урал. А выкачивала их весьма охотно, постоянно усиливая административный нажим. Так чьей же она была столицей? России или СССР?
Ельцин решил избираться в народные депутаты России в родном Свердловске. Две недели подряд он проводит встречи в заводских дворцах культуры, в цехах заводов Свердловска и Первоуральска. Его окружают толпы рабочих. Иногда он выступает перед рабочими по нескольку раз в день. Кстати, именно там, во время предвыборной кампании в Свердловске, формируется добровольная группа помощников Ельцина, которая помогает ему готовить тексты выступлений и ответы на записки, — Геннадий Бурбулис, Александр Урманов, Геннадий Харин, Людмила Пихоя и Александр Ильин. Все они свердловчане, обществоведы из Уральского университета. Их первая реакция на публичные экспромты Б. Н. — давайте записывать лучшие ответы на записки, создавать «домашние заготовки»! Так начинается работа его будущих спичрайтеров.
Свердловский обком КПСС, против всех ожиданий, отнесся к избирательной кампании Ельцина вполне лояльно. Не было никаких запретов, никто не ставил палки в колеса, а немногочисленные осуждающие статьи в партийной печати, которые все-таки появились, были формальными и выхолощенными. Как вспоминают коллеги Б. Н., ему было даже предложено поселиться в самой лучшей гостинице города, также принадлежавшей обкому, — «Октябрьской» и устроить там работу своего избирательного штаба, но Ельцин отказался от этого подарка.
Поселился, «как все», в местной гостинице «Урал», однако в гостинице шумно, тесно и грязно. В конце концов, помощники убедили его переехать в меблированную квартиру при одном из свердловских заводов, предназначавшуюся для приезжавших «консультантов».
Он победил на выборах в Свердловске с оглушительным перевесом — 85 процентов избирателей отдали ему свои голоса.
Отныне из всех острых ситуаций, из всех кризисов он
Отныне слово «Россия» станет главным в его лексиконе.
Отныне он будет использовать все свои природные «слабые места» — физическую тяжеловесность, неоправданную для руководителя склонность к слишком вольным словесным импровизациям, чересчур откровенную «человеческую» интонацию и наивную веру в свои слова — как свою силу.
Теперь все это входит в его образ. Образ простого «россиянина», который пришел во власть.
…Кстати, Ельцин никогда не был выдающимся оратором. Он не умел произносить горячие многочасовые монологи, как, например, тот же Горбачев или Фидель Кастро. Хотя «ответы на записки», его излюбленный жанр, могли продолжаться по нескольку часов. Он мог держать зал в напряжении — но не с помощью монолога.
Собственные же речи Ельцина, которые он зачитывал по заранее подготовленному тексту четко и сухо, никогда не продолжались долго: 25 минут, 30, максимум 40.
И тем не менее каждый его политический старт начинался в каких-нибудь чумазых заводских цехах, на невзрачных улицах, в столовых и магазинах — всюду, где его ждала толпа людей, которые хотели его увидеть. Это была для него почти физиологическая потребность.
Так было в 1990-м, 1993-м, 1996-м — каждый раз, когда он всё начинал сызнова. Сегодня это кажется скучной прописью публичной политики, ее затверженным уроком. Но первым в России так начал делать именно он.
Почему его так тянуло к этой людской массе?
Он не ковал электорат и не искал популярности, она сама его находила. Он не любил митингов, организованных акций, редко на них выступал, только если это было крайне необходимо, даже в самые горячие годы своей борьбы. Не любил трибун.
…Стоя в этой толпе, как мне кажется, он что-то проверял в себе. Так было и в 1990 году.
Предвыборная программа будущего российского депутата уже довольно четко несет в себе черты нового политического проекта.
Б. Н. не стесняется говорить о многопартийности и о необходимости частной собственности «на средства производства и на землю». То, что было для него еще слишком смелым год назад, сегодня стало возможным. Он произносит слова, которые неприемлемы для Горбачева, для партии, для официальной власти.
Но дело, конечно, не только в этом.
Ельцин в своей предвыборной программе рисует портрет совершенно новой России.
«Новая Конституция, принятая на публичном референдуме, должна была закрепить приоритет… основных прав и свобод граждан: свободу демонстраций, свободу политических организаций и свободу совести и религии», — пишет Леон Арон, биограф Ельцина, не случайно делая акцент на фундаментальных ценностях западной демократии.
Продолжим цитировать программу Ельцина 1990 года. Для надзора за соблюдением демократических прав и свобод предполагалось учредить Конституционный суд. России предстояло стать президентской республикой с избранием президента из нескольких кандидатов путем прямого, всеобщего, равного и тайного голосования каждые пять лет. Президент сможет оставаться на посту не более двух сроков. На время пребывания на посту президент будет обязан приостановить свое членство в любых политических партиях и организациях.
Соответственно в Конституции России руководящая роль партии будет отменена (она станет «деидеологизированной страной», как говорилось в программе, — не самое лучшее для русского языка слово, но оно было совершенно понятным в том 1990 году, — Россия станет страной без коммунистов у руля). Однако Ельцин пошел еще дальше: партийные комитеты и партячейки на предприятиях, в колхозах и совхозах, учебных заведениях, любых государственных учреждениях допускаются только
Компартии, по замыслу Ельцина, запрещалось руководить Россией. Компартии запрещалось проникать на производство. Компартия изгонялась, в сущности, отовсюду.
Это была неслыханная наглость.
Но главное в программе кандидата Ельцина все-таки не это.
Проект под названием «Россия» — вот этот пункт его программы гораздо важнее самых радикальных антикоммунистических и антигорбачевских лозунгов. Но справедливости ради надо сказать, что он сформулировал его далеко не первым.
Вот, например, что говорил на съезде народных депутатов СССР знаменитый писатель Валентин Распутин:
«Мы, россияне, с уважением и пониманием относимся к национальным чувствам и проблемам всех без исключения народов и народностей нашей страны. Но мы хотим, чтобы понимали и нас… Здесь, на съезде, хорошо заметна активность прибалтийских депутатов, парламентским путем добивающихся внесения в Конституцию поправок, которые позволили бы им распрощаться с этой страной. Не мне давать в таких случаях советы. Вы, разумеется, согласно закону и совести распорядитесь сами своей судьбой. Но по русской привычке бросаться на помощь, я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете ее и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления? Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие».
В выступлении Распутина, которое шокировало и съезд, и Горбачева, много яда, острого сарказма, двойного смысла. Чего стоит одно это «по русской привычке бросаться на помощь». Кому бросается на помощь знаменитый писатель, который очень негативно относился к «западническому», как он считал, курсу Горбачева и совсем плохо к либеральным воззрениям Ельцина? Уж конечно не к прибалтам. В его словах звучит плохо скрытая угроза — хотите распада Союза? Будет. Но только какой ценой?
В том же 1990 году «Комсомольская правда» опубликовала статью Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?». Цитата:
«За три четверти века — при вдолбляемой нам “социалистической дружбе народов” коммунистическая власть столько запустила, запутала и намерзила в отношениях между этими народами, что уже и путей не видно, как нам бы вернуться к тому, с прискорбным исключением, спокойному сожитию наций, тому даже дремотному неразличению наций, какое было почти достигнуто в последние десятилетия предреволюционной России… Сегодня видится так, что мирней и открытей для будущего: кому надо бы разойтись на отдельную жизнь, так и разойтись… Уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да и не надо удерживать такой ценой! Как у нас все теперь поколёсилось — так все равно “Советский Социалистический” развалится, все равно! — и выбора настоящего у нас нет, и размышлять-то не над чем, а только — поворачиваться проворней, чтоб упредить беды, чтобы раскол прошел без лишних страданий людских, и только тот, который уже действительно неизбежен.
И так я вижу: надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да! — непременно и бесповоротно будут отделены».
Идея о российском суверенитете просто-напросто носилась в воздухе. Ельцин, в отличие от писателей, которые изъяснялись велеречиво, а порой даже и не совсем понятно, сформулировал ее чересчур просто и лапидарно, зато придал проекту «Россия» форму четкой политической программы, к реализации которой собирался приступить сразу, не откладывая, в том самом 1990 году.
Но важно подчеркнуть — здесь программа Ельцина совпадает уже не просто с «общественным мнением», с позицией «демократической интеллигенции» (то есть далеко не самой многочисленной и влиятельной частью общества). Как раз у демократической интеллигенции четкой позиции по поводу «отдельной России» не было, поскольку по природе своей она интернациональна. Он попал в такт тотальному общественному резонансу.
Российское «возрождение» стало остроактуальной идеей абсолютно для всех классов, слоев, политических движений. Ельцин придал этой идее черты сухого прагматизма.
Россия — донор СССР. Она производит 60 процентов валового национального продукта. В то же время уровень жизни — чуть ли не самый низкий из союзных республик. Россия помогала другим республикам своим сырьем, ресурсами — и теперь ее природные да и интеллектуальные возможности оказались почти исчерпанными. Это лишь некоторые из положений Ельцина того периода. Почему Украина и Белоруссия являются членами ООН, а Россия — нет? Почему у России нет своей Академии наук, своего телевидения и радио, своего информационного агентства? Она что — Золушка?
Нет. Россия — такая же полноправная республика, как и все остальные, настаивал Ельцин.
СССР является добровольным образованием, все республики имеют право на выход, и в будущем Советском Союзе республикам должна быть предоставлена максимальная самостоятельность; только широкая конфедерация может спасти Союз, за Центром следует сохранить лишь минимальный аппарат для «стратегического планирования», все прочее в экономике должно решаться республиками.
Все это тогда, в 1990 году, воспринималось как политическая утопия, в лучшем случае — как дело очень отдаленного будущего. И лишь одно придавало проекту «Россия» очевидную для всех актуальность и остроту — это была явная альтернатива горбачевской политике.
Январь 1990 года. В столице Азербайджана Баку происходят кровавые события. Митинги «Народного фронта» с требованиями независимости приводят к уличным погромам. Погромы направлены против армян. Неслыханные в этом мирном городе зверства приводят к гибели 66 человек. Но и после того, как погромы остановлены, митинги продолжаются. «Народный фронт» требует отставки «промосковского» руководства. В город входят танки и подразделения десантников. Однако кровь продолжает литься, и еще 125 человек становятся жертвами подавления беспорядков. Кто же выступил в роли «экстремистов», кто затеял кровавые события? По оценке экспертов, сдвиг к национализму начался в тот момент, когда Горбачев стал теснить давно сложившиеся местные элиты… Неожиданно потеряв власть, они ответили Центру по-своему — на языке бушующей толпы.
«Не случайно… первые взрывы произошли там, где Горбачев менял республиканских лидеров: в Алма-Ате, в Ереване, в Баку, — пишут историки М. Геллер и А. Некрич. — Имеются свидетельства о провокационных действиях, направляемых из Москвы. В частности, о подготовке волнений в Баку, давших возможность ввести туда в январе 1990 г. войска и “проучить” мятежников».
История современного Азербайджана, современной Армении (да, наверное, и Грузии тоже, хотя кровавые события в ней произошли на год раньше) началась именно с этих январских дней. В истории отделения этих республик четко прослеживается общий для горбачевского СССР сценарий. У каждой стороны была своя горячечная, отдельная правда, свой счет убитых и оскорбленных, свой пафос, своя легенда. И для того, чтобы примирить враждующих, успокоить народы, — нужна не просто военная сила, которая лишь ненадолго «замораживала» этот национальный вулкан страстей, — нужен некий общеполитический план, общий проект, которого не было у союзного руководства.
За месяц до событий в Баку, в декабре 1989 года, объявляет о своем выходе из КПСС Литовская компартия. Литовский сейм готовит Декларацию независимости. Горбачев срочно приезжает в Вильнюс. Он пытается говорить с «литовскими товарищами», убеждать, увещевать, но тщетно. Ею встречают демонстрации на улицах и непоколебимая твердость позиции литовских руководителей.
Вот что пишет об этом А. Грачев:
«В Литву Михаил Сергеевич отправился с Раисой Максимовной в боевом и даже приподнятом настроении. Горбачев настраивался, развязав “литовский узел”, преподать урок высшего пилотажа не только заблудившемуся местному партийному руководству во главе с А. Бразаускасом, но и агрессивным критикам в Москве, обвинявшим его в попустительстве националистам и “слабовластии”.
Собираясь в поездку, Горбачев говорил своему помощнику Г. Шахназарову: “Понимаешь, я просто не могу им уступить”. Эта фраза отражала… понимание жесткого выбора, перед которым он был поставлен своим собственным ЦК.
…По окончании поездки непривычно мрачному Горбачеву пришлось, прощаясь на аэродроме с Бразаускасом, лишь просить подождать с принятием решений о выходе из Союза “до выработки соответствующего закона”. Угнетенность Михаила Сергеевича имела двойную причину: он не только не смог достичь первоначально поставленной цели, но и обнаружил, что разучился творить политические чудеса».
По воспоминаниям А. Бразаускаса, узнав о решении XX съезда компартии Литвы, Горбачев дозвонился до него вечером, когда он с женой был в театре, и начал было распекать с металлом в голосе: «“Что ты там наделал, Альгирдас?” В течение поездки (кстати, первого в истории КПСС визита генсека в Литву) его наступательное боевое настроение менялось. Поначалу он еще надеялся переубедить, переговорить, наконец, припугнуть своих собеседников и слушателей… Психологический перелом, считает Бразаускас, наступил в канун отъезда, когда Горбачев, выступая перед интеллигенцией, уже в который раз спросил: “Так, что же, хотите уйти?” И в ответ услышал из зала солидарное и мощное “Да!”.
В машине они ехали втроем — Горбачев, Бразаускас и Раиса. Все молчали.
Потом Горбачев сказал, ни к кому не обращаясь: “Что с ними случилось?” И тут же без перерыва: “Надо бы выпить”. Прощаясь на аэродроме, проронил, глядя в сторону: “Да, я вижу, вы сделали выбор”».
Против Литвы были введены жесткие экономические санкции, предусматривавшие повышенные цены на нефть и газ и фактическое эмбарго на поставку некоторых жизненно важных товаров — вплоть до лекарств.
«Правда, силой Горбачев нам никогда не грозил», — уточняет А. Бразаускас в своих воспоминаниях. И продолжает с явным сочувствием к бывшему советскому президенту: «Ему, конечно, было трудно разрешить основное противоречие: удержать единое государство, дав новые права республикам, ведь для этого у него не оставалось никаких рычагов и инструментов».
Вдумаемся в эти слова:
На этом фоне в марте 1990 года проходит Третий чрезвычайный съезд народных депутатов СССР, на котором Горбачева избирают президентом.
Этому историческому событию предшествовал февральский пленум ЦК КПСС (1990 года), на котором Горбачеву удалось убедить верхушку партии в необходимости отмены шестой статьи конституции и введения в стране института президентства.
Отмена, шестой статьи, которая законодательно обеспечивала власть КПСС, была главным лозунгом оппозиции. Люди выходили на митинги, которые собирали в центре Москвы сотни тысяч, с плакатами «Долой шестую статью!». Ельцин собирался отменить власть КПСС на территории России с помощью новых законодательных актов российского парламента, не надеясь на то, что ее отменит союзный съезд. И вдруг это произошло удивительно быстро, практически в одночасье.
Но только сегодня, зная подробности визита Горбачева в Вильнюс, мы можем почти с уверенностью сказать, что же именно подтолкнуло на столь революционное решение и его, и ЦК. Главным фактором оказалась именно угроза раскола Союза. После вильнюсских событий стало ясно — партия больше не является сдерживающим фактором. Литовцы написали сценарий для всех остальных — выход своей компартии из состава КПСС, а затем — декларация о независимости местного парламента. Участники февральского пленума понимали — с этим нужно что-то делать. Теперь, после Баку и Вильнюса, экономическая блокада, ввод войск, чрезвычайное положение в стране становились, увы, повседневной реальностью. Для такого тревожного сценария нужны были новая легитимность, новая законодательная база. Только президент СССР мог бороться с сепаратизмом республик. И давая ему дополнительные полномочия, члены ЦК голосовали не за демократические реформы Горбачева, а за жесткую линию в отношении республик Прибалтики и Закавказья.
Вот что говорил на Верховном Совете соратник Горбачева, член Политбюро А. Н. Яковлев:
«В идущих сейчас дискуссиях часто высказывается такая точка зрения: люди устали — устали от напряженности, неурядиц, неопределенностей, от падения уважения к закону и роста преступности, конфликтов, других негативных проявлений. В явной или неявной форме сторонники такой точки зрения видят в будущем президенте “сильную руку”, “твердую власть”, способную навести порядок».
Но не опасна ли эта «сильная рука»? — задавал Яковлев риторический вопрос в этом же выступлении. «…Не рискуем ли мы вновь… возродить в стране режим личной власти, которая станет неограниченной и неуправляемой?» И сам себе отвечал: «Но это уже зависит от нас, от того, насколько продумаем мы всю систему президентской власти и как будем контролировать ее использование».
7 марта собралось Политбюро. На нем Горбачев снова и снова объяснял своим товарищам необходимость отмены шестой статьи и введения президентства:
«
Членов Политбюро волнует совсем другое: а если Горбачева не выберут?
«
Забытый ныне всеми, кроме историков, член Политбюро Фролов правильно ставит вопрос: зачем вообще нужен такой ЦК, который уже проголосовал за фактическое самоустранение партии от власти? Но хоть «своего» президента он провести на съезде может? Заставить членов партии на съезде голосовать за Горбачева! (А членов партии — подавляющее большинство, процентов наверняка девяносто.)
Съезд открывается. Горбачев произносит речь о необходимости введения поста президента СССР. Депутат Алкснис выступает с призывом: проводить выборы только на альтернативной основе. Первая стрела в Горбачева запущена. ЦК маневрирует: горбачевские соратники выставляют свои кандидатуры: премьер Рыжков и министр внутренних дел Бакатин. Перед голосованием оба, как по команде, дают себе самоотвод. Но «чурки» (как в воду глядел Лукьянов!) не дремлют: никого не спросясь, «ни маму, ни папу», никому не ведомый депутат из Кемеровской области, да еще с грузинской фамилией Авалиани[10] вдруг выставляет свою кандидатуру! Зал замирает от такой наглости и восхищенно аплодирует самозванцу.
Пресс-секрбтарь Горбачева (а тогда сотрудник Международного отдела ЦК) Андрей Грачев спрашивает в кулуарах своего патрона Яковлева, напряженного, красного, почти взмокшего от непредвиденной скользкости ситуации: мол, Александр Николаевич, зачем весь этот балаган, не лучше ли было Михаилу Сергеевичу выставить свою кандидатуру на всеобщих выборах? И эффект был бы гораздо больше!..
— А ты уверен, что его выберут? — мрачно глядя себе под ноги, говорит Яковлев.
В конце концов кандидатура Горбачева проходит: за него голосуют 59 процентов народных депутатов.
Вся эта чехарда с конституционными нормами, с двумя турами голосования, с увещеваниями и давлением на депутатский корпус, который видит вся страна, с игрой в альтернативных кандидатов — оставляют в душе Горбачева не самый лучший осадок. И очень скоро этот осадок всплывет.
Выборы Ельцина в народные депутаты России в Свердловске и выборы Горбачева президентом СССР происходят одновременно, в марте 1990 года.
Для того времени два этих события несопоставимы. Всего лишь один из российских депутатов ведет свою предвыборную кампанию в масштабах одной области. И высший законодательный орган страны впервые в истории выбирает президента всей страны.
Однако сегодня, глядя уже из нового века, другими глазами, мы можем сравнивать и делать выводы.
То, что делает Горбачев на съезде — это сложный, хитроумный политический маневр. Формально он исполнен безукоризненно. Отныне Горбачеву принадлежит вся полнота власти в стране. Он может больше не опасаться пленумов ЦК и заседаний Политбюро, каждое из которых для него превращалось в сложнейшую интригу, он может не бояться даже приближающегося XXVIII съезда КПСС (как выяснилось, действительно исторического, потому что — последнего), на котором его должны переизбрать — или не переизбрать — генеральным секретарем.
Отныне компартия — лишь составляющая политического процесса, которым он руководит полностью и безраздельно. Теперь все его действия, направленные на поддержание стабильности в стране, борьбу с сепаратизмом республик, любые радикальные реформы в области экономики, — облечены в броню подлинной, несомненной легитимности. Он может делать все, что угодно, он — президент!
Но в живой реальности эта очередная политическая победа Горбачева наполнена горечью разочарований и привкусом какого-то невольного лицемерия, слабости и страха.
Выборы главы государства (пусть и не всенародные, но юридически вполне корректные — путем голосования народных депутатов) происходят с каким-то тревожным, леденящим душу скрипом. Даже здесь, на съезде, где всё управляется и всё управляемо, где с депутатами непрерывно ведут
Удивительная картина!
Побледневший и встревоженный следит Горбачев за цифрами поименного голосования. О такой ли демократии он мечтал?
Однако партия, которая с весны 1990 года перестала быть главной опорой государства, то есть, по сути дела, перестала быть государственной организацией, не могла, конечно, безропотно и безвольно дожидаться решения своей участи. В ней начинают происходить очень бурные политические процессы.
Во-первых, формируется так называемая «Демократическая платформа в КПСС». В нее входят и некоторые известные народные депутаты — Ельцин, Бурбулис, Собчак, Травкин и др.
Ни один «демократ» из Политбюро или ЦК в «платформу», разумеется, ни ногой. Больше того, ЦК выступает с гневным письмом, в котором рекомендует исключать раскольников из рядов партии.
С другой стороны, в марте этого же года создается Коммунистическая партия РСФСР, которая выбирает своим председателем Ивана Кузьмича Полозкова, первого секретаря Краснодарского крайкома, человека крайне реакционных взглядов.
И Компартия РСФСР, и сам Полозков появляются на политической сцене лишь с одной целью — помешать избранию Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР (а эту цель Б. Н. публично декларирует на выборах).
Ничем другим Полозков известен не был — ни до, ни после. Он не был популярным секретарем крайкома, не стал популярным политиком, он был обычным, рядовым советским функционером. Однако вся его речь, весь облик, выражение лица, отдаленно напоминавшее героя советских комедий (амплуа «бюрократ»), соответствовали одному общественному настроению, одному импульсу, который витал в воздухе, — неприятию перемен, реформ, политического процесса, как такового.
Это был стопроцентный человек из прошлого. Удивительно, что именно его выбрал Горбачев для такой важной роли. Не своих ближайших соратников в Политбюро, не кого-то из нового поколения политиков, выдвинутых съездами народных депутатов СССР. Выбор у Горбачева был. Но выбрал он ярого ортодокса с одной целью — столкнуть его на российском съезде с Ельциным.
Это была цепная реакция неверных ходов. Горбачев навсегда упустил шанс создания новой партии на «демократической платформе». Левой, но либеральной. Социал-демократической партии европейского типа. Хотя все предпосылки к тому у него были: властный ресурс, идеология, программа, лидеры, способные возглавить это движение. Именно эта партия,
Но этого не произошло. Пуще всего на свете Горбачев боялся раскола, заговора, появления на своем поле фигур, равновеликих ему.
Отражением этих настроений, как бы обратным эхом — явились разговоры, которые Горбачев вел в своем ближайшем окружении (Яковлев, Болдин) о возможном уходе с поста главы государства. «Дело сделано, теперь можно уходить…» Мол, страна пойдет дальше. Сама выберет себе лидера, которого хочет выбрать.
Говорила об этих настроениях Михаила Сергеевича (по телефону, с помощниками) и Раиса Максимовна, пишет в своих воспоминаниях А. Грачев.
Трудно сказать, что это было, возможно, Горбачев проверял реакцию своих соратников? Возможно, устал от борьбы? Предчувствовал дальнейший трагический разворот событий? Хотел снять с себя бремя ответственности?
Так или иначе, дальше этих разговоров дело не пошло. Горбачев избран на съезде президентом, а созданная им Российская компартия начала борьбу за голоса депутатов.
Депутатов нового, российского парламента.
В конце апреля Ельцин посетил Великобританию. Это была важная поездка. Встреча с Маргарет Тэтчер. Презентация книги «Исповедь на заданную тему», толпы людей, которые хотели познакомиться с автором и взять у него автограф. Как всегда, многочисленные интервью.
Затем, прямиком из Лондона — в испанскую Кордову на международную конференцию «Европа без границ и новый гуманизм», где Ельцин выступал в представительной компании: Александр Дубчек, Адам Михник, Вилли Брандт, Валери Жискар д’Эстен…
А впереди еще было выступление на Барселонском телевидении. Организаторы зафрахтовали маленький самолет-такси, в котором всего шесть мест. Однако самолет в воздухе вдруг забарахлил. Пилоты решили вернуться на аэродром Кордовы, но у самолета почему-то никак не выпускалось шасси и сесть не получалось.
Наконец шасси удалось выпустить. Самолет приземлился жестко, с подскоком. Пассажиров здорово тряхнуло. Тем не менее, когда Ельцин и его помощники вышли на летное поле, казалось, что все худшее уже позади.
Вернулись в Кордову, отправились снова в аэропорт и уже на рейсовом самолете (который тоже попал в болтанку) прилетели в Барселону. Здесь Б. Н. впервые пожаловался на острую боль в спине. Старая спортивная травма (смещение позвонков) отозвалась резким приступом, который начался уже в гостинице. «Засыпал он беспокойно, со стоном. Я просидел рядом с ним на диване всю ночь, ибо, когда ему надо было перевернуться на другой бок, он не мог это сделать без посторонней помощи. Когда боль немного стихала, он засыпал, но ненадолго», — пишет Суханов.
Все запланированные на утро интервью пришлось отменить. «К 12 часам приехал нейрохирург и, расспросив больного, тут же назвал диагноз: грыжа между позвонками, защемившая нерв».
Состояние Ельцина все ухудшалось. Начала отниматься нога. Его срочно доставили в больницу. Ему необыкновенно повезло: в этой барселонской больнице работал профессор Жозеф Льевет, один из ведущих нейрохирургов мира.
«В гостинице собрался консилиум, который и подтвердил прежний диагноз: застарелая грыжа изменила форму и защемила нерв. Одна нога была почти парализована. Нужно было срочно решать — оперировать или нет».
Первая реакция Ельцина — ни за что! Только домой, к своим врачам. Однако испанцы, оценивая ситуацию, настаивали — операцию надо делать немедленно. Иначе лечение может затянуться на годы, травма может привести к потере важнейших функций организма. Профессор Льевет обещал, что пациент начнет ходить буквально на следующий день после операции. Это был риск. Но риск оправданный — пролежать в больнице несколько месяцев для Ельцина, с его темпераментом, было смерти подобно. В этом случае весь его политический проект грозил рухнуть, даже не начавшись.
И Ельцин лег на операционный стол.
В руках у испанского хирурга, хотя он и не знал об этом, была судьба целой страны. Утром 2 мая (операция сделана 30 апреля) Ельцин пошел самостоятельно. Суханов вспоминает: «Наступил кульминационный момент: доктор приказал Борису Николаевичу бросить костыли. Шеф очень волновался, боялся упасть, но, видимо, соблазн удостовериться, что операция прошла успешно, заставил его отбросить в сторону костыли и сделать два шага. Нас охватило восхищение…»
А вот как сам Ельцин описывает этот момент в своей книге: «Я, весь мокрый, встал, сделал шаг, они, конечно, страхуют, чтобы я от неожиданности не упал. До стены дошел. Порядок. Телевидение снимает. На сегодня всё, говорят мне, идите обратно и ложитесь. Так меня три раза заставляли ходить. И пошел потом уже без боязни».
Эти минуты он запомнит на всю жизнь. Страх, болевой шок, первые неуверенные шаги, оправданный риск, победа.
Преодоление болевого шока. Преодоление страха.
Уверенность в своей победе.
Характерная для него схема реакций.
Прилетев в Москву с целым тюком современных перевязочных материалов, которые выдали ему в барселонской клинике, Ельцин оказался перед необходимостью много времени проводить у врачей — перевязки и обезболивающие уколы необходимо было делать ежедневно. К счастью, соседом Ельциных по подъезду оказался молодой врач-реаниматолог Андрей (он работал в ЦКБ), который согласился помочь Борису Николаевичу, что называется, прямо на дому.
Напомню, что осенью ему снова предстоит пережить аварию, уже автомобильную, тоже с болезненными последствиями.
Ельцин 1990 года и сам напоминает самолет, делающий крутые виражи. Он развил громадную скорость, и ему уже не до правил безопасности и не до мягких посадок.
Сразу после аварии в Барселоне — выборы на Первом съезде народных депутатов РСФСР. Ситуация намного более стрессовая и напряженная, чем любая авария.
Съезд открылся 16 мая.
Уходящий с поста Председателя Верховного Совета РСФСР Виталий Воротников открыл съезд предложением — принять Декларацию о суверенитете. Это был упреждающий, встречный удар Горбачева: носившуюся в воздухе идею суверенной России он решил высказать устами официальной власти, отнять приоритет у Ельцина.
Предложенная Воротниковым концепция суверенитета России не предполагала ослабления ее связей с СССР. Сферы полномочий, которые Россия добровольно передала бы Центру, должен был определить новый Союзный договор. Ельцин сразу выступил с альтернативным проектом декларации. Его концепция отличалась большей радикальностью. Но это уже не существенно. Сама
У новой идеи должен быть и новый лидер.
Горбачев, сидевший на балконе (его помощники долго выбирали место для президента СССР и решили, что он должен сидеть рядом с союзным флагом, как бы возвышаясь над депутатским собранием), понял, что проигрывает с самого начала. И бросился в атаку.
Речь Горбачева о российском суверенитете была пронизана неприятием и недоверием. Товарищ Ельцин призвал одним махом «распрощаться с социалистическим выбором 17-го года», — сказал Горбачев… Но для граждан России «социалистический выбор» и «власть Советов» — это не пустые фразы. Это фундаментальные ценности, ориентиры. А что предлагает вместо этого товарищ Ельцин? Изменение политической системы? Как советский народ сможет справиться с труднейшей задачей «придания социализму второго дыхания на путях демократизации», если Россия пойдет в другом направлении?.. Если серьезно проанализировать ельцинское определение федерализма, сказал Горбачев, в нем нет ничего, кроме «призыва к развалу Союза под знаменем восстановления суверенитета России».
Горбачев говорил долго и страстно. Он вспомнил о кровавом Смутном времени, когда Россия была расколота, растерзана и истощена. Он спросил: может быть, Борис Николаевич лелеет свою старую идею о создании нескольких республик на территории России? И вслед за распадом Союза последует и распад России на несколько удельных княжеств?..
Эта последняя реплика М. С. заслуживает отдельного комментария, потому что странным образом после окончания съезда «удельные княжества» стали создаваться как по мановению ока!
Через несколько недель будет принят исторический документ — Декларация независимости России. И тут же «декларации независимости» приняли все, даже самые маленькие национальные автономии России, включая Бурятию, Калмыкию, Чувашию, Туву, а так называемые «автономные округа» быстро повысили свой статус до республиканского. Адыгея и Карачаево-Черкесия, Горный Алтай и Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка — все заговорили о «праве наций на самоопределение», а некоторые республики захотели поставить свою подпись под новым Союзным договором, то есть войти в состав СССР как отдельный субъект.
Горбачев прекрасно знал, что на Ельцина давили, с одной стороны, наиболее рьяные представители регионов, с другой — радикально настроенные демократы с идеей «укрупнения регионов» России (Уральская, Дальневосточная республики и др.), и что именно на этом фоне национальные автономии бросились за поддержкой в ЦК КПСС.
Летом этого года, во время поездки по стране, Ельцин скажет знаменитую фразу: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Причем, с небольшими нюансами, он повторит эту формулу два раза — в Татарии и Башкирии!
Идеология «децентрализации» станет одним из главных пунктов обвинений со стороны политических противников Ельцина. Между тем в дальнейшем, как ни странно, горячие головы в национальных автономиях РСФСР охладились. И в приволжских, и в северокавказских республиках, и за Уралом, и на Дальнем Востоке неожиданно поняли — что красивые декларации — это одно, а экономическая мощь России — совсем другое.
Территориально-административное деление Российской Федерации после 1990 года осталось, по сути, неизменным. Маленькая Адыгея и большая республика Татарстан были вполне удовлетворены созданием своих местных органов власти (президента, парламента, верховного суда) и некоторыми экономическими послаблениями, которые получили в процессе создания нового Федеративного договора. Горбачев, который метал громы и молнии в «раскольников», поддержал экономическую блокаду Литвы (включая лекарства!), разрешал вводить войска в мятежные столицы и произносил горячие речи в защиту целостности Союза, — в итоге не сумел его сохранить.
Ельцин при первом же вызове со стороны национальных элит ответил неожиданно спокойно и в итоге сохранил единую Россию. В этом парадоксе политической истории заложен глубокий смысл, хотя сравнивать две ситуации — российскую и союзную — наверное, не совсем корректно. И все же от поведения политического лидера, от его внутренней правоты и силы зависит в тревожные месяцы и годы очень многое. Горбачеву внутренней правоты и уверенности в своей силе в 1990 году явно недостает. Хотя пока в его руках огромные, неисчерпаемые ресурсы власти…
Однако вернемся на съезд.
Расклад сил совершенно не в пользу Ельцина. При самом оптимистичном подсчете его сторонников среди депутатского корпуса меньше одной трети (около 350 голосов). Для избрания претенденту требовался минимум 531 голос, то есть больше половины. Ельцин прекрасно понимал, что прокоммунистически настроенных депутатов в зале гораздо больше, чем сторонников реформ. И тем не менее шел в бой совершенно спокойно, не скрывая своей уверенности в победе.
Ельцин в своей речи ни разу не опроверг ни один тезис из жесткой отповеди Горбачева, ни разу не вступил с ним в открытую полемику. Напротив, он заверил депутатов, что будет сотрудничать с Горбачевым. Его отношения с главой Советского Союза будут носить деловой характер — диалог, переговоры, — но не в ущерб российскому суверенитету и независимости. Если между ними и было что-то личное, Ельцин готов это отбросить.
(Совсем иначе вел себя Михаил Сергеевич. Перед решающим голосованием он собрал в Кремле 400 депутатов-коммунистов и потребовал, чтобы они не голосовали за Ельцина. Избрание Ельцина — огромный политический риск для России, сформулировал Горбачев свою позицию. А его сторонники на съезде — разношерстный сброд.)
Наконец, в пользу Ельцина играла конкретность его программы. Он шел на съезд со списком 12 первоочередных законов. Его призыв к согласию не был голословным — на посты своих заместителей он обещал съезду предложить кандидатуры, устраивающие его оппонентов.
Когда с предвыборной речью выступил главный кандидат коммунистов — Иван Полозков, нельзя было не обратить внимание на противоречивость его программы. Он произносил те же слова, что и Ельцин — суверенитет, демократия, равноправие разных форм собственности, но при этом возвышал голос и гневно сверкал очками, когда доходил до ключевых моментов своего кредо: «социалистический выбор», говорил Полозков, — это главное, это выбор народа, и отдавать его никому мы не намерены.
Позиция Ельцина была, таким образом, абсолютно цельной и ясной, а позиция Горбачева и его ставленника обнаруживала внутреннее противоречие.
Всем было очевидно, что Полозков не годится на роль лидера новой страны — об этом говорило всё: даже его внешность, его лексикон, его поведение. (А в том, что новая страна в каком-то виде точно будет, уже никто не сомневался.) Он был попросту
Все понимали, что главное для «центра» — любой ценой не допустить избрания Ельцина, всё остальное неважно. Это придавало особую, острую, захватывающую интригу происходившему в те дни, в конце мая 1990 года, в Кремле. И чисто психологически эта интрига работала на Ельцина. Захваченные драматизмом борьбы депутаты как бы оказались в новой ситуации, по-новому ощутили свою значимость. От их конкретного решения зависела жизнь всей страны! Быть самостоятельными людьми, а не пешками в чужой игре — основной закон для любой личности, какой бы идеологический выбор ни диктовал ее прошлый опыт.
Для победы необходимо набрать больше половины голосов российского съезда. 26 мая, в первый день голосования, Ельцин получил 497 голосов, Полозков — 473, а третий кандидат (никому не известный депутат из Казани, выдвинувший себя сам) — 12 голосов.
Вечером того же дня состоялся второй тур. Ельцин — 503, Полозков — 458. До победы Ельцину не хватало 28 голосов.
Напряжение вокруг Кремля усиливалось. Митинг сторонников Ельцина длился непрерывно, депутаты шли из гостиницы по узкому коридору, окруженные возбужденными людьми, им бросали в лицо гневные обвинения, и депутаты в ответ требовали «убрать отсюда этих домохозяек».
28 мая депутаты-коммунисты стали требовать снять кандидатуры Ельцина и Полозкова со следующих туров голосования. Это был самый напряженный момент съезда, казалось, что ситуация зашла в тупик.
Но предложение не прошло. Тогда Полозков сам снял свою кандидатуру, его примеру последовали еще шесть кандидатов. Кремль выдвинул новую кандидатуру — Александра Власова, председателя Совета министров РСФСР, до этого — министра внутренних дел СССР.
Это была еще одна ошибка Кремля. За Полозковым стояли консервативно настроенная часть депутатов и новая политическая партия, а Власов был только олицетворением власти самого Горбачева, союзного Центра. К тому же его предыдущая должность (министр внутренних дел СССР) недвусмысленно намекала на то, что в России «надо навести порядок».
Сам Горбачев, улетевший на саммит «Большой семерки» в Канаду, не присутствовал на съезде, не поддержал лично выдвижение Власова. В том, что эта кандидатура появилась как «домашняя заготовка» президента СССР, явно ощущалось его неуважение к депутатскому корпусу. Горбачев предлагал избавиться от радикального Ельцина и радикального Полозкова и выбрать умеренного представителя Центра. Послушно проголосовать за приоритет союзной власти над российской. Кандидатура Власова мгновенно выхолащивала, сводила на нет всю горячую полемику о российском суверенитете, его границах и перспективах. И это тоже не устраивало депутатов. Эту полемику они воспринимали горячо и всерьез.
Таким образом, выдвинув Власова, Горбачев сам проиграл выборы. Его излюбленная тактика компромиссов и маневров в данном случае оказалась провальной.
Итоги последнего голосования: Ельцин — 535, Власов — 467, Валентин Цой (депутат из Хабаровска, кооператор) — 11.
Победа!
Ельцин тщательно скрывал свое напряжение в дни работы съезда. О том, что творилось у него в душе, свидетельствуют лишь мелкие детали, которые запомнили очевидцы. После речи Горбачева на съезде, в которой президент СССР обрушился на позицию Ельцина, Б. Н. сидел бледный, не проронив ни слова. К нему обратилась женщина-депутат, сидевшая рядом: «Борис Николаевич, вам плохо? Валидол?» Он улыбнулся и ответил: «Спасибо, я в порядке». В дни съезда Ельцин передвигался по Москве на автомобиле своего телохранителя Коржакова. Внутри машины он мог хоть немного расслабиться и дать волю своим чувствам. Когда в очередной раз увидел толпу женщин, многие из которых дарили ему цветы, плакали, кричали: «Держитесь, Борис Николаевич!» — нервы не выдержали — сев в машину, он «стукнул кулаком по приборной доске» и «утер слезу».
Но когда огласили итоги победного голосования, Ельцин впервые позволил себе широко улыбнуться.
Пружина, сжатая внутри, наконец отпустила…
12 июня Первый съезд российских депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации — 907 голосов «за», 13 «против», 9 воздержавшихся.
«Создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза», — срывающимся от волнения голосом читал Ельцин слова декларации…
На этом съезде он чувствовал себя значительно легче, чем на союзном. В первые же дни работы было официально зарегистрировано 30 объединений депутатов: по политическому, профессиональному, территориальному признаку… И все эти фракции абсолютно равны по своему статусу, подчеркивал Ельцин. По вечерам после заседаний он проводил со всеми фракциями встречи, представлявшие собой двух- или даже трехчасовые откровенные беседы, и вскоре обнаружил, что после таких встреч многие депутаты начали лучше понимать его. В интервью Ельцин назвал российский парламент подлинно демократическим, несмотря на существование различных точек зрения, — и это совершенно естественно для нашего времени, добавил он.
— После аварии в Барселоне, — вспоминает Наина Иосифовна, — сидеть неподвижно по несколько часов ему было очень трудно. Мучили боли в спине, к этому добавились и последствия автомобильной аварии. Домой он приходил порой совершенно без сил, в мокрой от пота рубашке. Не мог шелохнуться, сидел смертельно бледный.
…Однажды, видя его состояние, я буквально взмолилась: Боря, перестань думать о том, что ты что-то должен! Ты ничего никому не должен, ты обязан подумать о своем здоровье! Ну, хочешь, сказала я, встану перед тобой на колени…
И действительно, я в отчаянии встала перед ним на колени, потому что меня действительно смертельно пугало его состояние. Я просто боялась, что он умрет.
— И тут вхожу я, — продолжает рассказ Татьяна, младшая дочь Ельцина. — Картина передо мной совершенно потрясающая: мама стоит перед папой на коленях! Я испугалась — мама, ты что? Что случилось? Мама совершенно не смутилась и стала говорить, что и я должна просить папу, чтобы он дал себе отдых, что он больше не может жить в таком режиме…
Наконец мы отвели папу в спальню, уложили его, и я шепнула маме, что это вообще-то бесполезно, он по-другому не может.
Летом этого года он совершает трехнедельную поездку по России. Это была совершенно необычная поездка. И дело, конечно, не в гигантской географии его маршрута. Впервые он смотрел на Россию с другой точки зрения.
Владивосток, Сахалин, Новокузнецк, Воркута, Камчатка…
В Воркуте Ельцин спустился в самую старую, аварийную шахту. Надев костюм шахтера и каску, прополз несколько десятков метров по узкому лазу. Это была почти преисподняя…
Он говорил с людьми в самых отдаленных, самых крайних точках страны. Татарские буровики, сахалинские рыбаки, рабочие владивостокских верфей, строители атомной электростанции и моряки атомной подводной лодки, нивхи, коренные жители Сахалина, — вот аудитория, перед которой он выступал эти три недели.
В Башкирии, в городе Стерлитамаке, выступая перед представителями местной власти, он услышал о том, что толпа, собравшаяся у здания, хочет его видеть и слышать. Ельцин покинул зал и забрался на крышу, хотя его уговаривали не делать этого. Стоя на крыше, он произнес речь.
Сюжет показали по Центральному телевидению — коротко, с беглым комментарием, но вид Ельцина, взгромоздившегося на крышу, чтобы его было лучше видно и слышно, произвел неизгладимое впечатление на миллионы телезрителей.
В каждом городе, в маленьких населенных пунктах, в деревнях Ельцин слышал одно и то же: очень плохо с продуктами. Вообще с товарами широкого спроса. Не во что одеть, обуть детей, нечем их накормить. Это был крик о помощи, который невозможно было не услышать.
В то же время, по оценкам экспертов, у населения СССР в 1990 году 165 миллиардов рублей накоплений лежало «в подушках» и 337,7 миллиарда рублей — на счетах в сберегательных кассах. Астрономическая сумма накоплений означала одно: нечего купить.
При этом правительство бешеными темпами печатало новые деньги — 18 миллиардов новых рублей за год. Так называемый «денежный навес» создавал тяжелую угрозу всей финансово-кредитной системе СССР.
Потребительская картинка была примерно такой.
В декабре 1990 года президиум Нижегородского городского совета народных депутатов пишет Горбачеву: «В Нижнем Новгороде до крайности усугубилась обстановка с обеспечением населения продовольствием.
Выделенные фонды не позволяют обеспечить основными продуктами даже приближенно к санитарным нормам такие категории жителей, как дети, беременные и кормящие женщины. В государственной торговле, кроме нормируемых товаров, продовольствие практически отсутствует. При этом образовалась большая задолженность города перед населением по отовариванию выданных талонов на мясо, сахарный песок, животное и растительное масло и проч.».
…Так что же случилось с продуктами, куда они делись в том 1990 году? Почему потребительская корзина вмиг опустела, а очереди стали такими бесконечными?
Первая причина — обесценивание рубля в результате постоянного повышения зарплат и пенсий, которое было вызвано политическими факторами (в частности, давлением депутатского корпуса на союзное правительство). «Пустая» национальная валюта неизбежно вымывает товары с прилавков.
Вторая причина — ослабление связей между Центром и регионами, между центральными министерствами и руководителями предприятий. Возник теневой и так называемый бартерный рынок: отдельные регионы стали задерживать свою продукцию или вывозить ее «по бартеру», то есть в обмен на продукцию других регионов. Руководители заводов фактически воровали товары или покупали их по смехотворно низким государственным ценам у собственных предприятии, а затем продавали на теневом рынке, объемы которого оценивались в четверть национального дохода.
Советская экономика распадается на глазах — такой была оценка ситуации в аналитических статьях крупнейших экономистов того времени.
Ситуация со снабжением в стране медленно, но верно грозила стать катастрофической. Москва тоже не была исключением из правила. Одним из самых известных демократических депутатов в Москве был в то время Илья Заславский, представлявший интересы малоимущих граждан, инвалидов. Так вот, Заславский предложил в своем районе не продавать никакие продовольственные товары и товары широкого спроса жителям других районов Москвы, то есть для покупки товара, по его предложению, необходимо было предъявить паспорт с пропиской или специальный документ, выдаваемый районным Советом.
«Потребительские карты москвича» в том 1990 году действительно появились, но не районные, а городские, для жителей Москвы, что вызвало бурю возмущения в других регионах России, особенно граничащих с Москвой. Ведь они уже несколько лет покупали колбасу, сыр, сосиски, масло, крупы, консервы и многие другие продукты в столице. «Колбасные электрички» стали привычным явлением, никому не требовалось объяснять, что это такое. В «колбасных электричках» отражалась ситуация тех лет, драматическая для жителей Тулы, Рязани, Владимира и других городов, вынужденных почти каждые выходные отправляться в Москву и выстаивать многочасовые очереди.
Летом того года я с женой и двумя маленькими детьми отправился в путешествие по Волге на стареньком пассажирском теплоходе. Во многих городах товары продавали только по предъявлении паспорта. Настоящий шок наступил, когда теплоход стал останавливаться в маленьких городках, например в знаменитом Плесе, воспетом русскими художниками. Как только матрос бросил швартовы и перекинул мостки, толпа местных жителей очертя голову, расталкивая туристов, бросилась в корабельный буфет, чтобы успеть занять очередь и отовариться. У людей были страшные лица — полные стыда и отчаяния. Они покупали буквально всё: конфеты, спички, сигареты, консервы, всё, что было в наличии… Наконец стоянка закончилась (как и товары в буфете), и те, кому ничего недосталось, разочарованно ругаясь, брели назад, по домам.
А вот другое свидетельство.
«Помню страшный “табачный бунт” в Питере в 1990 году, — пишет Анатолий Чубайс в книге «Приватизация по-российски». — Тогда я понял, что такое отсутствие табака. Это покруче, чем отсутствие мяса… Я тогда работал в исполкоме. Каждый день составлялись сводки: столько-то осталось, столько можно завезти… Как с театра боевых действий. Все, что удавалось выбить по дикому бартеру, более-менее равномерно распределялось по магазинам. И вот однажды в этой системе наступил сбой. Неделю вообще ничего не было. На Невском, у центрального табачного магазина, собралась огромная очередь. Толпа. Стоят, ждут. А магазин пуст, и когда товар завезут — неизвестно. И тогда народ стал разбирать леса (рядом ремонтировали дома), перекрывать проспект, жечь костры… Милицию стали сметать, оцепление за оцеплением. Страшное дело. Вот что такое — неработающий рубль… И в этой ситуации будь ты хоть четырежды министр, бесполезно кричать в телефонную трубку, разрываться. От самого захудалого директора ответ получишь один: “В гробу я тебя видал с твоими указаниями! Да что ты мне вообще можешь сделать?!”».
Проблемы» накапливались давно. «В 1982 году, — писал Николай Рыжков, бывший председатель Совета министров СССР, — впервые после войны, остановился рост реальных доходов населения. Статистика показала ноль процентов…» («Десять лет великих потрясений»).
«Правительство страны, — пишет Егор Гайдар, — столкнувшись с неблагоприятной конъюнктурой цен на доминирующие в экспорте товары (то есть, прежде всего, на нефть[11], цена на которую в начале 80-х начинает резко падать), наносит три дополнительных удара по финансовой системе страны. Это, во-первых, антиалкогольная кампания, снижающая бюджетные поступления, во-вторых, программа ускорения народно-хозяйственного развития, предполагающая значительное увеличение масштабов государственных капитальных вложений, и, в-третьих, сокращение закупок промышленных товаров народного потребления по импорту».
Падает нефтедобыча, сокращаются валютные поступления. Госбанк СССР информирует: «В 1989 году… прирост остатка денежных средств у населения является показателем неудовлетворенного спроса из-за недостатка товаров и услуг, который на начало 1990 года оценивается Госбанком СССР в сумме около 110 млрд. рублей против 60 млрд. на начало 1986 года…» То есть за три года «остаток денежных средств» вырос почти в два раза. А это означало дальнейшее сползание в экономическую яму.
Растет «зерновая зависимость» СССР от экспортеров зерна. При этом цена его постоянно увеличивается, а валютные запасы в связи с падением нефтедобычи и цен на нефть тают.
Валютный кризис, зерновой, нефтяной, кризис денежной системы, товарный кризис. Всё сплетается в один комок, всё требует принятия немедленных мер. Западные банки отказываются кредитовать советскую экономику на фоне неплатежеспособности советских внешнеторговых организаций.
Но что же делать?
Горбачев ведет лихорадочные переговоры с руководителями западных стран о предоставлении СССР крупных кредитов. Кредиты постепенно, хотя и крайне неохотно, предоставляются, начинается благотворительная (тогда ее называли «гуманитарной») помощь западных стран.
Но все это уже не спасает положения. Назревает крупнейшая реформа всей советской экономики. И прежде всего реформа ценообразования, способная спасти рубль от инфляции. Однако споры о том, как вести реформу, когда и как повышать цены, вводить новые формы собственности, как сократить расходы государства, так и не реализуются в более или менее конкретной программе.
Вот в такой, мягко говоря, непростой социально-экономической ситуации Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин формирует новое правительство.
Он крайне осторожно подходит к кандидатуре премьер-министра. Это должен быть человек, которого поддержит съезд. При этом прогрессивный, понимающий глубину и степень экономического кризиса, с большим опытом. Новый парламентский раздрай уже по поводу утверждения премьер-министра Ельцину сейчас совершенно не нужен, выбирать нужно очень точно. Однако сделать это было непросто.
«…В Москве все больше ощущалось влияние нового центра власти. Одним из показателей этого стало паломничество в приемную Б. Ельцина многочисленных искателей должностей. Каждое утро здесь толпились десятки человек, предлагавших свои услуги новому российскому руководству» («Эпоха Ельцина»).
В тот день, когда Ельцин был избран Председателем Верховного Совета, дома у него собрались люди из его «инициативной группы», ближайшие соратники. Был накрыт стол, все — в праздничном ожидании. С минуту на минуту появится сам хозяин. Однако ожидание затягивалось. Прошел час, потом другой. Наконец усталый Борис Николаевич возник в дверях. Как оказалось, едва выйдя за порог Колонного зала, он попал в ситуацию непростого разговора — депутат М. Бочаров несколько часов подряд (!) уговаривал выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра. Это был действительно яркий, незаурядный человек, известный своими демократическими взглядами, сторонник реформ, к которому Ельцин относился крайне положительно. Но именно это и сработало против его кандидатуры. Б. Н. боялся провала голосования. Академик Ю. Рыжов, ректор МАИ, отказался от предложенного ему премьерского кресла. Решать нужно было быстро.
И Ельцин остановился на кандидатуре Ивана Силаева, представителя крупной промышленности, долгое время работавшего союзным министром. Силаев понравился ему прагматизмом, честностью, порядочностью.
Однако «подпереть» уже пожилого премьера должны были две ключевые фигуры — вице-премьер Григорий Явлинский и другой молодой экономист, Борис Федоров, возглавивший Министерство финансов. Обоим еще не было и тридцати пяти лет. Явлинский, который уже был известен своими яркими высказываниями, красноречивым анализом экономических проблем (кстати, в этом Борис Федоров ему ничуть не уступал), предложил новому российскому правительству программу вывода страны из кризиса. Детище академика Станислава Шаталина (советника Горбачева) и Григория Явлинского, программа «500 дней», стало тогда притчей во языцех.
Новизна программы заключалась в двух вещах. Это была, во-первых, антикризисная программа, исходным пунктом которой явилась констатация страшной правды — советская экономика разрушается на глазах, ее необходимо не просто реформировать, а спасать. Отсюда конкретность шагов, их поэтапность — каждое нововведение было рассчитано по дням. Второе — это программа рыночная. Реформа цен, реформа денежной системы, форм собственности, приватизация мелких и средних предприятий, купля-продажа земли, налоговая реформа — все это противоречило давно устоявшимся нормам и традициям советской централизованной системы.
Программа, над которой Явлинский работал уже не один год, была рассчитана на изменение всего советского экономического пространства. Авторов программы крайне беспокоило, что союзное руководство отказалось принять ее. Однако летом 1990 года Горбачев и Ельцин дают совместную пресс-конференцию, на которой говорят, в сущности, одно и то же: антикризисная программа нужна и вполне возможно, ею станет программа Явлинского. Это громкое, сенсационное событие, которого давно ждали, — оба лидера объединяют усилия по спасению страны.
Совместному заявлению предшествовала пятичасовая (!) встреча Горбачева и Ельцина, состоявшаяся в конце августа, и Ельцин после нее заметил, что так долго он не разговаривал с Горбачевым никогда в течение прошедших пяти лет.
Однако программа, одобренная Верховным Советом РСФСР 11 сентября (первый из «500 дней» был намечен на 1 октября), как бы зависла в воздухе, встретив громадное сопротивление внутри союзного руководства, прежде всего в аппарате премьер-министра Николая Рыжкова.
Программа «500 дней» содержала в себе прямой отказ от священных для Горбачева основ «социалистического выбора». Газетный вариант программы начинался такими словами: «Человечеству не удалось пока найти ничего эффективнее рыночной экономики».
От одного этого можно было прийти в ужас. Критика Рыжкова (пока что кулуарная) затрагивала самые болезненные для Горбачева зоны — политические и идеологические.
«Обвальное повышение цен», помечает Рыжков для Горбачева, особенно слабый пункт программы, грозит гораздо худшей, чем сейчас, катастрофой, безработицей, забастовками, распадом страны.
Но самый «опасный» пункт — это роль Центра. Ее, эту роль, авторы программы видели совершенно иначе, чем ближайшее окружение президента СССР.
«Основное различие между двумя проектами заключалось в балансе власти между Центром и республиками. Экономический союз, предлагаемый программой Шаталина — Явлинского, был конфедерацией по типу Европейского союза. Рыжков хотел сохранить более расплывчатый, мягкий, но безошибочно узнаваемый Советский Союз» (Леон Арон), то есть унитарное государство.
Чувствуя, как почва уходит из-под ног, Рыжков 23 августа потребовал встречи президиума правительства с Горбачевым. На ней он попытался доказать: кризис возник не по вине союзного правительства. Вот что, например, он говорил:
«В то время как вся ответственность за состояние дел в стране фактически возлагается на ее правительство, все делается для устранения его из системы управления государством. Правительство сегодня является последней реальной силой, которая противодействует сегодня нарастанию деструктивных, дестабилизирующих факторов. Возможный уход правительства изменит баланс и расстановку политических сил в стране.
Не менее острая проблема — потеря управляемости. Это чрезвычайно опасно. Она выражается прежде всего в том, что не выполняются решения правительства, игнорируются указы президента, объявляется верховенство республиканских законов над союзными, принимаются декларации о полном государственном суверенитете и т. д…. В то же время ответственность за все, вплоть до табака, ложится на центральное руководство».
Рыжков упрямо доказывал Горбачеву, что программа «500 дней» (и стоящее за ней российское руководство) покушается на основы государственного строя. Цитата:
«Делаются попытки внести коренные изменения не столько в экономические отношения между республиками и Союзом ССР в целом, сколько в характер самого строя, пересмотреть основополагающие политико-экономические принципы, отвергнуть существующий политический строй».
Между тем эта программа была важна не только потому, что в ней содержались новые рыночные механизмы. Главное — она была знаменем, вокруг которого союзная власть могла строить свою политику, удерживая республики в своей орбите.
Горбачев дает задание своему экономическому советнику Аганбегяну — свести воедино две программы, «рыжковскую» и «шаталинскую»[12].
В своих воспоминаниях Николай Рыжков отмечает интересный эпизод — встречу на госдаче, где писалась программа «500 дней». По предложению Горбачева авторы двух конкурирующих программ встретились, чтобы попытаться «договориться». Но договориться не получилось. Спустя несколько лет Рыжков с большой обидой пишет о том, что их «не захотели услышать», «разговаривали сквозь зубы».
Было совершенно понятно, что в этой ситуации Михаил Сергеевич должен сделать выбор, остановиться на одной программе. Но, как и во многих других случаях, президент СССР оставил в дураках и тех и других: не была принята ни та ни другая программа!
Не выдержав давления с двух сторон, Горбачев ушел в глухую самооборону.
Не выдержит давления и Рыжков — спустя несколько недель после отчаянной полемики в Верховном Совете с ним случился инфаркт.
«Под конец заседания меня опять выбросило на трибуну. На этот раз у меня не было заготовленных тезисов. Шла жестокая битва, и обращаться к разуму этих людей было равносильно гласу вопиющего в пустыне. Я бушевал на трибуне, гневно бросая обвинения политиканам, тащившим страну в пропасть».
«В первых числах декабря по моей просьбе, — пишет Рыжков далее, — состоялась встреча один на один с Горбачевым, на которой я сообщил, что принял окончательное решение об уходе с поста главы правительства страны. Он воспринял это довольно спокойно и даже с облегчением. Он был, как и я, готов к этому нелегкому разговору…»
Тогда казалось, что избежать тяжелых социальных последствий рыночных реформ каким-то образом удастся, что в рынок можно войти «мягко». Далеко не все политики понимали и признавали необходимость болезненного повышения цен.
Поначалу не хотел признавать это и Ельцин. Как рассказывает экономист Евгений Ясин, в мае 1990 года, после того как Николай Рыжков на заседании Верховного Совета СССР объявил, что он повысит цены на все продукты в два раза, а на хлеб в три раза, Ельцин, только что избранный Председателем Верховного Совета РСФСР, сказал: «Такие руководители, как Рыжков, нам не нужны, а вот мы знаем, как перейти к рынку безболезненно». «Тогда, я помню, первый раз с ним встретился, вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским и Сергеем Николаевичем Красавченко, и вынужден был ему сказать: Борис Николаевич, вы таких смелых заявлений не делайте, потому что потом люди увидят, что слова расходятся с делами. Это неизбежно».
Формируя новое правительство России, Ельцин вел непрерывные консультации с самыми авторитетными экономистами. Все они говорили в один голос: отпуска цен уже не избежать, для «мягкого и постепенного» перехода к рынку время упущено.
Что произошло за то время, пока Рыжков лежал в больнице, и почему Горбачев воспринял его отставку «легко»? Казалось бы, в споре двух программ — «500 дней» и «правительственной» — победила вторая. На самом деле не победила ни одна. 16 октября Горбачев направил на рассмотрение Верховного Совета свой, «доработанный» вариант программы. Она уже не называлась «500 дней». В ней не были указаны конкретные сроки и планы. Вместо ста дней, в течение которых Явлинский и Шаталин предлагали провести первый этап приватизации госсобственности, были указаны туманные сроки — на эту операцию может уйти длительное время. Либерализация цен (250-й день) откладывалась до 1992 года (кстати, именно тогда она и произошла, но уже в другой ситуации, близкой к полной катастрофе и без «единого союзного пространства»). Создание индивидуальных фермерских хозяйств передавалось на усмотрение колхозов.
Каждый пункт жесткой программы Шаталина — Явлинского был смягчен, уточнен, затуманен и размыт.
А стремительное разрушение советской экономики продолжалось.
Между двумя главными вехами 1990 года — избранием Ельцина на пост Председателя Верховного Совета РСФСР и острыми дебатами вокруг программы «500 дней», которые так ничем и не закончились, произошло еще одно событие.
На последнем, XXVIII съезде Коммунистической партии Советского Союза Борис Ельцин публично объявил о своем выходе из рядов КПСС. Это был непростой для него шаг: ведь с партией связана вся его карьера. Но провозгласив отказ от партийного руководства одним из главных пунктов своей политической программы, он отрезал себе пути к отступлению. «Пост Председателя Верховного Совета России и членство в КПСС считаю несовместимыми», — заявил он съезду.
На этом съезде еще один бывший соратник Горбачева — Александр Яковлев — не будет избран в состав нового Политбюро. Пройдет еще несколько месяцев, и на октябрьском пленуме ЦК Горбачев будет атакован со всех сторон, подвергнется жесткой критике своих товарищей по партии.
И вот тогда он скажет своим коллегам и помощникам исторические слова: ситуацию в стране надо немного «подморозить» и в состав правительства ввести умеренных консерваторов. Ими, умеренными, станут Валентин Павлов, заменивший Рыжкова, Борис Пуго, генерал КГБ, заменивший министра внутренних дел Бакатина, и несколько секретарей ЦК.
В декабре, уже на съезде народных депутатов СССР, уйдет в отставку и Шеварднадзе, министр иностранных дел, еще один старый соратник Горбачева. Он публично предупредит страну о грозящей ей опасности диктатуры, военного переворота.
Шеварднадзе не стал дожидаться, когда его отставка «созреет», и решил уйти, громко хлопнув дверью. Прошло меньше двух лет с тех пор, как в Политбюро наметился первый раскол между «консерваторами» и «либералами». И вот в прежнем своем виде Политбюро больше не существует. Рядом с Горбачевым уже нет его старых соратников. Ушли «неудобные и строптивые», опасные и самостоятельные. Пришли — умеренно послушные, исполнительные. Но «перетряска» Политбюро и ЦК, затеянная Горбачевым, дала обратный эффект — Горбачев остался один. Однако он еще не чувствует этой обволакивающей его пустоты.
И еще одно событие съезда народных депутатов стоит здесь отметить. Никому не известная доселе депутат из Чечено-Ингушетии Сажи Умалатова в своей речи попросила Горбачева уйти в отставку.
…Зал замер. Пламенная коммунистка сказала вслух то, о чем думал на этом съезде почти каждый.
Этот год начался с событий в Вильнюсе.
Ранним утром 13 января 1991 года бойцы отряда «Альфа» и вильнюсского ОМОНа с оружием в руках ворвались в здание телецентра. Они проложили себе путь сквозь митингующую толпу, убив при этом 13 человек и ранив более 160.
Страна вздрогнула от кровавых новостей. И от очень плохих предчувствий: Вильнюс — это только начало. Стены московских домов и заборы за одну ночь оказались заполнены самодельными лозунгами: «Руки прочь от Вильнюса!», «Мы с вами»…
Эти надписи рисовали черной масляной краской на бетоне или белым мелом на кирпиче, под светом фонариков, глухой ночью — вовсе не убежденные сторонники отделения Прибалтики. Просто люди не хотели наступления диктатуры.
Официальных сообщений о том, что и как произошло в Вильнюсе, практически не было. Корреспонденты газет сами добывали информацию у представителей власти, пытаясь составить общую картину происходящего.
Генеральный прокурор Н. Трубин сообщил «Известиям»: «Пока в Прибалтике будет продолжаться противостояние, когда мы фактически имеем две милиции, две прокуратуры, гарантировать конституционное решение вопросов нельзя».
Министр внутренних дел Пуго: «Я сам изумлен и удручен таким поворотом событий. Когда пролилась кровь, а дело идет так, как идет, ситуация чревата новой кровью и еще более тяжкими последствиями» (интервью тем же «Известиям». — Б. М.).
«Литературная газета»: «Еще не утвержденный министром МВД СССР Б. К. Пуго не смог толком объяснить депутатам, что это за всевластный “комитет национального спасения”, который способен вывести на улицы Вильнюса танки, а объяснение министра обороны СССР Д. Т. Язова ничего, кроме оторопи, не вызвало. Сославшись на то, что он сам всех деталей не знает (так как, по его словам, “не был на месте происшествия”) и никакого приказа для танково-десантной атаки не отдавал, он выдвинул свою версию вильнюсской трагедии. Она заключается в следующем: когда избитые возле парламента члены “комитета национального спасения” пришли к начальнику Вильнюсского гарнизона, то их вид так подействовал на генерала, что он отдал приказ захватить телецентр, который непрерывно транслировал “антисоветские передачи”. То есть, по объяснению маршала Язова, кровавая трагедия у телецентра была вызвана порывом одного отдельно взятого генерала!»
…Никто ничего не знает. Никто ничего не может объяснить.
«7 января в Литву были брошены десантные подразделения. 8 января десантники начали действовать. По выражению комментатора программы “Время”, они “взяли под охрану” Дом печати и несколько других объектов в городе. Дом печати брали под охрану с применением огнестрельного оружия. Есть раненые. Всё сообщение с Литвой прекращено. Не работает аэропорт, не ходят поезда…» — писал «Коммерсантъ» 14 января.
А вот закрытый документ. Отчет заведующего отделом национальной политики ЦК КПСС В. Михайлова. Он информирует руководство страны: «По сообщению ответственных работников ЦК КПСС (тт. Казюлин, Удовиченко), находящихся в Литве, 11 января в г. Вильнюсе взяты под контроль десантников здания Дома печати и ДОСААФ (в нем размещался департамент охраны края), в г. Каунасе — здание офицерских курсов. Эта операция прошла в целом без сильных столкновений… В 17 часов по местному времени в ЦК КПЛ (Литовской компартии. — Б. М.) состоялась пресс-конференция, на которой заведующий идеологическим отделом ЦК т. Еромолавичюс Ю. Ю. сообщил, что в республике создан Комитет национального спасения Литвы. Этот комитет берет на себя всю полноту власти. Размещается он на заводе радиоизмерительных приборов (директор т. Бурденко О. О.). Комитет принял обращение к народу Литвы, а также направил ультиматум Верховному Совету Литовской ССР..» (Егор Гайдар «Гибель империи»).
Из этого документа всё становится более или менее ясно. Нет, не реакция «одного отдельно взятого» генерала стала причиной ввода десантников. Это был план, продуманный, разработанный в Москве. Разработанный подробно, не вдруг. И товарищи Казюлин и Удовиченко, заранее прибывшие в Вильнюс, осуществляли лишь часть этого плана.
Тем не менее политики, руководители страны, знающие правду, отмалчиваются, отделываются общими фразами, никто не хочет брать на себя ответственность за трупы.
Вскоре после событий в Вильнюсе Центральное телевидение показывает документальный фильм журналиста Александра Невзорова. Камера снимает из здания телецентра. Фильм вроде бы абсолютно просоветский, наполненный имперской ненавистью, а его герои — отнюдь не литовские демонстранты, а бойцы ОМОНа. В черных стеклах вильнюсской башни — притихший город, лишь иногда в темноте неба видны росчерки трассирующих пуль. Войска ушли, и вильнюсский ОМОН остался «охранять» захваченное здание. (Позднее бойцам вильнюсского ОМОНа пришлось покинуть Литву навсегда. — Б. М.) Но есть одна примечательная деталь: Александр Невзоров в этом фильме почти открыто говорит о «предательстве». Бойцы ОМОНа ждали поддержки — но войска союзного МВД были неожиданно отведены. Так чье же это «предательство»? И было ли оно?
Егор Гайдар в своей книге пишет об этих событиях: «А. Черняев (помощник Президента СССР М. Горбачева) впоследствии говорил М. Брейтвету (послу Великобритании), что решение было принято по указанию командующего Сухопутными войсками СССР, генерала армии Варенникова без согласования с М. Горбачевым». Однако версия Черняева представляется, мягко говоря, сомнительной — присутствие в Вильнюсе «руководящих товарищей» из ЦК КПСС прямо указывает на тот факт, что в Кремле знали о готовящемся перевороте и санкционировали его. Такую санкцию могло дать лишь высшее руководство страны — Политбюро и лично М. С. Горбачев.
…Вильнюс — очередной душевный надлом для самого мягкого и либерального в нашей истории Генерального секретаря ЦК КПСС, которого события заставляют быть немягким и нелиберальным. Горбачев снова отделывается общими фразами о своей «неинформированности». Что это — проявление трусости и предательства, как заявлено в фильме Невзорова?
Нет. В очередной раз Горбачев понимает: это не его путь. Брать на себя ответственность за пролитую кровь, за человеческие жертвы Горбачев не хочет, он просто не в состоянии выговорить эти слова. Таким путем решать проблемы страны он не будет. Для этого пути на его посту необходим совершенно другой человек, другая личность, и страшно себе представить, к каким последствиям, к какой катастрофе может привести нацию эта личность.
События в Вильнюсе — переломные для всех участников исторической драмы. Силы армии, безопасности и МВД в очередной раз получают приказ отступить. Но терпеть одно поражение за другим — у них больше нет моральных сил. В среде «ястребов», горбачевских маршалов и генералов (Варенников, Ахромеев, Язов и др.), назревает ситуация протеста.
Переломный момент наступает и для Горбачева. Приведя в Политбюро и на все силовые посты жестких исполнителей, дав им в руки программу действий и почти карт-бланш, — после Вильнюса он вновь уходит в себя, задумывается, тормозит уже начавшийся процесс «силовой» стабилизации.
Вот что пишет в этот момент помощник президента СССР А. Черняев своему шефу:
«На этот раз выбор таков: либо Вы говорите прямо, что не потерпите отпадения ни пяди от Советского Союза и употребите все средства, включая танки, чтобы этого не допустить. Либо вы признаете, что произошло трагическое неконтролируемое из Центра событие, что Вы осуждаете тех, кто применил силу и погубил людей, и привлекаете их к ответственности». Далее Черняев развивает свою мысль: в первом случае конец перестройке, демократии, отход от прежнего курса. Во втором — еще можно спасти курс, но «что-то необратимое уже произошло». Но все его письмо просто кричит: выбор, надо сделать выбор, Михаил Сергеевич! Какой-нибудь выбор! Иначе катастрофа…
Но выбор сделан так и не будет. Никто не станет разбираться в том, кто виноват. Никто не попадет ни под моральную, ни под уголовную ответственность (кроме деятелей Комитета национального спасения, которые, поверив Москве и Горбачеву, надолго сядут в вильнюсскую тюрьму после 1991 года). «Система» начинает работать сама по себе. Неуправляемая. Неконтролируемая.
Какие решения принимает в этот момент Ельцин?
Через два часа после трагедии он летит в Таллин. Рига и Вильнюс уже пострадали от действий Центра, там уже пролилась кровь, осталась лишь одна прибалтийская столица, где Кремль еще не применил силу. Он едет туда, где, как ему кажется, нужна его помощь.
В Таллине войска МВД СССР тоже готовы к решительным действиям. Здание парламента окружено. Глава эстонских парламентариев скажет позднее: если бы не Ельцин, неизвестно, что бы было с нами в тот вечер.
Но Таллин, к счастью, обошелся без крови. В здании парламента, окруженный защитниками эстонской независимости, которые вооружены лишь кухонными ножами и охотничьими ружьями, Ельцин вместе с главами трех прибалтийских республик подписывает заявление:
«Последние действия советского руководства в отношении балтийских государств создали реальную опасность для их суверенитета и привели к эскалации насилия и гибели людей…
Латвия, Эстония, Литва и Россия заявляют, что:
Первое: подписавшие признают суверенитет друг друга;
Второе: вся власть на территориях стран, чьи представители подписали это заявление, принадлежит только законно избранным органам;
Третье: подписавшие считают недопустимым применять вооруженные силы для решения внутренних проблем, за исключением случаев, когда этого потребуют законно избранные исполнительные органы…»
После подписания заявления Ельцин садится в автомобиль и всю ночь едет по сельским дорогам до Ленинграда. На самолете лететь домой ему категорически не советуют. В машине, которая тащит его сквозь темень, мимо скудных деревенских огней, порой по ухабам и рытвинам (водитель пытается выбирать по возможности объездные пути), Ельцин, пытаясь заснуть, измотанный и возбужденный в одно и то же время, перебирает в уме все события этого сумасшедшего дня и пытается осознать, что же на самом деле произошло. Что происходит с Горбачевым? Что будет с Советским Союзом? Удастся ли центральному руководству удержать власть? И самое главное. Спасая прибалтов, Ельцин задумывается о самом важном выборе, который предстоит сделать: сохранение единого государства — или свобода, сохранение старой системы власти — или защита человеческой личности, сохранение СССР — или новая, другая страна. Потом этот выбор будут не раз ставить ему в вину. Но в тот день и в ту ночь — выбор для него ярок и очевиден.
Именно в те дни, когда Ельцин решительно и безоговорочно поддержит независимость Прибалтики, проявится еще одно его качество: умение делать выбор в ситуации, когда из двух возможностей «обе хуже», когда выбор мучителен и не приносит облегчения. Короче говоря, когда выбор невозможен. Но он выбирает. Именно в такие минуты, когда из двух зол приходится выбирать меньшее, интуиция всегда приходит ему на помощь.
Что же подсказала Ельцину в эти дни его знаменитая интуиция? Вооруженной силой, танками, огнем десантников СССР уже не спасти. Пройдет еще несколько месяцев, и это станет очевидным для всех.
Уже на следующий день после Таллина, 14 января, Ельцин проводит пресс-конференцию в здании Верховного Совета РСФСР и зачитывает текст обращения: «Призыв к российским солдатам в Прибалтике».
«Вам могут сказать, что для восстановления порядка в обществе требуется ваша помощь. Но разве нарушения Конституции и закона могут считаться восстановлением порядка?»
Смысл его послания ясен: русские солдаты, не стреляйте в людей!
И в то же время — это очевидная пощечина Центру и Горбачеву.
1 февраля у Б. Н. юбилей. Ему исполняется 60 лет.
Из Свердловска, как всегда, прилетели друзья его студенческой юности. Опоздав к праздничному столу с заседания Верховного Совета, Ельцин отмечает необычную тишину в комнате. Совершенно очевидно, что друзья напуганы происходящим и ждут самого худшего. Ельцин врывается в комнату и громко спрашивает, что за панихида, тормошит, шутит, балагурит. Атмосфера в зале постепенно теплеет.
Но эти первые секунды тревоги и ожидания запомнятся ему. Ощущение неизвестности, беспокойства, жесткого противостояния Ельцина с союзной властью — просто висит в воздухе.
Хроника тех дней говорит, что ощущение это рождалось не на пустом месте. «В воздухе явственно запахло угрозой распространения вильнюсских методов на Москву, — пишет историк Рудольф Пихоя. — 1 февраля Верховный Совет РСФСР принял постановление… в нем, в частности, говорилось: “Осудить случаи противоправного вовлечения воинских подразделений и военизированных формирований в политические конфликты… Установить, что введение на территории РСФСР мер, предусмотренных режимом чрезвычайного положения, без согласия Верховного Совета РСФСР… недопустимо”».
А вот как ответил Секретариат ЦК КПСС на этот документ:
«К партийным организациям, всем коммунистам Вооруженных сил СССР, войск Комитета государственной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел СССР и железнодорожных войск… Так называемые “независимые” средства массовой информации ведут систематическую кампанию клеветы на партию, Вооруженные силы, органы и войска КГБ и МВД СССР… Отчетливо видно стремление псевдодемократов под прикрытием плюрализма мнений посеять недоверие к своей армии, вбить клин между командирами и подчиненными, младшими и старшими офицерами, унизить защитника Родины. Под сомнение берутся высокие понятия — воинский долг, честь, верность присяге. Предпринимаются попытки растащить армию по национальным квартирам, мешать призыву на воинскую службу».
…После такого обращения к коммунистам каждому офицеру остается лишь привести вверенное ему подразделение в боевую готовность в любой момент.
На следующий день после публикации этого документа, 6 февраля, — еще одно событие. «В здании Верховного Совета РСФСР была обнаружена комната, снабженная подслушивающими устройствами и связанная с встроенными микрофонами в кабинете Ельцина. “Хозяевами” этой комнаты были сотрудники КГБ СССР» (Рудольф Пихоя).
Проходят еще сутки. Председатель КГБ Крючков направляет письмо президенту СССР Горбачеву. В нем он недвусмысленно «прижимает к стенке» своего шефа:
«Политика умиротворения агрессивного крыла “демократических движений”… позволяет псевдодемократам беспрепятственно реализовывать свои замыслы по захвату власти и изменению природы общественного строя». Что же предлагает Крючков? «Экономические репрессии» по отношению к теневикам, то есть к первым, пока еще очень слабеньким росткам предпринимательской деятельности. Усилить контроль над прессой, закрутить гайки, пока не поздно. И, наконец, самое главное: «Учитывая глубину кризиса и вероятность осложнения обстановки, нельзя исключать возможность образования в соответствующий момент временных структур в рамках осуществления чрезвычайных мер, предоставленных Президенту Верховным Советом СССР».
Впервые Крючков, и до этого засыпавший Горбачева «аналитическими записками», полными панических угроз, призывает его задуматься о возможности введения чрезвычайного положения в стране. О создании «временного», особого органа вне рамок существующих структур власти.
Кстати, в этот же день Верховный Совет РСФСР, приняв постановление о проведении референдума 17 марта (к нему мы еще вернемся), вносит в опросный лист еще один, второй вопрос: «Считаете ли вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» Возможно, именно этот вопрос в постановлении съезда и заставил Крючкова впервые так отчетливо сформулировать идею будущего путча.
Еще одно ключевое событие тех дней — выступление Ельцина по Центральному телевидению.
Верховный Совет РСФСР давно требует от руководства Гостелерадио возможности для своего председателя выступить с объяснением позиции России. 19 февраля 1991 года это, наконец, происходит. По форме это было интервью — вопросы Ельцину задавал политический обозреватель ЦТ. «Создается ощущение, что между вами и президентом Горбачевым есть некоторое взаимное недоверие, неприязнь, может быть, даже личная. Физическое ощущение, что на каждое действие президента есть противодействие России», — говорит ведущий. «А может быть, наоборот?» — отвечает Б. Н.
В конце телепередачи Председатель Верховного Совета РСФСР неожиданно просит дать ему время для прямого обращения к гражданам. Ведущий растерян. Он делает Ельцину приглашающий знак рукой и куда-то оглядывается. У телезрителей да и у всех, кто был в студии, создается ощущение, что прямой эфир может неожиданно оборваться. Однако этого не происходит. Ельцин делает свое заявление — медленно, с огромными паузами, как это всегда бывает с ним в трудных, кризисных ситуациях:
«Скажу откровенно, и видит Бог, я много сделал попыток, несколько попыток, чтобы действительно сотрудничать, и мы несколько раз собирались и обсуждали по пять часов наши проблемы, но, к сожалению, результат после этого был одним… (Ельцин имеет в виду свои личные встречи с Горбачевым. — Б. М.) Я считаю моей личной ошибкой излишнюю доверчивость к президенту.
…Тщательно проанализировав события последних месяцев, заявляю… я отмежевываюсь от позиции и политики президента, выступаю за его немедленную отставку!
Я верю в Россию…»
Знакомый голос Ельцина, его размеренные слова звучат в каждой квартире. По всей территории СССР.
Это — бомба.
Требования об отставке не новы, они уже; раздаются и справа, и слева. И непримиримые депутаты-коммунисты, и бастующие шахтеры, и самые яростные демократы — после пролитой крови в Тбилиси и Вильнюсе, после всего вала событий, обрушившихся на страну — видят в Горбачеве
Но то — митинги и политические дебаты.
А на государственном телевидении СССР, в прямом эфире, слова об отставке генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР звучат кощунственно, как прямой вызов политической стабильности и надежности государственного устройства.
…Митинги, выборы, демонстрации, столкновения на улицах, создание свободных политических организаций, свободная пресса, наконец, прямые слова об отставке первого лица — все это для страны впервые после 1917 года. Потрясение достигает высшего пика.
Сам Ельцин до последней секунды не верил, что его выпустят в прямой эфир, дадут сказать. Он ждал препон и на этот раз, внутренне готовился к ним. Как всегда, пообещают одно, сделают другое. Перенесут трансляцию, вырежут самые острые места. Или просто отменят под каким-то предлогом. Однако на этот раз его выступление прозвучало…
Буквально сразу после заявления Ельцина по Центральному телевидению начинается бурная ответная реакция. С резким осуждением позиции Б. Н. выступают депутаты-коммунисты, некоторые руководители союзных республик (в частности, Назарбаев и Кравчук), центральные газеты, официальные комментаторы ЦТ, наконец, начинается раскол и в самом Верховном Совете РСФСР. Депутат Светлана Горячева 21 февраля выступает с заявлением, которое подписали все руководители российского парламента (так называемая «шестерка» замов), за исключением Ельцина и его первого заместителя Хасбулатова. В заявлении говорилось о политических «махинациях» Ельцина, о сведении счетов со своими оппонентами, о недопустимости конфронтации с Центром, то есть с Кремлем, о пренебрежении конституцией и пр. По инициативе Горячевой созывается внеочередной съезд народных депутатов РСФСР.
26 февраля, находясь в Минске, отвечает Ельцину и сам Горбачев.
Как всегда, его речь уклончива по форме. Он говорит о тех, кто отказывается от законных методов борьбы, действует вразрез с интересами населения, в обход своего парламента, говорит о демократах, которые составляют «правый фланг». Основная масса людей, говорит Горбачев, не ходит на митинги, они поддерживают «социалистический выбор», и они за КПСС. Но есть те, кто разрушает единство страны.
Казалось бы, это — объявление войны. Но кое-что в этой речи дает возможность усомниться в решимости Горбачева идти до конца. Он не называет Ельцина, не говорит о его действиях конкретно.
В личном же разговоре со своим помощником В. Игнатенко Михаил Сергеевич высказывается куда более откровенно:
«Песенка Бориса Николаевича спета, он заметался, боится спроса за то; что сделал или не сделал с Россией». Горбачев проводит одно совещание за другим, требуя от своих помощников «перейти в атаку». И, наконец, самое главное: «Мы обязаны выиграть российский съезд»[13].
Российский съезд открывается 28 марта.
В этот день впервые за долгое время в столицу были введены войска. На улицах рядами стоят солдаты. Быстрым шагом передвигается ОМОН в боевой экипировке. Наблюдатели насчитали на улицах десятки бронемашин и большое количество военных грузовиков. Ельцин едет на съезд, внимательно вглядываясь в этот военизированный пейзаж. Трудно поверить, что центр Москвы находится почти на осадном положении. Но это так.
Московская милиция приказом МВД выведена в эти дни из подчинения Моссовету. С 24 апреля по 15 марта в Москве запрещены все митинги. По предложению одного из депутатов съезд отказался начать свою работу. В знак протеста. «Мы находимся под арестом», — сказал один из собравшихся. Внимание корреспондентов привлекают ярко-красное водометы — таких машин москвичи еще не видели. Сценарий развития событий очевиден: съезд отстраняет от власти Ельцина, солдаты рассекают толпу, если же часть самых недовольных прорвется — в дело пойдут водометы и ОМОН.
Вот что пишет американский исследователь жизни Ельцина Леон Арон: «Московские интеллектуалы советовали Ельцину не настраивать против себя режим. Надо лечь на дно, переждать самое плохое время, затаиться, спасти то, что еще можно спасти, свести потери к минимуму. Мэр Москвы Гавриил Попов предложил “организованное отступление демократических сил”. Вместо этого Ельцин сделал то, что он всегда делал — и будет делать — в тяжелых кризисных ситуациях. Уверенный в своей способности услышать Россию, он обратился напрямую к народу, через покачивающих головами… профессиональных политиков. Он следовал своей любимой русской пословице, своему политическому девизу: “Клин клином вышибают” — “Когда нападают — нападай!”. Несколькими месяцами раньше Ельцин сказал одному журналисту, что всегда говорил детям и внукам: если на улице кто-то затевает с тобой драку и хочет тебя ударить — ударь его первым, хотя бы на секунду раньше!»
Безусловно, характер Ельцина, его неспособность выжидать, внутренняя потребность всегда «обострять», накалять ситуацию, и без того накаленную до предела, — очень серьезный политический фактор 1991 года. Но вдумаемся — а, собственно говоря, о каком ответном нападении с его стороны идет речь? Чем может ответить Ельцин на удар?
Единственное ельцинское оружие того времени — его публичные заявления, декларации, обращения, открытые письма, встречи с людьми и выступления перед депутатами. Всё. Больше ничего нет. Единственный раз, когда ему разрешили выступить по Центральному телевидению, — это как раз тот самый день, 19 февраля. Центральные газеты практически не печатают его документы и интервью.
9 марта, за две с половиной недели до открытия съезда, он выступает в Доме кино. Вот что он там говорит:
«Нас обвиняют в развале Союза. Кто развалил Союз, кто оттолкнул семь республик? Демократы? Российский парламент? Его руководство? Российское правительство? Семь республик из Союза вытолкнул президент своей политикой. Нам не нужен Союз в таком виде, в котором существует сейчас. Нам не нужен такой Центр — огромный, бюрократический. Нам не нужны министерства, нам не нужна вся эта бюрократическая крупная машина, которая жестко все диктует сверху вниз уже 70 с лишним лет. Мы должны от этого избавиться». Эту речь тогда никто не прочитал, а услышали — лишь несколько сот активистов «Демократической России».
А в руках у Горбачева, президента СССР, у ЦК КПСС, у власти в целом — необъятные ресурсы. И отнюдь не только армия и милиция (хотя и они тоже). Это — прежде всего сильнейшая в мире система государственного управления, «вертикаль власти», бесперебойно работающая от Москвы до Камчатки, советские, партийные, комсомольские органы, пресса, телевидение, радио, но самое главное — советский уклад жизни, привычка жить в государстве, спокойном и медленном, уверенном в себе. Привычка, которая формировалась из поколения в поколение, из эпохи в эпоху, год за годом, неискоренимая, как сама русская ментальность, основанная на глубоком преклонении перед силой власти и властью силы.
У Ельцина, разумеется, нет такой поддержки. Но у него есть поддержка совершенно иная, которой нет у Горбачева, — поддержка улицы, поддержка неструктурированная, неоформленная, неясная, как какая-нибудь космическая пульсация, как дыхание циклонов в Мировом океане. Но от того гораздо более страшная для власти.
Каждый его новый ход в игре ломает позицию соперника. И вовсе не потому, что он чем-то угрожает. Нет. Ельцин не призывает к массовому неповиновению, не провоцирует беспорядки, ничего подобного, просто «играет» он по-другому, по новым правилам.
24 февраля, 10 марта и 28 марта по российским городам прошли гигантские демонстрации. В Москве на улицы вышли до полумиллиона человек. Это была реакция на попытку эскалации насилия, реакция на Вильнюс, Тбилиси и Баку.
В такой обстановке вводить на улицы войска, закрывать оппозиционные газеты, запрещать заседания российского съезда, продолжать подавлять независимость республик — было уже невозможно.
…Когда говорят о 1991-м, то вспоминают всегда август и декабрь, ГКЧП и Беловежскую Пущу. Но ключевые месяцы этого года — январь — март. Именно в январе — марте 1991 года, задолго до путча, Ельцин переиграл своих противников. Именно тогда он сумел остановить страну от сползания событий в то русло, где ее ждали кровавые столкновения на улицах, чрезвычайное положение и в конечном итоге власть военных. Безусловно, сыграло роль и то, что сам Горбачев всегда был противником любых силовых действий, но при этом раз за разом шел за ситуацией, действовал по воле обстоятельств, не в состоянии был выбрать собственный сценарий.
Однако вернемся к событиям внеочередного Третьего съезда народных депутатов РСФСР, начавшегося 28 марта. Депутаты, возмущенные вводом войск в Москву, покинули зал заседаний и потребовали от союзного правительства «прекратить провокации».
На следующий день войска были выведены..
Но вся борьба на съезде была еще впереди. Депутаты-коммунисты, а они составляли не менее половины голосов, готовились дать бой демократическому председателю.
Голоса «за» и «против» Ельцина разделились примерно половина на половину. Ельцин напряженно следил за ходом дебатов. Это было море людских голов. Почти тысяча депутатов, многие из которых, не в силах сдержать свои эмоции, выкрикивали с мест, вскакивали, махали руками, призывая к тишине, бродили по залу, пытаясь договориться о солидарном голосовании… Эта картинка — бушующий российский съезд, беспрерывные голосования, дебаты, срывающиеся на крик и прямые оскорбления, — станет для него своеобразным дежавю, бесконечно повторяющимся испытанием воли, кошмарным сном, который будет преследовать его снова и снова. Но именно в эти дни, в конце марта 1991 года, он с облегчением понял, что самое худшее — войска на улицах, ОМОН, разгон демонстраций и запрещение митингов — уже позади. Возможно, именно тогда Б. Н. сформулировал для себя: любая демократическая процедура значительно лучше иной, недемократической.
…Неожиданно для всех высказался на съезде депутат А. Руцкой из фракции «Коммунисты России». Полковник, летчик, воевавший в Афганистане, красивый мужчина с пышными усами, который вскоре станет первым и последним российским вице-президентом, он выступил на съезде с резкой критикой своих коллег и заявил, что считает невозможным переизбирать председателя, который пользуется таким широким народным доверием.
Это выступление наряду с другими факторами оказало на съезд определенное влияние. Но самое главное — стратегически повторился сценарий 1990 года. Слишком жесткое давление Центра на российский парламент сыграло с ним, Центром, злую шутку. Сила противодействия оказалась гораздо сильнее, чем ожидалось в Кремле.
Предложение об учреждении в России института президентства было поддержано депутатами. Делается еще один шаг к российской самостоятельности, к ограничению полномочий Горбачева. В этом вопросе депутаты съезда явно поддерживали Б. Н., а колеблющиеся легко вставали на его сторону.
Выборы президента России — последняя возможность для Горбачева остановить восхождение Ельцина к вершинам власти. Возможность призрачная, слабая — уж слишком сильна популярность Б. Н., слишком много общественных ожиданий, людских надежд и эмоций аккумулировал он. Но законы политической схватки не позволяют уступить конкуренту без боя.
Соперниками Б. Н. становятся сразу пять кандидатов. Кто же они?
Впервые появившийся на политической сцене Жириновский, который пытается размешать в одном растворе антикоммунизм, имперскую идею и махровый национализм; отставной генерал Макашов, зомбированный идеей всемирного сионистского заговора; профсоюзный лидер Аман Тулеев, призывающий к возвращению советской распределительной системы; два горбачевских соратника: бывший премьер союзного правительства Николай Рыжков и бывший министр МВД СССР Бакатин.
Б. Н. отказывается принимать участие в «карикатурных» (по его мнению) теледебатах, главная цель которых — снизить его рейтинг, выставить в смешном свете, уравнять с другими кандидатами. Ельцин сознательно идет на это решение. Спорить с Жириновским и Макашовым для него — задача бессмысленная.
Он выбирает другой путь борьбы за голоса, путь привычный, проверенный: поездки по стране.
Бывший телохранитель Ельцина Коржаков вспоминает, что во время одной из таких встреч толпа буквально сдавила Ельцина. Становилось трудно дышать, толпа теснила, еще чуть-чуть — и всенародная любовь к новому лидеру закончилась бы нешуточной драмой. Усилиями охраны и милиции людей удалось остановить.
Ельцин побывал в Туле, Воронеже, Челябинске, Ленинграде, где выступил на крупнейшем Кировском машиностроительном заводе и повторил свой призыв об отставке Горбачева. Манифестации в его поддержку прокатились по всем крупным российским городам. Люди скандировали «Ельцин! Ельцин!», кричали: «Горбачева в отставку!» — и несли вырезанные из газет портреты Ельцина.
Политическая борьба, выплеснувшаяся на улицу, постепенно становится в СССР привычным делом. В Москве и Ленинграде идут огромные, невиданные по масштабам манифестации. Количество демонстрантов порой доходило и до полумиллиона. Столкновения милиции с толпой митингующих были, казалось бы, неизбежны. По мировому опыту подобных событий давно уже могли возникнуть баррикады, пролиться кровь, начаться беспорядки. Но в Центральной России пока обходилось без этого.
Почему?
В столицах власти вели себя крайне осторожно. Здесь любой подобный инцидент мог привести к тяжелейшим последствиям, к полной дестабилизации обстановки. Действия милиции и степень ее агрессии всегда зависят от приказа сверху. Было очевидно, что прямых столкновений с манифестантами в Центре власти боятся. Что они не хотят этого.
ОМОН в полной боевой выкладке — с пластиковыми щитами, дубинками, спецсредствами (москвичи впервые увидели эти новые полицейские ноу-хау, заимствованные на Западе) — контролировал маршруты шествий, «чистил» близлежащие дворы и переулки, «не пущал» туда, куда толпе идти не следовало, рассекал, слегка запугивал, — но никогда не бил и уж тем более не стрелял.
Интеллигентно вела себя и толпа. Для демократически настроенной публики, которая в основном состояла из советского «среднего класса», людей образованных и, как ни странно, вполне законопослушных, Горбачев лично вовсе не был врагом. Он по-прежнему воспринимался ими как фигура неоднозначная, противоречивая, запутавшаяся, но — не более того. От него требовали, с ним на языке митингов и плакатов пытались говорить жестко, настойчиво, но подлинной ярости в этих уличных акциях никогда не было. Наоборот, в этой толпе царили и радость, и порой почти счастье — оттого, что «и у нас», в СССР, наконец, можно открыто митинговать, выражать свое мнение, «не бояться». Это была весна новой советской свободы, гражданской смелости, демократический праздник, светлый по эмоциям.
Вместе с демонстрантами шли известные всей стране люди — депутаты, артисты, писатели, журналисты — и их присутствие предохраняло московские и ленинградские митинги от страшных последствий.
Но и для самого Горбачева эти люди (массы людей), которые открыто протестовали против власти КПСС и против его политики, тоже, как ни странно, не были врагами. Они демонстрировали «ястребам» в его окружении, что воевать с этим народом — опасно. Или несвоевременно, по крайней мере…
Другое дело — республики СССР. Здесь все иначе. Кровавые события в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, Баку показали, что сценарий политической борьбы может быть написан и как самый жестокий триллер.
Десятки жертв, кровавые следы на утренней площади после ночных столкновений, ужас, ярость и неисчислимые «раны» или «язвы», сразу открывшиеся на огромном рыхлом теле СССР.
Для вильнюсской, тбилисской, бакинской толпы Кремль (с Горбачевым или без него) был цитаделью, которая противостояла национальной свободе. Эта цитадель поддерживала силой оружия местную партийную верхушку. А последняя конечно же, по мнению толпы, должна была быть свергнута и наказана в результате «справедливого» народного бунта. У тамошних митингов и эмоции, и логика были совсем другими. Для Кремля, для Горбачева, для Москвы, как центра империи, — эта толпа, пусть даже не столь многочисленная, представляла страшную угрозу и опасность. И ее не жалко было бить саперными лопатками по голове, давить десантниками, спецназом и «ОМОНом. Что можно было переступить на периферии, то непозволительно было в метрополии.
В эти февральские и мартовские дни в поддержку кандидата в президенты России Бориса Николаевича Ельцина собрано три миллиона подписей. Но это — лишь сухая цифра. Было много «говорящих» подробностей, в том числе и трогательных: так, например, чета пожилых людей пришла к охране Верховного Совета и попросила передать Борису Николаевичу банку домашнего варенья и банку соленых огурцов.
«Уж очень его обижают», — сказала на прощание пенсионерка солдату, стоявшему в охранении российского Белого дома.
В будущем «музее Ельцина» эту банку с вареньем (как и банку с солеными огурцами, если бы они сохранились) я бы поставил на самое видное место. Это — потрясающий символ его притягательности, символ ельцинского мифа образца 1991 года. Мифа о народном заступнике. О представителе простых людей, внезапно беднеющих в результате горбачевской перестройки. Беднеющих и в январе, после «павловского» обмена денежных купюр (антиинфляционная мера, которая была проведена невиданно жестко, по-военному, и которая отняла у населения бóльшую часть накоплений, спрятанных «в подушках»), и после мартовского повышения цен в три раза, как бы вторым залпом ударившего по кошелькам, по сбережениям, по «пустым деньгам», количество которых надо было немедленно сокращать. Главное ельцинское оружие, которое позволяет ему в этом году выигрывать одну политическую битву за другой, — поддержка этих людей, которые становятся все беднее даже не с каждым годом, а с каждым месяцем.
Но вот что важно: несмотря на то, что уже через несколько лет этот образ сменится в народном сознании на прямо противоположный — сам Б. Н., также навсегда, до самого конца своей жизни, останется внутри этой системы координат. Он всегда будет упрямо верить в то, что всё, что он делает, — он делает именно для «простых людей», для их грядущего благосостояния и счастья.
Именно его личная, непререкаемая вера в то, что он «президент всех россиян», позволит ему пройти сквозь все последующие катаклизмы.
На чем же основана эта упрямая вера?
В 1991-м Ельцин — уже совсем другой человек, чем в 1988–1990 годах.
Три года он как бы пробирается на ощупь, примеряет себя к новой реальности: оппозиционер в стране, где нет оппозиции, главный демократ в абсолютном вакууме демократических традиций и ценностей, парламентарий в парламенте, который избран лишь для того, чтобы выполнять волю «партии и правительства», лидер движения, которое создается, по сути, из нескольких «мыслящих профессоров», абсолютно неспособных к организационной работе…
Все эти три года Ельцин — по-прежнему главная мишень для всех, кто хочет угодить власти. Неудобный, несговорчивый, неуклюжий, не готовый к компромиссам, не желающий встраиваться обратно в систему, которая так удобна для всех, — словом, изгой.
Постоянно чувствует какую-то физическую угрозу, какие-то недвусмысленные импульсы, сигналы, которые словно посланы судьбой. Как будто притягивает к себе все эти нелепые случаи, странные казусы, безумные совпадения — авария в Барселоне, автомобильная авария, угроза покушения, нападение в районе Рублево-Успенского шоссе…
В январе — марте 91-го это острое чувство физической угрозы, приближающейся опасности для него и для его семьи становится настолько осязаемым, что эту угрозу чувствуют буквально все, вся страна.
Но остановиться он не может. Вернее, останавливаться он не умеет.
…Референдум 17 марта 1991 года навсегда останется камнем преткновения для нашей политической истории. Не просто большинство населения — огромное большинство проголосует на нем «за» сохранение единого Союза. И в этот же год тот же самый народ, те же люди на референдумах проголосуют за независимость своих республик. На референдуме 17 марта более 70 процентов жителей России проголосуют за введение президентства (по сути дела, за Ельцина). 5 декабря того же года большинство украинцев — за выход из состава СССР.
Для Горбачева результаты голосования выглядят парадоксом.
Те же 70 процентов, которые проголосовали за то, чтобы у России появился самостоятельный президент (то есть Ельцин), проголосовали и за то, чтобы Союз был сохранен и Россия являлась его частью.
Чего же они хотят? Ельцина или Горбачева? Мира или войны? Союзного государства или российской автономии? Как понять этот странный народ?
Поворот в настроении Горбачева чутко улавливается обществом, прессой, властью в целом. Наступает временное затишье, перемирие. Все ждут высочайшего вердикта.
Горбачев мучительно осмысливает то, что происходит в последние месяцы. Если отталкиваться от сценария, который предлагают консерваторы в ЦК, генералы, министр МВД Пуго, председатель КГБ Крючков, если объявить полномасштабную войну беспорядкам, вооруженную борьбу с «зачинщиками», полувоенный режим на предприятиях, ограничить свободу печати и собраний — что будет дальше?
Горбачев понимает: в этом случае он станет заложником. События начнут диктовать ему другую логику поступков и решений. Возможность для политического маневра станет равной нулю.
Итоги политического противостояния в феврале — марте для него крайне неутешительны. «Выиграть» российский съезд не удалось. Сместить Ельцина с поста Председателя Верховного Совета РСФСР, «выдавить» его из числа кандидатов на пост президента России — тоже. Трещит по всем швам и сама партия.
18 апреля А. Н. Яковлев направил Горбачеву письмо, в котором предупреждал: «Все говорит за то, что партия перерождается на сталинистской основе. Это стопроцентная гарантия катастрофы. Насколько я осведомлен, да и анализ диктует такой прогноз, готовится государственный переворот справа. Наступит нечто подобное неофашистскому режиму. До сих пор только общее великое дело, личное доверие и лояльность к вам удерживали меня… Эскалация кампании унижения снимает с меня морально-этические обязательства… Вот почему я буду искать достойные формы борьбы с нарождающимся новым фашизмом».
Яковлев в своем письме говорит о двух возможных вариантах развития событий — о «попытке неосталинской реставрации» и о попытке «диктатуры без коммунистов». Если отбросить в сторону идеологические тонкости — прогноз оказался верен. Попытка состоялась.
Апрельский (24–25 апреля 1991 года) пленум ЦК КПСС ознаменовался резкой критикой Горбачева со стороны партийных функционеров. Его обвиняли в том, что «со страной сделали то, что не смогли сделать враги», от него требовали законодательно закрепить за КПСС статус правящей партии, контроль над средствами массовой информации, введения чрезвычайного положения. В разгар оскорблений в свой адрес Горбачев сделал заявление, что он намерен сложить с себя обязанности генерального секретаря. «Этот шаг… вызвал среди участников пленума замешательство. На пленуме был объявлен перерыв, экстренно собралось заседание Политбюро. Горбачева попросили забрать свое заявление назад. Он отказался. Тогда Политбюро приняло следующее решение: “Исходя из высших интересов страны, народа, партии, снять с рассмотрения выдвинутое М. С. Горбачевым предложение о его отставке…” Это решение было вынесено на утверждение пленума ЦК. Абсолютное большинство его участников не рискнуло проголосовать за отставку Горбачева…» (Рудольф Пихоя).
Внутри руководящих органов КПСС, таким образом, у него практически не остается верных соратников, да и просто сторонников.
«Горбачев одержал несомненную победу», — комментирует эти события историк Р. Пихоя. Рискну добавить от себя — очередную тактическую победу. Стратегически Горбачев постоянно отступает. Не сумев вовремя реформировать партийную машину, он вынужден выдерживать страшный пресс ее давления.
И в этот момент перед ним встает во весь рост еще один, отложенный и очень болезненный вопрос: о реформе Союзного договора, о политическом устройстве СССР. О мере суверенитета республик. Но другого поля для маневра у него нет. Иначе он полностью потеряет свободу действий, перестанет определять ход событий. Он выбирает, как всегда, «третий путь», компромиссный. Путь, который должен примирить обе враждующие стороны: демократов и государственников, русских и «националов», кремлевскую элиту и местную, всех сразу В ходе раздачи нового пирога власти аппетиты всех лидеров (почти всех) должны быть удовлетворены, а статус-кво — сохранен.
Из «врага номер один» Ельцин внезапно превращается если не в друга (такое даже предположить сложно), то, по крайней мере, в партнера, полноправного участника политического процесса.
Победа в первом туре президентских выборов (Б. Н. набрал 57 процентов голосов) лишь подчеркивает это движение, этот стремительно меняющийся статус. Тот день, когда Ельцин вместе со всей Россией голосовал на избирательном участке (12 июня 1991 года), был историческим днем в его трехлетней политической борьбе — борьбе, которая заставила Горбачева во многом пересмотреть свои взгляды на бывшего коллегу по Политбюро.
Как мы помним, Горбачев после выступления Ельцина на октябрьском пленуме посчитал его «слабым» политиком. Ельцин доказал ему свою силу. Тем не менее борьба с кандидатом Ельциным по инерции продолжалась. Причем вели ее разные люди, и далеко не всегда они действовали по указке сверху. Для многих Б. Н. был символом чего-то страшного, предупреждением «откуда-то свыше», посланным стране испытанием. Помощники Ельцина вспоминают: «В газетах накануне дня выборов печатались устрашающие астрологические прогнозы. Говорилось о крайне неблагоприятном расположении звезд в день голосования, о разного рода опасностях, подстерегающих людей, которые выйдут 12 июня из дому (!) или даже откроют форточку».
А вот что говорил тележурналист А. Невзоров, комментируя замечание Ельцина о том, что, если его не выберут президентом, он уйдет из политики: «Это прямое, чистой воды свидетельство того, что политик не стремится сделать что-то для этих сотен тысяч нищих людей, бредущих по грязи со своими талонами. Ему нужна только власть, власть полная и неограниченная. И ничего больше!»
Но ни мистика, ни риторика, ни заклинания не помогли.
За Ельцина агитировала сама улица. Без телевидения, без властного ресурса, без мощного пиара — он побеждал благодаря тому, что был единственной альтернативой Горбачеву. По крайней мере, улица считала именно так. Частушка, сочиненная неизвестным поэтом, ярко свидетельствует о том времени:
Ельцин знает, что нам нужно,
Голосуй за Борю дружно…
Это «за Борю» в те дни работало гораздо лучше нагнетаемых страшных предчувствий и изощренной патетики. Выборы состоялись.
Теперь Ельцин может многое. Как всенародно избранный президент, он может свободно выступать в печати. Появляется и собственная российская печать — «Российская газета», газета «Россия», начинается работа по созданию Российского телевидения.
По-другому воспринимают его теперь и за рубежом. Во время визита на Украину с первых секунд Ельцин обращает внимание на то, что его принимают здесь «по первому разряду», с военным парадом, ковровой дорожкой, национальными флагами, по-украински пышно, подчеркнуто торжественно, как главу иностранного государства, а не как обычного российского чиновника. Во время визитов в США и на совещание Европарламента в Страсбурге становится окончательно ясно, что он — совершенно официальная, признанная в мире фигура, больше того, новый (альтернативный) лидер страны.
Он победил в мучительном противостоянии февраля — марта, когда союзное руководство пошло в прямую атаку на «псевдодемократов». Он выиграл выборы, он первый всенародно избранный президент на территории СССР. Наконец, та модель союзного государства, которая еще несколько месяцев назад казалась ему почти несбыточной, неосуществимой, во внезапно изменившейся политической ситуации приобретает черты реальности. Горбачев, которого он еще недавно призывал уйти в добровольную отставку, идет на невиданные прежде уступки.
Но радость и ликование, которое он испытывает в эти дни, сменяются глухой тревогой. Ельцин чувствует всю опасность того, что происходит за спиной Горбачева.
Начинается трудный, мучительный процесс согласования нового Союзного договора.
Что же будет дальше?
10 июля Ельцин торжественно дает присягу на российской Конституции.
Это — первая подобная инаугурация, и его волнение передается всем присутствующим в зале.
Неожиданно открывается боковая дверь и стремительно входит Горбачев. Он пришел поздравить Ельцина. Исторический момент. Два соперника, два непримиримых оппонента пожимают друг другу руки на глазах у всей страны.
Ельцин точно рассчитывает свои шаги, чтобы остановиться вовремя. Он хочет, чтобы Горбачев подошел к нему с рукопожатием, а не наоборот, вернее, чтобы они остановились в один и тот же момент (что трудно, учитывая разность их фигур), чтобы это была встреча равных. Слабо улыбаясь, понимая игру и принимая ее, Горбачев делает эти шаги.
И затем произносит речь. Голос его прерывается от волнения.
«Вот в стране и стало на одного президента больше», — говорит он.
И еще одна фраза из той же речи Горбачева: «Весь мир следит за тем, что мы с вами делаем».
Привычная горбачевская риторика затем окутывает, окружает эти первые фразы, но привкус горечи в настроении президента СССР очевиден всем. Ни улыбки, ни высокие слова поздравления не спасают.
Прозрачная вата вдруг исчезает, проступает истинная картинка. Напряженный, почти надломленный внутренней борьбой Горбачев проявляется лишь на мгновение. Готов ли он к компромиссу? Для многих это осталось в тот день загадкой.
Речь на инаугурации (первой в новой российской истории) хорошо отражает общий стиль Ельцина 1991 года. Еще нет резких эскапад, длинных пауз и неожиданных острот, нет попытки говорить афоризмами, нет эмоциональных перепадов. Ельцин 1991 года необычайно сдержан и даже сух. Лишь на встречах с избирателями порой проявляется его былой юмор.
В эти месяцы он весь преисполнен своей миссией. Все его выступления представляют собой короткий и жесткий текст, который он читает или четко произносит по заранее намеченным тезисам.
Это стиль, который он любит больше всего, — «ничего лишнего». Его артистичность, внутренний напор и энергия сейчас проявляются лаконично — в том, как он входит, как здоровается, как готовится к выступлению.
«Лишнее» проявится потом, когда выбранный путь потребует от него всех, до последней капли ресурсов его здоровья, потребует выложиться без остатка, как говорил он сам, «лечь на рельсы».
Итак, 23 апреля 1991 года Горбачев начинает новый раунд согласований Союзного договора — по формуле «9 плюс 1» (между руководителями девяти союзных республик и президентом СССР)[14]. При этом речь не идет о каких-то частностях и «недостающих запятых», а фактически об отказе от подготовленного ранее варианта.
Этот вариант — «лукьяновский», подготовленный в комиссиях и подкомиссиях Верховного Совета СССР. Он печатался в центральных газетах, чтобы пройти привычную для советской идеологии процедуру «всенародного обсуждения»; затем состоялся референдум 17 марта, обосновавший легитимность нового Союза, — словом, договор готов. Суть лукьяновского варианта — исправленная, улучшенная форма Союза, не меняющая самого главного — Москва управляет всем.
Проблема одна — лидеры республик не готовы его подписывать.
…Но откуда вообще возникла идея о новом договоре между республиками? Зачем нужно было подвергать сомнению документ 1922 года?
Идея подготовки нового Союзного договора родилась уже на Первом съезде народных депутатов СССР Горбачеву необходимо было изменить этот основополагающий документ, чтобы придать новый статус союзным отношениям, предотвратить распад Союза, хотя бы частично сохранить его (если добровольно подписали — значит, отказались от претензий, развязали руки союзному правительству для борьбы с сепаратистами и националистами). Если договор не подпишут — это его личный, глубочайший провал.
Кроме того, новый договор — еще и гарантия власти М. Горбачева. Новая политическая конструкция призвана защитить его от угрозы, которую он чувствует за спиной.
Договор был единственным шансом Горбачева избежать «силового варианта», чрезвычайного положения, гражданской войны в республиках…
Стенограмма заседания от 24 мая 1991 года дает некоторое представление о том, как шел процесс, какими трудными были переговоры, какими медленными шагами продвигались участники Ново-Огаревского процесса к любимому горбачевскому «консенсусу».
Но — продвигались!
«Работа в Ново-Огареве (пишут помощники Ельцина) была организована так, что участники совещаний приезжали туда без консультантов и советников. Было решено: никого постороннего, высшая степень конфиденциальности. Лишь три-четыре человека, помогавшие Горбачеву обобщать и анализировать замечания и предложения, сидели за боковыми столиками».
Итак, Ельцин берет слово:
«
Я обещал, все время говорил вам, что те полномочия, которые вы возьмете на себя, мы вам даем. Если во внешней сфере, в международных отношениях какие-то будут у вас предложения по своей самостоятельности — пожалуйста, мы вам дадим. Такую же линию мы предлагаем вести и с Союзом.
Обратите внимание — здесь Ельцин выступает от имени Центра, от имени союзного, а не только российского руководства, его поддержка будущего договора — своеобразная гарантия. Без этой поддержки сам переговорный процесс был бы невозможен.
Если называть вещи своими именами, то в Ново-Огареве разговор шел о создании новой модели государства. Горбачев ради сохранения Союза как такового (увы, уже без Прибалтики, лидеры которой в Ново-Огаревском процессе участвовать отказались) готов был передать республикам огромную часть своих полномочий.
Как бы это выглядело на практике?
Ну, во-первых, это сохранение единой валюты. Единой армии. Единого экономического пространства. Разумеется, для всего этого нужно сохранить и центральные органы власти, исполнительной и законодательной, органы управления и, конечно, единого лидера страны. Во-вторых, и это главное, всё остальное, из чего состоит политика, — переходило из Центра на места. Право на ограниченный суверенитет. Право на свою конституцию (и свои законы). Право на внешнеэкономическую деятельность, и вообще — на свои собственные национальные приоритеты в экономике. Перераспределение бюджета — серьезная часть доходов должна была теперь оставаться в республике. Право на свою собственную внутреннюю, прежде всего национальную политику. (По сути, это была модель сегодняшнего Евросоюза.)
Возможно, это был исторический шанс. Возможно.
Но позволю себе высказать и другую точку зрения. Попытка спрогнозировать последствия Ново-Огаревского процесса в случае его успеха приводит к печальному выводу: это новое государство было изначально обречено. Возникни после подписания нового Союзного договора это новое, слабое, непрочное горбачевское государство — и Россия, и вся страна в целом могли бы оказаться на грани грандиозной, испепеляющей гражданской войны.
Главная проблема заключалась в том, что экономически республики Советского Союза были настолько слабы, что уже не могли самостоятельно решить ни одной из стоящих перед ними задач. Европейские страны объединились, имея перед собой перспективу роста, помогая друг другу, на началах Общего рынка… В 1991 году была попытка объединить разрушенные экономики бывших республик, то есть те страны, которые уже ничто не удерживало вместе.
И если национальные конфликты в республиках до этого момента проходили лишь по линии дележа каких-то отдельных кусков земли, выяснения каких-то давних, но вновь вспыхнувших обид и споров (Карабах, Юго-Осетия, Абхазия, Ферганская долина, Приднестровье), то новые конфликты могли разгореться уже на совсем другом основании: между коренным и некоренным населением, между русскими жителями республик и нерусскими. И вот тогда, на абсолютно легитимной, законной основе наши войска могли бы войти в любую республику (защищать соотечественников) — с огнем и мечом. В этом случае кровавый югославский вариант, возможно, показался бы детской игрой в солдатики…
После образования СНГ в течение нескольких лет (и процесс этот продолжается до сих пор) сотни тысяч, миллионы русских и русскоязычных семей были вынуждены покинуть национальные республики. Почему это происходило и происходит по сей день? Спросим себя: что такое «новая национальная политика» в империи, когда Центр ослабел и передал огромную часть своих полномочий на места?
А это значит — увольняют одних и берут на работу вместо них других. Исподлобья начинают смотреть на улицах. И наконец, открыто предлагают переселиться. Не грабят, не убивают (хотя где-то и грабят, и убивают) — просто предлагают подумать. Это и есть новая национальная политика, ее последствия. Если, разумеется, говорить не о высоких материях, а о грубой прозе жизни, о том, каким лицом эта новая национальная политика поворачивается к простым людям.
Процесс подъема национального самосознания обязательно происходил бы и при новом горбачевском Союзе, если бы он был создан после успеха Ново-Огаревского проекта. Потому что такова неизбежная логика истории. Вот только ответ на этот процесс мог быть совершенно другим.
А любое замораживание, по сути своей, искусственное консервирование процесса распада Союза — именно к этому бы и привело.
На последней встрече, перед тем как Горбачев попрощался с лидерами республик, он попросил президента России Ельцина и главу Казахстана Назарбаева остаться после основного совещания. И предложил обсудить конкретные кандидатуры руководства будущего обновленного Союза. «Назарбаеву Нурсултану Абишевичу я предлагаю пост премьер-министра, будет заменен также председатель КГБ, предлагаю Бакатина, ты как, Борис Николаевич?»
Деталь эта говорит о том, как близки уже были они к подписанию нового договора. И какова была между ними степень доверия — с этими людьми Горбачев связывал свое будущее.
Кстати, разговор этот (тайный!) был, возможно, одной из трагических ошибок Горбачева. Большинство исследователей считают, что именно он послужил той спичкой, которая и запалила пороховую бочку — Крючков, премьер Павлов, вице-президент Янаев и прочие не выдержали такого «предательства» Горбачева и окончательно договорились между собой. Этот разговор был записан КГБ и конечно же сразу стал известен всей кремлевской верхушке, всему «силовому блоку» горбачевского правительства.
Интересна и другая деталь интриги: Горбачев уезжает в отпуск в любимый Форос немного подумать, подышать свежим воздухом, не сделав самого главного, не доведя процесс до конца, упустив его нити из своих рук, по-прежнему оставаясь лидером, идущим вслед за ситуацией, не чувствующим ее остроты.
Подписание Союзного договора было намечено на 20 августа…
Рано утром 19-го Ельцин просыпается у себя на даче в Архангельском. Таня осторожно трясет его за плечо, пытаясь разбудить.
— Папа, вставай! — просит она. — Переворот!
— Что?
Сонный, раздраженный, он садится на кровати.
Его прошибает холодный пот. В семь утра в понедельник Центральное телевидение по всем каналам транслирует навевающую грусть классическую музыку.
Все, кто уже в сознательном возрасте жил в 80-е годы, прекрасно помнят, что это означало. И поймут, о чем подумал Ельцин в эту секунду.
Траурная трансляция.
Так провожала страна в последний путь своих генеральных секретарей — Брежнева в 82-м, Андропова в 83-м, Черненко в 85-м. Ритуал тщательно продуман, утвержден, отмерен (и, кстати, почти буквально скалькирован с 53-го года, года смерти Сталина): например, из каких лиц назначать похоронную комиссию, какого размера печатать в газетах траурный портрет, где проводить прощание, какие слова писать в обращении к народу. Кто и где должен стоять в почетном карауле.
И прежде всего — какую музыку передавать, начиная с семи утра, еще до объявления главной новости.
Неужели умер Горбачев? Это первая мысль, которая возникает у Б. Н.
Минут через пять (он никуда не уходит с кресла перед экраном, ему приносят чай, он успевает отхлебнуть два глотка) начинается «сама передача». Новости вклиниваются в классическую музыку без перехода. Экстренный выпуск.
Дикторы зачитывают обращение к советскому народу от имени новой власти — Государственного комитета по чрезвычайному положению. В обращении звучит одна фраза, которая снова наводит его на ту же мысль (иначе зачем этот траур? зачем похоронное настроение?): «В связи с временной невозможностью президента страны исполнять свои обязанности по состоянию здоровья».
Так все-таки… что-то случилось с Горбачевым? Они простились с ним в Ново-Огареве, и он был здоров, свеж, полон сил. Может быть, что-то случилось в отпуске?
Но, наверное, тогда информация была бы более конкретной. Зачем скрывать?
ГКЧП (это официальная аббревиатура, так произносят сами дикторы) призывает всех граждан к порядку. В обращении четко и ясно изложена позиция новой власти…
Хаос и анархия сделали страну неуправляемой. Распад СССР, который нужно предотвратить. На 20 августа намечалось подписание Союзного договора, который безусловно означал бы конец Советского Союза. Перестройка зашла в тупик. Тяжелый экономический кризис. Нормальному существованию миллионов угрожает взрыв преступности. Центробежные тенденции. Производство неуклонно снижается. Уровень жизни падает, инфляция растет. Ввиду нехватки горючего и запасных частей колхозы оказались на грани катастрофы. Угроза голода. Надо спасать урожай и обеспечить заготовки продовольствия, чтобы пережить зиму. Вынужденные меры. В ближайшее время ГКЧП будет регулировать, замораживать и снижать цены, повышать зарплаты, пенсии и пособия…
Все решения ГКЧП объявляются обязательными и подлежат строгому выполнению властями и гражданами на всей территории Советского Союза. Все органы власти должны обеспечить строгое соблюдение режима чрезвычайного положения. Митинги, демонстрации и забастовки запрещаются, так же как все политические партии, общественные организации и массовые движения, препятствующие нормализации ситуации. При необходимости вводить и ужесточать комендантский час. Распространение провокационных слухов и неповиновение официальным лицам подлежат решительному подавлению. В Москве приостанавливается выход всех периодических изданий, за исключением девяти газет…
В своем «Обращении к советскому народу», транслировавшемся по Центральному телевидению, члены комитета заявляли, что даже элементарная личная безопасность людей подвергается все большей угрозе. Преступность растет быстрыми темпами, становится организованной и политизированной, страна катится в пропасть насилия и беззакония. Комитет обещал очистить улицы от преступников, положить конец тирании тех, кто разграбляет достояние народа, и начать решительную борьбу против спрута преступности, скандального упадка морали, коррупции, спекуляции, растрат и теневой экономики.
Переворот.
Это слово объясняет, наконец, всё.
Долгие, бесконечные минуты. Пока он еще один — самые тяжкие, давящие. Абсолютно непонятно, что сейчас произойдет. Вот сейчас, в следующую секунду.
Кому позвонить в первую очередь?
К счастью, собираться долго им не нужно. Ближайшие его соратники, помощники, заместители — все живут тут же, на дачах Совмина России, предоставленных работникам Верховного Совета, здесь, в Архангельском. Калужское шоссе. До Белого дома — полчаса езды…
Если без пробок. И если без танков.
— Вы что, меня разыгрываете? — спросил он в то утро, когда его разбудила Таня…
Эти же слова — розыгрыш, бред, кошмар, «я не могу поверить, что это правда» — произносили в те минуты десятки, сотни тысяч людей по всей стране. Все звонят друг другу по телефону, все пытаются что-то узнать. Но никаких подробностей пока нет. Кроме одной.
Одновременно с началом трансляции «Лебединого озера» и шопеновских ноктюрнов на улицах Москвы начинается другая музыка. Лязг гусениц, запредельно низкое, до дрожи в животе гудение дизельных моторов, грохот, треск развороченного асфальта.
По Можайскому и Минскому шоссе в Москву входят войска: бесконечные вереницы танков, грузовиков и БМП. Первыми в город вступили подразделения Таманской, Кантемировской и 106-й гвардейской парашютно-десантной дивизии, а также войска МВД — дивизия Дзержинского и спецназ. Полное перечисление боевых подразделений, двигавшихся в эти минуты к центру, заняло бы не меньше страницы.
Москва была в чаду, в лязге гусениц и… в полном шоке.
Подробности этого утра десятки раз излагались в книгах очевидцев, в очерках, статьях, интервью. Написал о них в «Записках президента» и сам Б. Н. Как срочно, наспех составлялись тезисы воззвания к народам России — Бурбулис, Шахрай, Хасбулатов, Силаев и другие принимали участие в работе над этим историческим документом, наспех напечатанным Леной на машинке. (Таня диктовала его по телефону.) Как пытались отправить его по факсу с соседней дачи. Как заехал на 15 минут Анатолий Собчак, отправлявшийся в Питер, и напугал Наину Иосифовну проникновенной фразой, сказанной на прощание: «Да хранит вас Господь!»
В эти первые минуты, часы, всё по-прежнему казалось каким-то абсурдом, фарсом. Проницательный Собчак сразу оценил всю драматичность, всю угрозу ситуации не только для Б. Н. и членов семьи первого президента, но и для всех вообще.
Было очевидно, что вокруг дачи Ельцина уже собралось немало «гостей». Агенты КГБ, спецподразделения, некоторые из них прятались в близлежащем лесу, другие открыто подрулили на машинах, стояли и ждали.
Это означало одно — арест возможен в любую минуту. Охрана Ельцина с автоматами Калашникова занимает места в доме, изолентой прикручивают к каждому стволу дополнительный рожок — готовность к бою.
Ельцин звонит Грачеву, командующему войсками ВДВ. Он еще не знает, что именно Грачев по поручению министра обороны Язова руководит развертыванием войск в Москве.
Вот как Б. Н. описывает этот разговор в своей книге:
«Незадолго до путча я посетил образцовую Тульскую дивизию (именно она в то утро вошла в Москву. — Б. М.). Показывал мне боевые части командующий воздушно-десантными войсками Павел Грачев. Мне этот человек понравился. И я, поколебавшись, решился задать ему трудный вопрос: “Павел Сергеевич, вот случись такая ситуация, что нашей законно избранной власти в России будет угрожать опасность — какой-то террор, заговор, попытаются арестовать… Можно… положиться на вас?” Он ответил: “Да, можно”.
И тогда, 19-го, я позвонил ему. Это был один из моих самых первых звонков из Архангельского. Я напомнил ему наш старый разговор. Грачев смутился, взял долгую паузу, было слышно, как он напряженно дышит на том конце провода. Наконец, проговорил, что для него, офицера, невозможно нарушить приказ. И я сказал ему что-то вроде: я не хочу вас подставлять под удар…
Он ответил: “Подождите, Борис Николаевич, я пришлю вам в Архангельское свою разведроту”… Я поблагодарил, и на том мы расстались. Жена вспоминает, что я положил трубку и сказал ей: “Грачев наш”»…
Далее Б. Н. в своей книге пишет, что позиция Грачева многое решила в провале путча — все это правильно, конечно. Но вот деталь.
«Рота от Грачева» (уже после того, как Б. Н. срочно уехал в Белый дом) все-таки прибыла. Руководил ею, как без труда определили оставшиеся в доме сотрудники охраны Ельцина, офицер КГБ Зайцев. Руководитель «Альфы» Карпухин в это время (с шести утра!) стоял со своим подразделением из той же группы «А» в лесу и провожал глазами машину Ельцина. Приказа об аресте президента России от своего непосредственного руководства он так и не дождался.
Одна «группа захвата» опоздала, другая не успела.
Странная нерасторопность, не правда ли? Но тогда для чего они туда прибыли?
Вопросов много…
Кто же был инициатором путча 19–21 августа 1991 года?
Цитирую по книге «Кремлевский заговор» (ее авторы — генеральный прокурор России Валентин Степанков и следователь по особо важным делам Евгений Лисов, которые проводили расследование по делу ГКЧП):
«6 августа, на второй день после того, как Горбачев улетел с семьей в Форос, Крючков вызвал двух сотрудников КГБ Егорова и Жижина и приказал им составить стратегический прогноз последствия введения в стране ЧП (чрезвычайного положения. — Б. М.). К работе над прогнозом от Министерства обороны был привлечен командующий воздушно-десантными войсками Павел Грачев. После двух дней работы… на спецобъекте КГБ в деревне Машкино под Москвой эксперты пришли к выводу: объявлять ЧП нецелесообразно.
— Но после подписания Союзного договора вводить ЧП будет уже поздно, — возразил экспертам Крючков.
— 14 августа Крючков снова вызвал нас, — свидетельствует Алексей Егоров. — Обстановка, сказал он, сложная. Горбачев не в состоянии оценить ее адекватно. У него психическое расстройство. Будет вводиться ЧП.
За день и ночь работы на том же объекте КГБ в деревне Машкино совместно с Павлом Грачевым они набросали по заданию Крючкова перечень мер, которые следовало принять, чтобы обеспечить ЧП.
Материал, ставший основой Постановления ГКЧП № 1, утром 16 августа был на столе у Крючкова.
Вскоре после этого, в 11.30, Олег Бакланов[15] прибыл в КГБ к Крючкову. Долгий полуторачасовой разговор между ними дал толчок заговору. Главные фигуры предстоящих событий пришли в движение.
В 14.00 Крючков отдал распоряжение своему заместителю… скомплектовать группу связистов для полета в Форос, чтобы отключить у президента связь».
В «инициативную группу», собравшуюся 17 августа на закрытом объекте под названием АБЦ на улице Варги (зеленый парк за глухим бетонным забором, массивное серое здание новой постройки, длинные обеденные столы, тихие официанты), входили люди из разных сфер советского руководства, в частности, руководители силовых ведомств: Владимир Крючков (КГБ), Дмитрий Язов (Министерство обороны), секретари ЦК КПСС Олег Шенин и Олег Бакланов, руководитель президентского аппарата Валерий Болдин, премьер-министр Валентин Павлов, а также заместители министра обороны Ачалов и Варенников, заместитель председателя КГБ Грушко. По сути дела, здесь собрались почти все «силовики».
Почему же они прятались на таинственном АБЦ, о существовании которого вообще мало кто знал, кроме руководителей КГБ?
На секретности этих переговоров настаивал Крючков, он был «хозяином» в этом доме, он созывал «гостей». Собраться вместе необходимо было для того, чтобы принять несколько важных решений.
Первое — одобрить принятый план действий.
Второе — назначить тех, кто летит в Форос к Горбачеву, и дать им соответствующие инструкции.
Кроме указанных персон, официальными членами ГКЧП были также министр МВД Б. Пуго, вице-президент Г. Янаев, «знатный крестьянин», председатель колхоза В. Стародубцев, «знатный производственник», председатель Ассоциации промышленников А. Тизяков. Фактическим участником ГКЧП был также спикер Верховного Совета Анатолий Лукьянов. Однако никого из вышеперечисленных лиц на улице академика Варги не было. Пуго и Янаев еще даже не знали, что через сутки войдут в состав комитета.
Генералу Варенникову в операции отводилась важная миссия: он отвечал за объяснение позиции ГКЧП в Киеве, куда должен был вылететь сразу после Фороса. Именно Варенников, а также Бакланов и Шенин и были назначены теми переговорщиками, которым предстояло объяснить Горбачеву реальное положение дел. И по возможности добиться его молчаливого согласия. Вместе с ними «в командировку» отправились многолетний помощник Горбачева Валерий Болдин и руководитель 9-го управления КГБ Плеханов — ему вменялось в обязанность договориться с горбачевской охраной, то есть со своими прямыми подчиненными.
Так все же: кто был инициатором? Застрельщиком? Кто разрабатывал стратегический план? Кто, собственно говоря, подбирал эту похоронную команду для горбачевской перестройки?
О реальном ходе переговоров внутри ГКЧП до 6 августа узнать не удалось ни следователям, которые вели дело ГКЧП, ни журналистам. И вот почему. Члены комитета не собирались все вместе, в полном составе. И даже в усеченном. По сути дела, заговор во многом был экспромтом, он не готовился, не был проработан тщательно, но главное — сами члены ГКЧП не были готовы к нему психологически.
Тем не менее у ГКЧП был подготовлен пакет документов, который комитет обнародовал в первый же день своего официального существования. Он включал в себя распоряжения самого разного рода: например, о введении в Москве и других городах временного комендантского часа. Были указы о «неотложных мерах» в экономике, о закрытии некоторых газет, о повышении трудовой дисциплины на предприятиях и т. д.
Парадоксом деятельности новоявленного органа власти было то, что почти все эти документы (в их содержательной части) не были написаны специально по случаю военного переворота, путча. Это были распоряжения, которые писались в различных советских ведомствах как бы «на всякий случай», без какой-либо связи с реальными политическими планами. И уж тем более никто не связывал их с моментом насильственного отторжения от власти Горбачева.
Например, пакет неотложных экономических мер был хорошо знаком Михаилу Сергеевичу — он готовился группой его экономических советников, и его должны были принять соответствующие органы (Верховный Совет и правительство) вне всякой связи с ГКЧП или чем-то подобным. Меры, кстати, совершенно реалистические и даже с некоторым уклоном в сторону рыночной экономики.
Положение о чрезвычайном режиме, включая пункт о временном комендантском часе в крупных городах, также не было написано специально для ГКЧП. Такие меры были разработаны юристами и специалистами правоохранительных органов в связи с участившимися кровавыми столкновениями на окраинах Союза, и конечно же при этом имелись в виду московские и ленинградские митинги, непредсказуемое развитие событий на улицах обеих столиц.
Участникам ГКЧП не пришлось сильно напрягаться, чтобы составить программу своих действий.
Короче говоря, эти чрезвычайные меры уже готовились Горбачевым на случай резкой смены политического курса[16]. Люди, которые вошли в ГКЧП, были его людьми, его соратниками, они были призваны им специально для этой цели — ужесточить политику, остановить «развал», пресечь «раскол», подморозить политическую ситуацию и укрепить властный ресурс.
Членам комитета, которые решили проводить этот курс уже без «предавшего» их Горбачева, оставалось только одно: собраться и проголосовать.
Возникает закономерный вопрос: что же помешало им арестовать Ельцина? Если изолировали Горбачева, сказали «А», то почему не сказали «Б» и «Ц»? Ведь это могло сразу кардинально изменить ситуацию.
…В то утро арестовали несколько человек, среди них, например, активиста правозащитного движения «Щит» Николая Проселкова. Арестовали не случайно — список тех, кто подлежал немедленной изоляции, конечно, существовал. И Ельцин значился там под первым номером.
…Из протокола допроса начальника Управления по защите конституционного строя КГБ СССР генерал-майора Валерия Воротникова: «Утром 19 августа меня пригласил к себе заместитель председателя КГБ СССР Лебедев и передал мне список лиц, которых, если в том будет необходимость, надо задержать. Речь шла о 18 гражданах. Они стояли в списке первыми и их фамилии были подчеркнуты. Первое, что бросилось в глаза, это фамилии Александра Яковлева, Эдуарда Шеварднадзе. Они стояли в списке самыми первыми. Всего же в списке значилось 70 фамилий. Вместе со списком я получил 18 незаполненных бланков с распоряжением коменданта Москвы об административном аресте. Лебедев пояснил, что их надо заполнить по поступлении команды на задержание. Арестованных следовало доставить в воинскую часть 54164 воздушно-десантных войск, дислоцирующуюся в подмосковном поселке “Медвежьи озера”. К утру 19 августа к их приему была готова просторная казарма» («Кремлевский заговор»).
В других источниках есть информация о том, что арестованы в то утро были также депутаты Уражцев, Гдлян и Иванов. Логика в этих арестах была: КГБ изолировал прежде. всего тех, кто проходил в его списках как «крайние экстремисты». Крупные политические фигуры трогать пока боялись.
Но в последний момент аресты приостановили. Почему?
Есть несколько возможных объяснений. Члены ГКЧП пытались придать путчу характер легитимности, законности. Второе объяснение: они были, мягко говоря, не очень умными и малоталантливыми людьми, они думали, что достаточно вывести танки на улицы Москвы, объявить о режиме чрезвычайного положения, и все само наладится, образуется, успокоится. (Единственный решительный человек среди них, генерал Варенников, находился в те дни в Киеве.)
Есть версии и более экзотические.
«Не были они и фанатичными коммунистами. В заявлениях заговорщиков ни слова не говорилось ни о Коммунистической партии, ни даже о социализме» (Леон Арон). Как вы помните, именно это — диктатуру без коммунистов — предрекал Горбачеву его старый соратник Яковлев.
Мягкие, либеральные, демократически настроенные члены ГКЧП?
Однако единственной реальной причиной, по которой члены ГКЧП не «дошли» до прямых репрессий и до стрельбы по народу, я считаю их
Страх от начала до самого конца.
Страх перед народной революцией. Перед сопротивлением. Перед Ельциным. Перед реальной властью, которая могла свалиться им в руки.
Люди, собравшиеся 17 августа на АБЦ, а 18-го — в Кремле, терпеть не могли Горбачева (пусть и в разной степени) за его нерешительность, слабость, непоследовательность. Они по-своему понимали долг перед страной и, конечно, ощущали себя спасителями.
Но главным их чувством, движителем, главным их советчиком был именно страх.
Они боялись этой новой страны. Боялись людей, которые выходили в этот момент на улицы. Боялись, что им придется залить все кровью. И в конечном счете боялись за себя.
Поэтому и хотели напугать: похоронной музыкой, танками, грозными указами, специально распускаемыми слухами, спецназом.
Да, они хотели внушить страх, потому что боялись сами. До дрожи (Янаев крепко выпил перед тем, как подписать документы), до гипертонического криза (Павлов свалился с ним на следующий день), до суицида (после путча покончил с собой Пуго).
Ельцин выиграл у них заранее.
Он вынудил их сделать этот последний, отчаянный, истерический, трагический шаг своей твердой позицией в январе — марте 1991 года, заставил их сорваться, переступить черту — уже одним своим присутствием. И уже почти в тот момент, когда они это сделали, стало ясно — им конец.
Вот что происходило в этот момент на улицах, пока Ельцин принимал первые решения в Архангельском. В центре Москвы толпы останавливали троллейбусы и с помощью пассажиров ставили их поперек главных улиц и площадей: Тверской, Калининского проспекта, Садового кольца и Манежной площади. Возле этих троллейбусов останавливались грузовики. Люди немедленно окружали экипажи танков и БМП, дошедших до намеченных объектов, забирались на машины, просили солдат объяснить, зачем они пришли в Москву, умоляли их не стрелять, раздавали им сигареты, еду, воду и мороженое. Пожилые женщины выкладывали на броню свои гостинцы и одновременно ругали солдат: «В кого вы пришли стрелять? В своих матерей? Для этого мы вас растили?» Некоторые приносили банки с домашним вареньем. Девушки залезали на башни танков и раздавали цветы.
Те боевые машины, которые поздним утром 19 августа еще находились на марше, сталкивались с куда более враждебным отношением. В их гусеницы втыкали тяжелые стальные ломы, дорогу им преграждали шеренги людей и троллейбусы. Большинство танков останавливалось. Некоторые, например, стоявшие на Манежной площади, поворачивали назад под торжествующие крики толпы. Некоторые пытались прорваться через кордоны, но даже холостые выстрелы из пушек не могли разогнать группы людей, преграждавших путь.
Первый митинг протеста, собравший несколько сотен человек, прошел у Моссовета в девять часов утра 19 августа. Там на стене было вывешено ельцинское «Обращение к гражданам России». Надписи на плакатах гласили: «Ельцин призывает к всеобщей бессрочной забастовке». Молодые люди записывались в «отряды самообороны». Тремя кварталами ниже по Тверской, на Манежной площади, водители использовали собственные машины, пустые автобусы и подъемный кран, чтобы перекрыть доступ на площадь. Полный людей троллейбус с надписью на боку «Долой ГКЧП!» стоял поперек улицы, ведущей к площади. Демонстранты размахивали российскими триколорами и портретами Ельцина.
Из окон гостиницы «Москва», где жили многие российские депутаты, летели листовки. Люди, обступившие танки, «читали солдатам лекции о природе демократии».
К концу этого дождливого дня центр сопротивления сместился от Моссовета и Манежной площади к Белому дому. Уже после полудня негодующие толпы стали собираться на Калининском мосту через Москву-реку. Перед баррикадой, воздвигнутой возле гостиницы «Украина», по ту сторону реки от Белого дома, стояли женщины с длинным транспарантом «Солдаты, не стреляйте в своих матерей и сестер!». Когда два военных грузовика с солдатами попытались прорваться через баррикаду на Калининском проспекте, люди стали бросаться на машины и бить в них стекла. Офицер выстрелил в воздух. Толпа не шевельнулась. Грузовики повернули обратно.
Возле Белого дома шла лихорадочная строительная деятельность. Бульдозер и подъемный кран подтаскивали бетонные блоки и тяжелые трубы. На одной из этих труб было написано: «Хунту на х…» Грузовики подвозили бетонные блоки. Люди несли металлические рельсы и арматуру с ближайших строительных площадок, вывороченные скамейки из соседнего детского парка. Все входы в здание блокировали несколько десятков автобусов и грузовиков.
В середине утра экипажи четырех танков перешли на сторону Верховного Совета РСФСР. Танкистов, превратившихся в объекты горячего народного обожания, закармливали бутербродами и поили горячим чаем. Танки украсили цветами.
Такова картинка событий, составленная из газетных репортажей американским биографом Ельцина Леоном Ароном.
А вот что писал в те дни журнал «Огонек»:
«— Все равно не проедешь. Все равно…
Как заклинание, он повторял эти слова, уперевшись жилистыми руками в передок урчавшего танка. На вид ему было лет сорок пять, только, видно, рано начал лысеть — редкие волосы на большой голове слиплись от дождя, прядями падая на глаза. Но руки были заняты танком, и он с ненавистью глядел на железную громадину, не откидывая упавших волос. На руке у него висела обычная авоська с талонным “Дымком” и буханкой черного. Одет он был в какую-то кофту сизого цвета незатейливой домашней вязки, старые, заношенные брюки и сандалеты на босу ногу.
С белым от страха и напряжения лицом, он словно прирос к танку, не слушая уговоры милиционера, сопровождавшего колонну, и подполковника-комбата. Наконец он повернул к ним голову и, смерив глазами, хрипло выдохнул:
— А ты… отойди, фуфло… Все равно не проедешь.
Танк затрещал, выпустил целую дымовую завесу и дернулся вперед, отбросив мужика сильнейшим толчком. Толпа ахнула, но он, казалось, побелев еще сильнее, снова кинулся к осевшему на тормозе танку и снова уперся в броню.
— Все равно!.. Все равно не проедешь! — гаркнул он не кому-нибудь, а именно танку, как некоему живому врагу.
— Отойдите, — тихо и убедительно сказал ему незаметный гражданин в рубашке апаш и, взяв за локоть, потянул в сторону.
— А ты кто такой? — риторически вопросил гражданина один из толпы.
— Я из КГБ, — с какой-то напевной нежностью ответил субъект.
— Ну и хромай отсюда! — с ненавистью ответил ему стройный хор голосов.
Все это происходило 19 августа около полудня на спуске к Краснопресненской набережной у подножия лестницы Верховного Совета России».
Тем временем в Архангельском наступает решительный момент.
Посовещавшись с соратниками (сейчас это казенное слово приобретает несколько иной оттенок), Ельцин командует: ехать в Белый дом. Суровая охрана надевает на него бронежилет. Вся семья провожает его.
— Ну, хорошо, а если тебя остановят на дороге, что ты будешь делать, отстреливаться, что ли? — с отчаянием спрашивает Наина Иосифовна.
Сам Б. Н. вспоминает этот эпизод в своей книге так:
«Надо было что-то сказать, и я сказал: “У нас российский флажок на машине. С ним нас не остановят”».
17 лет спустя Наина Иосифовна вспоминает эту сцену по-другому:
«Он сказал: “Возьму наш флажок с машины и пойду им навстречу”».
Н. И. чуть не плакала, отпуская его: «Ну что это за защита — бронежилет! Голова-то беззащитная».
…Она очень ясно представляла себе: если и будут стрелять, то — в голову.
Но его пропускают!
Он едет на своем правительственном «ЗИЛе» — мимо бесконечных колонн бронетехники, часть которой ломается, и солдаты в черных комбинезонах тут же стаскивают машины на обочины. Мимо тихих спальных районов, разбуженных грохотом танков (здесь уже выстроились очереди в ближние магазины за крупой, солью и спичками — война!). Мимо испуганного, замершего Ленинского проспекта. Мимо уже начинающего закипать центра города…
А в Архангельском срочно решают, куда эвакуировать детей. Домой опасно. Свою квартиру на первую ночь предлагает сотрудник президентской охраны Кузнецов. Она тут недалеко, в Кунцеве.
Вызывают «рафик». Сборы наспех. Взять хотя бы самое необходимое из вещей. Маленький Боря задает «детский» вопрос:
— А стрелять будут сразу в голову?
Женщины бледнеют, все садятся в микроавтобус. Охрана велела положить детей на пол. Минуты отчаяния. Проехать через ворота.
Штатские люди на «волгах», милиция, многочисленные посты на выезде из Архангельского, заглядывают внутрь — женщины, дети, вещи — и пропускают их.
И их тоже!
Нет приказа брать! Приказ следить, контролировать — есть. А приказа брать — нет…[17]
Почему так подробно останавливаюсь на этих сборах? На этом стремительном выезде из Архангельского Б. Н. и его семьи?
Утром 19 августа светило солнце. Был замечательный, мягкий, прозрачный день (Преображение Господне, Спас) с солнечными лучами, как будто проходящими сквозь невидимые нити.
Между тем у многих в тот день было полное ощущение, что на землю спустилась тьма. Наступила ночь.
Какая-то нереальная, как во сне, ночь сквозь день. Танки, эти чудовищные приказы ГКЧП, несчастные солдаты, рассевшиеся на броне вдоль чистых московских улиц, хаос, смятение, отчаяние — все это создавало ощущение плохо придуманного, но очень страшного фильма.
Ощущение свалившегося на всех одновременно несчастья, большой беды было настолько сильным, что мне понятно абсолютно всё в этих немногих сохранившихся в памяти семьи картинках: и смешно торчащий из-под пиджака бронежилет, и страх детей, и четкость рефлексов, диктующих поступки, — из Архангельского нужно уезжать как можно быстрее. Всем!
Белый дом.
Солдаты, стоящие в оцеплении, пропускают (опять пропускают!) машину первого президента РСФСР в подземный гараж. На лифте Б. Н. поднимается в свой служебный кабинет. В этот момент Ельцина охраняют лишь милиционеры из здания Верховного Совета (никто из них свой пост ни в этот день, ни в последующие не покинул) и, естественно, его охрана, немногочисленная, но решительная.
Однако Ельцин не собирается ни убегать, ни сдаваться, ни умирать.
Он звонит вице-президенту Янаеву и требует объяснить, что происходит с Горбачевым, где он, каково реально его состояние здоровья. И получает уклончивые ответы, из которых можно понять только одно: судьба президента СССР по-прежнему в их руках.
Он звонит председателю КГБ Крючкову и пытается доказать ему невозможность того, что они затеяли — гибель тысяч людей поставит путч вне закона, а страну — в состояние международной изоляции, причем в любом случае, даже в случае их победы.
Звонит министру обороны Язову, командующему ВДВ Грачеву, другим военачальникам, пытается давить на них, выяснить положение дел, установить с самой страшной на этот момент силой — военной — хоть какой-то контакт. И это ему удается: Юрий Скоков, один из руководителей российского правительства, по поручению Ельцина, тайно, выходит на постоянный контакт с Грачевым и даже встречается с ним лично.
Телефонная активность Ельцина в эти дни, 19-го и 20-го, просто невероятна.
В Белом доме вырублена прямая правительственная связь (городская работает), однако один белый аппарат с гербом, лишь недавно поставленный в кабинете его помощника Илюшина, исправен — его еще не внесли в справочник и попросту забыли выключить. Впрочем, гораздо важнее другое — он звонит, и его соединяют! Почему? Потому что путчисты боялись? Не верили, что все кончится так, как им хотелось? Вдруг этот разговор в будущем пригодится?
Грачев в этот момент вынужден вести двойную игру. Я пишу эти слова без всякого осуждения, просто констатирую факт: как руководитель военной операции ГКЧП, он просто не имеет права покинуть свой «боевой пост» (как армейский генерал, как офицер под присягой). Но как абсолютно трезвомыслящий человек он лихорадочно ищет выход из создавшейся ситуации.
Идея с «ротой охраны», которая одновременно и заблокирует Ельцина, и не даст никому пролить лишнюю кровь, кажется ему по-прежнему привлекательной. Он посылает в Белый дом подразделение десантников во главе с генералом Александром Лебедем.
Лебедь («с особым поручением от Грачева») расставляет своих людей по периметру Белого дома, с некоторым снисходительным цинизмом выслушивает доклады «оборонцев», затем входит в кабинет к Ельцину. Его задача (инструкция Грачева!) — убедить Ельцина «не делать глупостей». Мужская харизма у Лебедя не слабее ельцинской: тяжелый голос, бритый затылок, мощный торс — словом, настоящий спецназ.
— Ну, вот смотрите, Борис Николаевич, — говорит он. — Чем обшит ваш кабинет? Это ж сплошной пластик. Все здание в пластике. Легко возгорающийся материал. Вы представляете, что будет, если сюда попадет хотя бы один зажигательный снаряд? Здание в секунды заполыхает, из окон начнут выпрыгивать люди…
Ельцин молчит. Делать ответный ход еще рано.
Он показывает Лебедю другие кабинеты, подводит к окну, проходит по коридору. Прощаясь, тихо спрашивает:
— Ну, хорошо, Александр Иванович, а что бы вы делали на моем месте?
Двое очень волевых, сильных мужчин. Они смотрят в глаза друг другу. Оба не хотят, чтобы погибли люди, сотни людей, чтобы пролилась кровь.
По логике вещей Лебедь должен продолжать свою линию: предлагать сдаться, предлагать свою помощь в уходе из Белого дома. Но он вдруг понимает, что это бесполезно. Магия Ельцина захватывает и его. И он делает совершенно неожиданный ход. Он, отнюдь не демократ, не «республиканец», просто честный служака, вдруг говорит Ельцину: армия выполняет приказ, но чей приказ? Горбачев, и это официально объявлено, временно отстранен. Возьмите на себя командование вооруженными силами.
Как?
— Поскольку Верховного главнокомандующего нет… объявите себя Верховным главнокомандующим.
После этого Лебедь уходит из Белого дома, оставив уже свою «роту охраны».
Б. Н., не задумываясь, выпускает указ, в котором объявляет себя главнокомандующим всеми вооруженными силами на территории России.
За эти дни, 19 и 20 августа, он обнародовал немало документов, на каждый указ ГКЧП Ельцин выпускает свой. Но что значит «выпускает»?
Помощники и добровольные активисты заклеивают всю Москву ельцинскими воззваниями и приказами — кажется, что ими обклеена каждая дверь в каждом вагоне метро, каждый подъезд каждого двора, каждое дерево в каждом сквере. Продолжает работать и уже запрещенная официально радиостанция «Эхо Москвы», хотя все ждут прекращения трансляции с минуты на минуту. Мощь народного сопротивления — не только в сильных и смелых парнях, которые не боятся втыкать железные прутья в гусеницы танков и бросать бревна под колеса военных грузовиков. Она еще и в этих тихих, незаметных людях, которые обклеивают ельцинскими листовками все, что могут.
Среди всех этих документов — воззвание к солдатам, указ о том, что все указы ГКЧП следует считать недействительными, а тех, кто их выполняет, ждет суровая уголовная ответственность, и т. д. и т. д. — так вот, среди них один, самый первый, что писался начерно еще в Архангельском, представляется наиболее важным.
И не только потому, что Ельцин прочел его с танка.
Просто — он первый. В нем содержится непосредственная реакция на события.
«К ГРАЖДАНАМ РОССИИ.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный Президент страны.
Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным переворотом.
При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает все более глубокий размах, необратимый характер…
Такое развитие событий вызвало озлобление реакционных сил, толкало их на безответственные, авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических проблем силовыми методами.
Мы считали и считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества.
Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета.
Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам Президента РСФСР.
Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию.
Безусловно, необходимо обеспечить возможность президенту страны Горбачеву выступить перед народом. Требуем немедленного созыва Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР.
Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте.
До выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке.
Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку попытке правого переворота.
Борис Ельцин. Иван Силаев. Руслан Хасбулатов».
19 августа Ельцин вышел из здания, забрался на броню одного из четырех танков, которые уже «охраняли» здание Верховного Совета РСФСР, пожал руку танкисту и прочел обращение перед собравшимся народом. Показательно, что здесь были и телекамеры, в частности, программы «Время», которые запечатлели этот потрясающий момент.
…На фотографии видно, как танкист, высунувшийся из люка, закрывает лицо руками.
Почему он закрывает лицо руками? От страха, что его увидит начальство? От стыда? Возможно. Ведь ситуация абсолютно парадоксальна: Ельцин, главарь «демократической банды», который, по идее, должен бежать от этих танков, бояться этих танков, использует их как свой пьедестал.
Меж тем вокруг Белого дома собирается уже масса людей. «Защитников» организуют в отряды, дают им задание, они строят баррикады, организуют дежурство, затаив дыхание, слушают обращения Ельцина, которые передают по громкоговорителю, и, в общем-то, образуют вокруг здания огромный живой щит, прорвать который даже с помощью армии уже представляется серьезной проблемой.
Правда, тут я должен сделать некоторую ремарку.
К ночи (к первой ночи) число собравшихся у Белого дома несколько поредело, по свидетельству моего друга журналиста Сергея Козырева, который находился в это время в Белом доме и звонил мне по телефону. «Тут всего несколько сот человек, ну, максимум тысяча» — так виделась ему ситуация из окна здания. Но уже в следующую ночь, когда в сквере и на площади жгли костры и ставили палатки, в оцеплении, взявшись за руки, стояло уже несколько тысяч, а в общей сложности, если взять и тех, кто стоял на Калининском, на улице Чайковского и на Бородинском мосту, десятки тысяч человек.
Это были люди, готовые умереть…
А что делают в этот день, 19 августа, сами гекачеписты?
Прежде всего, они осмысляют то, что произошло в Форосе.
ГКЧП, поддержанный Горбачевым, пусть даже молчаливо, и ГКЧП без него — это два разных сценария заговора. Две разные тактики.
Что же случилось в крымской резиденции президента СССР накануне путча? Существуют две главные версии событий: одна сформулирована хозяевами дачи в Форосе, то есть Горбачевым и его помощниками; вторая — «гостями», которые прибыли туда вечером 18 августа, то есть членами ГКЧП и «сочувствующими» (Бакланов, Шенин, Болдин, Варенников, Плеханов).
Первая версия хорошо известна: Горбачев отказался сотрудничать с ГКЧП, не подписал указов о чрезвычайном положении и был изолирован. Территория дачи жестко контролировалась, телефоны были отключены, Горбачев, его помощники и его семья фактически находились несколько дней под домашним арестом. Ожидая самого худшего, Михаил Сергеевич записал на домашнюю видеокамеру обращение к народу (и эта запись существует), чтобы остался документ, подтверждающий его неучастие в заговоре.
Вторая версия возникла уже через несколько лет после событий 1991 года. Ее активно вбрасывали в средства массовой информации Болдин, Шенин, Бакланов, Варенников. Не отрицая своего резко негативного отношения к Михаилу Сергеевичу, они тем не менее в один голос говорили о том, что его позиция в тот день не была столь однозначной.
Вот что пишет об этом историк Рудольф Пихоя:
«Смутные слухи о подготовке заговора уже бродили. 20 июня государственный секретарь США Д. Бейкер в Берлине сообщил министру иностранных дел СССР А. Бессмертных о том, что американской разведке стало известно о подготовке смещения Горбачева, в которой принимают участие Павлов, Язов и Крючков. Эти же сведения были переданы в Москву через тогдашнего посла США Мэтлока.
5 или 6 августа Крючков встретился с Язовым, и они договорились “изучить обстановку”. По словам Крючкова, это делалось едва ли не по прямому поручению Горбачева…
Можно утверждать, что заговорщики предвидели три варианта развития событий.
Первый, оптимальный, состоял в том, что Горбачев, Президент СССР, встретившись с объединенным противодействием со стороны руководства КПСС, государственного аппарата, КГБ, армии и МВД, будет вынужден санкционировать введение чрезвычайного положения в стране. Эта акция приобретала видимость законности, а после утверждения Верховным Советом СССР и вовсе приобретала это качество. Судьба Горбачева в этом случае оказывалась в руках заговорщиков, которые могли, использовав его, заменить на нового Президента СССР.
Второй, более реалистичный вариант (к нему и готовились, судя по тому, что вместе с заговорщиками летели в Форос связисты) состоял в том, что Горбачев займет типичную для него позицию умолчания, ту позицию, которую он успешно разыгрывал… весной 1989 года в Тбилиси, в Вильнюсе: не знал, не был информирован. Поэтому у заговорщиков был заготовлен вариант — объявить Горбачева больным. Это давало возможность Горбачеву уйти от ответственности, выждать, что получится из затеи заговорщиков, а заговорщикам — ввести в действие Янаева, заменить им Горбачева. В дальнейшем судьба Горбачева зависела от результатов чрезвычайного положения. Он мог бы попытаться договориться с руководителями ГКЧП и сохранить свой пост, мог его утратить… и мог, наконец, объявить, что он с самого начала был противником ГКЧП.
Был и третий вариант. Горбачев решительно протестует, применяет имеющиеся у него силы (личную охрану, обращается за помощью в СССР и за границу). В таком случае в Москве оставалась группа руководителей “силовых” ведомств, которая должна была сломить его сопротивление… Вариант крайне неприятный, но, очевидно, предусмотренный, судя по тому, что уже упорно распространялись слухи о тяжелой болезни Горбачева… группе московских психиатров было предложено подготовить заключение о психическом заболевании Президента СССР».
Итак.
На первый, «благосклонный», вариант члены ГКЧП вряд ли рассчитывали: все-таки Горбачев не был инициатором заговора. Заговорщики явились в Форос без предупреждения, Горбачев долго отказывался их принимать.
Но и второй вариант — отказ подписать документы, молчаливая позиция М. С. — всех вроде бы устраивал. Генерал Плеханов спрашивает Валерия Болдина, который вышел от Горбачева: ну что?
— Да ничего. Не подписал, — отвечает Болдин. Начальник горбачевской охраны Медведев слышал этот разговор и позднее прокомментировал: «Ответил разочарованно, но спокойно, как будто и предполагал, что так и будет».
Болдин, который работал помощником Горбачева с начала 80-х годов, руководитель его администрации, «тень» генсека, вообще воспринимал встречу с Горбачевым в Форосе весьма своеобразно: он считал, что Горбачев согласился с тем, что ГКЧП «сделает грязную работу», а затем М. С. может вернуться на свое место. «Президент думал о чем-то другом и неожиданно спросил — распространяются ли меры чрезвычайного положения на действия российского руководства? Услышав утвердительный ответ, он успокоился окончательно». Разумеется, Болдин предлагает в своей книге версию, которая устраивает прежде всего его самого, очищает от тяжкого греха предательства. Ни слова он не говорит о том, что Горбачев отказался подписать документы ГКЧП, а на слова своих «гостей» о том, что нужно принимать решительные меры, ответил: «Да, и главная из этих мер: это подписание Союзного договора». Зато привел в своей книге слова, якобы сказанные Горбачевым: «Черт с вами, действуйте!»
Но все-таки вариантов поведения Горбачева было три. Рассмотрим и третий. Сопротивление.
Было ли оно?
«Для меня как начальника охраны, — пишет В. А. Медведев, — главный вопрос: угрожало ли что-нибудь в тот момент жизни президента, его личной безопасности? Смешно, хотя и грустно: ни об угрозе жизни, ни об аресте не могло быть и речи. Прощаясь, обменялись рукопожатиями.
…Ребята (охрана Горбачева. — Б. М.) были у меня под рукой. В моем подчинении был резервный самолет Ту-134 и вертолет. Технически — пара пустяков: взять их и в наручниках привезти в Москву. В столице бы заявились, и там еще можно было накрыть кого угодно».
Из того же посыла исходит и Рудольф Пихоя:
«Отказ Горбачева от сотрудничества с заговорщиками не носил окончательного характера, не привел к разрыву между Горбачевым и делегацией от будущего ГКЧП. По словам Горбачева, он надеялся на их благоразумие; по мнению же заговорщиков, невозможно, чтобы политик такого масштаба сказал прилюдно “да”. Прощание прошло вполне мирно, Горбачев и члены делегации обменялись рукопожатиями, охрана Горбачева не имела никаких оснований вмешаться в эту ситуацию».
Я, конечно, не могу не вспомнить в этой связи слова Наины Иосифовны, сказанные ею во время нашего интервью: невозможно представить себе на месте Горбачева Бориса Николаевича. Он, конечно, не стал бы ждать и не подчинился бы никаким приказам, тем более какого-то генерала КГБ.
Так были эти приказы или нет? Были ли арест, изоляция, ограничивала ли охрана свободу действий президента СССР?
Несмотря на то, что свидетельство начальника горбачевской службы безопасности Медведева выглядит весьма убедительно, другие свидетельства не позволяют доверять ему на 100 процентов. В частности, помощник президента А. Черняев пишет, что ему не позволили выходить с территории резиденции, а когда он настоял, что должен позвонить жене, каждое его слово контролировал сидящий рядом сотрудник КГБ. Есть и другие детали, которые красноречиво говорят о том, что Горбачева и его близких держали в строгой изоляции от внешнего мира. Что же произошло на самом деле?
Скорее всего, увидев, что Горбачев не предпринимает никаких активных действий, начальник его охраны решил выполнять приказы своего непосредственного руководителя, генерала Плеханова[18].
Нельзя доверять на сто процентов и свидетельству Валерия Болдина, который намекает, что Горбачев хотел, чтобы гэкачеписты выполнили за него «грязную работу» и расправились с российским руководством. Помощник Горбачева Анатолий Черняев вспоминает: «Он лежал на постели и делал пометки в блокноте. Я присел рядом и стал ругаться. Он смотрел на меня печально. Сказал: “Да, это может кончиться очень плохо. Но, ты знаешь, в данном случае я верю Ельцину. Он им не дастся, не уступит. И тогда — кровь. Когда я их вчера спросил, где Ельцин, один ответил, что “уже арестован”, другой поправил: “Будет арестован”».
Следователи российской прокуратуры не преминули спросить президента СССР о том самом пресловутом рукопожатии, которым он обменялся с представителями ГКЧП. Горбачев ответил: он надеялся, что его «твердая позиция» их образумит.
Аргумент логичный, но недостаточный. Он не позволяет до конца прояснить ситуацию, которая остается загадкой вот уже больше пятнадцати лет. А прояснить ее можно, на мой взгляд, следующим образом: как и многие другие в нашей стране, Горбачев не верил в то, что систему можно победить индивидуальными, личными усилиями. Больше того, все годы своего правления сам он панически боялся этой системы. Всеми силами стремился уговорить, уболтать, обмануть ее. Поведение Горбачева в Форосе нельзя назвать лицемерной игрой. В рамках своей системы координат он повел себя даже мужественно. Но это было мужество слабого человека, который сразу смирился с поражением.
Гэкачеписты прекрасно это знали. Однако «молчаливое несогласие» Горбачева отнюдь не прибавило им решительности.
Их пресс-конференция, транслировавшаяся вечером 19 августа по Центральному телевидению, показала: заговорщики подавлены. Дрожащие руки, невнятные ответы, скованность.
Вопрос молодой журналистки Татьяны Малкиной: «Отдаете ли вы себе отчет в том, что совершили военный переворот?» — прозвучал на весь мир как приговор. Стало понятно, что это какой-то странный переворот. Какая-то странная хунта. Настоящая хунта, которая готова прийти к власти через реки крови, не потерпит такого вопроса.
Кстати, немаловажная деталь: среди членов ГКЧП — ни одной публичной фигуры, то есть ни одного человека, который бы хоть раз выступил на телевидении или перед съездом с развернутой яркой речью, мог бы отвечать на вопросы из зала, владел хоть какими-то навыками открытого диалога. Даже самый более или менее «разговорчивый» из них, Янаев, запомнился лишь плоской шуткой при утверждении на должность вице-президента СССР (отвечая на вопрос о своем здоровье, он сказал, что «жена не жалуется», вызвав жидкий смех в зале Кремлевского дворца и язвительные насмешки в кулуарах). Единственным исключением в составе «инициативной группы» был Анатолий Иванович Лукьянов, который постоянно вел заседания съезда и Верховного Совета СССР. Но он войти в ГКЧП отказался, заявив, что «пока» должен оставаться в стороне.
Позорная пресс-конференция, где никто из них не смог выступить со сколько-нибудь внятным объяснением, которого ждали все, выявила их полную неспособность говорить со страной.
Однако своя логика в действиях ГКЧП конечно же была. Был свой расчет, причем вполне оправданный. Расчет… на время.
Да, время, казалось бы, работало на «новый режим». Если бы ГКЧП продержался хоть две-три недели (а возможно, хватило бы и одной), ситуация могла бы решительно измениться в его пользу.
Заработали бы старые методы управления, опомнились бы от шока административные и партийные органы на местах, и закрутился бы рутинный механизм жизни, организации производства, привычные слова и привычные реакции на эти слова создали бы нужный фон серому, безликому режиму власти. (Правда, остается открытым вопрос о том, насколько бы хватило ГКЧП экономического ресурса, ведь распределительная экономика трещала по всем швам, стратегические запасы подходили к концу.)
За эту гипотетическую неделю был шанс решить и «проблему Горбачева» (либо открыто объявить о том, что он находится под домашним арестом, либо как-то договориться с «шефом») и, самое главное, определиться с лидером, с тем, кто действительно принимает решения, поскольку долго такое аморфное «коллективное руководство» продержаться не могло.
Конечно, при такой ситуации было невозможно избежать ни репрессий, ни столкновений, ни жертв, но главные рычаги управления страной ГКЧП мог перехватить в свои руки за какие-то считаные дни.
Но этот расчет на главного союзника — всемогущее время — был скомкан тем, что уже днем 19 августа, под боком у Кремля, на Краснопресненской набережной, возник очаг сопротивления, а сам Ельцин открыто пошел против заговорщиков. Ельцин заставил участников ГКЧП принимать решения очень импровизированно, с ходу, поставил их перед необходимостью применения силы, а они к этому не были готовы.
Б. Н. перевел ситуацию в совершенно другой режим, когда счет шел не на дни, а на часы, даже на минуты.
Утром 20 августа заговорщики вновь собрались в Кремле, уже без Павлова, которого свалила гипертония, и выслушали председателя КГБ Крючкова. Аналитики КГБ предупреждали, что, если «двоевластие» продлится и дальше, развитие ситуации станет непредсказуемым.
«Стало ясно, что медлить с арестом Ельцина более нельзя.
Подготовка к захвату здания Верховного Совета России началась в 9 часов утра.
Утром Крючков по телефону поручил мне связаться с заместителем министра обороны Ачаловым для разработки операции по блокированию и захвату Белого дома, — вспоминает заместитель председателя КГБ Гений Агеев. — Он назвал место, куда будет отправлен арестованный Ельцин. Это было все то же “Завидово”» (В. Степанков, Е. Лисов «Кремлевский заговор»).
Но то, что можно было сделать за пару часов утром 19-го (например, занять здание Верховного Совета, арестовать Ельцина), сделать теперь, 20-го, уже невероятно трудно.
Тем не менее отступать они не собирались. Казалось, штурм здания неминуем. Слухи о штурме поползли по Москве с утра, его ждали вечером, в районе восьми-девяти, потом ночью, потом в шесть утра.
Ночью начался проливной дождь.
Защитников Белого дома учили, как действовать при отравлении слезоточивыми газами: мочить платки и закрывать ими нос и рот. Женщинам было приказано покинуть здание. Но почти никто из них не ушел. Не ушли и ближайшие соратники Ельцина. Кроме премьер-министра Силаева. Он зашел в кабинет Б. Н. и попросил разрешения покинуть здание, провести эту ночь, с 20 на 21 августа, дома, с семьей. Ему в тот момент было почти 70. Он, как и многие, считал, что если останется в Белом доме, то, скорее всего, попрощается с жизнью.
Все были измотаны бессонницей и перевозбуждением. Камера фотографа Юрия Феклистова запечатлела такой эпизод: дюжий парень с автоматом, защитник Белого дома, спит на плече у виолончелиста Мстислава Ростроповича. А Ростропович держит автомат — вместо виолончели.
Ростропович, приехавший в Белый дом в первый же день блокады, был, наверное, самым знаменитым его защитником после Ельцина.
Вообще в Белом доме происходило немало любопытного. Приходили известные артисты, политики — приходили и уходили. Здесь было огромное количество журналистов, наших и иностранных. Некоторые вскоре требовали автомат, другие предпочитали сделать репортаж и уйти работать в редакцию.
Радостным известием стала «поддержка международного сообщества», а именно — звонки Ельцину от Джорджа Буша-старшего и Джона Мейджора (премьер-министра Великобритании). Но справедливости ради надо заметить, что звонок этот Буш-старший совершил почти через сутки после переворота, до этого момента отделываясь осторожными заявлениями, выражая тревогу по поводу здоровья Горбачева и надежду, что новые власти не свернут с намеченного демократического пути. Слова поддержки прозвучали и от лидеров республик, с которыми у Б. Н. были не такие уж безоблачные отношения: Назарбаева, Кравчука, которым Ельцин позвонил сам, находясь в Белом доме. Это были важные сигналы.
Охрана Ельцина составляла планы спасения Б. Н. в случае начала штурма. Через систему подземных люков и коридоров можно было выйти на другую сторону Москвы-реки к гостинице «Украина». На этот случай ему приготовили парик и бутафорскую одежду. Другой вариант — подземный бункер, настолько хорошо оборудованный и автономный, настолько прочный и защищенный (на случай ядерной атаки), что продержаться в нем можно было много дней, до прихода «наших». В ночь с 20-го на 21-е Ельцин согласился туда пойти. Хотя понимал, что «наши» скорее всего не придут. Все «наши» были в здании и вокруг него (остальные сидели по домам и тихо ждали).
Наконец начальнику службы безопасности пришла в голову идея: вывезти Ельцина в американское посольство, задний двор которого находился через улицу, в 200 метрах от Белого дома. Коржаков немедленно связался с дежурным в посольстве, и американцы приняли эту идею с воодушевлением.
Но Ельцин ехать в посольство отказался наотрез!
Люди по-разному проявляли себя в этой страшной ситуации. Руцкой, вспомнив военное прошлое, активно командовал немногочисленными автоматчиками, проверял посты. Хасбулатов, Бурбулис, Шахрай и другие члены ельцинского штаба продолжали «работать с документами», звонить, получать корреспонденцию и отправлять ее. Наконец в ту последнюю ночь все спустились в бункер. Кто-то поставил на стол бутылку водки.
С отрешенным лицом сидел Юрий Лужков, тогда заместитель мэра Москвы, держа за руку свою молодую беременную жену Елену. Он не пил, почти ничего не говорил. Зато пламенную речь в защиту демократии произнес Гавриил Харитонович Попов, первый мэр Москвы.
Люди вели себя по-разному, но практически никто не уходил из Белого дома. Здесь, с Ельциным, было и страшно, и в то же время была надежда.
Он и был этой надеждой.
Сам Ельцин в первую ночь немного поспал.
Лежа на кушетке, на боку, вытянув руку, слушал сквозь сон раздававшиеся в коридоре крики, гулкие шаги по лестнице.
Он должен пережить и эту ночь, и следующую. Он не верил, что все они умрут. Время работало на него. Время мощно работало на него.
…Кульминация наступила в ночь с 20 на 21 августа.
Движение бронетехники, которого все так долго ждали, наконец началось.
Судя по мемуарам генерала Александра Лебедя, количество войск, переброшенных в эти дни в Москву, было совершенно невероятным. Крупнейшая по численности передислоцированных войск операция, сравнить которую можно лишь с серьезными учениями или со сражениями времен Второй мировой войны. Все новые и новые части прибывали на военные аэродромы. Но с точки зрения эффективности, целесообразности это был настоящий хаос. Как пишет Лебедь, «преднамеренный хаос». Однако ничьей злой воли, хитроумного замысла в этом хаосе с военной точки зрения не было.
Безумной являлась сама затея — подавить сопротивление москвичей силами бронетехники. Несколько хорошо обученных подразделений спецназа решили бы эту задачу куда быстрее. Танки и БМП вызывали у толпы дикое возбуждение, ярость и желание их остановить. Люди ложились под боевые машины, останавливали их буквально руками, кидали под гусеницы все, что можно, взбирались на броню, не давая проехать.
Три БМП двинулись в туннель под Садовым кольцом, чтобы перебраться на ту сторону Нового Арбата. Молодой защитник Белого дома влез на броню и попытался открыть люк, чтобы переговорить с экипажем. Офицер, который решил, что в руках у парня бутылка с зажигательной смесью и он сейчас заживо спалит экипаж, выстрелил в него. Двое других парней, подбежавших, чтобы оттащить упавшее тело, были задавлены машиной, которая неожиданно дала задний ход.
Так трагически погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.
Больше жертв в ту ночь не было…
Страшная новость мгновенно облетела Москву. Ярость народа стала такой сильной, что ее физически можно было ощутить, даже не находясь в стане защитников Белого дома.
Вообще ситуация, конечно, находилась на волоске. Экипажи БМП, которые не смогли совершить передислокацию в ту ночь, находились среди возбужденной толпы. У многих в руках они видели бутылки с зажигательной смесью. Но, слава богу, ни одна машина не сгорела, не взорвалась. Если бы это случилось, очереди по толпе были бы неминуемы.
В своих воспоминаниях офицеры группы «Альфа», элитного подразделения КГБ, обученного именно как «группа захвата», пишут, что они «отказались» в ту ночь штурмовать Белый дом. Нет никаких оснований им не верить.
Но войти туда (по плану, разработанному в военном штабе ГКЧП) они смогли бы только через «коридоры», проложенные в толпе десантниками и БМП. Никаких «коридоров» проложено не было, так как толпа не подпустила БМП к зданию.
В шесть утра, под проливным дождем, когда движение техники уже было остановлено, пронесся слух о том, что сейчас начнется штурм — уже без боевых машин, просто силами пехоты и спецназа. Люди, сцепив руки, встали в несколько рядов — в последний раз.
Но штурма не было. Отдать приказ о его начале стало уже невозможно. Офицеры, после двух дней бесконечного ожидания, противоречивых приказов, публичного позора и сумятицы, отказывались идти на штурм.
Над Москвой повисло хмурое дождливое утро.
Этим утром состоялся еще один примечательный телефонный разговор. Я не могу привести его дословно, но общий смысл постараюсь передать.
Павел Грачев позвонил своему непосредственному начальнику, министру обороны СССР, члену ГКЧП Дмитрию Язову.
Смысл его вопроса был прост: что делать дальше?
— Пошли они на х…, — сказал Язов. — Я больше в этом г… не участвую[19].
Грачев понял приказ начальника и начал вывод войск из столицы.
Танки возле Белого дома взревели и отправились домой. Счастливые танкисты прощались с девушками, которые успели одарить их за эти дни большим количеством улыбок и телефонных номеров.
Все было кончено.
Самолет с членами ГКЧП срочно вылетел в Форос, к Горбачеву. Теперь они просили у него защиты!
Еще один не до конца проясненный момент путча: привезти Горбачева из Фороса предложил членам ГКЧП… сам Ельцин. Этот факт подтверждает Татьяна, дочь российского президента: «Папа позвонил им и сказал, чтобы они вылетали в Форос за Горбачевым».
Но в тот момент, когда гэкачеписты уже мчались в аэропорт, у него возникло ощущение, что оставлять Горбачева наедине с ними просто опасно.
События развивались с калейдоскопической быстротой, счет шел на минуты. Вскоре из Внукова вылетел уже второй самолет «за Горбачевым».
Горбачев не стал разговаривать с путчистами и сел в самолет, в котором с автоматчиками прилетел вице-президент России Александр Руцкой.
В своей первой речи, которую Горбачев произнес, едва сойдя с трапа во Внукове, он поблагодарил «российское руководство».
Вечером 21 августа путч был закончен. Официально.
Когда я начал писать эту книгу, то вдруг, даже как-то неожиданно для себя, спросил у своего младшего сына-студента, о чем ему было бы интересно узнать из биографии Ельцина.
Ответ он дал такой:
— Подробности перестрелки.
— Какой перестрелки? — изумился я.
— Той перестрелки, в 91-м году.
— А что ты вообще знаешь о 91-м годе? — спросил я его с интересом. — Что вам об этом в школе говорили?
— Я был тогда маленький, — уклончиво ответил сын.
И верно, тогда ему было три года.
— А ну-ка, — осенило меня, — принеси мне, дружок, какой-нибудь школьный учебник истории!
Он, порывшись на полках, принес мне «Пособие по истории отечества для поступающих в вузы» (М.: Простор, 1993. Ред. коллегия А. С. Орлов, А. Ю. Полунов, Ю. А. Щетинов).
В главе «Ново-Огаревский процесс» я прочел одну фразу (!) о путче 1991 года. Вот она, подчеркнута мной, следите, пожалуйста, за контекстом:
«Проект договора об ССГ предусматривал преобразование союзного государства в конфедерацию с ликвидацией многих полномочий центра, но с сохранением системы президентской власти. Предпринятая 19–21 августа 1991 года попытка центра вооруженным путем предотвратить эту перспективу закончилась поражением. Начался новый и заключительный этап распада СССР». Вот и все о путче для юных граждан Российской Федерации, для абитуриентов, поступающих в вузы! В то время как теме «нормализации отношений с США, Китаем, другими странами» отведено полторы страницы убористого текста.
Другому поколению старшеклассников повезло чуть больше.
В новом учебнике (История России для 11-го класса / А. Левандовский, Ю. Щетинов, С. Мироненко. М.: Просвещение, 2007) о путче читаю:
«ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения в отдельных районах СССР, о расформировании структур власти, действовавших вопреки Конституции СССР 1977 г., о приостановлении деятельности оппозиционных партий, о запрете митингов и демонстраций, о контроле над средствами массовой информации. В Москву вошли войска.
Население страны в целом сохраняло спокойствие. Продолжалась работа шахт, заводов, фабрик, учреждений, транспорта, в деревне — уборка скудного урожая. Лишь в Москве, а затем и в некоторых других крупных городах России Президенту РСФСР Б. Н. Ельцину (избранному на этот пост всенародным голосованием в июне 1991 г.) удалось организовать тысячи своих сторонников на активное сопротивление мерам ГКЧП (митинги протеста, строительство баррикад у здания Верховного Совета РСФСР и т. п.)… В условиях, когда ГКЧП практически бездействовал, этого оказалось достаточно для ликвидации путча».
Вот, пожалуй, и все, что жители Российской Федерации пятнадцати-двадцати лет знают сегодня об этом.
Людям, которые захотят рассказать о путче 1991 года своим детям по-другому, я и посвящаю эту главу.
Почти сразу после падения ГКЧП и возвращения в Москву Горбачев хочет подписать указ о присвоении Борису Ельцину звания Героя Советского Союза.
Ельцин Отказывается от высшей награды страны. «Герои — это те, кто был на баррикадах», — передает советское телевидение его слова.
В Москве 25 августа проходят похороны Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова. Не менее миллиона людей прошли от Манежной площади до Белого дома, а затем до Ваганьковского кладбища. Другие стояли вдоль улиц и держали в руках цветы. Стометровый российский триколор был развернут над шагающей толпой. Такого гигантского флага с той поры я никогда не видел. Он плыл над головами людей, как живое существо, гигантское, невиданное, колышущееся от ветра.
Траурное шествие в прямом эфире транслировало Центральное телевидение. Это был последний гвоздь в могилу ГКЧП и, в каком-то смысле, в могилу советской власти — всесоюзная трансляция с этих похорон.
Почти 100 лет назад с другой грандиозной траурной процессии — похорон Николая Баумана, в которых приняли участие десятки тысяч москвичей, — начались баррикады 1905 года. Вот и эти похороны были грозными. Они предвещали новую русскую революцию.
Над Москвой плыла жара.
Можно было задохнуться от подступающих к сердцу предчувствий, от жалости к этим героическим мальчикам, от ощущения какого-то огромного бесконечного дня, который вроде бы кончился, но на самом деле — только начинается.
Ельцин выступил на траурном митинге с речью. Он сказал то, что от него ждали — о свободе, о независимости России, о героях, которые не пожалели своей жизни ради этой независимости и свободы.
И, наконец, произнес самое главное. «Простите меня… — сказал Ельцин. — Что я не уберег ваших детей».
Много было горечи в этих словах пожилого уже, в общем-то, человека над гробами трех юношей. Но было и другое: поразительная уверенность в своей силе. Ельцин абсолютно верил в этот момент, что способен не допустить горе, зло, ненависть в России. Сколько раз ему еще придется стоять над гробом! И просить прощения…
Но ни разу он в этой своей силе, мне кажется, не засомневался.
На чем же был основан этот феномен фантастической, непробиваемой уверенности Ельцина? Это ведь тот же самый человек, который мог так падать, так больно ушибаться, что казалось, все уже кончено и дальше ничего не будет. Подобные моменты в его жизни бывали, и не раз. Но никто и никогда не видел его поверженным — может быть, кроме Наины Иосифовны. Из падений он выходил отнюдь не смиренным. Как будто заряжался в этой темной зоне новой энергией и страстью. Это почти физический, природный закон его могучей психики — сила действия равна силе противодействия.
Противодействие и было его природой.
Огромным событием в те дни стал митинг возле Белого дома. Митинг народной победы. Событием стало и то, что Горбачев не появился на митинге, не выступил на нем.
М. С. после путча был не только глубоко подавлен предательством своих соратников, людей, с которыми он ежедневно общался, работал, делился планами, кого, несомненно, ценил, выдвигал на высокие посты.
Но еще в большей степени он был растерян из-за того, что после августа 1991-го так разительно изменились их отношения с Ельциным.
Человек, которого он осенью 1987-го собственноручно подверг духовной казни, провел «сквозь строй», где каждый больно ударил кнутом бунтаря и смутьяна; человек, которого травили в советских газетах, не пускали в депутаты; за каждым шагом которого следили гэбэшники; человек, ставший врагом и соперником, — теперь этот самый человек оказался его главным спасителем!
Можно вынести любой удар, но пережить от бывшего врага такое — необыкновенно трудно. Особенно мужчине, привыкшему к власти, неограниченной, бескрайней.
Но трудно и Ельцину. Да, Б. Н. торжествует, он одержал над Горбачевым самую главную победу — моральную, он спас страну, которая зависла над пропастью, в том числе и из-за Горбачева, но в то же время… и он растерян.
Их роли резко поменялись. Так резко, что они оба даже не успели опомниться. Как они должны разговаривать, как общаться? Оба нервничают. Оба ищут верный тон.
Вот один из таких моментов — публичное подписание указа о приостановлении деятельности компартии на территории России.
Торжествующий, могучий, густой голос Ельцина. И врывающийся в него баритон Горбачева: подождите, Борис Николаевич, подождите, так нельзя…
Ельцин на глазах у всей страны подписывает уже готовый указ под протестующий речитатив Горбачева.
М. С. ведет себя уже не как политик, а как растерявшийся, подавленный человек.
Примерно через месяц, выступая на пленуме ЦК КПСС, Горбачев заявит о том, что он уходит с поста генерального секретаря. Уходит сам.
Он, еще недавно протестовавший против запрета КПСС, теперь покидает ее ряды. Партия предала его. Партия считает — он предал ее.
После путча Горбачев вынужден делать новые кадровые назначения. Многие члены его команды сидят за решеткой, в Лефортове. Трое — министр внутренних дел Пуго, маршал Ахромеев, управляющий делами ЦК КПСС Кручина (главный хранитель финансовых секретов партии) — покончили жизнь самоубийством. Горбачев делает первые свои шаги, еще не понимая, что вернулся в другую страну. Назначает маршала Моисеева министром обороны, Леонида Шебаршина — руководителем КГБ. Ельцин мгновенно приезжает в Кремль, чтобы остановить эти назначения. Моисеев, по его мнению, один из тех, кто участвовал в подготовке заговора, а Шебаршин — человек Крючкова. Но их действия поневоле становятся согласованными — многие из них Горбачев делает, предварительно узнав позицию Ельцина.
Кстати, в этот момент (август — сентябрь) в полной мере проявится еще одна черта Б. Н. Скрытая, неявная, глубоко спрятанная внутрь: его осторожность.
Уж в чем в чем, а в осторожности его трудно заподозрить, не правда ли? Человек, всегда идущий в атаку, сплеча разрубающий любые гордиевы узлы, безоглядный, смелый…
Однако в августе — сентябре 1991 года, когда, казалось бы, самое время дать волю своему красноречию, отдать смелый приказ к последнему и решительному штурму основ коммунистического режима, Ельцин вдруг замолкает. Временный запрет на деятельность органов КПСС на территории России был единственным шагом в этом направлении.
Во всех остальных его публичных телодвижениях — внезапная скованность и… еще раз повторю это слово, какая-то странная осторожность.
Из ста с лишним глав российских регионов (председатели местных советов и исполкомов) 72 поддерживали в дни путча ГКЧП. Против них, как и против самих членов ГКЧП, немедленно возбуждаются уголовные дела местными прокурорами. Ельцин останавливает этот процесс. Выступает с заявлением о том, что в России не должны пострадать честные рядовые члены компартии. Предложение, которое исходит от наиболее радикальных демократов (Старовойтовой и др.) — «вычистить» из власти всех членов КПСС, как это было сделано в странах Восточной Европы, — повисает в воздухе. Не проходит и идея обнародовать списки тайных осведомителей КГБ.
Ельцин не распускает съезд народных депутатов СССР и не назначает новые выборы депутатов российского съезда. Он, одним словом, останавливает революционную волну «мягких» репрессий и политических ударов по бывшей власти, которая грозит превратиться в стихию, сметающую всё на своем пути.
В то время как демократические газеты полны призывов к «очищению», «покаянию» и «решительным действиям» — он отмалчивается.
Можно сказать и проще: Ельцин сильно задумался, засомневался в предлагаемом со всех сторон. Он знает по себе, что такое публичное, подневольное покаяние. Он представляет себе, каково сегодня быть в России секретарем райкома партии или парторгом на крупном заводе. Он не хочет, чтобы этих людей травили и улюлюкали им вслед.
В дальнейшем его не раз будут за это упрекать. Не уничтожил партийную «номенклатуру». Позволил ей взять тихий, незаметный реванш. Приостановил, но не запретил деятельность коммунистической партии. Не обновил кадры. Не «раскрутил» ситуацию до решающей стадии, до полной победы демократии. Не объявил крестовый поход против коммунизма, не сплотил нацию великой идеей очищения и покаяния за грехи сталинизма.
И так далее…
Почему же он этого не сделал?
Он понимает, насколько опасной была бы такая политика. В России очень легко разбудить погромные настроения, ненависть, страсть к полному изменению основ.
В результате побеждает всегда накипь, посредственные, но властные люди. Ельцин не хочет раскручивать маховик ненависти, не хочет отдавать власть формации мародеров, которые пожинают плоды чужой победы.
Итак, в Москве 22 августа под свист и крики толпы демонтируют памятник Дзержинскому. Передвижной кран уносит в вечернее небо «железного Феликса», как мощный штырь, на котором держалась основная конструкция. Когда толпа подходит к зданию КГБ, офицеры, находящиеся внутри, приводят личное оружие в боеготовность. Они готовы стрелять. Они не сдадутся. Только вмешательство демократических лидеров помогает предотвратить кровопролитие.
Сносят еще два памятника вождям революции — Калинину и Свердлову.
23 августа толпа атакует и другое здание, находящееся поблизости от Лубянки, — ЦК КПСС на Старой площади. Его охраняют только милиционеры. Они в растерянности. Толпа требует раскрыть «тайные архивы», выдать «документы ГКЧП». Именно этот лозунг «Там уничтожаются документы ГКЧП!» приводит людей в неистовство. ГКЧП — главный враг, злобный многоголовый монстр, дракон, который повержен и который унес жизни трех невинных граждан страны.
С огромным трудом толпу удается удержать от штурма здания. Если бы в этот момент ее не удалось остановить, это могло бы спровоцировать огромные беспорядки по всей Москве, у каждого райкома, у каждого отделения милиции, и тогда… кто знает, что было бы тогда? Новый ГКЧП?
…В середине сентября Б. Н. уходит в плановый отпуск. Этим отпуском он как бы подчеркивает свое спокойное, полное оптимизма состояние: теперь впереди большая созидательная работа, всё в порядке, можно и отдохнуть. Делает вид, что главная его цель — набраться физических сил, отдышаться, отойти от политики хотя бы на несколько дней, недель.
Однако многие наблюдатели выражают свое недоумение и даже плохо скрытое возмущение таким поведением российского президента. Путч 19 августа ярко доказал, что страну, Москву сейчас нельзя оставлять ни на день! Сейчас, когда события бурлят, клокочут, надо быть здесь, в Кремле…
Но именно эти события и заставляют его задуматься глубоко и надолго, скрыться от посторонних глаз. Ельцин понимает: после путча старая система рушится на глазах. Рушатся не просто символы власти. Рушится сама власть. Одно за другим закрываются союзные министерства и учреждения. Им больше незачем функционировать — приказы просто не выполняются. ГКЧП обвалил саму основу союзной вертикали — ее легитимность. Стало непонятно, кто руководит страной, Союзом.
Вот это и есть самое страшное. Об этом глубоко задумывается Ельцин там, в своей сочинской здравнице, гоняя мяч по корту, заплывая далеко в море, читая газеты и сводки новостей по утрам, за чаем.
Ельцин перебирает варианты.
Вариант первый: поддержать Горбачева. Начать с ним регулярные встречи, согласовывать все действия. М. С. нужны новая команда, новое правительство. Вместе с ним приступить к формированию этой новой команды. Вернуть старых горбачевцев: Шеварднадзе, Яковлева. Добавить Явлинского, возможно, Собчака. Первый шаг уже сделан — Бакатин в роли председателя КГБ пока устраивает их обоих. Вдохнуть в Горбачева силы, зарядить его своей энергией. М. С. — тот человек, который подзаряжается от других, ему достаточно слова, взгляда, намека, чтобы начать играть по новым правилам и с новыми людьми…
И взвалить на себя миссию Горбачева? Сшивать лоскутное одеяло на гнилую нитку? Отвечать за возможную гражданскую войну между русским и нерусским населением в республиках? Дотировать республики неизвестно из каких средств, когда сама Россия почти голодает? Пытаться руководить Кравчуком, Назарбаевым, вести безнадежный диалог с Прибалтикой, Грузией, Молдовой, которые поспешно выскакивают из Союза, практически бегут из него?
Нет. Кроме того, не в его характере выжидать, «подбирать власть».
Другой вариант. Подписание такого договора, который даст России бóльшую независимость.
Он будет строить в России другую страну без оглядки на Союз. Пусть остальные главы республик подстраиваются. Пусть догоняют Россию, которая должна совершить в эти месяцы гигантский рывок.
Идея «рывка», «скачка», «броска» необычайно близка характеру Ельцина. Он верит в этот рывок отчаянно, безоглядно, на протяжении всех своих лет президентства. И это, в общем, понятно: Ельцин неплохо разбирается в природе кризиса.
Идея радикальной экономической программы уже давно стучится в дверь, бурно обсуждается в прессе (освобождение цен, рыночные механизмы, купля-продажа земли, приватизация госсобственности — всю эту грамоту в 1991 году знает любой продвинутый десятиклассник), и сам Ельцин тоже убежден: без срочных и чрезвычайных мер страну ждет настоящий экономический коллапс.
Серьезные основания для такой оценки, безусловно, есть. По данным, которые той осенью публикует журнал «Экономика и жизнь», за год валовой национальный продукт снизился на 12 процентов, личное потребление — на 17. Розничные цены выросли на 200 процентов, на основные продукты — более чем в три раза. Экспорт нефти упал наполовину. «Аэрофлот» отменяет большинство внутренних рейсов и закрывает почти половину аэропортов страны из-за нехватки горючего. Рубль по отношению к доллару упал на 86 процентов. Внешэкономбанк попросил пересмотреть график погашения внешнего долга СССР и объявил дефолт на общую сумму 5,4 миллиарда долларов. Весь запас твердой валюты равняется 100 миллионам Долларов. Российское золото тоже странным образом иссякло. Выяснилось, что в 1989–1991 годах Советский Союз продал за границу почти тысячу тонн золота, то есть значительную часть своего золотого запаса (осталось меньше 300 тонн).
С хлебом — самая страшная ситуация. В 1990 году собран самый низкий урожай за последние 15 лет, а в 1991-м собрано еще на 25 процентов меньше. Не на что покупать зерно, а импорт составляет треть от необходимого, чтобы избежать голода. При этом колхозы не продают зерно по тем закупочным ценам, которые предлагает государство, и оно постепенно гниет. Нет валюты, чтобы зафрахтовать суда, которые привезут в Россию импортное зерно.
Голод — это слово, которое все чаще возникает даже в газетных заголовках. О голоде говорят все. Поставить на балкон мешок с картошкой, а лучше два — задача любого мужчины. Пережить зиму! Таков лозунг дня. Но пока надо пережить осень.
В ноябре в Москве в течение нескольких дней не было сливочного масла (впервые за весь послевоенный период). Во многих регионах только по талонам продаются: мясо, сливочное масло, растительное масло, макаронные изделия, спички, спиртные напитки и мыло.
Из справки, подготовленной для российского правительства:
«
И так — везде.
Во второй половине сентября Горбачев направляет председателю «Большой семерки» и главам государств Евросоюза личные письма довольно отчаянного содержания: просит предоставить кредит на семь миллиардов долларов для закупки более пяти миллионов тонн зерна, почти миллиона тонн мяса, сахара и 350 тысяч тонн сливочного масла.
15 ноября 1991 года мэр Санкт-Петербурга А. Собчак в письме на имя председателя Межреспубликанского экономического комитета и главы правительства России И. Силаева пишет: «В связи с резким сокращением поставок мясо-молочных товаров из суверенных республик РСФСР в Санкт-Петербурге сложилась критическая ситуация в части обеспечения населения города продуктами питания по талонам и, что особенно тревожно, снабжения продовольствием сети общественного питания, закрытых и детских учреждений. Остатки продуктов на хладокомбинатах в состоянии удовлетворить 3—4-дневную потребность города. Перспектива поставок продовольствия на декабрь месяц и начало 1992 года не дает основания надеяться на устойчивое снабжение города. Такое положение дел может привести к возникновению в Санкт-Петербурге опасной общественно-политической ситуации».
Из аналитической записки, подготовленной к заседанию Госсовета при президенте РСФСР осенью 1991 года: «Критическое положение может сложиться с обеспечением населения хлебопродуктами. Низкий урожай зерновых, невозможность резкого расширения импортных закупок в сочетании с отказом хозяйств сдавать зерно в счет госзаказа действительно могут поставить страну и республику на грань голода» (Егор Гайдар «Гибель империи»).
Из дневника помощника президента СССР М. Горбачева А. Черняева: «Явлинский сообщает, что 4 ноября Внешэкономбанк объявляет себя банкротом: ему нечем оплачивать пребывание за границей наших посольств, торгпредств и прочих представителей — домой не на что будет вернуться… М. С. поручает мне писать Мейджору, координатору “семерки”: “Дорогой Джон! Спасай!”».
Бывший заместитель председателя правительства СССР Л. Абалкин вспоминает о своей встрече в начале октября 1991 года с тогдашним руководителем Федеральной резервной системы США Аланом Гринспеном, «одним из опытнейших финансовых специалистов современности»: «Мы знакомы давно, хорошо понимаем друг друга и практически говорили на одном языке. Он спросил меня: “Понимаете ли вы, что остается всего несколько недель для того, чтобы предупредить финансовый крах?” Я ответил, что, по нашим оценкам, этот срок измеряется двумя месяцами».
Страх голода бежит, конечно, впереди самого голода. Кредит может быть предоставлен, в стране есть стратегические запасы продовольствия (на случай войны), и в магазинах появляется тушенка с армейских складов без привычной торговой маркировки. (Правда, объемы этих запасов, как теперь выясняется, были сильно преувеличены.) Но все-таки пережить зиму можно. Однако после путча вступать в голодную зиму особенно страшно.
Необходимо срочно, не откладывая, что-то делать! — вот главная мотивация Ельцина в эти тревожные месяцы.
Экономическую программу на следующий год нужно выбирать немедленно. «Кризисное правительство», «правительство спасения» надо назначать тоже немедленно.
У Ельцина есть программа «500 дней». Однако прошел уже год с тех пор, как она обсуждалась на российском Верховном Совете. У страны, считает Ельцин, уже нет этих пятисот дней. Программа Явлинского уже не столь радикальна, как радикальна, катастрофична сама ситуация. Кроме того, Явлинский создавал свой документ, расписывал позиции, считал цифры, исходя из параметров
Государственный секретарь Геннадий Бурбулис (именно он помогает президенту сформировать первое российское правительство) знакомит Ельцина с Егором Гайдаром.
Гайдар — молодой ученый-экономист, автор нашумевших аналитических обзоров, представитель знаменитого питерского семинара, собиравшегося чуть ли не в лесу и обсуждавшего абсолютно запретные для советской экономической науки проблемы и темы. Все это Бурбулис наспех, скороговоркой суммирует для Ельцина перед встречей.
Но почему Ельцин позвал к себе именно Гайдара? Человека кабинетного, не имевшего никакого опыта практической работы в народном хозяйстве? Об этом стоит поговорить подробнее.
…В 1991 году «экономист» — не только профессия, но и некий статус, который не зависит от официальных должностей и званий. Да, профессиональных экономистов, высококвалифицированных и опытных, в правительстве много, они работают в том же Госплане, Госснабе, в отделах, министерствах, институтах и главках.
Но в 1991 году особенно высоко ценятся «независимые» экономисты. Как говорил сатирик Михаил Жванецкий, «экономисты дают концерты и собирают полные залы». Независимые экономисты или «экономические писатели» — Шмелев, Селюнин, Черниченко, Попов — пользуются в эпоху Горбачева невероятным признанием читающей публики. И действительно, на их публичные выступления (по сути дела, доклады, переходящие в ответы на записки) не попасть!
Все дело в том, что экономисты практические, прикладные, работают в системе союзной экономики, они
Гайдар — из той же когорты людей, которые специализируются на будущей экономике, но пишет он не для всех, а для профессионалов. Его экономические «обзоры» направляются специалистам, руководителям, людям, принимающим решения.
Итак, Гайдар входит в кабинет Ельцина.
Его встречает седой человек очень высокого роста. Лицо его, конечно, знакомо по телевизору, но есть и отличия — Ельцин улыбается, слушает, редко говорит, у него внимательные, усталые, как будто застывшие в напряжении глаза. Этого по телевизору не увидишь…
Гайдар почти вдвое младше Ельцина, и, главное, в нем есть та победительная уверенность, которой недостает всем остальным претендентам. Он как бы обладает тайным знанием, которого нет ни у кого из тех, кто до сих пор мыслит в категориях «социалистического планирования».
Молодая команда гайдаровских экономистов, по заданию госсекретаря России Бурбулиса, уже сидит на госдаче в Волынском и пишет экономическую программу. В этой команде есть специалисты по приватизации, по валютному рынку, по иностранным инвестициям, по свободному рынку акций и облигаций. То есть специалисты именно по
И еще одно: Гайдар, спокойно глядя в глаза Ельцину, тихо говорит такие вещи, которые до этого никто не решался ему сказать.
— Борис Николаевич, вы уверены, что у вас хватит политического ресурса взять на себя ответственность… за те непопулярные, мягко говоря, решения…
Непопулярные решения — вот что они обсуждали в тот вечер. Ельцин четко уяснил для себя суть проблемы.
И, как ни странно, именно эта суть его и вдохновила!
Безработица. Страшное слово. Ее не было в России 50 лет! А теперь будет…
Рост цен. Горбачевский рост цен покажется ничем в сравнении с тем, который ожидается при либерализации. Такой рост цен Россия в последний раз видела при нэпе.
Резкое сокращение расходной части бюджета, иначе — галопирующая инфляция. Придется остановить печатный станок. Как следствие — будет нехватка наличных денег.
Свободная продажа валюты (это в России, которая вообще не видела, не держала доллары в руках?).
Шоковая терапия.
Позднее Ельцин скажет — обсуждались и другие программы, более мягкие, более постепенные, но общее мнение было таково, что времени для преодоления кризиса может просто не хватить. Добавлю к этому — обсуждались и другие кандидатуры на пост премьера, например ректор МАЙ Юрий Рыжов, Святослав Федоров, но за ними не стояло такой радикальной, смелой, убедительной экономической программы. И не стояли люди, способные эту программу реализовать.
Именно в шоке, увы, нуждается страна, стоящая на пороге голода. Да, она нуждается в шоке, в болевой реакции, — чтобы проснулись рефлексы, воля к жизни, здоровые силы во всех этих заснувших городах, замерших людях, притихших чиновниках. Во всей этой больной, задыхающейся экономике.
Ельцина убеждает сама эта логика — пройти через испытания, через трудности, чтобы потом выздороветь и жить спокойно.
И еще он понимает, что ответственность за такую экономическую политику может взять на себя только он сам. Не премьер-министр — новая политическая фигура, к которой будут долго присматриваться и привыкать. Нет, риск реформы так огромен и невероятен, что только он, Ельцин, сможет уговорить депутатов принять программу, только он сможет убедить общество пойти на такие жертвы.
Временные жертвы.
— Сколько вам нужно времени, чтобы начался рост экономики? — спрашивает Ельцин. От ответа зависит многое.
Понимает это и Гайдар.
— Год. Примерно год.
Вопрос решен[20].
28 октября 1991 года начался второй этап Пятого съезда народных депутатов РСФСР. Главный вопрос, который предстояло решить, — одобрить или отвергнуть предлагаемый президентом курс экономических реформ.
Ельцин подготовил серьезный большой доклад. Но кроме него он записал от руки тезисы (у него была такая привычка — на аккуратных кусочках бумаги записывать тезисы будущего выступления), которые сохранились. Вот начало этой записки:
«Не забыть:
— военная реформа
— экономический договор (о едином экономическом пространстве)
— не доклад, а как бы обращение к россиянам, депутатам
— по некоторым “тяжелым” мерам указать сроки (месяцы)
— не бояться (сделать доклад продолжительностью до 1 часа)…»
«Не бояться!»
Эти слова, вроде бы относящиеся лишь к форме его выступления (когда и чего Ельцин, в сущности, боялся?), в эти месяцы для него — ключевые.
Не бояться взять на себя ответственность за огромный политический риск. Страна и так наполнена самыми мрачными предчувствиями, взбудоражена, напугана острейшим дефицитом товаров, ростом цен, разговорами о грядущем голоде — и именно в этот момент он предлагает ей «затянуть пояса» и пережить еще более тяжелые испытания.
Он, «народный заступник», «борец с привилегиями», «антикоммунист» — вынужден сейчас сделать стране очень больно. Очень!
Для этого необходимо мужество (два месяца, по признанию Ельцина, он с группой советников обсуждает другие, альтернативные варианты реформы, но отбрасывает их все до единого).
Не бояться!
Но кроме мужества нужна еще и поддержка.
Самое главное — поддержка народа. В газетах, по радио и телевидению растолковывают суть предстоящей либерализации цен, готовят людей. Но и этого мало — сам Ельцин в своих интервью и, наконец, в прямом телеобращении к россиянам 28 декабря 1991 года призывает их к терпению и пониманию, обещает помощь малоимущим, обещает уложить реформу в кратчайшие сроки. И призывает их понять, что без этой реформы будет еще хуже!
Поймут ли?
Идею «шоковой терапии» в штыки принимают и те, кто потенциально мог бы работать в правительстве — например Юрий Лужков (в эти месяцы он занимает пост заместителя председателя Госкомитета по управлению народным хозяйством, особого кризисного органа, и слухи о его назначении премьером — одна из главных тем этой осени). Горбачевские экономисты — Шаталин, Абалкин, Петраков, Бунич — считают гайдаровское правительство слишком молодом и незрелым. Люди из ельцинской команды — Хасбулатов (тоже экономист) и вице-президент Руцкой — крайне недовольны тем, что к формированию правительства причастны не они, а свердловчанин Геннадий Бурбулис.
Все они критикуют программу Гайдара, все они не доверяют новому правительству.
И, наконец, съезд. Съезд российских депутатов обладает огромными властными полномочиями. Они могут завернуть эту программу уже сейчас, на первой стадии.
Ельцин внимательно вглядывается в зал, читая свой доклад.
Не бояться!
Его слушают в абсолютной тишине.
Противники Ельцина (а их почти половина от числа депутатов российского съезда) понимают: возражать сейчас президенту России для них политически невыгодно. Его программа — единственный реально существующий план выхода из кризиса. Ничего другого обществу никто не предлагает. Кроме того, Ельцин просит дополнительные полномочия (предлагает, чтобы его указы на период реформ имели силу законов). То есть берет на себя всю политическую ответственность.
Ну, и самое главное — он сам роет себе могилу!
Они смотрят на него, не веря своим глазам.
У Ельцина была альтернатива: предоставить выработку экономической программы съезду. Он, верховный судия, президент страны, духовный лидер нации, сможет спокойно наблюдать, как слуги народа принимают одну экономическую программу, потом другую, третью… Сохранить свой политический капитал. Отстраниться от болезненных решений. Так на его месте поступили бы многие из тех, кто сейчас сидит в зале и слушает его.
Ельцин поступил по-другому.
Человек, который с таким трудом шел к власти, прорывался к ней сквозь огонь, воду и медные трубы, который только что накопил невиданный политический капитал, — теперь рискует всей своей репутацией, своим политическим ресурсом. Ставит на программу, которая почти наверняка провалится! А если не провалится — то будет еще хуже для него. Он станет виновником роста цен, безработицы, обесценивания сбережений, он навсегда в глазах народа станет тем, кто начал эту страшную реформу, кто разрушил привычное, спокойное, старое, родное… Не безумец ли?
А если безумец — то это хорошо для них?
Или плохо?
Ельцин магнетизирует зал своей решимостью идти до конца. Программа принимается подавляющим большинством голосов при двенадцати проголосовавших «против».
Те самые люди, которые через несколько месяцев будут топтать правительство Гайдара, послушно поднимают руки «за». И хотя Ельцин апеллирует к опыту Польши, депутаты знают: Россия — не Польша, хотя и граничит с ней. В стране, где так сильна память о предвоенной эпохе, где половина населения сама бы хотела иметь свой магазинчик или любой другой частный бизнес, хорошо понимают смысл отпуска цен. Для нашего народа все будет выглядеть совсем иначе…
Понимает ли это он? Понимает ли это молодое правительство? Боюсь, что нет. Б. Н. абсолютно (как всегда!) верит в свою программу, в свой проект, в свое личное усилие, которое может свернуть горы. Он обещает, что «ляжет на рельсы», если не будет реального результата.
…Однако прежде чем присматривать подходящие рельсы, необходимо сдвинуть еще один камень, лежащий на пути реформ.
Власть союзного президента повисла в воздухе и превращается в неприятную политическую проблему в преддверии 1 января 1992 года, когда отпуск цен станет реальностью. В стране, которая разваливается на глазах, не могут существовать два центра власти.
Кроме того, Ельцин должен, просто обязан завершить работу Горбачева и подписать хоть какой-то договор с Украиной, которая вышла из Союза. Без этого договора невозможно создать единое экономическое пространство в рамках бывшего СССР, которое необходимо для проведения реформы. Процесс развала требуется остановить и в этой, политической, области. Договор должен быть заключен! И если этого не может сделать Горбачев, то сделает он…
Вот так, буквально в течение нескольких дней, рождается у него идея Беловежских соглашений.
Соглашений, из-за которых кто-то будет проклинать его еще десятки лет. А кто-то — наоборот.
Чтобы понять суть этой идеи, нужно напомнить, что происходило до этого, в течение 1990 и 1991 годов.
Дело в том, что никакого Союза Советских Социалистических Республик в момент подписания Беловежских соглашений уже не существовало в реальности. Этот Союз уже никто не признавал, ни одна республика.
…Процесс начал сам Горбачев, который в 1990 году объявил о том, что все республики будут подписывать новый Союзный договор. Для чего Горбачев пошел на этот огромный политический риск, для чего вмешался в основу основ, я бы сказал, в саму ДНК союзного государства?
К этому подталкивала его сама жизнь.
Кровавые события начиная с 1988 года шли по всей стране: жуткая резня в Ферганской долине, события в Тбилиси, Риге, Вильнюсе, армянские погромы в Сумгаите и Баку, война в Карабахе, конфликт в Южной Осетии, конфликт в Абхазии, в Приднестровье, огромное напряжение вокруг проблемы крымских татар, волнения в Грозном… Общий счет убитых и раненых в межнациональных конфликтах шел уже не на сотни — на тысячи.
События в Вильнюсе, позиция Ельцина в начале 1991 года качнули маятник в одну сторону, потом в другую. И то, что виделось в начале пути тихим и спокойным политическим процессом, оказалось миной замедленного действия.
Да, Горбачев очень старался. Но стремительно расползающийся экономический кризис, глубины которого не понимали ни бывший премьер Рыжков, ни новый премьер Павлов, ни сам Горбачев, сделал эти попытки безнадежными. Республики СССР уже нечем было удерживать.
В ночь на 20 августа Латвия и Эстония объявили о своей независимости. 24 августа сразу после падения ГКЧП (очень примечательная деталь!) о своей независимости объявила и Украина.
Так кто же виноват в этом?
Кто виноват, что рушится старый дом? Строители? Архитекторы? Время? Подземные толчки? Плохая окружающая среда? Жильцы? Кого судить? Кого привязывать к «позорному столбу истории»?
Вот цитата из газетного комментария тех дней — из статьи Максима Соколова в только что начавшей выходить газете «Коммерсантъ». Здесь есть одна очень важная мысль, которая объясняет неизбежный провал Ново-Огаревского процесса после путча. Вчитайтесь:
«Если в других странах путч обыкновенно является затеей дюжины злоумышленников, которых затем сажают в тюрьму и потом живут, как жили, то августовский путч оказался беспрецедентен. Под различные статьи УК дружно подвело себя практически все союзное руководство: силовые структуры (верхушка армии, МВД и КГБ), власть исполнительная (кабинет министров), власть законодательная (Лукьянов и “союзники”) и власть партийная (верхушка КПСС). А когда вся верхушка государства, состоящая либо из преступников, либо из их пособников, терпит от народа сокрушительное поражение, такое государство не может устоять. Все руководство государства проваливается в политическое небытие, и из политического вакуума возникает некоторое другое государство. Оно и возникло, причем не одно».
Однако вернемся к фактам.
2 сентября открылся съезд народных депутатов СССР. «Никто уже не собирался заниматься… — пишут помощники Ельцина, — перетягиванием каната между центром и республиками. Важно было хотя бы начать процесс согласования приемлемой для новых условий модели государства…» Депутаты принимают Закон «Об органах государственной власти и управлении Союза ССР в переходный период». То, что период «переходный», понятно уже всем.
К 10 сентября только три из бывших пятнадцати союзных республик не объявили о своей независимости (речь идет уже о полномасштабном государственном суверенитете) — Россия, Казахстан и Туркмения. Еще через месяц останутся только Россия и Казахстан.
Горбачев, психологически оправившийся после августовского путча, возобновляет переговоры в Ново-Огареве. Ельцин участвует в каждом заседании. Но вот беда: эти заседания торпедируют другие главы республик.
На первом же заседании в Ново-Огареве, созванном 14 ноября для согласования текста нового договора (Горбачев отчаянно торопился с его подписанием), представлены только десять из пятнадцати республик, причем только четыре — главами государств (среди них был и Ельцин). Остальные предпочли прислать вторых или даже третьих лиц.
Внешне все выглядело точно так же, как и до путча. За тем же столом, в том же зале загородной резиденции президента СССР сидят Горбачев, руководители крупнейших республик: Ельцин, Назарбаев, Шушкевич и др. Перед ними те же документы. (Кстати говоря, работа шла и после 19 августа, рабочими группами было подготовлено пять (!) вариантов нового Союзного договора, последний из них, разработанный как раз к 14 ноября, назывался «Договор о Союзе Суверенных государств» и широко обсуждался в прессе.)
Но что-то изменилось в этом историческом зале. Тягостная пустота витает в воздухе. Если до путча еще действовали союзное правительство и министерства, сейчас их по сути нет. Если до путча в руках Горбачева еще был властный ресурс, то сейчас он им утрачен. Судьба договора — в руках представителей республик. И это налагает свой отпечаток на атмосферу переговоров.
Первый вопрос повестки дня — название новой страны.
Рабочее предложение — Союз Суверенных Республик. Слова «советский» и «социалистический» потеряли свою актуальность. Стенограмма:
«
Перерыв. Горбачев определил для себя предел уступки — от федеративного государства — к конфедерации» («Эпоха Ельцина»).
25 ноября состоится финал этой драмы. Ельцин и другие главы республик настаивают на конфедеративном устройстве нового союза. За Центром остаются только оборона, межгосударственный парламент, фигура президента. Горбачев согласен. Но в какой-то момент, не выдержав, уходит из зала. Ельцин просит Шушкевича вернуть Горбачева, чтобы после заседания они могли все вместе выйти к журналистам. Горбачев, быстро переходя от отчаяния к эйфории, выходит к журналистам и, потрясая текстом договора, заявляет прессе, что они «обо всем договорились». Ельцин говорит журналистам правду: «Все зависит от позиции Украины».
Горбачев, Ельцин и другие возвращаются в зал заседаний. Стенограмма:
«
Через 24 минуты вышли Ельцин с Шушкевичем и спустились к Горбачеву. Еще через полчаса они вместе с Шушкевичем поднялись в зал заседаний. Еще около получаса продолжалась дискуссия о том, как парафировать договор, возможны ли новые согласования, в каком виде представлять его на Верховный Совет. Наконец президент России подошел к самому главному:
«
Новый Союзный договор еще можно подписать, пусть он и несовершенен. Есть только одно «но» — Украина категорически отказывается подписывать этот договор. Любой договор.
Никакими усилиями ее не удается затащить обратно в Ново-Огаревский процесс.
Вот что писал позднее Андрей Грачев об этих днях: «Рассуждения их были убедительны и логичны — именно так строился в Европе сначала Общий рынок, а потом Европейский союз. Однако они не учитывали отчаянного цейтнота, в котором находился Горбачев, чувствовавший под ногами не почву, а таявшую льдину. Скорее даже не разумом, а инстинктом политика он ощущал, что с каждой уходившей неделей аппетит к власти у республиканских элит возрастал, привычка жить в едином союзном государстве ослабевала, а с ней и надежда на его сохранение. Ново-Огаревский процесс, как машина с заглохшим мотором, катился вперед по инерции и то лишь потому, что дорога вела под гору. Скорее всего, именно поэтому Горбачев неожиданно для многих вдруг сменил приоритеты и, хотя экономическое соглашение уже можно было подписывать, объявил: “Будем форсировать политический Союз”».
Но планам Горбачева не суждено было сбыться.
Почему же Украина, еще в июне вполне активно поддерживавшая президента СССР на Ново-Огаревских переговорах, так резко изменила свою позицию? Для того чтобы понять это, надо внимательнее вглядеться в фигуры Ельцина и Кравчука (ключевые фигуры Беловежских соглашений).
Оба крупные партийные работники, в результате бурных политических событий ставшие национальными лидерами. Оба президенты. Да и возраст примерно одинаков.
Однако на этом сходство кончается.
Ельцин — строитель. Кравчук — идеологический секретарь, его специальность — марксизм-ленинизм.
Ельцин — оппозиционер, с треском вылетевший из Политбюро. Кравчук — функционер, спокойно и постепенно добравшийся до места секретаря украинского ЦК.
Нет. Они ни в чем не схожи. Они — антиподы.
Кравчук больше не верит в силу союзного Центра, в Горбачева, в союзное правительство, в их политический ресурс, в их способность
Кравчуку не по пути с Ельциным. Это люди разной группы крови.
1 декабря 1991 года 80 процентов взрослых граждан Украины пришли на избирательные участки, чтобы ответить «да» или «нет» на вопрос референдума: «Поддерживаете ли вы провозглашение независимости Украины?» 90 процентов ответили «да». 5 декабря Украинская рада проголосовала за аннулирование Союзного договора 1922 года.
Здесь сделаю одну личную ремарку.
9 мая 2007 года, в День Победы, я смотрел по спутниковому каналу «Ностальгия» передачу с актером Василием Лановым. Лановой вспоминал начало войны. Как через его деревню проходили немцы, бесконечная армейская колонна. Выйдя к калитке и увидев всю мощь этой военной армады, до горизонта, дед будущего великого советского артиста сказал такую фразу: «Тю! Конец москалям!»
…Первая реакция деда на исторические потрясения, по-моему, была очень точной: она фиксировала отдельность судьбы украинского народа во всей этой истории. Отдельность, которую сами украинцы всегда ощущали на уровне, как говорится, мозжечка. Тогда, 9 мая 2007 года, глядя в экран телевизора, в старое, любимое с детства лицо актера Ланового, я понял это особенно ясно. Дело было не в Кравчуке, Ельцине или Горбачеве. Огромная энергия национального самосознания, спрятанная в народе, внезапно вырвалась наружу. Иногда — в самых крайних формах. Но сути дела это не меняет.
Итак, Украина резко выходит из Союзного договора. Что же делать дальше?
8 декабря 1991 года.
Снег. Лес. Беловежская Пуща.
Это место было охотничьим заказником еще при царях. Сохранились отличные фотографии, сделанные на царской охоте Николая II, где он позирует со свитой, с егерями, с богатой добычей…
Любопытно: при Николае II было принято публиковать в газетах или в специальных буклетах итоги «царской охоты»: сколько подстрелили лосей, кабанов, цесарок, куропаток, зайцев…
Добыча исчислялась десятками, сотнями. Потом от этого отказались.
Когда Ельцин приехал, Кравчук уже был на охоте. Не подождал… Подробности этой охоты, подумал он, наверняка войдут в историю. И не ошибся.
Идея встретиться в Белоруссии принадлежала Станиславу Шушкевичу. Новый договор чисто психологически невозможно подписать ни на Украине, ни в России. Нужна была «нейтральная территория».
В этой пьесе у каждого из троих своя партия, свой рисунок игры.
Добродушный Шушкевич — ученый-физик, академик, к власти он пришел, как и многие демократические фигуры первой горбачевской волны, в роли «мудреца», интеллектуала, призванного спасти страну от потрясений. Понимал свою задачу очень просто: какой бы ни была новая конструкция Союза, Белоруссия должна принимать участие в создании этой конструкции, быть в центре событий.
Кравчук держался замкнуто, отдельно.
А какова же была роль Ельцина?
Вечером, после охоты, пока две рабочие группы, российская и белорусская, напряженно готовили тексты документов, Ельцин еще раз переговорил с Кравчуком и Шушкевичем.
Подчеркнул, что этот договор нужен всем республикам, а не только трем славянским государствам. Остальные должны подтянуться «после». Таким образом, меняется сама логика Ново-Огаревского процесса — если раньше Горбачев чуть не силой затаскивал в договор, то теперь республики сами будут решать, надо ли им «впрыгивать в поезд» или оставаться на перроне. Ельцин уверен, что Беловежский договор заставит все республики, кроме стран Прибалтики, войти в новое сообщество.
Второй вопрос — ядерное вооружение. По предложению Ельцина ядерные боеголовки всех стран, которые участвуют и будут участвовать в СНГ (ядерное оружие располагалось не только на территории России, но и в Казахстане, Белоруссии и Украине), должны быть или уничтожены, или перебазированы в Россию. Единое командование вооруженными силами на переходный период (возможно, и в будущем) сохраняется.
Все трое знали, что после того, как будут подписаны соглашения, кто-то должен будет позвонить Горбачеву. Идея предложить Горбачеву какой-то пост в новой структуре даже не обсуждалась. Все понимали — откажется.
В резиденции Шушкевича была машинистка. Она печатала документы, но их нужно было скопировать. Принтеров и ксероксов в охотничьем хозяйстве не оказалось. Среди рабочих групп возникла легкая паника. На то, чтобы завезти принтеры, здесь, в медлительной Белоруссии, требовался день. Сидеть и ждать, пока приедет машина с оргтехникой, глупо. И даже унизительно. Кто-то из ельцинской команды вдруг предложил: давайте пропустим каждую страницу через два факса. Вот же они стоят!..
Это была нелепая, громоздкая процедура. Помощники бегали с бумажками из комнаты в комнату…
Трое главных героев почувствовали себя неловко среди всей этой суеты и беготни и решили выйти погулять вокруг резиденции. Разговор не клеился. Ветра в лесу не было, но ветки чуть покачивались. Небо уже изменило цвет, посерело, опустилось ниже.
Вот они, герои исторического события, топчут тропинку вокруг дома: Кравчук поблескивает золотистой оправой своих очков, Шушкевич добродушно басит, Ельцин задумчиво отрешен… Что они делают там, в Пуще, в этой первозданной тишине леса? Немолодые уже люди в тяжеловесных пальто, меховых шапках и мохеровых кашне, по старинной советской моде; степенные, скованные в своем вынужденном и довольно странном одиночестве…
Совершают преступление, тихий переворот? Ведь за это их потом попытаются судить чуть ли не уголовным судом?
Или уж, по крайней мере, судом истории?
То, что они делают, называется, по-моему, словом «мир». Они устанавливают мир на территории бывшего СССР, которого к тому времени де-факто уже не существует. Они предотвращают войну.
Вот что рассказали позднее участники Беловежских соглашений:
«
— Идея встретиться здесь возникла у меня. Сначала я пригласил в Беловежскую Пущу только Ельцина. В первый раз еще в Ново-Огареве… Ельцин согласился приехать. Ближе к декабрю мы созвонились, и я повторил приглашение. Я в шутку спросил у Бориса Николаевича, не позвать ли Горбачева. Ельцин ответил, что, если будет Горбачев, тогда он не поедет.
7 декабря Ельцин прилетел в Минск. Мы встретились с ним в кабинете Председателя Совета Министров Белоруссии Вячеслава Францевича Кебича (мой кабинет как Председателя Верховного Совета был существенно скромнее). Я предложил принять трехстороннее коммюнике. На уровне совета Горбачеву, что нужно делать. Примерно так: “ Горбачев, ты не правишь, опасность очень большая, хватит говорить о Союзном договоре…” То, что мы изначально предлагали, было значительно мягче подписанного в итоге в Вискулях (название резиденции в Беловежской Пуще. — Б. М.) соглашения… формулировка о том, что Советский Союз как геополитическая реальность прекращает свое существование, родилась прямо там.
Прилетел Кравчук, я встретил его в аэропорту, и он сразу же сказал: ради коммюнике можно было бы и не приезжать. Мол, надо идти дальше. И мы полетели в Вискули.
— Ельцин привез с собой горбачевский текст о создании Союза. Горбачев делал нам предложение: Украина вправе внести любое изменение, пересмотреть целые параграфы, даже составить новую редакцию при единственном условии — она должна подписать этот договор. Ельцин положил текст на стол и передал вопрос Горбачева: “Подпишете ли Вы этот документ, будь то с изменениями или без них?” Сам он сказал, что подпишет только после меня. Таким образом, судьба договора зависела целиком от Украины. Я ответил: “Нет”. Тут же встал вопрос о подготовке нового договора. Специалисты работали над ним всю ночь. Подписали документ быстро, без каких-либо обсуждений и согласований…
— В то время Кравчук и Ельцин не дружили. Поэтому в Вискули летели на разных самолетах. Я сопровождал Ельцина, а Шушкевич — Кравчука. Прежде всего их надо было помирить.
Когда прибыли, Кравчук с премьером Фокиным пошли на охоту, потом провели ужин, ужин затянулся…
— Почему была выбрана именно резиденция в Вискулях? Она строилась специально для высокопоставленных лиц. Оборудована средствами спецсвязи, рядом — военно-воздушная база. Я сам впервые был в этой резиденции. Надо отдать должное нашему правительству — оно все сделало по самому высшему разряду. Мне оставалось делать вид, что я здесь хозяин и всех приглашаю…
Подозрений, что Горбачев предпримет “штурм”, у нас не было, хотя такой вопрос обсуждался. Но вспомните, что это было за время. Ново-Огаревский процесс зашел в тупик, в стране безвластие. Кто решится силой пресечь нашу попытку хоть как-то решить проблему? КГБ? После отстранения Крючкова этой силы можно было не бояться. Армия? Шапошников — интеллигентный, деликатный человек, он никогда бы на это не пошел…
— Горбачев к силовым методам не обратится, это исключено. Как руководитель СССР он завоевал мировой авторитет тем, что начал демократические преобразования. Я не думаю, что он может прибегнуть в конце к действиям, которые похоронят демократию и личность, с которой связана перестройка. Это серьезно для истории.
…Тем не менее, во время встречи были предприняты все необходимые меры безопасности. Резиденцию “Вискули” охраняло спецподразделение. Офицеры из службы безопасности Ельцина и Кравчука постоянно переговаривались с Москвой, Киевом, Минском (у Шушкевича своей службы безопасности не было). На случай внезапного нападения был установлен контакт с ближайшими воинскими частями, пограничниками, службами ПВО.
— Вечером в резиденции мы сели работать втроем: Ельцин, Кравчук и я. Но втроем мы договорились фактически только о том, что дальше будем работать вшестером. Вскоре к нам присоединились премьер-министр Украины Фокин, Председатель Совета Министров Белоруссии Кебич и госсекретарь Бурбулис. И до самого завершения встречи мы работали уже в этом составе.
Фокин и Кебич, главы исполнительных властей государств, опытные люди, не раз корректировали наши формулировки, четко объясняя, какие сложности они могут породить на практике. Что касается Бориса Николаевича, то он пригласил не главу правительства, а госсекретаря. Честно говоря, пост, занимаемый тогда Бурбулисом, был для нас не очень понятен. Но Бурбулис был вторым лицом в государстве — раз так счел Президент России, мы и воспринимали его как второе лицо. Бурбулис был политически инициативен. Я помню, что именно он поставил перед нами вопрос: а вы согласитесь подписать, что СССР как геополитическая реальность (я помню, что “геополитическая реальность” — его слова) распался или прекратил свое существование?
Вечером мы для начала договорились концептуально: осознаем опасность неконтролируемого развала СССР, вправе констатировать, что СССР распался, должны сделать все, чтобы сохранить военную связку. Мы осознали, что распадается ядерная держава, и каждое из государств, принимающих участие во встрече, имеет на своей территории ядерное оружие… Мы сошлись на том, что это нужно оформить официальным документом, и дали поручение рабочей группе, в которую входили представители от каждой стороны. И было сказано: за ночь — сделать.
— С нашей стороны над документами работали Бурбулис, Шахрай, Гайдар, Козырев, Илюшин. Была проделана гигантская работа над концепцией, формулами нового, Беловежского договора, и было ясно, что все эти соглашения надо подписывать здесь же, не откладывая.
— День 8 декабря глубоко врезался мне в память. С утра Фокин с Кравчуком ушли на охоту. Ельцин от охоты отказался. Фокин завалил кабана, которым мы потом вечером закусывали.
К работе над документами приступили после завтрака. Я понимал, что документ нужно сделать аккуратно, и мы вычитывали каждое слово.
Сначала мы писали само Соглашение. Получали от рабочей группы вариант преамбулы: это нравится, это не нравится… Давайте попытаемся оттенить вот такой элемент, такой…
Согласны. И преамбула уходит назад, в рабочую группу. И так с каждым пунктом Соглашения. Он принимался только тогда, когда вся шестерка была согласна…
Кравчук был таким сдерживающим. Он все время фильтровал пункты Соглашения с позиции прошедшего на Украине референдума. Мы могли туда включить любые фразы по интеграции и по взаимодействию. Но особая позиция Кравчука отметала любое “братское единение” Украины в рамках бывшего СССР.
Белоруссии было нужно, чтобы Соглашение не противоречило нашей Декларации о независимости: мы заявили в ней о стремлении к нейтральности и безъядерности.
Там не было наивных. Украине нужно было для нормального становления признание ее независимости Россией — не как наследником бывшего СССР, а как главным правопреемником. Честно говоря, нам нужно было то же самое. Я ведь понимал, что если мы приняли Декларацию о независимости, в признании нашей независимости нет проблем ни с одним государством, кроме России.
Мы оставили едиными фактически только военную структуру, стратегические вооруженные силы.
Когда Соглашение было готово, решили, что Заявление мы подпишем тройкой — массовок устраивать не нужно.
Из рабочей группы мне запомнился Шахрай. Когда мы с очередным пунктом заходили в “тупичок”, Шахрай уходил на пять-десять минут и возвращался с приемлемой формулировкой. Он не был безропотным исполнителем, выяснял все до мелочи. И я вдруг увидел такого… игрока. И юриста очень высокого ранга. Это было неожиданностью.
Что касается спиртного, то во время работы над Соглашением я был как за рулем, и все остальные вели себя почти так же. Только когда с трудом удавалось найти приемлемую для всех формулировку, мы позволяли по чуть-чуть хорошего коньяку.
— Больше всего обсуждалась судьба Президента Горбачева, как быть с государствами, которые не участвуют в совещании, схема внешнеполитической деятельности и схема обороны страны.
Никогда не вставал вопрос о том, что у нас, например, разорвутся связи между заводами. Нам казалось, что это навечно, незыблемо… Соглашение было для нас больше политическим заявлением. Мы были возмущены поведением Горбачева и готовы были подписать все, что угодно».
Из Соглашения об образовании СНГ:
«Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства — учредители Союза ССР, подписавшие Союзный договор 1922 года, далее именуемые высокими договаривающимися сторонами, констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и как геополитическая реальность прекращает свое существование…»
Как видим, у каждой стороны, подписавшей новый договор, была своя логика. Попробуем понять логику Ельцина в этот момент. Горбачев упустил исторический шанс для создания нового Союза, растратил свой потенциал в бесконечном согласовании формулировок. Без Украины подписание договора, считал Б. Н., стало и вовсе бессмысленным. Поэтому миссию Горбачева он решил взвалить на себя. Заставить Украину подписать документ о едином политической и экономическом пространстве. Втянуть в это пространство другие республики. Без этого договора, как считал Б. Н., всем странам бывшего СССР грозили хаос, угроза военных конфликтов, гражданская война, экономическая яма. Договор давал хоть какие-то шансы на проведение экономических реформ, на дальнейшее движение вперед.
С легкой руки Горбачева все трое участников Беловежских соглашений были объявлены «предателями», «заговорщиками», главной целью которых было «развалить Союз» и «устранить от власти Президента СССР». Между тем достаточно взглянуть на ситуацию непредвзято, чтобы понять: другого выхода просто не было. Сегодня это звучит парадоксально, но история требует понимания логики событий, без учета позднейших оценок и стереотипов.
В Беловежской Пуще Ельцин пытался спасти Союз.
«В начале 90-х, — вспоминает Наина Иосифовна, — когда Россия оказывала безвозмездную экономическую помощь странам СНГ, и кредитами, и энергоресурсами, деньги туда шли постоянно, я говорила Борису Николаевичу: что мы делаем, скажи? Ведь у нас в стране такие проблемы! Не платят пенсии, стипендии, пособия, беда с медициной, со стариками, зачем? Он сказал однажды: “Там тоже живут наши люди”. Понимаете? Наши люди».
В этот же день, 8 декабря вечером, они попытались связаться с главой Казахстана Назарбаевым, чтобы предложить ему прилететь в Пущу. Попытка не удалась. Назарбаев находился в воздухе, летел в Москву, и связаться с ним через бортовую связь оказалось невозможно. Ельцин наблюдает за тем, как его помощник пытается связаться с самолетом Назарбаева. Ельцин видит, как драматично, нервно, спонтанно развивается этот сюжет.
Но у этого договора и не может быть спокойных торжественных декораций. Это инъекция, которую делают тяжелобольному, задыхающемуся, умирающему человеку.
Назарбаев позвонил уже из Внукова, предварительно переговорив с Горбачевым. На приглашение он отреагировал сдержанно, сказал, что текст соглашения надо сначала изучить.
Горбачеву о принятом в Беловежской Пуще решении сообщил по телефону Станислав Шушкевич. Вот как выглядел этот разговор, в передаче самого М. С.:
«Мне позвонил Шушкевич и сказал, что мы, мол, вышли на соглашение и хочу вам зачитать.
— Какое соглашение?
— Да вот такое.
— А почему именно вы звоните?
— Звоню как депозитарий.
— Подождите, вы все уже решили? Уже два дня назад?
— Да, и мы тут говорили с Бушем, он поддерживает.
— Вы разговариваете с президентом США, а президента своей страны вы в известность не ставите… Это позор! Стыдобища! Нечисто это. Вот такая мораль. Но тем не менее я через это перешагнул. Потому что есть страна, есть люди».
Поясню значение слова «депозитарий», которое употребляет Шушкевич в этом разговоре. Помимо взаимного признания суверенности и нерушимости границ (очень важный момент в это смутное время!), три республики берут на себя историческое наследие СССР, которого больше не существует как субъекта международного права: его договоры, его долги, его собственность и т. д. Эту роль и имеет в виду Шушкевич, говоря о себе как о «депозитарии»[21]. А возможно, он просто обозначал, осознавал себя ответственным хранителем только что подписанного документа.
А вот как об этом рассказывает Егор Гайдар, который тоже был в Беловежской Пуще:
«Подписав документ, Б. Ельцин в присутствии Л. Кравчука и С. Шушкевича позвонил Е. Шапошникову, сказал о принятом решении, сообщил, что президенты договорились о его назначении главнокомандующим объединенных вооруженных сил Содружества. Е. Шапошников назначение принял. Потом последовал звонок Джорджу Бушу, тот выслушал, принял информацию к сведению. Наконец звонок М. Горбачеву и тяжелый разговор с ним».
Сам Горбачев выступил с заявлением, в котором высказался по поводу Беловежских соглашений весьма резко. Но эта резкость была запоздалой и неловкой. Кроме того, как всегда, сказалась двойственность натуры Михаила Сергеевича. То, что в договор вошла Украина, он посчитал «позитивным».
…Наступают последние дни 1991 года. 12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал соглашение. (Страны Средней Азии, руководители которых срочно собрались в Ашхабаде, также решили присоединиться к соглашению. В конце декабря состоялась встреча в Алма-Ате, на которой членами СНГ, как соучредители и равные партнеры, стали: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Позже к ним присоединилась Грузия.
25 декабря Горбачев делает последнюю лихорадочную попытку повернуть события — начинает работу инициативная группа по созыву Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. Но съезд собрать так и не удалось…
СССР закончил свое существование.
Итак, Горбачев должен уйти. Это уже понятно.
Но Ельцину необходим посредник при разговоре с президентом СССР. Он просит об этом Александра Николаевича Яковлева, любимого и самого верного горбачевского соратника («Мы с Сашей — это же один проект!» — с горечью говорил впоследствии Горбачев о Яковлеве), за последний год порвавшего и с партией, и с Горбачевым.
Вот как описывает эту встречу Андрей Грачев:
«Сразу же по возвращении Ельцина они договорились о встрече для обсуждения условий “сдачи” Кремля. Она состоялась 23 декабря в Ореховой гостиной и продолжалась почти десять часов. За это время президенты, к которым в роли своеобразного секунданта присоединился А. Яковлев, в неспешном мужском разговоре получили возможность не только обсудить технические процедуры перехода государственной власти от Союза к России — передачу архивов Политбюро и личного так называемого сталинского архива Президента, а также ядерных кодов, — но и окончательно выяснить отношения. Договорились об условиях отставки Горбачева: президентская пенсия, дача, автотранспорт, охрана, помещение для “Горбачев-Фонда” в бывшей “Ленинской школе” для активистов из братских компартий. (Ельцин с подозрением отнесся к этой непонятной для него структуре, считая, что она может стать “гнездом оппозиции”. Горбачев заверил его в том, что у него нет таких намерений.)
Обсудили планы российского президента по реформированию экономики — в первые же недели 1992 года скомпонованная Бурбулисом команда Гайдара предполагала “перейти Рубикон” и отпустить на свободу почти все цены. Ельцин, рассчитывавший на основании их заверений, что к осени экономика придет в себя после первого шока “рыночной терапии”, попросил “хотя бы первые полгода его не критиковать”. Михаил Сергеевич пообещал, что будет поддерживать его, “пока тот будет двигать вперед демократические реформы”. Условились, что 25-го, сразу после выступления по телевидению с заявлением об отставке, Борис Николаевич придет к нему в кабинет для передачи ядерных шифров. Горбачев на следующий день, дозвонившись до Буша и распрощавшись с ним, сказал: “Можете спокойно отмечать с Барбарой Рождество. Завтра я ухожу в отставку. С ‘кнопкой’ все будет в порядке”. Он пообещал до Нового года освободить свой кремлевский кабинет для нового хозяина. Ельцин не возражал, тем более что ждать оставалось недолго.
Около десяти часов вечера президенты распрощались. Как вспоминает А. Яковлев, Горбачева, который всю мучительную операцию по передаче ключей провел “спокойно и достойно”, он застал уже лежащим на диване в комнате отдыха за его рабочим кабинетом с красными глазами. “Вот видишь, Саша, вот так”, — сказал он».
25 декабря Ельцин выступил перед Верховным Советом РСФСР и объявил об отставке бывшего президента страны. В интервью телекомпании Си-эн-эн он сказал: «Сегодня у Михаила Сергеевича трудный день. И, поскольку я испытываю к нему большое личное уважение, и мы стараемся быть цивилизованными людьми, стараемся сделать цивилизованное государство, я не хочу сегодня разбирать ошибки бывшего генерального секретаря».
Уход был, как принято говорить в таких случаях, и впрямь «цивилизованный».
Выступая перед Верховным Советом, Ельцин сказал, что было важно сломать «вредную традицию», когда руководители страны покидают свой пост и оказываются выкинутыми из жизни, а потом их перезахоранивают после смерти, обливают грязью…
26 декабря над Кремлем был спущен старый советский флаг и поднят новый — российский триколор.
В этот же день Горбачев передал Ельцину так называемый «ядерный чемоданчик». Пульт управления стратегическими силами страны. И впрямь — небольшой чемоданчик, который круглосуточно охраняют два офицера, легендарный символ власти, ключ к страшной силе, которой обладал СССР.
Горбачев с усталым раздражением сказал:
— Берите, теперь это ваше.
Передача состоялась.
Ельцин напишет об этом моменте в своих мемуарах с нескрываемыми нотками победителя. Между тем в том, что сказал Горбачев, «передавая» кнопку (на самом деле, передача была чисто символической), можно уловить не только раздражение, но и некоторую долю злорадства: мол, берите, теперь на ваших плечах этот тяжкий груз, на вашей ответственности ядерная безопасность целого мира, вам расхлебывать всю эту кашу.
А расхлебывать было что.
Распад СССР, помимо всех остальных проблем — межнациональной, экономической, геополитической, создал еще одну, едва ли не главную головную боль для всего мира: проблему контроля над ядерными силами бывшего СССР.
Ситуация с «ядерным чемоданчиком» проливает некоторый свет на уже упоминавшийся звонок Ельцина из Беловежской Пущи в Вашингтон.
Президент России звонит Бушу, чтобы сообщить: угрозы нет! Несмотря на то, что Союз распался, это не заговор, не переворот, ядерные силы СССР по-прежнему находятся под контролем Горбачева, уход последнего из власти будет спокойным и мирным. Это — гарантии безопасности США в этот момент, а не политический реверанс.
Если бы этого звонка не было, мы можем только предполагать, какой была бы реакция США на распад ядерной державы.
Словом, СССР, если исходить из этих существенных деталей, вполне добровольно прекратил свое существование.
Сошлюсь на мнение премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер: среди глав правительств стран «Большой семерки» она была единственной, кто считал, что распад СССР неминуем, но бояться его не надо.
Все остальные, пишет Тэтчер, включая Буша-старшего, который дружил с Горбачевым, боялись этого и не хотели распада Союза…
В XX веке развалились все империи до единой (Испанская, впрочем, развалилась еще раньше, в XIX): Британская, Французская, Португальская, Австро-Венгерская, Османская (Турция), ушли заморские территории от Германии и Голландии, в общем, не осталось никого.
И каждый раз процесс распада сопровождался острым ощущением национального позора, национальной катастрофы. Вот что говорил Уинстон Черчилль в 1942 году: «Мы намерены удержать то, что является нашей собственностью… Я стал премьер-министром его величества не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи». Англичане в 50-е годы XX века отчаянно сражаются за Суэцкий канал, уже отдав Индию после кровопролитной войны. Французы ведут кошмарные войны в Индокитае и Алжире. Когда де Голль решает прекратить алжирскую войну, он чуть не ввергает нацию в состояние гражданского конфликта, его враги приговаривают генерала к смерти и едва не приводят приговор в исполнение…
Но всё проходит. Проходит это ощущение, что «всё проиграно», которое двойственно нациям, пережившим имперский крах.
…Остается главный вопрос: что потеряно вместе с империей?
9 декабря 1992 года. В Москве продолжается Седьмой съезд народных депутатов РФ. Ельцин приезжает на дачу в Барвиху вечером в крайне подавленном настроении. Ни с кем не поздоровавшись, идет в баню и запирается. Запирается надолго. Наина Иосифовна пытается выяснить: что случилось? Почему Б. Н. в таком состоянии?
Господи. Семья в ужасе. Никому ничего не нужно объяснять. Все помнят 1987 год.
Вот как сам Б. Н. описывает этот вечер и эту ночь в «Записках президента»:
«В тот вечер, 9 декабря, после очередного заседания я вернулся на дачу не поздно. Увидел глаза жены и детей. Рванул в баню. Заперся. Лег на спину. Закрыл глаза. Мысли, честно говоря, всякие. Нехорошо… Очень нехорошо».
И далее.
«…Кто-то из домашних сказал: надо спросить у людей — или ты, или они. Народ все прекрасно понимает. И вдруг я зацепился за эти слова. Идею референдума мне подсказывали давно политологи и юристы… Бог надоумил в тот вечер моих самых родных людей. Я сразу попросил соединить меня с Илюшиным. Ночью к работе подключился Шахрай, спичрайтеры. Над моей короткой речью, кроме меня, трудились еще четыре человека».
Как всегда у Ельцина, во всех его действиях, речах, мемуарах, «записках», «исповедях», «дневниках» присутствует этот спасительный момент из русской сказки, из бодрого советского детства: умылся, собрался, переоделся… И работа закипела.
Да ведь это не просто речь. Это сказочное деяние, палочка-выручалочка, меч-кладенец.
…В жизни всё происходит не всегда последовательно, по законам линейного сюжета. Ельцинская ракета совсем не так бодро взмывает в воздух. Вечером 12 декабря 1992 года, когда на съезде уже, казалось бы, достигнут компромисс, Наина Иосифовна позвонила Егору Гайдару: «Вы такие молодые, такие умные, ну придумайте что-нибудь… помогите Борису Николаевичу. Он немолодой человек, ему тяжело». И разрыдалась в трубку.
Эти рыдания всегда сдержанной Наины Иосифовны — точное свидетельство, что Ельцин трудно переживал события съезда. И что 12 декабря он, возможно, находился в состоянии еще худшем, чем 9-го. Но почему?
Давайте попробуем разобраться.
В начале 1990 года Ельцин покупает свой первый в жизни автомобиль. Свою личную машину. Серебристый «Москвич-2121». В юности он получил права как водитель грузовика на стройке. Его рассказ о том, как грузовик застрял на железнодорожном переезде (заклинило передачу) и он не знал, что делать, спасать себя или спасать машину перед приближающимся, страшно гудящим локомотивом, — один из его самых излюбленных. Это один из тех рассказов, которые все слушают, затаив дыхание, на которых строится его личный образ, то, каким он сам себя видит. В этом рассказе он не бросает государственную технику и путем каких-то страшных, титанических рывков заставляет грузовик стронуться с места.
Однако хочется снова сесть за руль, доказать себе, что он не разучился, что не может разучиться. Что все это действительно было.
Итак, справа садится телохранитель, который умеет водить, на заднее сиденье Таня, которая водить пока не умеет, за руль «москвича» усаживается президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин, последний раз делавший это 40 лет назад, и вот трое этих смельчаков отправляются в путь.
Доехать от Белорусского вокзала до Кремля, в общем-то, плевое дело, минут пятнадцать по прямой. Ельцин, то и дело поворачивая голову назад, вместо того чтобы посмотреть в зеркальце заднего вида (Таня в эти секунды закрывает глаза от страха), продвигает «Москвич-2121» по Тверской улице — несколько напряженно, но и победно.
В 1992 году ему уже не придется ездить ни на серебристом «москвиче», ни на черной «Волге», ни на длинном советском ЗИЛе — в Германии по спецзаказу ему сделают черный бронированный «мерседес», оборудованный, как говорится, по последнему слову техники. Теперь из машины он может связаться с кем угодно, хоть с премьером, хоть с министром обороны, хоть с Клинтоном или Колем, с любым чиновником из Российской Федерации, с любым, самым далеким губернатором. Он, кстати, действительно любит говорить из машины, использовать ее возможности. Этой машине он даже посвятит несколько задумчивых строк в своих мемуарах: мол, что же, борьба с привилегиями закончилась? Нет, отвечает сам себе, тот этап был необходим и оправдан, но теперь, когда он отвечает за судьбу государства, его машина и вообще условия его работы должны соответствовать статусу президента РФ.
Логично, но не очень убедительно. Вернее, не очень понятно — как сам-то он относится к этим изменениям? Радуют ли они его? Вдохновляют ли?..
Из шумного, многолюдного района у площади Белорусского вокзала, из квартиры, которая связана с самыми тяжелыми воспоминаниями в его жизни, они окончательно переселяются в Барвиху. То, что он видит здесь, конечно, поражает его воображение. Никогда он не думал, что будет жить в подобных условиях (позднее они переселятся в резиденцию «Горки-9», в старый дом с колоннами).
В его резиденции есть всё, включая открытый теннисный корт и бассейн. С недоверием он рассматривает бесконечные пристройки, помещения, свой кабинет с рядами разных телефонов на столе. В общем, все это хорошо, особенно корт, но…
Практически каждые выходные семья собирается вместе — с двумя дочерьми, двумя зятьями, тремя внуками. «Сначала мы с Таней и детьми приезжали из города в Барвиху по пятницам, чтобы провести выходные, — вспоминает Лена. — Но ситуации бывали разные, папе становилось все тяжелее, и так получилось, что мы оставались там все чаще и постепенно практически переехали».
«Мне очень не нравилось первые годы, до реконструкции и ремонта, жить в Барвихе, — говорила в разговоре со мной Наина Иосифовна. — Может быть, давило то, что раньше здесь жила семья Горбачевых. Вообще, дом казался мне очень темным, каким-то отчужденным, холодным. Борис Николаевич уезжал на работу, и я тоже ехала в Москву, проводила там весь день. Очень скоро все члены семьи ощутили, как это тяжело — находиться под постоянной охраной, постоянным присмотром. Жесткие ограничения накладывались и на внуков. Например, в прессе поднялся огромный шум, когда Борю отправили учиться в Англию. А мы отправили его туда просто потому, чтобы здесь он не подвергался постоянным стрессам и нападкам. Он в разлуке с нами страдал, изводил нас отчаянными письмами и через два года все-таки вернулся. Но когда мы собирались вместе, всей большой семьей, это были, конечно, абсолютно счастливые моменты. И все годы его президентства мы, все три семьи, жили вместе».
Рядом со своей семьей было легче и Борису Николаевичу.
Быть вместе в это тяжелое время. «Иначе не выжить», — сказала Наина Иосифовна.
Иначе не выжить…
2 января 1992 года я зашел в продуктовый магазин на Нижней Масловке. По дороге на работу, утром. В магазине было непривычно тихо. Никто не ругался с продавщицами. Не было очередей. Люди стояли возле прилавков и рассматривали давно забытые продукты. (Продуктов было непривычно много.) И изучали ценники.
Шоколад «Аленка», которого я не видел в продаже уже много лет, помню, поразил меня цифрой, что-то типа 7 рублей 80 копеек. Словом, о былых брежневских 40 копейках или горбачевских 1 рубль 20 копеек можно было забыть. Теперь в магазине, после стольких лет запустения и очередей, наконец можно что-то купить. Но рука не поднималась — к этим ценам надо было еще привыкнуть.
«Гайдаровская реформа» — в России до сих пор словосочетание ругательное. Иногда еще говорят «грабительская реформа», но, в принципе, уточняющих эпитетов даже не требуется.
Между тем, чтобы описать то, что сделал Гайдар, вовсе не обязательно разбирать события тех лет в многотомных экономических трудах, с диаграммами, графиками и таблицами, как это делают, например, сам Гайдар, с одной стороны, и его противники — с другой.
Можно сказать всего два слова, и все будет понятно:
Ее не было в нашей стране. Ни в каком виде. Были теневые предприниматели, которые подпольно делали «левую» продукцию и подпольно же ее продавали. Их ловили, сажали. Были первые горбачевские кооператоры, которые пытались, исходя из очень неясного законодательства, как-то зарабатывать первые свои деньги. Их вызывали в прокуратуру, в ОБХСС, ловили, сажали. Были, наконец, колхозники, продававшие на колхозных рынках картошку и грибочки. Или жители курортных местечек, сдававшие внаем свою жилплощадь отдыхающим. Но даже их иногда ловили и сажали.
То есть способы заработать были. Но самой частной собственности не было. Она была запрещена. С 1917 года.
Так вот, все, что сделано правительством Ельцина — Гайдара в 1992 году, сводится к простой вещи: они вернули стране частную собственность. Священное, самой природой данное человеку право что-то
Для всего человечества это право произрастает из глубины веков. Оно что-то вроде права на жизнь. Или права верить в Бога. Для России 1991 года оно — неслыханная новость. Пока неслыханная.
И возвращалось это священное право в Россию с большим трудом. Ценой очень больших потерь.
Гайдара предупреждали: ну как же вы вводите свободные цены на товары и услуги без предварительной приватизации госсобственности? Ведь эти цены окажутся в руках монополистов-производителей! (И верно, «Аленка» 2 января 1992 года в магазине на Нижней Масловке продавалась, как мне показалось, по какой-то странной цене.) Смысл свободного регулирования цен — в конкуренции! А ее не будет, поскольку все эти заводы и фабрики, а также магазины и прочее не приватизированы.
Гайдару говорили: ну как же вы вводите свободные цены на товары, а свободные цены на основные ресурсы, например на энергоносители, не вводите?
Гайдара предупреждали: как можно вводить капитализм и частную собственность, не имея законодательной базы и сильного государства, которое эти законы будет выполнять? Это ж бандитизм какой начнется!
И верно, он начался.
Интересно послушать, что в этой связи говорит сам Гайдар.
«Была совершенно уникальная ситуация, таких в мире не бывало. По этому поводу никакие рецепты в учебниках не пишутся. И людям, которым никогда не приходилось, какими бы они ни были квалифицированными специалистами, сталкиваться с подобными ситуациями, очень трудно в них разбираться. Да, мы, конечно, пытались советоваться с людьми, мнения которых мы уважали, с хорошими специалистами. Но ни один из них никогда бы всерьез не взялся за управление ситуацией, которая сложилась в России осенью 91-го года. Они просто не жили в таких экономиках».
Предупреждал, кстати, и сам Гайдар: если бюджетный дефицит будет расти, то есть если не урезать расходы государства, если давать кредиты и льготы предприятиям в прежних размерах, то есть если не остановить печатный станок (в 1991 году типография «Гознак» работала в три смены, деньги печатали даже ночью, но их все равно не хватало) — страну ожидает гиперинфляция. И точно, как в воду глядел! Вскоре она началась. Цены, вместо ожидаемого роста в три раза (напомню, в марте 1991 года, при Горбачеве, они уже повысились в три раза), за год выросли в десять раз, а то и больше.
…Встали многие предприятия.
Государство перестало в плановом порядке закупать у производителей продукцию, заставляя их самих «идти на рынок», которого, разумеется, еще не было. Да и непонятно, кто будет на реальном «рынке» покупать продукцию советских заводов и фабрик, например телевизоры или утюги.
Наличные деньги, которые при отпуске цен мгновенно начали что-то стоить и что-то значить, тут же стали куда-то проваливаться из всех бюджетов, центрального, регионального, из бюджета конкретного городка или поселка. Деньги стали пускать в рост, занимать, одалживать и переодалживать. Как результат, начались перебои с выплатой зарплат и пенсий. Чтобы покрыть товарный дефицит, был подготовлен указ президента о свободной торговле. Торговать теперь можно было всем и везде, в том числе с рук, с лотка, из машины.
Можно было ввозить в страну любые продукты и товары. Практически без ограничений и пошлин. Это тоже было сделано с целью «накормить», «одеть» и «обуть» тех, кого раздели годы кризиса.
Торговля. Это в 1992 году был единственный реальный способ заработка. И вся страна бросилась торговать. «Челночить», как тогда говорили, то есть покупать нечто в пункте «А», где оно стоило столько-то, и везти его в пункт «Б», где оно стоило уже чуть больше. Везти на руках, в тяжеленных сумках, в поездах, машинах, как угодно, лишь бы везти и продавать. Это был ужасный, дикий, первобытный бизнес. Но выхода не было: в стране наконец появились какие-то товары. Людям нужно было как-то зарабатывать себе на жизнь.
Иначе не выжить.
Впрочем, далеко не все в нашей стране захотели зарабатывать на жизнь именно так. Некоторые предпочли просто отнимать деньги у тех, кто их честно заработал: у тех самых «челноков», первых предпринимателей.
Началась настоящая гражданская война против частной собственности. С применением ручного огнестрельного оружия всех типов. Вот этого, пожалуй, никто не предсказывал. И предсказать не мог.
Сошлюсь здесь на пример из области искусства. Вот по телевизору рекламируют популярный сериал про бандитов. «Это было страшное время… (Загробный угрожающий голос диктора.) Это были проклятые годы… Они верили в себя… Они были друзьями…» Сначала я не обратил внимания на этот набор слов. А потом вдруг понял: главный отрицательный герой фильма — как раз те самые «проклятые годы», эпоха Ельцина — Гайдара. Положительные герои — это сообщество молодых бандитов, которые «верили в себя» и отнимали деньги у обладателей частной собственности. Робин Гуды 90-х годов. Успех таких сериалов у зрителей подтверждает правоту моих слов — это были не просто «бригады», а мстители, герои. Пусть даже это более позднее произведение, романтизирующее уже прошедшую эпоху, придающее ей идеологию. Неважно. Важен сам тип отношений.
Вот этот момент — стихийно возникшая гражданская война населения против частной собственности и ее обладателей — стал, быть может, самым непредсказуемым следствием гайдаровской реформы.
В развязывании этой войны потом обвинят власть, Ельцина. Но власть ли виновата в том, что один человек идет против другого?
Войну с первыми обладателями частной собственности вела не только маргинальная, бандитская Россия, но и Россия чиновная. Чиновники отреагировали на появление нового класса богатых очень быстро — они сами захотели стать богатыми, причем за их счет. И наконец, самое грустное, это то, как отреагировал на появление частной собственности народный менталитет. Самое яркое проявление этой реакции, самое точное и разящее — многочисленные и очень смешные анекдоты про «новых русских», появившиеся в 90-е годы. Герой этих анекдотов — тупое, зажравшееся, неприятное существо, весь язык и все поступки которого всегда уродливо смешны. Народный менталитет — на уровне анекдота, языка, мышления — отторгал от себя новую реальность, не принимал ее.
Но чем жестче была эта «необъявленная война», тем яснее становилось, что сопротивление именно потому так отчаянно, что новое явление неудержимо, быстро, мощно врастает в реальность. В гущу, как говорил В. И. Ленин, народной жизни. И ничего с этим поделать уже нельзя.
Однако эта «война» против частной собственности происходила не только в опосредованной, скрытой форме. Шла она и вполне открытым, прямым образом. Первое с начала реформ массовое организованное выступление против правительства и президента — митинг на Манежной площади — состоялось 9 февраля 1992 года. Участвовало в нем около ста тысяч человек. Главным организатором митинга была РКРП (Российская коммунистическая рабочая партия). Митингующие требовали возродить СССР, КПСС и сформировать новое правительство.
23 февраля от площади Белорусского вокзала в сторону Кремля вновь двинулись колонны «Трудовой России» и РКРП. Впереди шли ветераны Великой Отечественной, но были среди демонстрантов и боевики из Приднестровья, которые уже имели опыт столкновений с молдавской полицией, а также бывшие армейские офицеры, люди вполне подготовленные. Неслучайно им удалось преодолеть несколько милицейских кордонов.
Демонстрантов остановили только возле гостиницы «Минск», и они вынуждены были начать митинг прямо здесь. В своей речи генерал Альберт Макашов сказал, обращаясь к России: «Ну-ка, матушка, встань с колен! Надо сделать последний шаг!»
Позднее Эдуард Лимонов говорил:
«Можно было легко взять власть 23 февраля 1992 года, 17 марта 1992 года, 9 мая 1993 года, многосоттысячными демонстрациями опрокинув режим. Но тогдашние вожди не понимали, что это можно сделать. Власть можно было взять и в октябре 1993 года…»
О том, к чему призывали участники весенних демонстраций 1992 года, можно судить по листовке, напечатанной к так называемому «Всенародному вече», которое оппозиция собиралась провести на Манежной площади 17 марта, в день открытия съезда народных депутатов РФ:
«ГРАЖДАНЕ! Год назад состоялся первый в истории нашей страны референдум. Народ сказал решительное “ДА” — единому Союзу Советских Социалистических Республик. Однако высшие должностные лица попрали волю народа, преступили Конституцию страны и в угоду западному капиталу объявили СССР несуществующим. Тем самым клика Горбачева — Ельцина спровоцировала развал государства, ограбление народа, гражданскую войну.
Долг честных людей — восстановить законную власть и пресечь спланированный геноцид… Надо помочь депутатам собраться и утвердить волю народа — результаты референдума.
Параллельно со Съездом созывается ВСЕНАРОДНОЕ ВЕЧЕ. Его цель:
— подтвердить выбор народа, сделанный на референдуме;
— положить конец антинародной политике и принять программу вывода страны из кризиса;
— утвердить Главу Государства и Правительство СССР, предложенное Съездом.
Мы призываем направить в Москву на Всенародное Вече представителей городов, областей, республик, избранных в трудовых коллективах от станка и плуга. Призываем трудящихся столицы, военнослужащих и милиционеров быть на Вече.
Сбор: 17 марта, в 17.00 на Манежной площади Москвы.
ВОЛЯ ВСЕНАРОДНОГО ВЕЧА — СВЯЩЕННА!
Движение “Трудовая Россия”».
Организаторы потом уверяли, что на «вече» присутствовало более 350 тысяч человек. По оценкам милиции, их было около 100 тысяч.
Процитирую также выступление бывшего офицера вильнюсского ОМОНа М. Войцеховского:
«Теперь мы, сотрудники вильнюсского ОМОНа, разбросаны по всей России… Все, все зубами скрипят и говорят: придет время… Будет еще литерный поезд. Отцы “демократов” валили лес, а они будут пни корчевать, к чертовой матери. И я попрошу назначить меня никаким не начальником, я попрошусь просто начальником литерного состава, и восемьдесят процентов они не доедут туда при попытке к бегству».
…Между тем сквозь весь этот дым и гарь постепенно начали проглядывать черты новой экономики, новой жизни. Но настолько медленно и настолько постепенно, что разглядеть их было, конечно, очень трудно.
Интересное время — 1992 год.
Страна летом припадает к телевизорам — идет Олимпиада в Барселоне. Последняя, где можно увидеть наших спортсменов, объединенных в одну команду. Они выступают под флагом СНГ. Они так и называются — «объединенная команда». «Золото» нашего фантастического пловца Александра Попова. Ну и так далее. Голы, очки, секунды.
Точно так же припадает страна к телевизору и во время трансляции американского сериала «Санта-Барбара». Сиси Кэпвелл, могучий старик, вот уже около ста серий находится в коме. Вокруг него интригуют женщины. Анекдот 1992 года: «Приговоренный к смерти, ваше последнее желание? — Пересмотреть “Санта-Барбару”».
Ну и, конечно, первые американские программы, появившиеся на нашем телевидении. Развлекательные, вперемешку с рекламой, которая тоже смотрится почти с упоением, потому что внове.
Среди первых — «Поле чудес».
Кстати, за 25-летнюю историю существования «The Wheel of Fortune» (американский прародитель «Поля…») сменилось несколько ведущих программы, но никто из них не работал так долго, как Леонид Якубович.
Вот что писал автор одной научной работы об отечественном развлекательном телевидении: «В программе “Поле чудес” Л. Якубович дает игрокам советы, комментирует происходящее, раскрывает личность каждого игрока (что абсолютно противоречит американскому формату. — Б. М.). Он настолько любим народом, что на передачу люди приезжают с подарками, посвящают ему песни и стихи».
…Русское и американское сливаются в причудливом сочетании. И так во всем — в рекламе, в шоу-бизнесе, в политике. В языке. Страна начинает поворот к модернизации — которая в 1992-м понимается очень просто, как американизация. Персонажи «Санта-Барбары» и дядя Леня Якубович в 1992 году — фигуры на нашем телевидении куда более популярные, чем депутаты и политики.
Американская игра «Колесо фортуны» становится добрым русским «Полем чудес». И люди на этом «Поле…» вовсе не чувствуют себя дураками! Жизнь вокруг, одним словом, в 1992 году гораздо интереснее политики. Да и надо же как-то выживать, вертеться, крутиться.
Однако эта настоящая жизнь в России в 1992 году идет как будто в двух параллельных мирах. В одном мире, если верить депутатам-коммунистам, лидерам «непримиримой оппозиции» и горбачевским академикам-экономистам, происходят «развал», «обнищание народа», «национальная катастрофа». В другом явно творится что-то другое. Страна медленно врастает в новую, незнакомую реальность, и люди прекрасно понимают, что эта новая реальность неудержимо наступает. Они приникают к телевизорам и внимательно разглядывают витрины, пытаясь понять эти новые культурные символы, контуры новой цивилизации, в которой им теперь предстоит жить. В том 1992 году стотысячные митинги оппозиции вызывали в обществе куда меньший интерес, чем какой-нибудь конкурс красавиц, импортная техника, появившаяся в магазинах, возможность свободно поехать за границу…
1991 год как будто исчерпал ресурс интереса людей к политике. Ельцин, всегда очень тонко улавливающий общественное настроение, словно впитывает в себя этот поворот народного самосознания. Ему тоже кажется, что надо привыкнуть, осмотреться, ощутить эту новую жизнь, слиться с ней, научиться дышать этим новым воздухом.
В августе 1992 года (к годовщине путча) Институт социально-политических исследований Российской академии наук опубликовал большой доклад под названием «О социально-политической ситуации в России по итогам первого полугодия 1992 года». Вот что, например, писали его авторы:
«Президент и его окружение связали свою судьбу с концепцией быстрых и радикальных преобразований, заняли крайнюю позицию, отталкивающую от высшего руководства значительную часть прагматически мыслящих политиков, хозяйственников, военных и ученых» (читай — практически всю элиту страны!).
«Люди уже готовы к гражданскому неповиновению», «Пятая часть населения готова идти на баррикады». «За чертой физиологического уровня выживаемости находятся более 30 миллионов человек»…
Таких ужасающих прогнозов развития ситуации в ту пору делалось немало. В июне с большой помпой был проведен круглый стол объединенной оппозиции. В своей политической декларации ее лидеры заявляли: «Режим Ельцина в его нынешнем виде доживает последние месяцы или даже недели. Чтобы спасти себя, он начинает менять декорации и выводить на поверхность новых, как бы не замаранных политиков… Б. Ельцин не может даже прибегнуть к чрезвычайным мерам, поскольку фактически не имеет поддержки армии и правоохранительных органов… Возможна попытка диктаторского переворота: разгон съезда, арест лидеров патриотического движения. Но это лишь ненадолго продлит агонию режима, которая уже началась».
Коммунистам вторил и бывший президент СССР. В своих интервью западным изданиям он давал очень резкие оценки деятельности правительства, а беседуя с отечественными журналистами, несколько раз заявил об угрозе диктатуры со стороны Ельцина. Находясь с визитом в Израиле в июне 1992 года, Горбачев говорил о том, что «растущее недовольство в России может привести к социальному взрыву, и если это произойдет, то это будет означать не только конец экономических реформ, но и, возможно, установление диктатуры». У себя на родине он воздерживался от резких публичных оценок. Но одна фраза Горбачева, сказанная им в кулуарах, приватно, все же стала достоянием гласности: «Когда эта власть рухнет, моя главная забота — как ее подхватить».
В интервью «Комсомольской правде» Горбачев заявляет: «Если президент пойдет по пути роспуска парламента, съезда, это будет означать, что внутренне он принял решение идти диктаторским путем».
Горбачев заранее объявляет Ельцина диктатором. И в этих оценках он очень схож с коммунистической оппозицией.
Пресс-служба президента выпускает заявление:
«Высказывания М. С. Горбачева, который за шесть лет реформ так и не нашел в себе мужества приступить к экономическим реформам, принимают все более поучительный тон в адрес правительства и президента, которые делают реальные шаги в сторону реформирования государства… (Слово «реформа» повторяется трижды в одной фразе, что отражает нервный тон заявления в целом. — Б. М.) В целях сохранения в стране стабильности и того политического курса, который выбрал народ, Б. Н. Ельцин будет вынужден принять необходимые и законные шаги для того, чтобы курсу реформ не был нанесен ущерб».
Президент дает поручение министру внутренних дел В. Ерину проверить, «как живут люди, которые всей стране говорят, что живут на одну пенсию». (Горбачев действительно упомянул в интервью свою пенсию в качестве единственного источника дохода.) В здании «Горбачев-фонда» идет выемка документов.
У Горбачева отнимают часть помещений (они сдавались коммерческим структурам) и пересаживают его с правительственного ЗИЛа на черную «Волгу». Правда, и после этого печального события за «Горбачев-фондом» осталось более тысячи квадратных метров помещений, а за самим Михаилом Сергеевичем — дача, охрана, связь и т. д….
Но после этого эпизода их отношения прервались навсегда.
Хотя, надо признать, с тех пор Ельцин уже никогда больше, ни разу не совершит ни одного «выстрела» в сторону Горбачева, что бы тот ни делал и ни говорил.
Интересно, что еще одна резко критическая статья (в «Независимой газете») была инициирована автором, находящимся… в Матросской Тишине. Сидевший в тюрьме и дававший показания по делу ГКЧП А. Лукьянов разразился огромным интервью, где в пух и прах разносил политику реформ и призывал компартию идти в атаку. Похоже, что даже те, кого Б. Н. победил, казалось бы, навсегда, в этот момент сильно сомневаются в его жизнеспособности, не боятся его и ненавидят с новой силой.
Не щадили Ельцина в этот момент и самые радикальные демократы. Вот что писал в 1992 году в своей конфиденциальной аналитической записке советник Ельцина Сергей Станкевич: «Крайне опасно и пагубно намертво связать имя и престиж Президента с данным или каким-то другим правительством».
«Сдать» Гайдара призывали Ельцина все — «мягкие оппозиционеры из числа горбачевских академиков-интеллектуалов, яростные коммунисты и новые «патриоты», бывшие гекачеписты, верные Ельцину демократы, центристы из движения «Гражданский союз». Но самое главное — яростную и мощную атаку повели на гайдаровское правительство съезд народных депутатов, Верховный Совет и его спикер Руслан Хасбулатов.
Вице-президент Руцкой назвал их «мальчиками в розовых штанишках». Хасбулатов тоже не стесняется в выражениях, но без стилистических излишеств. Для него правительство Гайдара — пока всего лишь «безответственное».
Я привожу здесь самые мягкие цитаты, чтобы показать: огонь велся со всех точек — и справа, и слева, и с тыла, и с фронта. Но если уж говорить о настроении, об атмосфере, которые создавались прежде всего статьями в СМИ, высказываниями отдельных политиков и общественных деятелей, то слово «катастрофа» здесь не будет преувеличением.
Оно звучало отовсюду: «Катастрофа! катастрофа! катастрофа!» Именно судьба правительства, первого правительства новой России, и стала для Ельцина в 1992-м тем самым камнем преткновения, который привел к декабрьскому кризису и заставил его, по собственному признанию, пережить «тяжелые минуты» («Рванул в баню. Заперся. Лег на спину. Закрыл глаза»)…Но до того, как это случится, пройдет еще немало тревожных месяцев.
Уже в апреле 1992 года на Шестом съезде народных депутатов раздались требования об отставке правительства. Один из депутатов обвинил президента в том, что в команде Гайдара большинство составляют евреи. Оказалось, нет, не составляют. Но если этот эпизод можно оставить на совести конкретного антисемита, то слова другого депутата о том, что по вине правительства рождаемость упала в России на 30 процентов и заложена основа для демографической катастрофы, стали любимейшим аргументом критиков Б. Н. на десятки лет вперед. Между тем любой демограф подтвердит, что от социальной политики в области рождаемости зависит не так уж много (подтверждение тому — падение рождаемости в европейской части СССР в самые стабильные брежневские годы). Демографическая кривая ползет, набирает высоту или падает вниз совсем по другой логике.
Вот что пишет о ситуации на Шестом съезде Егор Гайдар: «Августовский шок преодолен, жестких репрессий после путча не последовало, непосредственная угроза голода и общего экономического краха отступила. Оппозиция оправилась. Теперь, по ее мнению, учитывая тяготы, которые легли на плечи народа в начальный этап преобразований, самое время как можно громче прокричать, что все было сделано против воли Съезда и Верховного Совета, сделано не так, как следовало, не так, как договаривались, нужно было мягче или жестче, быстрее или медленнее, во всяком случае по-иному, и что необходимо остановиться, а еще лучше — повернуть вспять… Поток ругани и проклятий в адрес правительства нарастает: монетаристы разорили, продали, погубили Россию…»
А вот что пишет Гайдар о Хасбулатове образца 1992 года: «Председательствующий Р. Хасбулатов, умело дирижируя Съездом, ведет с помощью его тысячеголосья свою симфонию. Вопрос о доверии в повестку не включает, но делает все возможное, чтобы критика, даже самая демагогическая, постоянно звучала. Судя по всему, он еще не готов к прямой конфронтации с президентом и еще не считает, что настал момент свалить правительство реформ, но хочет, чтобы оно вышло со Съезда предельно ослабленным, деморализованным, покорным Верховному Совету, точнее, лично ему — Хасбулатову. В этом желании напугать, но пока не убивать кроется его слабость».
Гайдар предложил своим коллегам пойти в атаку на съезд:
«У некоторых моих коллег настроение, близкое к паническому. Предлагаю не ждать пассивно развития событий, а самим предельно обострить ситуацию, чтобы скрытая двойственность позиции Съезда стала абсолютно ясной, и тем самым поставить депутатов перед необходимостью однозначного выбора. После короткого обсуждения предложение членами Кабинета принято».
Гайдар и в самом деле поставил съезду ультиматум: или депутаты поддерживают правительство реформ, или правительство уходит в отставку. Съезд испугался. И затаился.
«После того как большинство Съезда запаниковало, отступило, стало ясно, что одержана пусть тактическая и временная, но несомненная политическая победа. Сергей Шахрай зашел к президенту с новой идеей — сейчас, воспользовавшись деморализацией съездовского большинства, немедленно поставить на голосование вопрос о моем формальном утверждении в качестве премьера. Все равно Ельцину придется слагать с себя эти полномочия, сегодня идеальный момент. Со мной Сергей Михайлович поделился этой идеей уже после разговора с президентом. Ельцин выслушал, сказал, что слишком рано, предложение не подготовлено и может провалиться».
Конечно, Ельцин ожидал от общества реакции на болезненные реформы. Ожидал он и гораздо худшего, например, волнений, беспорядков, массовых забастовок, но их число внезапно упало в шесть раз. Ждал он и падения своего рейтинга. Однако падение вовсе не было катастрофическим — рейтинг, как говорят политологи, «пополз вниз», пополз, но не полетел. Далеко не катастрофически упал и процент тех, кто положительно отзывался о политике реформ, кто еще надеялся на них. Их число по-прежнему составляло больше половины опрошенных.
Ельцин все так же тверд и уверен в своих оценках происходящего. «Гайдар — это попадание в десятку», — говорит он в интервью «Комсомольской правде» и потом повторяет это на встрече с деятелями «Гражданского союза».
«Демократическая Россия», политическое движение, которое до этого всегда поддерживало президента, дистанцировалось от него и также недовольно Гайдаром. Из него уходят видные деятели горбачевского парламента — Ю. Афанасьев, Л. Баткин и др. Политика Гайдара прямым курсом ведет страну к экстремизму, к красно-коричневому реваншу, считают они.
В «мягкую оппозицию» Ельцину удаляется его всегдашняя опора — творческая интеллигенция. Да, не вся, но значительная ее часть.
Падает доверие народа, теряется политический ресурс. Очень противоречиво реагируют на реформы СМИ. Правительство Гайдара не устраивает никого. Оно для всех чужое. Оно всем мешает. Впервые Б. Н. ощущает то, что будет внутренней болезнью всех лет его президентства — политическое одиночество.
Попробуем понять, какие варианты есть у. Ельцина. Отправить в отставку правительство? Распустить съезд? Что выбрать? На кого опираться? Как всегда, только на собственную интуицию.
И вот что она ему подсказывает: отступить сейчас равносильно самоубийству. Гайдаровская реформа — главное содержание, главная ценность наступившей политической эры. Отказаться от коренного переустройства российской жизни — значит признать поражение. Ведь смысл его августовской победы не в том, что он лично оказался у власти. Смысл победы — в изменениях, которые происходят и должны происходить несмотря ни на что.
Это правительство он должен сохранить. Но отнюдь не путем диктатуры, силовых мер. Пройти нужно между двумя этими опасными крайностями — сворачиванием реформ и проведением их «на штыках», на жестких мерах, на нарушении законодательства, пусть и несовершенного. Есть третий путь. И он обязательно должен его найти.
Показателен разговор Ельцина с Гайдаром, состоявшийся в эти месяцы. (Один из очень многих разговоров, которые они ведут на протяжении 1992 года; Гайдар, этот совершенно далекий от него и по складу характера, и по менталитету, и по роду занятий человек, становится постоянным собеседником, в нем он черпает уверенность, силу и прочность для того, чтобы терпеть эту страшную, черную полосу всеобщего ожидания катастрофы. И наоборот, Ельцин придавал уверенности Гайдару, впервые оказавшемуся в политике.)
Гайдар приходит к нему с неожиданным предложением: учредить в составе правительства особый орган, который бы объяснял населению смысл проводимых им шагов, их последовательность, вводил в оборот «экономическую азбуку», понятную даже ребенку, настраивал людей на правильный лад, помогал им психологически.
Казалось бы, такое предложение должно быть близко Ельцину, бывшему партийному работнику. Однако он реагирует на него неожиданно резко.
— Вы хотите восстановить Отдел пропаганды ЦК КПСС? — спрашивает он Гайдара в лоб, насупив брови. Пауза. — Пока я жив, этого не будет.
Ельцин гораздо тоньше, чем кажется на первый взгляд, чувствует настроение общества. Гайдар в глазах народа постепенно, хотя и медленно, приобретает статус героя-одиночки, который, находясь во власти, никому не удобен, никому не нужен, но который «хоть что-то пытается сделать».
По конституции съезд может отправить правительство в отставку в любой момент. И Ельцин затевает большую игру, начинает идти путем медленных, осторожных уступок, чтобы выиграть время.
Этих уступок будет так много, что 1992 год можно вообще назвать «годом уступок и компромиссов».
Однако я бы определил его поведение другими словами: лев готовится к прыжку.
У прыжка должна быть цель. И вот сейчас он ее наметит. Наметит барьер, то препятствие, которое необходимо преодолеть. Рассчитает длину прыжка и его силу. Подберется на нужное расстояние. Будет ждать столько, сколько потребуется, хотя все будут его торопить и кричать: прыгай, прыгай!
А пока… начинается год уступок.
Ельцин увольняет первого гайдаровского министра — Лопухина, ответственного за ТЭК (топливно-энергетический комплекс). Потом — Матюхина, директора Центробанка (его обвиняют в скандале с фальшивыми «чеченскими» авизо, когда громадная сумма наличных денег была украдена у государства). Ценой компромисса со съездом на должность руководителя ЦБ приходит Геращенко, жесткий противник гайдаровских реформ, который запускает на полную мощность печатный станок. Недолговечность, непрочность этого правительства проявляется все очевиднее.
На Шестом съезде народных депутатов РФ, в апреле 1992 года, Ельцин укрепляет «команду в розовых штанишках» крепкими хозяйственниками, бывшими директорами крупнейших промышленных комплексов — вице-премьерами становятся В. Черномырдин (бывший министр газоэнергетики СССР), Г. Хижа, В. Шумейко.
Пресса снова кричит о «поражении» Ельцина.
В ноябре он встречается для консультаций с представителями движения «Гражданский союз». Вот что пишут об этой встрече помощники Ельцина:
«На закрытой для прессы встрече Б. Н. Ельцина с лидерами “Гражданского союза” в ноябре 1992 года состоялся достаточно откровенный разговор. В сущности, это был торг о судьбе правительства Гайдара.
Когда участвовавший в этой встрече Николай Травкин (заслуженный строитель! Ельцин всегда относился к нему тепло. — Б. М.) тоже заговорил о “кадровых корректировках”, Ельцин не повел и бровью. Это, правда, не предвещало ничего хорошего. “Что же вы предлагаете?” — угрюмо спросил он.
Не уловив настроения президента, Травкин с готовностью выложил карты на стол: Бурбулиса убрать или сменить его статус… Сместить Козырева, Полторанина, Хлыстуна, Нечаева, Махарадзе, Головкова. “При таких переменах премьером можно оставить Гайдара”, — завершил инвентаризацию Травкин.
Ельцин долго молчал. Так долго, что все стали беспокойно переглядываться. Его знаменитую паузу выдержать было довольно трудно.
— При таких глобальных изменениях Гайдар уйдет сам, — наконец проговорил он. — Лучшего премьера мы не найдем. Да и Бурбулиса мне отдать трудно. Гайдар должен остаться» («Эпоха Ельцина»).
В своих мемуарах он потом напишет, что скорость, с какой он менял людей в своей команде, была вызвана внезапно «побежавшим», ускорившимся политическим временем, а отнюдь не личными причинами.
Гайдар — единственное за все годы исключение из этого железного правила. Его он не хотел «заменять» ни за что. Из-за него запирался в бане и наступал на съезд со свирепостью танка.
Попробую понять — почему?
Всем своим нутром Ельцин чувствует: изнутри старой, советской России мощно прорастает новая. Другая Россия. Именно эта Россия, а не хлипкая административная система, и есть его основная опора в будущем — класс новых собственников. Предпринимателей. Людей, которые уже не готовы расстаться с правом — только что приобретенным — зарабатывать деньги, с правом частной собственности.
На всех своих работах, на всех должностях Ельцин всегда мыслил, как строитель. Дом должен быть сдан к такому-то числу. Метро проложено в таком-то году. Театр отремонтирован к юбилею Великого Октября. Шахматный клуб — к 1 января.
Строительное управление, которое он возглавляет, обязательно должно стать лучшим в области, иначе зачем всё?
Ельцин, как принято сейчас говорить, мыслил «проектами». Сам он говорил об этом иначе: всю жизнь ставил себе «задачи», конкретные цели и упрямо шел к их выполнению. В Свердловске такими «проектами» становились снос бараков, строительство метро. В Москве он мечтает построить третье транспортное кольцо, разгрузить город от пробок, сократить число дешевой привозной рабочей силы, вывести за пределы центра промышленные предприятия и т. д. и т. д….
Такова его натура. Власть он представляет как средство для достижения цели. Власть не нужна, если нет цели.
Существует замечательный исторический анекдот о Брежневе. Помощники спросили Брежнева: почему минимальная заработная плата, заложенная в документах экономической программы партии, такая маленькая — простому человеку на нее не прожить? «Вы просто плохо знаете, как живут простые люди, — сказал Брежнев, подняв брови. — Два мешка государству, мешок себе. Что-нибудь украдут обязательно». В этой шутке — как бы мудрость правителя. Правитель должен не мешать русской жизни развиваться по своим, вечным, присущим ей законам и традициям.
Но Ельцин — другой правитель. Другого типа. Он просто обязан помешать украсть этот мешок картошки, обязан заставить кого-то вырастить эту картошку, кого-то — продать ее, кого-то — купить этот мешок, чтобы был доволен и продавец, и покупатель. Его жизненная задача — построить все правильно.
…Однако «год уступок и компромиссов» утомил его основательно.
Он устал ждать позитивных результатов в экономике. Его не устраивает темп реформ. Он устал от интриг, таких, как этот липкий, неприятный торг на встрече с «Гражданским союзом». «Демократическая Россия» требует от него согласовывать с ней все важнейшие назначения в правительстве, хочет стать «правящей партией», хочет, чтобы ее возглавил Ельцин…
А хочет ли он возглавить какую-либо партию? Безусловно, нет. «Партию создавать надо…» — устало говорит он на встрече с «Демократической Россией». Но это не его проект.
На него давят, он читает бесконечные аналитические записки. С ним просят встречи. К нему в кабинет друг за другом идут помощники, представители движений, депутаты.
Все пытаются на него «влиять». Вообще, такое ощущение, что в этом году он теряет интерес, к политическим дебатам, разговорам. Читает груды этих записок, думает, молчит.
Его молчание становится своеобразным феноменом политического стиля.
Кажется, он теряет энергию, напор, теряет форму, как спортсмен, который нуждается в паузе. Эта пауза ему крайне необходима.
В тот момент, когда Ельцину становится особенно душно, тесно в накаленном политическом пространстве, особое значение приобретает момент общения. С кем же он общается в это время?
Общается со своим новым «узким кругом». «Маленькой командой», которая всегда для него важнее, чем команда большая, официальная.
— Насколько он был открыт в этом общении? — спрашиваю у дочери Ельцина Татьяны.
— Не знаю. Мне кажется, папу до конца никто из них не знал.
В «ближний круг» Ельцина 1992 года входят глава его администрации Юрий Петров (коллега по Свердловскому обкому), министры-силовики: Виктор Баранников (Министерство безопасности), Виктор Ерин (МВД), Павел Грачев (Министерство обороны). Входят, и не только по долгу службы, еще два человека, которые занимаются вопросами его охраны, — Михаил Барсуков и Александр Коржаков. Но появляются и другие — постепенно в ближайшее окружение Ельцина начинают входить его литературный помощник Валентин Юмашев, известный теннисист и тренер Шамиль Тарпищев.
Это, кстати, вполне понятно. В жизни Ельцина появляется новая страсть — теннис.
Началось все в Юрмале.
По приезде в Москву Б. Н. начал регулярные тренировки. Сначала — на теннисном стадионе «Дружба» в Лужниках. Затем нашлись и другие корты, более скрытые от глаз любознательной московской публики.
Это было почти маниакальное стремление к игре, когда для тенниса урывались драгоценные часы в графике, забитом до предела.
Вспоминает Шамиль Тарпищев:
«Два раза в неделю мы обязательно играли в теннис. И президент железно выдерживал этот график. Играли так: на неделе вечером, а в субботу с утра.
Ельцин — спортсмен в точном понимании этого слова. Конечно, играл он в теннис как любитель: начал поздно, ему было уже под шестьдесят. Но при этом в ответственный момент, когда одним мячом решается сет или матч и когда надо обязательно попасть, он попадал стопроцентно: выражаясь научно, за счет мобилизации нервной системы.
В паре нам было трудно проиграть кому-нибудь из любителей, и совсем не оттого, что президенту все поддавались. Причина проста — он волейболист, и подача — один из самых важных элементов парной игры — получалась у него довольно приличной».
Его партнерами в те годы были разные люди, но чаще в паре с Ельциным играл Шамиль Тарпищев, а их противниками выступали, как правило, кто-то из его ближайшего окружения — Коржаков, министр иностранных дел Козырев, госсекретарь Бурбулис, уже упомянутые Грачев, Ерин. Теннисом увлекались многие.
«Теннисным центром» становится Дом приемов на Воробьевых горах, построенный еще при Хрущеве, — уединенный особняк в самом красивом месте Москвы, на охраняемой территории, со спорткомплексом.
Там начиная примерно с 1992 года сформировался неформальный клуб, получивший название «президентского» — сюда приезжали, примерно раз в неделю, крупнейшие деятели новой России, чтобы поиграть в теннис и обсудить текущую ситуацию.
У клуба были свои жесткие правила и свой устав — «устав подготовили как шуточный, но порядок поведения в нем был прописан четко, — пишет Шамиль Тарпищев. — Если я хочу занять теннисный корт, то заранее звоню и записываюсь. И заявка Коржакова не считалась главнее, чем заявка, например, Козырева. Единственный, кому сделали исключение, конечно, Борис Николаевич… Насколько помню, когда я уходил из Кремля (в 1996 году. — Б. М.), клуб уже насчитывал 56 членов».
Вообще, Борис Ельцин был первым и единственным руководителем России на протяжении всего XX века, кто в юности занимался спортом профессионально. (Владимир Путин стал продолжателем этой традиции.) Николай II не был замечен мемуаристами в особо сильных спортивных пристрастиях, Ленин и Сталин из видов спорта в юности предпочитали: первый — политические дискуссии, второй — вооруженные экспроприации банков, Брежнев и Хрущев все свои молодые силы отдали суровой партийной работе, Горбачев… тоже нет.
А в чем специфика спортивного менталитета, знает каждый — это неукротимая воля к победе, бессознательный азарт борьбы и… непривычная для обычного человека склонность к риску.
Главной же чертой спортивного менталитета Ельцина было его абсолютное неумение проигрывать. Он реагировал на проигранные очки просто как ребенок.
Леон Арон, американский биограф Б. Н., приводит интервью с одним из тех, кто играл с ним в волейбол еще в его «обкомовский» период. В этот жаркий спортивный вечер Ельцин организовал две команды: одна была составлена из членов бюро обкома, а другая — из его сотрудников.
«В первой партии этого исторического матча команда сотрудников полностью разгромила бюро (команду Ельцина) со счетом 15:2. Ельцин стал очень нервным и вспыльчивым. Одолев “боссов”, сотрудники одумались и решили выставить на следующую партию “вторую” команду. Однако даже эта команда превосходила соперников, и служащие стали выигрывать снова. Лишь отчаянные усилия Ельцина помогли сплотить команду бюро и предотвратить поражение. Только он и Петров зарабатывали очки. Алексеев приказал своей команде проиграть вторую партию и тем самым помочь бюро сохранить лицо. “В третьей партии мы одержим верх”, — пообещал он товарищам по команде. Однако когда после перерыва Алексеев скомандовал: “Первая команда, на площадку!”, раздался голос Ельцина: “Нет, остается эта команда”. Забывшийся в пылу игры Алексеев повернулся к Ельцину и спросил: “Это приказ проиграть, да?” Ельцин не ответил. Бюро выиграло третью партию и, таким образом, матч.
Ельцин тут же подошел к Алексееву: “Хватит играть в поддавки!” Тут команды разделили таланты более равномерно, несколько игроков Алексеева перешли к Ельцину с Петровым, и начался “хороший, веселый” волейбол. Потом, вручая Ельцину вымпел победителя, Алексеев не смог удержаться от шпильки. Пародируя официальный лозунг, он сказал: “И все же, Борис Николаевич, победила дружба”. Раскрасневшийся, с потным лицом, Ельцин резко ответил: “Какая еще дружба? Победила наша команда!” Для Алексеева этот ответ был “как удар плетью”. В раздевалке к нему подошел референт Ельцина: “Вы не должны так разговаривать с первым секретарем!” — “Послушайте, — возразил Алексеев, — мы оба были в трусах, на спортивной площадке, не в кабинете”. Пятнадцать лет спустя неприятная реакция Ельцина была в памяти Алексеева еще очень свежа. Но… все это объяснялось пылом соперничества. Ельцин очень не любил проигрывать — в чем бы то ни было. Он всегда сражался до конца. Такой у него характер».
Такой у него характер…
Еще одним его увлечением в 1992 году становится Завидово. Охотничий заповедник, где Леонид Ильич Брежнев заставлял рыбачить и сидеть у костра Генри Киссинджера, госсекретаря США, и своих друзей по Варшавскому блоку.
Выезды в Завидово — особая страница 1992-го и последующих лет его президентства. Б. Н. очень любил это место, охота вернулась в его жизнь после Свердловска, вернулась как увлечение и как способ отдыха в «настоящей мужской компании».
Но завидовская компания — это совсем другое. Это не просто охота, а «царская охота». Здесь, в узком кругу, у костра, он особенно остро почувствует, как изменилась ситуация вокруг него. В компании Ельцин всегда был неудержим, всегда царил, верховодил, поток его довольно жестких розыгрышей, шуток, «подначек» иногда становился для окружающих даже избыточным. При этом он, в отличие от Брежнева, никогда ни с кем не переходил на «ты». Единственным исключением (помимо студенческих друзей) был Лев Суханов, его помощник, который морально поддержал его в месяцы тяжкой депрессии 1988 года. С ним Ельцин даже «побратается» (мальчишеская варварская привычка, которую он бережно сохранит с детства) — то есть смешает кровь, которую предварительно нужно выжать из надрезанного пальца. Впрочем, публично он был на «вы» и с Сухановым. Словом, Ельцин привык раскрываться перед людьми, которые входили в этот столь значимый для него узкий круг, в «мужскую компанию». Пусть не до конца, но насколько возможно. При этом был абсолютно безжалостен к тем, кто вел себя, по его мнению, неискренне.
Но в Завидове этот его «инстинкт дружбы» как бы застывает, повисает в вакууме, наталкивается на пустоту. Люди, к которым он обращается, реагируют на него совсем по-другому. Эта прочная внутренняя дистанция, которую держат по отношению к нему все, даже самые близкие, поневоле заставляет задуматься.
Гайдар
С ним вроде все понятно — он другой человек, с другими привычками. Черномырдин, когда станет премьером, будет ездить в Завидово регулярно.
Но есть еще два персонажа, занимающие высокие посты в государстве, которые по определению никогда не могут здесь появиться: Руцкой и Хасбулатов.
Оба начиная с 1992 года становятся его непримиримыми врагами.
Вот что напишет Ельцин о Хасбулатове в «Записках президента»:
«Я помню, кто меня познакомил с Хасбулатовым. Это был Сергей Красавченко, председатель комитета по экономической реформе Верховного Совета, член Межрегиональной депутатской группы.
Когда Хасбулатов вышел из кабинета, Красавченко сказал такие слова: “Борис Николаевич, с этим человеком держитесь строго. Нельзя оставлять его одного, такой у него характер. Все время следите, чтобы он шел за вами, понимаете?”
Позднее я вспомнил об этих загадочных словах, которым в тот момент, честно говоря, не придал значения. Тогда Хасбулатов казался умным, интеллигентным человеком. И тихим».
Московский чеченец, действительно интеллигентный человек, профессор Института народного хозяйства, в конце 80-х годов Хасбулатов начал бурно печататься в прессе, публиковать статьи о бедственном положении нашей экономики и о путях выхода из кризиса, избрался на этой волне депутатом — словом, шел проторенным путем демократа горбачевской волны.
Чеченцы — люди храбрые от природы, и в 1991 году Хасбулатов проявил себя храбро, спору нет.
Однако «оставлять его одного» действительно не следовало. Прежде всего — одного со своими обидами. Это важнейшая ошибка Ельцина 1992 года. Обижаются все. Но для страстного темперамента Руслана Имрановича обида становится лейтмотивом поведения, движущим импульсом всей его политики.
Хасбулатов — умный человек. Он становится верным соратником Ельцина в 1991 году. Он ценит шанс, который дал ему Б. Н., шанс войти в серьезную политику и стать большим человеком. В марте 1991 года, в самый тяжелый, самый трудный момент, когда бронемашины и солдаты окружают здание Верховного Совета, Хасбулатов остается верен Б. Н. Его спокойный (действительно тихий) голос как-то магически действует на разбушевавшихся депутатов. Хасбулатов прекрасно комбинирует, сохраняя одновременно и твердую волю, и мягкую уверенность, и становится вдруг незаменимой, ценнейшей фигурой на этом посту — укротителя съезда.
Наконец, в дни августовского путча Хасбулатов — один из самых важных членов ельцинской команды. Кавказский темперамент, ум, сдержанность, достоинство, воля — всё при нем. И всё оказывается востребовано.
Но в 1991 году Хасбулатов (об этом пишут многие очевидцы событий) ждал от Ельцина, что тот предложит ему пост премьера, доверит формировать правительство. Правительство в итоге сформировал Геннадий Бурбулис. Вице-премьером стал Егор Гайдар. Гайдар — в недавнем прошлом заведующий отделом престижного теоретического журнала «Коммунист» — не раз заворачивал статьи профессора Хасбулатова. Жестокая обида.
Вспоминает Александр Дроздов, в 1990–1992 годах — помощник Руслана Хасбулатова, главный редактор газеты «Россия», органа Президиума Верховного Совета РСФСР:
«Хасбулатов очень тонко вел себя по отношению к чеченцам. С одной стороны, когда я был его помощником и сидел в кабинете напротив, мне было сказано — “родственников”, то есть, в более широком смысле, земляков, мы не принимаем. Тем не менее какие-то люди из Чечни приходили с бумагами на подпись, в основном там речь шла о квотах, о продаже бензина и мазута. Не могу сказать, что их было много, но я обратил внимание на другое: как сильно усилилось влияние чеченцев в “московском секторе” экономики России. Они, конечно, явно почувствовали свою силу. С другой стороны, помню, как резко Хасбулатов отреагировал на нашу первую публикацию о Дудаеве. Смысл был такой, что ничего нельзя об этом человеке писать. Я думаю, что у Хасбулатова, который занимал большой пост в новом российском руководстве, был огромный шанс наладить отношения Дудаева с Чечней или как-то по-другому решить эту проблему. Это, возможно, была его историческая миссия: предотвратить все то, что произошло дальше. Но тут явно сказались тейповые, родовые отношения, его непримиримая позиция. Вообще, как я вскоре понял, мы в “Комсомолке” (где я с ним и познакомился, Хасбулатов был у нас постоянным автором) неправильно оценивали этого милого интеллигентного профессора. Я вспоминаю серию его статей о Сталине, о советской бюрократии и понимаю, что его глубокий интерес к этой теме был неслучаен.
Первые месяцы он ходил на работу в свитере, всячески демонстрировал свою открытость. Белый дом тогда был открытым местом, там люди работали за идею, было время надежд, такой демократической весны. Но постепенно я обратил внимание на то, как Хасбулатов ведет заседания на Верховном Совете, какой он блестящий артист, тонкий психолог, как он умело совмещает политику кнута и пряника, а главное, как он быстро набирает аппаратный вес. Очень быстро, особенно после августа 1991-го, на наши места стали приходить матерые аппаратчики из ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, старые друзья со Старой площади: Идеологический отдел, Общий отдел и так далее. Это было очень заметно, и надо сказать, его заместители, коммунисты Исаков, Горячева, Воронин, сразу эти сигналы услышали.
Конечно, он очень умело обращался с Верховным Советом. Б. Н. вообще-то тяготился процедурными, техническими вопросами, регламентом, бесконечными согласованиями, Хасбулатову же все это давалось очень легко, он умел держать в руках аудиторию, умел манипулировать. Он был своеобразным компенсатором Ельцина. И первое время Б. Н. относился к нему очень уважительно, причем не как к какому-то теневому лидеру, а как к очень серьезной фигуре на политическом поле. Однако постепенно проявились вот эти корневые свойства его личности: иерархичность, стремление к абсолютному господству в рамках созданной им структуры. Проявлялось это порой в довольно неожиданных для меня ситуациях, например, в совершенно экзотическом хамстве. И в абсолютно некритичном отношении к себе. Он, вообще-то говоря, никого не видел в качестве фигуры, равнозначной себе. Считал себя и историком, и экономистом, и политиком, и аналитиком.
Да, Руслану Имрановичу действительно многое было дано: экономист, с правовым образованием, человек, владеющий пером… В общем, талантливый, яркий человек. Но не выдержавший испытания властью. И в какой-то момент, я думаю, он просто сказал себе: а почему Ельцин? Нет. И я могу. Появились не только мощный аппарат и огромное влияние на Верховный Совет. Появилась любовь к атрибутам власти: личная охрана. Квартира. Сначала ему предлагали бывшую квартиру Горбачева, потом — квартиру Брежнева на улице Щусева. И он выбрал ее (Ельцин въезжать в нее отказался. — Б. М.).
Однажды он сказал, когда шла дискуссия в Президиуме по поводу какого-то письма Ельцина: “Если не можешь отрубить руку, поцелуй ее”. Народная мудрость. Вот эту фразу я запомнил».
В начале 1992 года Хасбулатов впервые «пробует голос».
Для этого у него есть все основания. По Конституции РСФСР съезд является главной легитимной силой в новом государстве. Именно благодаря поправке к конституции появился в России институт президентства. Но кто мешает принять другую поправку? И институт президентства в России просто исчезнет. А кто тогда будет первым человеком в России? Он, Председатель Верховного Совета. По конституции съезд имеет громадные, ничем не ограниченные полномочия. На месте Хасбулатова мог оказаться и другой человек. Но боюсь, он поступал бы точно так же. Сама ситуация власти, огромной власти, диктует здесь логику поступков.
Что касается правительства, то тут все еще проще.
Именно съезд утверждает премьер-министра. Съезд может отменить любое постановление президента и правительства. Почему так? Конституция, по которой жила Россия, была советской. В новых условиях она не работала вообще. Поправки к конституции нужны были постоянно. Чтобы избрать генерального прокурора России — требовались поправки. Чтобы избрать главу Центрального банка — тоже. И так далее.
Правда, съезд в конце 1991 года пошел на некоторые уступки Ельцину. Его указы на этот «чрезвычайный» период имеют силу законов. Но и на них при желании можно наложить вето. Двумя третями. А можно принять поправку, и тогда уже отменять ельцинские указы можно будет простым большинством. Поправка к конституции — это простой и мощный инструмент, введенной в действие самим Ельциным в 1990 году. С помощью поправки можно вообще всё!
Но самое главное — Ельцин не имеет право распустить съезд. А съезд имеет право отправить президента в отставку.
Все это было известно и раньше. Но раньше, когда Ельцин и Хасбулатов выступали тандемом, проблема была в том, как заставить, как уговорить съезд пойти на те или иные решения.
Теперь же, когда мосты окончательно разведены, Ельцин будет вынужден
Накопившись в критическую массу, обиды Хасбулатова претворяются в строгий и цельный план, где каждое слово, каждая шутка, каждый пассаж, пущенный им с трибуны, — часть целой системы, в результате которой все общество понимает: и президент, и правительство целиком в его руках.
Начиная с 1992 года спикер резко разворачивает руль, которым он манипулирует Верховным Советом — если раньше вяло сдерживал критику Ельцина и правительства, то теперь все больше и больше провоцирует ее, разжигает ненависть, доводит ее до предела.
Налицо и другие шаги председателя, которые заставляют Кремль глубоко задуматься. Полк охраны Верховного Совета РФ становится серьезно вооруженным и многочисленным подразделением. Хасбулатов перетягивает на свою сторону вице-президента Руцкого и лоббистов из «Гражданского союза», третью силу. С помощью депутатов укрепляет свои позиции в регионах, ведет там активную «разъяснительную политику», перетягивает субъектов Федерации на свою сторону. Явно готовится к атаке.
Но все это пока не очень заметно.
Развязка наступает в декабре, на Седьмом съезде народных депутатов.
Еще несколько слов о самом съезде.
Российские депутаты в том 1992 году становятся новым политическим классом, новой влиятельной элитой.
В советское время депутаты Верховного Совета СССР, представлявшие свои регионы, не жили и не работали в Москве. Представители «молчаливого большинства» — политическая декорация, послушно голосующая несколько раз в год за законы и постановления, разработанные в ЦК КПСС, министерствах и ведомствах. У них, по сути дела, нет реального права голоса, их речи, зачитанные по бумажке на заседаниях, лишь элемент этой декорации. Максимум, что они могут, — попросить «соседа по парте», министра или члена ЦК, о каких-либо послаблениях, льготах, дополнительном финансировании своего региона.
Все меняется с наступлением новой эры. Российские депутаты работают на профессиональной основе. Они — первые парламентарии независимой России. Члены Верховного Совета — все эти бывшие директора заводов, институтские и школьные преподаватели, секретари обкомов и исполкомов, провинциальные начальники различных рангов — внезапно становятся элитой государства! Ездят на машинах с правительственными номерами, получают ключи от казенных квартир, ходят на заседания в отглаженных костюмах и, главное, конечно, решают судьбы родины.
По результатам соцопросов 1992 года этот новый «политический класс» пользуется среди населения гораздо худшей репутацией, чем само правительство, проводящее «грабительские реформы». Эти раздувшиеся от важности мелкие «шишки» раздражают народ куда больше, чем непонятная теория Гайдара. Тот хотя бы «знает, что делает» (может, делает не то, но это уже другой вопрос), депутаты — явно не знают ничего.
Они, как правило, никому не известны, ничем не прославились в своей жизни, кроме бесконечных голосований. У них совершенно не запоминающиеся лица и фамилии (в отличие от депутатов горбачевского съезда), но они и есть главный, решающий орган власти в стране.
Именно цифры социологических опросов позволяют Ельцину до поры до времени спокойно относиться к осторожному, тихому наступлению Хасбулатова. Все эти депутаты — фигуры, мягко говоря, в народе непопулярные.
Но с другой стороны, эти депутаты медленно, но верно перетягивают канат на свою сторону. Их много, и каждый имеет право выступить по телевизору, каждый может инициировать законодательную инициативу, каждый пытается урвать свой кусок влияния, каждый лоббирует своих людей. Эта серая, вязкая политическая масса начинает в конце концов беспокоить Ельцина. А масса постепенно структурируется и становится взрывоопасной.
Но на Седьмой съезд Ельцин пришел все с той же внутренней установкой на компромисс. Ему не нужна война. Ему нужна передышка. Чтобы завершить спокойно хотя бы первый этап «проекта», чтобы увидеть первые результаты.
Ельцин предлагает депутатам формулу:
«Сегодня, — говорит он с трибуны съезда 1 декабря, — раздаются призывы к отставке правительства, роспуску Съезда, “перетряске” Верховного Совета и так далее. Выскажу свою позицию. Начинать стабилизационный период с разрушения любого из высших институтов власти — просто абсурдно. Это еще больше обострит ситуацию, вызовет усиление конфронтации. Сегодня нужно не разрушать, а укреплять наметившийся баланс власти. Нужен мораторий на любые действия, дестабилизирующие институты государства в этот период».
Однако мораторием и не пахнет!
«В зале стоял враждебный гул, просто физически ощущалась разлитая в воздухе неприязнь. Лишь пару раз за все время выступления со скамей, где сидели депутаты демократических фракций, раздались жидкие аплодисменты», — пишут очевидцы выступления, помощники Ельцина.
Хасбулатов делает свой ход. «Полный крах экономической политики», «хозяйство все более теряет управляемость, процесс приобретает черты распада» и, наконец, — стране нужно другое правительство. Хасбулатов заявляет о своих приоритетах в экономике, чем-то они напоминают брежневские доклады: «регулирование политики цен», например. И, наконец, дает ответ конкретно Ельцину: «Конечно, нет сомнений в том, что необходим более или менее длительный период стабилизации… Но вряд ли будет правильным даже в этот период допускать отход от Конституции и законов». А по конституции правительство можно отправить в отставку прямо здесь и сейчас!
«Президент, — пишут помощники, — слушал выступление своего соперника с мрачным, застывшим видом».
За два дня до съезда на встрече с главными редакторами газет Ельцин скажет: «Хасбулатов хочет стать премьером». Тон, которым он это сказал, не допускал разночтений: все, что угодно, только не это.
На съезде выступает Гайдар. Он понимает — в этой аудитории он враг. Убеждать, доказывать, быть красноречивым — бессмысленно. Тихим, спокойным голосом зачитывает свой доклад, полный цифр и выкладок, и этот профессиональный, академический тон приводит депутатов в полное бешенство.
Продолжаю цитировать записи очевидцев этих событий:
«Теперь, сидя в агрессивно настроенном зале, Ельцин находится перед дилеммой — терпеть
Пожалуй, самое интересное в политике — варианты. Решения, которые уже готовились к исполнению, но в последний момент откладывались. Они передают истинную логику процесса. Они же дают нам возможность пофантазировать: а как могло бы быть?
В этот момент в кармане пиджака Ельцина («старый темно-синий» давно уступил место новому, серому, с некоторым стальным отливом) лежат странички с текстом его выступления, где, в частности, говорится:
«Превратившись исключительно в трибуну разрушительной критики, неспособный на созидательную работу, Съезд сам снял с себя всяческую ответственность за судьбы России и ее народа. Съезд изжил себя. Принимая из рук народа власть Президента, я дал клятву служить новой, демократической России. Сегодня во имя этой клятвы я должен пойти на решительные меры».
Но эти слова так и не были произнесены.
Лев еще готовится к прыжку. Ельцин еще остается в логике поиска «третьего пути». В кулуарных встречах с координаторами фракций обещает, что «силовые» министры будут утверждаться, то есть практически назначаться Верховным Советом, и это гигантская политическая уступка с его стороны…
Сейчас, перечитывая все эти заявления и контр-заявления, вспоминая, как сам сидел у телевизора и следил за трансляцией важнейших заседаний съезда, безусловно, испытываю сложное чувство.
Да, депутаты раздражали бессмысленным словоблудием. Да, Хасбулатов доставал интриганством и гипнотической скукой заунывного голоса. Да, бесконечные политические маневры заставляли зрителя отчаянно взреветь: в конце концов, да пропади всё пропадом!
Но это была жизнь.
Больше того, в этой съездовской жизни (а заседания проходили на глазах у всей страны в течение двух недель!) была мощная, детективная интрига. Была ярость и был понятный, тревожный, бередящий душу сюжет.
Это была открытая политика.
Время закрытой политики, в которое мы все живем, безусловно, обладает рядом преимуществ. Но я думаю, что пафос 1992 года, пафос страны, которая была готова участвовать в решении своей судьбы, голосовать, топать ногами, свистеть и аплодировать, выходить на улицы, хотя бы следить за трансляцией заседания, как за детективным фильмом, — это пафос самой истории.
Пафос отторжения от политики, даже отвращения к ней, который неизбежно приходит после эпохи перемен, мне, в общем, тоже понятен. Но что происходит в эти годы с Историей?
Вечный и тревожный вопрос.
Проходит еще несколько дней, и примерно к 6 декабря становится ясно — Ельцин увяз в дискуссии.
Хасбулатов предлагает принять решение о конституционных поправках: они позволяют Верховному Совету формировать правительство (или расформировывать его). Ельцин возражает: «Если поправки будут приняты, Верховный Совет может стать единым властителем в России со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Впрочем, тут же оговаривается: «Я не против того, чтобы на какие-то ключевые посты министры утверждались Верховным Советом».
Им по-прежнему движет логика компромисса.
Но компромиссом и не пахнет!
Что же так обидело, так задело Ельцина в тот момент? Что ударило его настолько сильно, что, приехав со съезда, он заперся в бане, а затем ночью начал диктовать своим помощникам выступление о референдуме? Чья-то мелкая пакость, гнусность, пущенная в спину, когда он выходил из зала? Покровительственный тон Хасбулатова? Общая тупиковость ситуации? Затянувшийся съезд, который он просто физически больше не мог выносить?
Думаю, что нет. Все эти дни Ельцин и его команда лихорадочно просчитывали варианты. Решение зрело долго.
На десятый день работы съезда Ельцин в своем выступлении использовал термин «ползучий переворот». Это было уже серьезно. Воспоминания о том, как Ельцин расправился с предыдущим переворотом, причем далеко не «ползучим», были еще очень свежи.
Вот как он определил истинные, по его мнению, цели этого съезда:
«Первое. Здесь, на Седьмом съезде, создать невыносимые условия для работы правительства и президента, практически деморализовать их.
Второе. Любой ценой внести в Конституцию поправки, которые наделяют Верховный Совет, ставший оплотом консервативных сил и реакции, огромными полномочиями и правами.
Третье. Заблокировать реформу, разрушить все позитивные процессы, не дать стабилизировать ситуацию.
Четвертое. Провести в апреле 1993 года Восьмой съезд народных депутатов, расправиться на нем и с правительством, и с президентом, и с реформами, и с демократией…
Виню себя за то, что ради достижения политического согласия неоднократно шел на политические уступки… С таким съездом работать стало невозможно».
«Последнюю фразу, — пишут помощники, — он произнес с таким мрачным видом, что депутаты буквально оцепенели».
«Я не питал иллюзий, — говорил Ельцин в этой речи, — но все-таки надеялся, что в ходе работы съезда депутаты, с мест особенно, разумно отнесутся к моим предложениям и проявят здравый смысл.
Стены этого зала покраснели от бесконечных оскорблений, площадной брани в адрес конкретных людей, от злости, грубости и развязности, от грязи, которая переполняет съезд, от болезненных амбиций несостоявшихся политиков, их драки — позор на весь мир… Конституция или то, что с нею стало, превращает ВС, его руководство и Председателя в единовластных правителей России, они встают над всеми органами исполнительной власти и по-прежнему не отвечают ни за что».
Подождав, пока оцепенение достигнет высшей точки, он сказал главное:
«Считаю необходимым обратиться непосредственно к гражданам России, ко всем избирателям. Вижу выход из глубочайшего кризиса власти в одном — во всенародном референдуме. Я не призываю распустить съезд, а прошу граждан России определиться, с кем вы».
«Требование о проведении всенародного референдума депутаты выслушали в гробовой тишине, — пишут помощники Ельцина. — То, чего они так опасались, становилось реальностью. Драматизм ситуации усугублялся тем, что в этот день была организована прямая трансляция выступления Президента по двум основным телевизионным каналам. Подготовка к режиму прямой трансляции из зала Съезда держалась в глубоком секрете — (об этом знали лишь В. Брагин, О. Попцов — руководители ТВ и В. Костиков, пресс-секретарь президента).
Выступление Ельцина в режиме прямой трансляции было фактически обращено через головы депутатов прямо к гражданам страны… Когда Р. Хасбулатов догадался, что идет прямая трансляций выступления Ельцина, он побледнел как полотно, но ничего изменить уже не мог».
Ельцин предложил депутатам, которые поддерживают президента, покинуть зал и перейти в соседнюю Грановитую палату (дело происходит, напомню, в Большом Кремлевском дворце).
Но демонстрации силы не получилось (да и какой силы? Ельцина в тот момент поддерживают единицы «избранников», многие еще не определились), не получилось резкого и эффектного неожиданного хода. Основная масса депутатов, пошумев, осталась сидеть в зале.
Кстати, именно в ходе Седьмого съезда Ельцин пришел к очень важному, знаковому для себя решению — принял отставку Геннадия Бурбулиса, государственного секретаря и первого вице-премьера, человека, который сыграл огромную роль в создании первого ельцинского правительства и во многом повлиял на стратегию первых шагов новой российской власти.
Вот как описывает эти события Вячеслав Недошивин, пресс-секретарь Бурбулиса в те годы:
«Г. Б. в костюме, но без привычного галстука, с мокрой после тенниса, прилипшей ко лбу челкой, ходил вокруг стола.
— Геннадий Эдуардович… газеты, агентства рвут телефоны, “Эхо Москвы” уже в восемь сообщило, что вы и Козырев (министр иностранных дел. — Б. М.) по настоянию президента подали в отставку. Надо как-то реагировать?
— Значит, надо так, — сказал он наконец. — Учитывая положение президента, из этого решения можно извлечь даже определенную политическую выгоду. Это богатый для открывающихся возможностей ход… Но что уже ясно сейчас. Надо, наконец, реализовать наши мысли о партии, может, президентской партии, вообще структуры, работающей на будущее, на выборы. Короче. Полчаса назад я разговаривал с Ельциным. Он позвонил мне и сказал, что я назначен руководителем группы советников президента. Должность госсекретаря упразднена. Козырев остается министром иностранных дел».
Что же стояло за этой отставкой, как и за другой — Михаила Полторанина, вице-премьера, которая последует чуть позже?
Полторанин и Бурбулис — верные соратники президента. Мощные фигуры в новом правительстве. Более того, вокруг них, как и вокруг Хасбулатова, постепенно образуется некое силовое поле, теневой центр власти, каждый из которых постепенно приходит в противоречие с другими, накапливая и без того растущее напряжение. И Полторанин, и Бурбулис — стратегические союзники, начинавшие с Ельциным демократические преобразования, и президент уверен, что выводя их из правительства, он делает лишь тактический ход, и рано или поздно они вернутся.
Но получилось по-другому. Роль ближайших советников Ельцина постепенно перешла от таких фигур, как Полторанин и Бурбулис, к экспертам, советникам в подлинном смысле, которые находятся в тени, работают на президента в качестве аналитиков, а не самостоятельных фигур, публичных политиков. Такими экспертами стали для Ельцина Георгий Сатаров, Юрий Батурин, Михаил Краснов и др. Координировал их работу первый помощник президента Виктор Илюшин.
Сергей Филатов, бывший глава ельцинской администрации, пишет в своих воспоминаниях, что в 1992 году пресса начала некую травлю Бурбулиса, вменяя ему в вину имидж «серого кардинала», рассматривая каждую деталь его внешности, голос, чуть ли не разрез глаз и форму носа.
Однако я думаю, что зерно внутреннего конфликта лежит в другой плоскости. Бурбулис был по сути своей «партийным лидером», то есть лидером первой волны демократического движения. Идеологом так и несозданной партии. «Партийная шеренга», которую представлял Бурбулис, постепенно редела. Демократы горбачевской эпохи рано или поздно уходили из власти, Ельцин активно не признавал «партийной» логики и «партийного» мышления.
Были и другие причины. Накануне съезда Ельцин взвешивал «за» и «против» — в той же логике тактических уступок съезду. Ему казалось, что, пожертвовав Бурбулисом, он спасет Гайдара.
После того как Ельцин сформулировал на съезде свое историческое предложение о референдуме, возникла мысль обратиться к народу уже не через телекамеры, а, так сказать, напрямую. Помощники подсказали место — автомобильный завод АЗЛК (еще выпускавший тот самый «москвич», который приобрел Б. Н. недавно и на котором ему несколько раз удалось проехать). Ельцин едет за поддержкой «к рабочим», как Ленин в 1918 году.
Его встречают мрачный полупустой цех, скучные, серые лица людей. На этих лицах написаны глубокое равнодушие и даже недоверие к тому, что он хочет сказать. Через год-полтора конвейер АЗЛК окончательно остановится. Начнутся бесконечные торги о судьбе завода-гиганта. Машина «москвич», столь любимая народом, навсегда останется в славном, далеком прошлом. Реформа не пощадила эту гордость отечественного автопрома.
Но сейчас эти люди в принципе готовы поддержать Ельцина. Просто они не понимают: а чего именно он от них хочет?.. Ведь съезд не распущен.
И еще один неприятный момент: выступление Баранникова, министра безопасности. Его потребовал на ковер Хасбулатов, как только речь зашла о референдуме. Строгий вопрос: верен ли Баранников конституции, верен ли съезду? Как военный человек, министр отвечает без запинки: служу съезду, служу России. Ура!
Эти нотки угодливости, расшаркивания перед Хасбулатовым (сказать можно, главное,
На съезд приглашается Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда.
Зорькин — еще один «тихий профессор» эпохи ранней демократии, вынесенный волной перемен в сферу публичной политики. Только что признавший незаконным запрет компартии, он для этого съезда, конечно, фигура родная.
Сам этот ход наверняка заранее спланирован Хасбулатовым.
Зорькин призван как-то разрядить дискуссию и объяснить Ельцину, что назревшая у него идея референдума, мягко говоря, некорректна.
Тихим, интеллигентным голосом он уговаривает его и Хасбулатова помириться. Ведь страна на нас смотрит! Хасбулатов сокрушенно, горько соглашается: да, действительно нехорошо. Нехорошо получилось.
Но как помириться?
Оказывается, помириться все-таки можно! Было бы желание… Согласительная комиссия, рабочая группа, напряженная работа экспертов днем и ночью и, наконец, постановление Седьмого съезда «О стабилизации конституционного строя Российской Федерации», где в первом пункте предписывалось вынести на
Это решение приостанавливало вступлением силу поправок к действующей конституции (ограничивавших полномочия президента), которые вызвали такую острую реакцию Ельцина…
В ответ президент, к радости съезда, согласился вынести на голосование кандидатуру премьер-министра. Компромисс был достигнут. Ценой невероятных усилий.
…Декабрьский компромисс — для меня один из самых неясных, загадочных моментов того года. Каким образом Ельцина удалось уговорить поставить на голосование кандидатуру премьер-министра? Чем можно объяснить эту роковую для него уступку?
Когда Зорькин предложил процедуру «мягкого, рейтингового голосования», эта идея сразу понравилась Ельцину тем, что была заимствована из парламентской практики других стран (да и вообще — мягкое, рейтинговое! — звучит). Он упрямо включил Гайдара в список кандидатов (всего их было 18). Верил, что, несмотря на позицию Хасбулатова и верхушки, депутатская масса каким-то внутренним чутьем поймет смысл происходящего и подчинится его воле.
Перед голосованием, или сразу после него, Гайдар подошел к Б. Н., отвел в сторону, напомнил об их разговоре (что первое правительство президент почти наверняка должен будет принести в жертву) и попросил ни в коем случае не назначать Юрия Скокова, а в случае необходимости отдать предпочтение кандидатуре Виктора Черномырдина, который уже успел поработать несколько месяцев в правительстве.
Ельцин имел право поставить на голосование любого человека из списка, поскольку процедура не имела законодательной силы. Но, увидев, что Гайдар набрал всего 245 голосов (у Скокова и Черномырдина было в два раза больше), он сдался…
Кандидатура Черномырдина прошла на ура.
Вечером того рокового дня, 12 декабря, на автобусной остановке возле кинотеатра «Гавана» ко мне подошел совершенно пьяный человек и попросил объяснить, что же происходит в стране. «Хасбулатова не выбрали… Гайдара не выбрали… Кого же выбрали?» — загибал он негнущиеся пальцы на морозном ветру.
Тогда я подумал, что социологические опросы, пожалуй, стоит проводить прежде всего среди пьяных.
Отставка Гайдара явилась оглушительной неожиданностью не только для политической элиты, но и для общества в целом. И она стала первым ощутимым политическим поражением Ельцина. Мы все чувствовали, как дорог этот смешной кабинетный интеллигент для президента, и вместе с ним — может быть, наивно — верили, что он знает какую-то особую, тайную правду и выведет страну туда, куда нужно. Мы готовы были терпеть. Терпеть еще год, и еще. Терпеть до последнего. Этот лозунг был стране как раз понятен — в силу нашей исторической традиции.
Терпеть — но с Гайдаром! Чтобы было с кого спросить. Кого наказать. Кого казнить. Теперь же спрашивать было не с кого.
Впрочем, депутаты и пресса создавали совершенно другое ощущение, что для народа Гайдар — это враг номер один, символ всего плохого, что произошло со страной в последние годы. «Козел отпущения». Ненавистный и непонятный. Это ощущение словно висело в воздухе. И Ельцин прислушался к нему.
Однако мне представляется более интересной иная причина.
Пока Ельцин сражался за Гайдара, перед ним неожиданно встала во весь рост новая цель. Он, наконец, понял, «куда прыгнет лев». В тот момент, когда Хасбулатов и съезд торжествовали свою победу (а демократы оплакивали свое горькое поражение), Ельцин, наконец, это понял. Его нельзя было загонять в угол…
Они совершили большую ошибку.
Его речи на Седьмом съезде. Внезапная трансляция «Обращения к гражданам России». Отставка Гайдара. Поправки. Рейтинговое голосование.
Вот он стоит перед ними. Потрясает зал тяжелыми паузами. Слушает гул голосов.
В чем смысл всех этих драматических сцен? Насколько они нам важны, по большому счету?
Мне кажется, что эта картинка (Ельцин на Седьмом съезде) уникальна и важна вот чем — он заставляет Историю появляться перед нами. Появляться так открыто, так бесхитростно, что ее, наконец, можно разглядеть.
Обычно она стыдливо прячется в даты, документы, тихие совещания за закрытыми дверями. Даже штыки, пушки и бомбы не могут ее выманить наружу — всё решается чаще отнюдь не на полях сражений.
Она скромна, застенчива и стыдлива.
История становится зримой, прозрачной, откровенной именно в его присутствии. Потому что Ельцин — исторический человек. Его движения, собственно говоря, передают саму логику процесса.
…Как вы помните, после отставки Гайдара, в тот же вечер, Наина Иосифовна позвонила Егору Тимуровичу. И не выдержала, заплакала. Не знаю, чем успокоил ее в тот вечер Гайдар. Наверное, просто сказал: «Наина Иосифовна, да ладно, всё будет хорошо. Поверьте мне».
Мать приехала к нему в Москву в самое неспокойное время, в начале 93-го. Все последние годы она поступала так: летом ехала в Свердловск, «в свой сад», зиму проводила с ними в Москве. То же самое было и на этот раз. В эту зиму, 1993-го, Клавдии Васильевне было уже 84 года (родилась она в 1908 году).
О Клавдии Васильевне в своих воспоминаниях Ельцин пишет немного или, скажем так, не очень много. Но за каждой деталью кроется море недосказанного. И сдержанной, но очень сильной любви.
Вот, например, первый том его мемуаров — «Исповедь на заданную тему»:
«Мне рассказывала мама, как меня крестили. Церквушка со священником была одна на всю округу, на несколько деревень. Рождаемость была довольно высокая, крестили один раз в месяц, поэтому этот день был для священника более чем напряженным — родителей, младенцев, народу полным-полно. Крещение проводилось самым примитивным образом — существовала бадья с некоей святой жидкостью, то есть с водой и какими-то приправами, туда опускали ребенка с головой, потом визжавшего поднимали, крестили, нарекали именем и записывали в церковную книгу. Ну, и как принято в деревнях, священнику родители подносили стакан бражки, самогона, водки — кто что мог…
Учитывая, что очередь до меня дошла только ко второй половине дня, священник уже с трудом держался на ногах. Мама, Клавдия Васильевна, и отец, Николай Игнатьевич, подали ему меня, священник опустил в эту бадью, а вынуть забыл, давай о чем-то с публикой рассуждать и спорить… Родители были на расстоянии от этой купели, не поняли сначала, в чем дело. А когда поняли, мама, крича, подскочила и поймала меня где-то на дне, вытащила. Откачали… Не хочу сказать, что после этого у меня сложилось какое-то определенное отношение к религии — конечно же, нет. Но тем не менее такой курьезный факт был. Кстати, батюшка сильно не расстроился. Сказал: ну, раз выдержал такое испытание, значит, самый крепкий и нарекается у нас Борисом…»
Этот рассказ будет кочевать по всем его биографиям. Цитироваться на более чем тридцати языках мира. Между тем даже из описания этого «курьезного факта», если прочесть его внимательно, во всей полноте встает глубоко запрятанная внутрь драма крестьянской семьи.
Родители Б. Н. были религиозными людьми. Более того, дед Ельцина, Игнатий Ельцин, отец того самого Николая, который, стиснутый толпой, стоит в маленькой церкви и не знает, что сын захлебывается в купели, был не только хозяином мельницы, но еще и церковным старостой.
Староста — не просто уважаемый, это особый человек в крестьянском мире. То есть крепкий, основательный, зажиточный, самостоятельный и, что важно, — с характером. Староста знает церковную службу. Помогает священнику в делах прихода, в обустройстве церкви. Староста помогает ему «окормлять паству», то есть следит за религиозной, духовной, семейной жизнью прихожан, односельчан.
Вот в каком доме вырос отец Ельцина.
Верила в Бога и мама, Клавдия Васильевна. Даже в 1931 году, когда религия уже почти вне закона, с церквей уже сбросили кресты и колокола, церкви закрывают, священников расстреливают, в школе религию разоблачают, в газетах печатают злобные фельетоны про «попов», — эти люди, вместе с другими крестьянами, послушно идут в сельскую церковь, потому что иначе не умеют жить. Без Бога их жизнь не имеет смысла.
Но по тому, как рассказан этот эпизод в книге ельцинских мемуаров, а написана она в 1990 году, отчетливо видно — сам автор человек совсем не религиозный. Купель непочтительно называет «бадьей», святую воду — «некоей святой жидкостью», о молитве — ни слова, зато со знанием дела — о том, чем могли тогда, в 1931 году, поить священника в деревне.
Отец Ельцина, Николай Игнатьевич, не смог или не захотел сохранить в семье открытую религиозность. Да и трудно пришлось бы его детям, если бы их с детства приучали к таинствам и обрядам. Так или иначе, но Борис Ельцин вырос, безусловно, атеистом. Вот как он сам об этом говорит:
«Родители, деды, прадеды и т. д. — все они искренне верили в Бога. Это с одной стороны, а с другой стороны возьмите — октябренок, пионер, комсомолец. Какая там религия, когда вышибали всё абсолютно, наоборот развивали чувство просто отторжения, не просто непризнания, а отторжения всякого…»
«Чувство отторжения» от религии, которое прививали в школе, вылилось позднее в открытый конфликт: «такой идеологический пресс был, так нас воспитывали — что я заставил маму убрать основные иконы из комнаты. И она только оставила у себя над кроватью вот такую маленькую икону Божьей Матери». Чувство вины за эту мальчишескую глупость он сохранил в себе навсегда.
Но мать его, Клавдия Васильевна Старыгина, веру свою в Бога все-таки сберегла. Как и многие другие деревенские женщины. Кланялась иконкам, шептала знакомые с детства слова, красила яйца, ходила в церковь. Мать всегда верила в Бога. Не переставала верить.
Впервые Ельцин, как президент страны, появился на патриаршем богослужении 7 января 1992 года, в Рождество.
Был он в Елоховской церкви со свечкой в руках и в эту Пасху, 1993 года.
Многие демократы, представители интеллигенции и приватно, и публично будут осуждать его за это: ведь Россия — светское государство, многоконфессиональное, почему именно в православный храм идет президент, не в синагогу и не в мечеть (по очереди)? Лучше уж вообще никуда не ходить, молиться частным образом, непублично, чем вот так — напоказ. Об этом тогда, в 1992–1993 годах, много писали. Писали требовательно, с жаром.
С одной стороны, эти аргументы вполне понятны. Государственное православие — вещь обоюдоострая.
Но с другой… Куда же и пойти русскому человеку, если не в церковь, когда на душе такая смутная тревога, когда каждый день как сражение, как последняя битва и когда вдобавок ко всему еще и болеет старенькая мать?
Ельцин был первым руководителем государства, после советского периода, который публично признал роль церкви в духовной жизни страны, и это шаг, сопоставимый со всеми остальными его значимыми шагами тех лет — свободой слова, свободой частной собственности, политической свободой. Что бы ни говорили, этих свобод у русского человека уже не отнять.
Так что стоять в церкви со свечкой — ему было, на мой взгляд, совсем не зазорно.
Существует немало исторических анекдотов на эту тему. Якобы во время первого стояния на пасхальной службе Наина Иосифовна шепнула ему: «Боря, перекрестись!» — «Неудобно, люди смотрят», — ответил он. Больше Наина Иосифовна креститься не просила.
Тогда же, во время Пасхи 1993 года, пришел к нему брать интервью для телевидения кинорежиссер Эльдар Рязанов. Ельцин задумчиво сидел на кухне, в своей квартире у Белорусского, перед ним горкой лежали крашеные яйца. Во время разговора он взял одно из них и стукнул об стол. Разговляться, как известно, можно только после Пасхи. Наина и дочери ахнули: ты что? Тарелку с яйцами тут же унесли. Принесли вместо нее тарелку горячих котлет. Пост он, конечно, тоже не соблюдал.
…Иногда они сидели с матерью на кухне, подолгу тихо разговаривали.
Она что-что спрашивала. А как вот этот, а как тот… Ей было интересно то, «чего не говорят по телевизору». Иногда просто молчала, глядя на него.
В документальном фильме Александра Сокурова Ельцин скажет об этом проникновенные, наполненные любовью и болью слова: «Так смотрит, смотрит подолгу…»
Вообще все эти месяцы — декабрь 1992-го, январь, февраль, март 1993-го — были для него каждый равен году, а то и двум. Такая в них тревога, такие события. А потом наступил последний, самый тяжелый день.
Вот что он напишет об этом в «Записках президента»:
«Мама умерла в половине одиннадцатого утра. Это было в воскресенье.
Накануне вечером 20 марта она сидела, смотрела телевизор вместе со всей семьей. Смотрела мое заявление о введении особого положения (особого порядка управления, если говорить точно. — Б. М.). Подошла, поцеловала и сказала: “Молодец, Боря”. И ушла к себе.
В воскресенье открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета, на площадях Москвы состоялись митинги “ДемРоссии” и коммунистов. Я занимался всеми этими делами, готовил дальнейшие шаги, получал информацию с сессии, постоянно звонил силовикам, Черномырдину…
В середине дня мне в первый раз сообщили, что маме плохо, я сказал: “Что же вы медлите? Надо везти в больницу”. Мне ответили: врачи занимаются, вызвали “скорую”. Я немного успокоился.
Прилег, потому что был уже на пределе, ночь прошла без сна. Да и перед этим накопилось… Мама меня очень беспокоила, я несколько раз спрашивал, как она, но мне не сообщали, говорили: она в больнице. Надо же, и я не почувствовал, что это все, конец. Все мысли были заняты этим проклятым съездом.
Вечером ко мне приехали члены правительства, человек семь, и все уже знали. Не знал один я. Вот такие собрали большие силы. Видно, очень боялись моей реакции…
Помню, что я попросил всех выйти…
Все, мамы больше нет.
Почему именно в этот день? Какой-то знак, что ли?..
Она умерла тихо, безболезненно, во сне, не меняя позы. Так врачи мне сказали…
Было отпевание. Маму похоронили на Кунцевском кладбище в Москве».
В этом коротком тексте, конечно, слишком много политики, слишком много неостывшей страсти тех дней, когда шла большая, отчаянная драка.
Но так уж случилось, что именно эта неделя, начиная со дня смерти Клавдии Васильевны — 21 марта и по 28-е, — стала переломной, именно с этого момента он перестал проигрывать съезду и начал выигрывать, медленно, постепенно, иногда теряя очки, но шаг за шагом идя к своей цели.
И дело тут, я думаю, не в мистике. Смерть матери обострила до предела все чувства Ельцина.
…В отличие от отца Клавдия Васильевна почти не меняла своих привычек. И не только в смысле набожности. Но что, в сущности, известно нам о ее жизни? Очень мало.
Она «с детства научилась шить». «Обшивала всех — кому надо юбку, кому платье, то родным, то соседям». Дочь уральского крестьянина, она сама выучилась грамоте, умела читать и писать. Была красавицей. С толстой русой косой до пояса. С фотографии глядит ее круглое, доверчивое молодое лицо. Вышла замуж в восемнадцать лет, явно по любви. За такого же деревенского красавца. Выходить замуж от бедности нужды не было — семья печника и плотника Старыгина была основательной, крепкой. С мужем прожила до самой его смерти.
Может быть, благодаря этому детскому, наивному крестьянскому счастью в начале жизни она и выдержала всё.
И еще благодаря своей огромной энергии, воле к жизни.
Годы раскулачивания. Страшные, темные годы.
Эти годы в Казани, когда она осталась с Борей без средств к существованию после ареста Николая и Андриана. Хотела устроиться швеей, не взяли. Думала: да, вот здесь, на улице будет просить милостыню, а мальчик будет тихо умирать у нее на руках, ходила к тюрьме, потерянная, ни на что не надеясь…
И, наконец, послевоенные годы в бараке, в Березниках. Длинный коридор, в который выходило 20 комнат — по одной на семью. Позади барака находились дощатый туалет и колодец…
Это был жестокий мир. Мужья били жен. Старшие дети били младших. Чтобы не пропасть, здесь надо было уметь вовремя дать сдачи.
Сам Б. Н. напишет об этом барачном времени так:
«Просуществовали мы таким образом в бараке десять лет. Как это ни странно, но народ в таких трудных условиях был как-то дружен… То ли именины, то ли свадьба, то ли еще что-нибудь, заводили патефон, пластинок было 2–3, как сейчас помню… пел весь барак. Ссоры, разговоры, скандалы, секреты, смех — весь барак слышит, все всё знают» («Исповедь на заданную тему»).
«Постоянно хочется есть. 2, 3, 5, 10, 15 лет — все время голод, голод, голод. Представьте себе, когда мама нарезает маленькие такие, в полпальца, кусочки хлеба, тоненькие-тоненькие, каждому делит… на всех членов семьи — нас 5 человек. Раздает и, конечно, себе оставляет самый маленький кусочек. Вот это у меня прежде всего в детстве. И больше всего это именно запомнилось», — говорит он в своем интервью.
В голодные военные годы они купили козу. Спали зимой на полу, в обнимку с козой, все вчетвером — мать, отец, они с братом. Коза «была как печка», она грела. Она давала молоко. Она была их спасением, их жизнью. В 1944-м, страшном военном году, родилась сестра Валя. Как мать все это вынесла?
Крестьянское терпение? Любовь к отцу?
Продолжаю цитировать скупые строчки мемуаров Б. Н., потому что за каждой из них открываются целые миры его памяти, его внутренних
«Может, поэтому мне так ненавистны эти бараки, что до сих пор помню, как тяжело нам жилось. Особенно зимой, когда негде было спрятаться от мороза — одежды не было, спасала коза… Ну и, конечно, уже тогда подрабатывали. Мы с мамой каждое лето уезжали в какой-нибудь ближайший колхоз, брали несколько гектаров лугов и косили траву, скирдовали, в общем, заготавливали сено, половину колхозу, половину себе. А свою половину продавали, чтобы потом за 100–150 рублей, а то и за 200 (по старым дореформенным ценам. Б. М.), купить буханку хлеба».
Привычка к постоянному тяжелому труду, крестьянское терпение — это тоже от матери.
«Труд-то лет с пяти я уже прекрасно помню. В четыре утра нужно было возиться со скотинкой, — говорит Ельцин в интервью. — Это начало… в деревне это начало, уже надо убирать навоз, чистить хлев, доить, всё. Это работа. Топить печку, носить дрова. Так всю жизнь, начиная с пяти лет в деревне, потом я работал пастухом в семь лет. Пас коров, свиней…»
Мать вдохнула жизнь в него, в них, во всех, она превозмогала смерть, ее угрозы, весь ужас бытия — голод, холод, болезни, жестокость времени и людей, она вела его за руку, она тянула его к жизни, к свету, к этому теплому молоку, к этому свежему сену, к воздуху, к солнцу, она вытерпела всё!
И он должен вытерпеть.
На чрезвычайной сессии Верховного Совета Российской Федерации 21 марта 1993 года не было сказано ни одного слова о смерти Клавдии Васильевны. Официального соболезнования президенту ни на сессии, ни на съезде не последовало. Но 22 марта сессия прервала свою работу на один день. Возможно (возможно, говорю я) для того, чтобы дать человеку проститься со своей матерью.
Ее похороны также омрачил неприятный инцидент: чтобы загладить отсутствие официального соболезнования, вице-президент Руцкой и председатель Конституционного суда Зорькин неожиданно приехали на Кунцевское кладбище с венком. Их попросили не подходить к могиле, и, оставив венок, они молча уехали.
Так что же случилось в эту неделю, после смерти матери Б. Н., Клавдии Васильевны Ельциной?
Чтобы понять значение этих нескольких дней, проследим за хронологией событий с самого начала 1993 года.
5 января только что назначенный премьер-министр Черномырдин объявил, что правительство вводит регулирование цен на некоторые товары первой необходимости. Сторонников рыночных реформ это привело в состояние шока. Новый вице-премьер по экономике Борис Федоров энергично взялся объяснять главе правительства губительность подобного шага. Устроил разнос правительству и Ельцин. После этого постановление правительства было дезавуировано. Черномырдин семимильными шагами стал превращаться в рыночника…
В январе 1993 года постановлением Конституционного суда был снят запрет на деятельность Фронта национального спасения, наложенный Ельциным в 1992-м. Фронт, открыто призывавший к свержению «фашистского, оккупационного режима», открыто проповедовавший угрозу «жидомасонского заговора», стал легальной организацией.
Легальной организацией стали и российские коммунисты. В том же январе они провели свой объединительный съезд, на котором рукоплескали гэкачепистам, выпущенным из Матросской Тишины. Председателем партии стал Геннадий Зюганов.
…Восьмой съезд народных депутатов, заседавший в Москве с 10 по 13 марта, отменил все соглашения, достигнутые между ветвями власти 12 декабря. Настроение депутатов после отставки Гайдара было победным — они хотели еще жестче ограничить власть Ельцина.
Хасбулатов извинился перед ними за то, что пошел на договоренности с президентом («бес попутал»), и пообещал, что больше компромиссов с Кремлем не будет. Съезд народных депутатов России лишил президента большинства его чрезвычайных полномочий. Съезд также принял резолюцию, в которой указывалось, что проведение референдума в 1993 году будет несвоевременным, и подтверждался конституционный запрет на призыв к референдуму, который прозвучал на предыдущем съезде из уст Ельцина.
Опираясь на статью 104 Конституции 1978 года, парламент объявил себя верховной властью в стране.
20 марта 1993 года Ельцин выступает с телеобращением к нации.
«Страна больше не может жить в обстановке постоянного кризиса власти, — сказал он, — при такой растрате сил мы никогда не вылезем из нищеты, не обеспечим мира и покоя для наших граждан.
…Восьмой съезд, по сути дела, стал генеральной репетицией реванша бывшей партноменклатуры, народ попросту хотят обмануть. Мы слышим ложь в постоянных клятвах верности Конституции, от съезда к съезду ее корежат и перекраивают в угоду собственным интересам, наносят удар за ударом по самой основе конституционного строя, народовластия.
Съезд похоронил референдум о собственности граждан на землю, похоронил апрельский референдум по основам новой конституции. Хочу сказать вам просто: трусливо ушел от решения вопроса о досрочных выборах… Трагическим итогом съезда стало ослабление власти, ослабление России. В России как бы два правительства: одно конституционное, другое — в Верховном Совете. Они ведут принципиально разную политику».
Ельцин сказал, что подписал Указ «Об особом порядке управления до преодоления кризиса власти». В соответствии с ним на 25 апреля назначается голосование о доверии президенту и вице-президенту. «Пошел на этот шаг потому, — пояснил президент, — что меня избирал не Съезд, не Верховный Совет, а народ. Ему и решать, должен ли я дальше выполнять свои обязанности и кому руководить страной: президенту и вице-президенту или Съезду народных депутатов». Одновременно с голосованием о доверии президенту будет проводиться голосование по проекту новой конституции и проекту Закона о выборах федерального парламента. По новой конституции съезда не будет. До новых выборов съезд и Верховный Совет не распускаются, их работа не приостанавливается. Сохраняются полномочия народных депутатов Российской Федерации. Но в соответствии с указом не имеют юридической силы любые решения государственных органов и должностных лиц, которые будут направлены на отмену и приостановление указов и распоряжений президента и постановлений правительства.
…Вице-президент Руцкой немедленно, еще до опубликования, передает текст Указа в Конституционный суд. Конституционный суд собирается на экстренное совещание и объявляет текст неопубликованного (то есть еще не вступившего в силу) документа — незаконным.
Раскол происходит и в команде Ельцина. Секретарь Совета безопасности Юрий Скоков отказывается визировать указ. Это тревожный сигнал. Скоков близок к силовым структурам. Армия и милиция могут оказаться не готовы к «чрезвычайным мерам», к подавлению массовых беспорядков (а что они будут, сомневаться не приходится).
24 марта указ об особом порядке управления все-таки появляется, но в гораздо более обтекаемом виде. «Особые нормы» правления, то есть мораторий на решения съезда, ограничивающие президентскую власть, вообще не упоминались.
В день опубликования этого указа Ельцин встретился в Кремле с Хасбулатовым и Зорькиным (при участии В. Черномырдина). На этой закрытой встрече он предпринял последнюю попытку «договориться»: «он не хотел ни проведения этого съезда, ни разрешения резко обострившегося кризиса посредством силовых методов (разгона съезда)» («Эпоха Ельцина»).
Однако «договориться» не удалось.
— Ни о чем не договорились, — мрачно бросил Ельцин своему пресс-секретарю, выйдя из Ореховой комнаты, где проходила полуторачасовая встреча. Президента возмутили не только политические претензии спикера, но и грубая, самоуверенная манера, в которой тот вел разговор.
Одним словом, ситуация висела на волоске.
Верховный Совет срочно созывает Девятый, внеочередной съезд народных депутатов. Страна, вздохнув, вновь припадает к телевизору. Что же будет дальше?
Поначалу всё идет ни шатко ни валко.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин выступает с докладом, основная мысль которого предельно проста: телеобращение президента от 20 марта в ряде своих положений не соответствует конституции.
Вывод: должностные лица, «которые ввели в заблуждение президента» при подготовке обращения к народу и соответствующего указа, «должны понести ответственность и отстранены от должности».
Вечером 25 марта Ельцин отправляет в отставку еще двух членов гайдаровской команды — министра экономики Андрея Нечаева и министра финансов Василия Барчука. Барчука заменяют на Бориса Федорова, еще более убежденного и сильного экономиста-либерала, однако, выступая на съезде, президент сказал, что готов идти и на дальнейшие перестановки. Список отправленных им в отставку членов правительства продолжает расти: Лопухин, Матюхин, Авен, Полторанин, Бурбулис, Нечаев, Барчук, не считая самого Гайдара.
Ельцин по-прежнему находится в логике компромисса, производя, как он считает,
26 марта он выступил на съезде. Напомнив депутатам, что на предложенное им всенародное голосование (референдум) 25 апреля будет вынесен вопрос о доверии президенту, он предложил также включить в бюллетень и вопрос о доверии самому съезду.
Рассматривался также вопрос о включении в повестку дня голосования об отрешении президента от власти. Собственно говоря, ради этого и созывался съезд. Для принятия положительного решения требовалось получить больше половины голосов от списочного состава депутатского корпуса, составлявшего 1033 человека. «За» проголосовали 475 человек, «против» — 337, воздержались 46. Не хватило несколько десятков голосов — для того, чтобы включить вопрос в повестку дня.
Вместо этого съезд вновь набрасывается на упрямо проталкиваемую Ельциным идею референдума. Во-первых, это не референдум, коль его назначает не съезд, а президент, — а всего лишь «опрос», то есть процедура, не имеющая юридической силы.
Во-вторых, раз уж «опрос» назначен, депутаты требуют изменить стоящие на нем вопросы. В результате определенного торга вопросы формулируются таким образом:
1. Доверяете ли вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?
2. Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года?
3. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации?
4. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?
Если ты «демократ», если ты «за Ельцина», «за реформы», — объясняют демократически настроенные средства массовой информации, — голосовать надо так (чтобы не запутаться в вопросах): «да, да, нет, да».
Листовки и плакаты с этим барабанным «да-да-нет-да» появляются везде: на улицах, в общественном транспорте, и мне порой казалось, что такое «вдалбливание» в головы простых людей этой барабанной дроби сыграет отрицательную роль на референдуме — всем еще памятна советская пропаганда, и никаких хороших чувств тогда, в 1993-м, воспоминания о ней не вызывали. Но вопросы референдума были составлены так мудрено, что, наверное, эти напоминания все-таки помогли.
И самое главное — депутаты постановляют, что считать результаты «опроса» надо от общего числа избирателей, а не от числа тех, кто придет к избирательным урнам. То есть заранее дезавуируют, принижают результаты голосования.
Но 27 марта происходит событие, которое заставляет страну снова вздрогнуть. Поздно вечером, совершенно неожиданно и незапланированно, на трибуне съезда вновь появляется Ельцин.
Непричесанный (о ужас! когда такое было в последний раз?), свирепый, как раненый бык, какой-то «расхристанный», тяжело подбирающий фразы.
Что же он говорит?
— Уважаемые народные депутаты, мы собрались для того, чтобы найти согласие. Неужели мы разойдемся с разногласием? Нас не поймут ни россияне, ни избиратели наши. Нас в этом не поймут. Я, конечно, тоже вместе с вами, может быть, — наверно, не может быть, а на самом деле, — в большей степени ответственен за такую ситуацию. Но вы тоже вместе принимали решения на предыдущих съездах, я не в обиде. Эти решения были правильные, но, к сожалению, мы не сумели их пока реализовать. Я считаю, что нужно успокоиться. По крайней мере, давайте сделаем проект постановления спокойным, уравновешенным, чтобы люди у нас, россияне, успокоились, чтобы начали работать.
Дело не в словах. Не в том, что именно он говорит. А в том — как.
Депутаты раздражены, потрясены, возмущены этим непартикулярным Ельциным, речью, в которой он снова и снова давит на них. Пусть не содержательно, а эмоционально — но речь попадает в точку! Она словно надламывает ритм хасбулатовского съезда.
Кстати, интересно, откуда приехал Ельцин в этот вечер на съезд? Шамиль Тарпищев в одном из телеинтервью, уже в 2007 году, расскажет, что Ельцин принял решение «врезать им» (съезду) после игры в теннис.
— Это решение пришло спонтанно, — вспоминает многолетний партнер Б. Н. по Теннису, — и мы спросили: Борис Николаевич, а как же внешний вид, прическа? И он ответил: ничего, пусть они увидят настоящего Ельцина.
«Настоящий Ельцин» ошеломил не только депутатов, но и спикера. Ночью состоялось еще одно совещание в узком кругу, на котором съезд и президент попытались выработать новое соглашение. Ельцин заставил руководство съезда снова сесть за стол переговоров.
28 марта с утра события на съезде стали разворачиваться весьма стремительно. Утром (или, как сказал Хасбулатов, «ночью и сегодня утром») состоялась встреча Ельцина, Хасбулатова, Черномырдина и Зорькина с участием представителей республик, краев и областей. На ней была достигнута договоренность: вместо референдума провести досрочные выборы президента и депутатов. Эта договоренность легла в основу проекта постановления, который получили депутаты.
События вечера, ночи и утра запалили «фитиль» Девятого внеочередного съезда. Депутаты пришли в ярость от этого нового соглашения между двумя ветвями власти. Главное, что их взволновало, это, конечно, досрочные выборы.
Вопрос об импичменте сразу попал в повестку дня. «Болото» — колеблющаяся часть съезда — быстро осознало свои печальные перспективы. Ельцин рисковал, требуя досрочных выборов и президента, и съезда, но он знал, на что шел, пытаясь разрубить узел противостояния во что бы то ни стало.
Если бы оппозиции на съезде удалось набрать две трети голосов (689 из 1034), это означало бы немедленное свержение Ельцина. «Это был один из самых опасных моментов в послевоенной истории страны, а может быть, и всего человечества… В этот момент было неясно, чьи приказы станут выполнять российская армия, милиция и пограничники. Страна подошла к гражданской войне ближе, чем когда бы то ни было после попытки государственного переворота в августе 1991 года», — напишет позднее Егор Гайдар.
Сторонники Ельцина собрались на митинг у Васильевского спуска, рядом с собором Василия Блаженного. Десятки тысяч человек несколько часов напряженно ждали вестей со съезда.
Ельцин выходил на трибуну митинга дважды.
В первый раз — до голосования. В одиночестве. Во второй раз уже после и, как напишет в своих мемуарах Гайдар, уже «с многочисленной и веселой свитой».
Импровизированная трибуна на грузовике с открытым бортом, поздний вечер, мартовский воздух режут слепящие прожекторы, странно теплый для этого времени года ветер, над кремлевскими звездами загораются другие — небесные, намного более спокойные и далекие.
Импичмент не состоялся! Депутатам не хватило семидесяти двух мандатов.
Голос президента, усиленный динамиками, зазвучал на всю Красную площадь, а усиленный телетрансляторами — и на всю Россию: «Я благодарен вам, мои дорогие москвичи, за вашу поддержку… Я сделаю всё, чтобы не обмануть ваше доверие… Коммунистам не удалось устроить переворот. Их победили народ, реформа, демократия, молодая Россия».
О какой победе он говорит?
Его выигрыш — в том, что удалось предотвратить гражданскую войну. Да. Но какой ценой? С чем он остался?
В декабре ему не удалось сохранить правительство Гайдара.
Ему не удалось ввести в действие так называемый «стабилизационный период», то есть договориться с парламентом о временном (хотя бы!) перемирии.
В прошлом году не удалось добиться финансовой стабилизации из-за назначенного Верховным Советом председателя Центробанка Геращенко, который запустил на полную мощность печатный станок. На страну обрушилась гиперинфляция.
Мартовский, уже почти состоявшийся импичмент еще раз показывает: власть в России висит на волоске.
Но именно это неудавшееся голосование вдруг вселяет в него второе дыхание. Меняет всю ситуацию.
На следующий день съезд, окончательно зашедший в тупик, наконец одобряет референдум (именно референдум, а не опрос) 25 апреля и утверждает его вопросы.
…А что было бы, если бы 28 марта депутатам хватило этих семидесяти двух голосов для импичмента? Тогда многие задавались этим вопросом.
В службе безопасности президента (СБП) был подготовлен сценарий чрезвычайных мер для того, чтобы не дать съезду объявить себя верховной властью, не дать привести Руцкого к присяге: выключение света в зале, «нейтрализация» депутатов с помощью усыпляющего газа, каждый депутат уже был «расписан» за сотрудниками СБП, их, по этому плану, должны были выводить из зала, выносить, эвакуировать…
Чудовищно.
Импичмент был бы бедой для России в любом случае: и если бы власть перешла к Хасбулатову и Руцкому, и если бы план, подготовленный «силовиками», был приведен в исполнение.
В любом случае во главе страны рано или поздно оказался бы генерал, неважно, с какой фамилией — Руцкой, Коржаков, далее, как говорится, везде… Мнимая политическая величина в погонах. Фигура распада.
Генералов, рвавшихся к осуществлению своего личного «экстренного плана спасения нации», было в том году много. В октябре они еще проявят себя. А пока — только репетиции.
Например, генерал Ачалов. Бывший главнокомандующий ВДВ, заместитель министра обороны. Это он (разумеется, по указанию Политбюро) в 1981 году готовился к вводу «ограниченного контингента» в мятежную Польшу (польский генерал Ярузельский помешал это сделать, сам ввел свое игрушечное «чрезвычайное положение» и спас страну от вторжения). Это он в 1990 году входил в Баку для подавления беспорядков. Жуткие армянские погромы войска остановить не успели, но смысл ввода войск был уже совсем другим: сломать сопротивление «народного фронта», осуществить подавление азербайджанского мятежа. Генерал Ачалов руководил военными действиями в Вильнюсе, в результате которых погибли 13 жителей литовской столицы, готовил «второе присоединение Прибалтики». В 1991 году он был одним из военных руководителей ГКЧП.
Теперь, в 1993-м, он снова готовится спасать нацию. На посту председателя комитета обороны Верховного Совета генерал Ачалов наводит мосты между Верховным Советом и армией: рассылает в военные части директивы ВС, в частном порядке встречается с командирами округов, дивизий, призывает не подчиняться приказам в случае «антиконституционного переворота», встать на сторону Верховного Совета. Министр обороны Грачев, зная о политических маневрах своего бывшего сослуживца и начальника, издает специальный приказ: вооруженные силы вне политики, армия не пойдет против народа, армия сохраняет нейтралитет.
Интересная формула: «армия сохраняет нейтралитет». Позднее, в октябре, Ельцин заставит Грачева отказаться от этой формулы, но тогда, в мае, «вооруженный нейтралитет» звучит, если вдуматься, как еще одна претензия на власть. Может ли быть «нейтралитет» при живом, действующем Верховном главнокомандующем?
Каким же образом удалось президенту Ельцину избежать эскалации кризиса тогда, в марте 1993-го?
…Прямое обращение к народу — это отличительная особенность всех лет ельцинской политики.
Верно подмечено, что в этом он похож на Шарля де Голля, французского президента 60-х годов, в такой же, раздираемой противоречиями, стоящей на пороге гражданской войны, охваченной правительственными и парламентскими кризисами Франции.
Однако французский президент имел дело со страной, где уже была республиканская форма правления. И, кроме того, со страной, в которой уже сотни лет существовала частная собственность.
У Ельцина ничего этого не было. Поэтому он обращался не к гражданскому чувству и не к демократическим убеждениям россиян — а к их совести. К глубинному, непереводимому на другие языки российскому понятию.
Во всех его обращениях (их было немало за эти тревожные месяцы 1992–1993 годов) есть эта нота: давайте жить по совести, давайте усовестимся, устыдимся того зла, которое мы можем натворить.
Съезд, вынося на референдум вопрос о доверии «социально-экономической политике» президента, был уверен — эта политика провальная, и население, стремительно теряющее жизненный уровень, напуганное инфляцией, растущей безработицей, политической нестабильностью, проголосует
Хасбулатов в своих комментариях к приближающемуся голосованию 25 апреля мрачно предрекает: ответственность за результаты референдума несет исполнительная власть; если национальные автономии на референдуме не проголосуют, это будет означать окончательный развал страны.
Однако результаты голосования стали ошеломляющим сюрпризом для спикера и для всех противников Ельцина.
Снова сработал удивительный механизм прямых обращений к нации. Механизм, который, на мой взгляд, был очень прост. Президент как бы говорил: я вам доверяю, как решите, так и будет. Это был акт абсолютного доверия, который вызывал у людей ответную реакцию, ответное доверие. Поохав и покряхтев, российские избиратели выбирали того единственного политика, который умел говорить с ними вот так, напрямую, не боясь смотреть в глаза. Этим умением, кроме Ельцина во время его президентства, больше не обладал никто.
Всего в референдуме приняло участие 64 процента избирателей. Народ не только сказал «да» самому Ельцину (53 процента). Большинство проголосовавших сказали «да» и его социально-экономической политике (58,7 процента). За досрочные выборы президента проголосовала треть избирателей, пришедших на участки, против — тоже треть, еще треть не определила своей позиции.
Четвертый вопрос — о досрочных выборах народных депутатов — вызвал наибольшую полемику после опубликования результатов: 43 процента считало, что перевыборы необходимы. 19 процентов их не хотело, остальные не определились. Но съезд заранее «подстраховался»: резолюция съезда гласила, что решение о досрочных выборах будет принято лишь в том случае, если за него проголосует большинство от списочного состава избирателей.
Несмотря на то, что большинство (пришедших на участки для голосования) поддержало идею Ельцина о досрочных выборах, Конституционный суд постановил: результаты референдума не могут стать основанием для досрочных выборов депутатов.
Пока согласились на ничью.
Но проходит еще пять дней. 1 мая 1993 года.
Митинг у Калужской Заставы, где до сих пор стоит огромный памятник В. И. Ленину.
Ведомые лидерами непримиримой оппозиции, идут боевики «народных дружин», боевики «Трудовой России» Анпилова, «Союза офицеров» Терехова, готовые к уличным сражениям. Булыжники, железная арматура, отработанная технология уличных стычек, впереди, как правило, пускают стариков, пенсионеров, ветеранов с медалями, которых милиционеры трогать не могут. Сквозь ряды милицейских кордонов «красные» колонны хотят прорваться в центр, через Якиманку и Большой Каменный мост — к Манежной площади.
Переулки, дворы вокруг Калужской Заставы у станции метро «Октябрьская» запружены толпами людей. Начинается давление на милицейское заграждение, возникают свалка, драка, паника.
Неожиданно за руль тяжелого милицейского грузовика садится один из демонстрантов и дает задний ход — на милицию. Задавив одного из милиционеров, неизвестный провокатор выскакивает из машины и исчезает в толпе.
Попавший под колеса грузовика офицер ОМОНа лейтенант Толокнеев через несколько часов умирает, врачам не удается его спасти.
Это — первая жертва двоевластия.
Ельцин едет на траурный митинг, который проходит в Доме культуры МВД, и произносит короткую речь у гроба погибшего милиционера. Помню, как раз шел по улице в тот момент. Движение не было перекрыто, черный ЗИЛ президента в сопровождении милицейской машины несся с большой скоростью по разделительной полосе.
Улица как бы замерла, застыла.
…В тот год на майские праздники стояла жара, пол-Москвы уехало за город. В столице после праздников было как-то пыльно, грязно и неуютно.
В воздухе повисло тревожное ожидание, невысказанный вопрос: что же будет дальше? После того, как пролилась первая кровь.
Двоевластие проникало всюду, оно уже диктовало свои законы жизни. Смысл двоевластия — двойная легитимность. Абсолютно легитимная президентская власть, причем, как подтвердил референдум, это народная легитимность. Но легитимен и съезд. Причем сохраняющий, по конституции, гораздо большие полномочия, чем президент.
В какой-то мере эту ситуацию можно было предсказать. Легитимность Ельцина держалась отнюдь не на устоявшихся государственных институтах или единении народа. Не было ни того ни другого. После страшнейшего удара, который нанес государству провалившийся ГКЧП, после образования новой страны, с новыми границами, с новым президентом и новыми органами власти, которые только-только начали осознавать, что же именно произошло, — такая ситуация была неизбежной. Двоевластие после революции — классическая схема мировой истории.
Власть держалась лишь на доверии населения лично лидеру, президенту страны.
Но для того, чтобы удержать ее, этого было мало…
Именно к «этому моменту, к лету 1993 года, окончательно определилась и позиция вице-президента России Александра Владимировича Руцкого. О его фигуре здесь следует сказать особо.
В марте 1991 года Руцкой был руководителем фракции «Коммунисты за демократию». В момент бурных дебатов на съезде российских депутатов он, как мы помним, неожиданно поддержал Ельцина.
Поправки к конституции о введении института президентства в России предусматривали (по американскому образцу) и избрание вице-президента. Шло время, а подходящей кандидатуры всё не было. Наконец, за несколько дней до подачи документов в избирательную комиссию, спичрайтеры предложили Руцкого.
Вероятно, это было первое в российской политической практике осознанное
Институт вице-президента страны существует только в американской демократии. Это тень лидера, запасной игрок, двойник, призванный лишь представительствовать и… заменять президента в случае его недееспособности.
Для существования такого института (он имеет в американской истории свои корни и причины) необходимо, чтобы президент и вице-президент представляли собой одно политическое целое. Никакая самостоятельность или особая роль вице-президента при действующем президенте в принципе невозможна. Иначе нарушается всё. Поэтому в американской практике все обязанности вице-президента четко прописаны. На эту роль всегда выбираются абсолютные единомышленники, дублеры в полном смысле слова, верные и преданные люди, соратники из одной с президентом партии, из одной команды.
Довольно скоро выяснилось, что Руцкой не только политически, но и по-человечески далек от Ельцина. В книге «Записки президента» Ельцин не забыл упомянуть две детали, казалось бы, довольно малосущественные. Во время праздничного ужина в честь победы над путчистами в августе 1991 года Руцкой вел себя развязно, и это было неприятно Ельцину. Когда же Руцкой в одном из доверительных разговоров предложил Б. Н. обновить свой гардероб, заказать несколько дорогих иностранных костюмов и пар обуви, Ельцин окончательно почувствовал, что предложил столь высокий пост не тому человеку. Б. Н. отказался от костюмов, Руцкой смутился или обиделся, но дело было, конечно, не в этом. Руцкой не чувствовал, не понимал Б. Н.
Да, это были детали, мелочи. Но они говорили о главном: между президентом и вице-президентом нет контакта, который так нужен в командной игре.
Обвинять Руцкого в этом трудно. В конце концов, не он стремился попасть в команду Ельцина, а команда Ельцина сама выбрала его. Последствия «пиаровского» хода не замедлили сказаться. Никто толком не мог сформулировать, что именно должен делать вице-президент, а главное — как он должен себя вести, где именно граница его политической самостоятельности. А сам Александр Владимирович так и не смог определить для себя эти границы.
Постепенно все поручения, данные Руцкому (комиссия по борьбе с коррупцией, военная реформа, сельское хозяйство и т. д.), выявляли все то же вопиющее несоответствие формы и содержания. Эффектные заявления — и полная пустота внутри. Руцкой пытался проявить себя в качестве выдающегося реформатора, великолепного аналитика, пламенного борца с коррупцией. Но он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Выпущенный им под своей фамилией огромный фолиант по проблемам сельского хозяйства (писал его целый коллектив авторов) стал лишь памятником его непомерному честолюбию. Двухчасовой беседы с Гайдаром на радиостанции «Эхо Москвы» хватило для того, чтобы Гайдар разбил в пух и прах все его «компрометирующие материалы». Руцкой постепенно, все больше и больше, становится
Формально находясь в Кремле, в команде Ельцина, он все больше и больше становится чужим игроком. Вместо того чтобы честно подать в отставку, встает на путь прямого конфликта. Это — предательство.
Не так все просто и в ближайшем окружении Ельцина.
У него на столе появляются материалы о поездке супруги министра безопасности Баранникова (и супруги генерала Дунаева, замминистра МВД) в Швейцарию за счет фирмы «Сеабеко».
Ельцин вынужден отправить в отставку Баранникова, своего важнейшего министра. Хасбулатов немедленно созывает экстренную сессию Верховного Совета, чтобы «рассмотреть вопрос о конституционности» президентского указа. Однако тут же вопрос закрывает: обиженный Ельциным Баранников ему нужен, может быть, гораздо больше, чем восстановленный в своих правах.
В ситуации с Баранниковым участвует еще один генерал — «генерал Дима», Дмитрий Якубовский.
Якубовский — сборщик компромата и крупнейший авантюрист своего времени — находится в состоянии войны с российской прокуратурой, которую возглавляет Валентин Степанков, другой генерал, теперь уже прокурорский, который то и дело появляется на политической авансцене, в частности, по поводу указа от 20 марта, вместе с Руцким, Хасбулатовым и Зорькиным.
В аэропорту «Шереметьево» разыгрывается настоящая рукопашная битва за Якубовского — между милицией, которая действует по ордеру прокуратуры, и спецназом «Альфа».
Знает ли Ельцин обо всем этом?
Не может не знать.
Перебегающие от одного центра власти к другому министры, прокуроры, вице-президент — лишь одна, внешняя сторона углубляющегося кризиса.
Гораздо хуже, что кризис двоевластия разрушает и экономику.
Верховный Совет утверждает инфляционный бюджет. Ельцин вносит в него поправки, Верховный Совет отклоняет их.
Программа приватизации наталкивается на жесткое сопротивление в регионах.
По сути дела, в каждом регионе России, в каждом городе действуют, независимо друг от друга, два руководителя, два начальника (руководитель областного Совета и глава местной администрации, губернатор), порой отменяющие приказы друг друга, порой издающие взаимоисключающие распоряжения. Постепенно действия исполнительных органов на местах дезорганизуются, превращаются в фикцию.
В июле 93-го Центробанк проводит обмен купюр (старых, советских, на новые российские рубли).
Вот что пишет об этой «геращенковской» денежной реформе в своей книге Егор Гайдар:
«В конце июля меня срочно разыскивает по телефону предельно взволнованный первый заместитель министра финансов А. Вавилов. Говорит, что он остался в министерстве за главного, министр Борис Федоров — в США, и что только сейчас объявлено о денежной реформе. Министерство финансов вообще о ней не проинформировано, к ней не готово. Население возмущено. Вавилов сообщает детали: сумма обмена установлена на предельно низкой отметке, сроки обмена — сжатые, формальное обоснование — защита от рублевой интервенции республик. Спрашивает: можно ли, по моему мнению, что-то предпринять, поправить? Все это звучит, мягко говоря, несусветной ерундой. Разумеется, проблема общей (со странами СНГ. — Б. М.) наличности при раздельном безналичном обороте реальна и серьезна. Она многократно обсуждалась, и единственно разумный путь ее решения — прекращение безвозмездной, по заявкам государств СНГ, отгрузки туда из России вагонов наличных денег. Если хотят покупать рубли — пожалуйста, Россия их может экспортировать, как мы получаем доллары США, но ведь не за спасибо же!..Теперь же разом нарушались соглашения, дезорганизовывался хозяйственный оборот. Ну и, естественно, в очередной раз открывался простор для финансовых манипуляций. Инфляционный импульс послан, действует. Единственное, что еще можно и нужно сделать — снизить социальные издержки. Дозвонился до президента, сказал, что, на мой взгляд, совершается серьезная ошибка. Чтобы ее как-то сгладить, нужно увеличить сумму, подлежащую обмену, продлить его сроки и сохранить пока в обращении мелкие купюры. Президент согласился сразу, видимо, был готов к такому решению. Но все это, разумеется, уже не могло компенсировать политический и экономический ущерб.
О лучшем подарке оппозиция, пожалуй, не могла и мечтать. К концу лета стало ясно, что экономическая политика правительства разваливается на глазах. Принятые обязательства по объему госзакупок зерна и ценам на него, далеко превосходящие возможности государства, усугубили бюджетный кризис, сделали его неуправляемым».
Новость об обмене денег Ельцин узнает на Валдае, в своей резиденции, где проводит очередной отпуск. Наине Иосифовне звонит дочь Лена: «Оказалось, что они вечером уезжают в Карелию, в поход. Валера, ее муж, получил вчера отпускные… И вдруг сегодня утром объявляют, что в России будут иметь хождение только новые деньги, а старые, в сумме 30 тысяч, можно будет обменять в сбербанках. А Валера все отпускные получил в старых купюрах» («Записки президента»).
Тридцать тысяч — это много или мало, спросит современный читатель. Отвечу: очень мало. И еще деталь: семья президента ничего не знает об обмене денег. А знает ли сам президент? Ельцин отвечает на этот вопрос в книге: знал, конечно, знал. «Я знал дату, когда предполагалось совершить эту акцию. Причина обмена заключалась в том, что после появления купюр нового образца на Россию обрушился мощный вал старых денег из бывших республик Союза. Выдержать такой поток оказалось невозможно. Центробанк и правительство приняли решение изъять из обращения старые купюры».
Об обмене денег никто в стране не знает, иначе операция теряет смысл, Ельцин в разговоре с взволнованной женой логично замечает, что и его семья не должна ничего знать. Как удалось разрешить ситуацию с отпуском Валеры и Лены, история умалчивает. Но драконовскую технологию обмена денег изменили, минимальную сумму обмена повысили. Для всей страны. Панику удалось погасить.
Ельцин настаивает: он знал об обмене купюр, просто, как дисциплинированный, государственный человек, держал эту информацию в секрете. Но странное ощущение от этого отрывка. Ощущение, что некоторые существенные детали обмена он не знает, находясь там, на Валдае, в отпуске.
…О чем еще он не знает, о каких действиях и приготовлениях правительства, Верховного Совета и других центральных органов?
Почему вообще все эти летние месяцы (включая май) он остается в странной неподвижности?
Почему все время откладывает свои «решительные меры» (помните те листочки, которые он так и не вынул на съезде из кармана пиджака еще в декабре)?
Во всех мемуарах, написанных соратниками Ельцина (тем же Гайдаром, помощниками президента, главой его администрации Сергеем Филатовым), вы найдете одно и то же утверждение: Ельцин
Это и так, и не так.
Во-первых, политика — не военная операция, где всё рассчитано по часам: когда идет артподготовка, когда наступление.
Во-вторых, человек, даже такой импульсивный и решительный, как Ельцин, во многом действует по инерции, в соответствии с ранее сформировавшимися установками.
Он пришел к власти как лидер, который в условиях военного переворота 1991 года стоял на страже конституции и законности. Это его главное кредо, формула успеха двухлетней давности.
Модель реформы, с которой он пришел к власти, — сугубо мирная, «строительная». Модель экономического рывка. Да, Центробанк, подчиненный Верховному Совету (по сути дела, неуправляемый орган, который железным ломом въехал в колесо реформы), раскрутил в стране гиперинфляцию. И проводя репрессивный по сути обмен денег, пытается ее остановить. Ну и что? Модель-то осталась. Он обещал привести ее в исполнение. Для этого нужна политическая стабильность. Мир. Спокойствие. А чтобы обеспечить этот мир и спокойствие — нужно время. Что же он скажет народу, если вместо мира обрушит на его голову войну?
И последнее, может быть, самое важное. Ельцин помнит 91-й год. Прекрасно знает, что такое в нынешней России — «чрезвычайные меры», «особый порядок управления» и т. д. Это грозная, вулканическая реальность, где каждый шаг может оказаться шагом в пропасть. Он не хочет этих шагов. Он их боится.
Медлительность и осторожность, как я уже говорил, — отлично ведомы этому крутому, решительному человеку. Это часть его глубокой интуиции, природного инстинкта, который иногда дороже самой безоглядной смелости. Инстинкт выживания, инстинкт борьбы — это слагаемые его успеха, такие же важные, как и его смелость.
Итак, что же делать? Поменять свою внутреннюю «программу», свои установки? Стать другим лидером? Именно к этому толкают его советники, эксперты, ближнее окружение — изменить алгоритм действий, возвыситься над текущей политической ситуацией таким образом, чтобы не зависеть от нее, объявить свою волю, волю президента, истиной в последней инстанции. По сути дела, ввести в политические установления новой страны элементы диктатуры. Подталкивают к этому и политические противники всех мастей — непримиримая оппозиция, Хасбулатов, Руцкой: подзуживают, провоцируют. Скорее, скорее! Ельцин, нарушивший конституцию, для них — удобная, желанная мишень.
Да, Ельцин считал, что на какое-то короткое переходное время его указы должны иметь приоритет над решениями съезда, но он совершенно не собирался так работать. Это не его политика.
Но и сохранять свою программу в прежнем виде, программу 91-го года, то есть сохранять в полной неизменности все свои прежние политические принципы, он тоже не в состоянии. Страна катится в пропасть двоевластия.
Снова отвлекусь на личные воспоминания…
События 1 мая 1993 года застали меня с семьей и с нашими друзьями под Москвой, в тихой Малаховке. Мы варили на костре огромную импортную банку с неизвестным аргентинским блюдом (из гуманитарной помощи), бегали по лесу с детьми, в общем, отдыхали. Когда кто-то рассказал, что происходит в Москве (услышали по радио), я еще подумал: господи, какое счастье, что мы здесь, что нас не трясет от этих новостей, от этих застывших в ожидании беды московских улиц. Примерно так же поступали в то время миллионы россиян: наступил дачный сезон, люди поехали «сажать картошку», сеять, ремонтировать свои дома, строить… Это настроение как бы противоречило поступательному движению ельцинской политики после апрельского референдума: начались летняя апатия, дачная вялость, отпускное равнодушие ко всему. «Ельцин теряет очки», «потеряно преимущество, потеряна политическая инициатива, полученная в апреле», — писали тогда газеты.
Вместе со всей страной он тоже как бы «отдыхал», терял эти самые очки, растрачивал наступательный порыв…
В течение лета (мы это увидим в дальнейшем) Ельцин не раз пытался договориться с руководством съезда, принять совместную программу действий. Однако главные события происходят не в залах Кремля, где переговоры раз за разом заходят в тупик. Главные события — как раз там, на Валдае, потому что именно там зреет его окончательное решение. Он пытается по-новому сформулировать принципы и границы своего вмешательства в гибельную ситуацию двоевластия. Там он, наконец, понимает, что вынужден вмешаться, вынужден пойти на очередное обострение. И в конечном счете — поменять свою личную программу. Поменять — да, но как?
«В Москве оживленно обсуждались слухи о серьезном заболевании Ельцина, — пишет в своей книге политолог Лилия Шевцова, — в связи с чем он был якобы полностью лишен возможности контролировать ситуацию. В августе 91-го никто не поверил, что президент Горбачев болен. “В августе 93-го многие не хотели верить, что президент Ельцин здоров”, — писали газеты. В начале месяца ряд крупнейших западных изданий вышел с полосами, посвященными здоровью российского президента. “За последние три недели здоровье Ельцина ухудшилось настолько, что он уже не владеет ситуацией, — писала западногерманская журналистка Эльфи Зигль. — Об этом говорят люди из окружения президента”. Немецкие журналисты были обычно сдержанны и ничего не публиковали без проверки. Слухи стали настолько активными, что представитель президента вынужден был сделать официальное заявление о том, что Ельцин находится в “добром здравии”. Это еще больше усилило нервозность: ясное дело, если Кремль убеждает, что всё в порядке, значит, президент болен. Президент тем временем продолжал свой отпуск на Валдае, что только усиливало подозрения в его дееспособности. Наконец, лидеры “ДемРоссии” решили поехать к Ельцину и убедить его срочно возвратиться в Москву и “показаться” народу. Один из “убеждавших”, Сергей Юшенков, по возвращении смущенно говорил, что президент “прекрасно выглядит” и играет в теннис. Но никто этому не верил. Между тем Хасбулатов возвратил в Москву разъехавшихся было депутатов — на всякий случай. В который раз все застыли в тревожном предчувствии, что вскоре нечто должно произойти. Вновь всеобщее внимание обратилось к Руцкому, который был единственным легитимным наследником Ельцина. Собственно, роль наследника была его единственной функцией. Угроза, исходившая от Руцкого, несомненно стала одним из факторов, склонивших чашу весов в соответствующем направлении. Появились косвенные признаки, что ельцинская команда решилась на прорыв. И вот Ельцин в Москве, немного грузноват, тяжел, но отнюдь не в “тяжелейшем состоянии”».
Да, журналисты, оппозиция, депутаты, политологи внимательно наблюдали за Ельциным тем летом и осенью, но никто из них, похоже, не заметил, что с Валдая вернулся другой Ельцин. Новый.
Программа сформулирована. Всё решено. Да, он пойдет на чрезвычайные меры, но останется при этом в рамках своей
Не отмена конституции, а рождение новой. Не разгон съезда, а создание нового (как он с гордостью пишет в «Записках президента»), «профессионального» парламента. С участием реальных политических партий (в том числе и коммунистов). Не отмена государственных институтов, а придание им нового качества. Он будет создавать, строить новое государство, и те, кто не понимает этого, просто окажутся в дураках. Если парламент отказывается принимать новую конституцию, ее примет народ на референдуме.
Отвлекусь на некоторое время от хроники тех дней. Подумаю (вместе с вами): насколько прав был Ельцин, форсируя принятие новой конституции? Ведь до сих пор ее, эту ельцинскую конституцию, упрекают политологи и публицисты (и к каждому юбилею конституции в прессе разгораются дискуссии по этому поводу) и, может быть, справедливо, в том, что она не до конца сбалансирована, что российский парламент в новой политической конструкции оказался слишком слабым. Были ли у него другие варианты?
Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся представить себе этот горящий, гудящий, тревожный 93-й год. Локомотив, который разогнал Ельцин, оказался в ситуации чудовищного торможения, мог попросту сойти с рельсов. Останавливаться Ельцин не умел, не мог. Он всегда острее других чувствовал эту опасность — сползания страны в неуправляемый хаос.
В начале лета начинается работа Конституционного совещания. Оно, кстати, сразу же подвергается критике со всех сторон. Структура этого органа выглядит хаотичной, полномочия неопределенными. Политические обозреватели грустно шутят, что Ельцин собрал сюда «каждой твари по паре».
Своих представителей прислали регионы России, политические фракции съезда народных депутатов (в том числе самые непримиримые), «общественные организации», словом, это еще одно Учредительное собрание. Не хватает матроса Железняка. Но тут же является и он. Работа Конституционного совещания в первый же день начинается со скандала. Хасбулатов (после торжественного доклада Ельцина о том, как нужна новая конституция новой России) подбегает к трибуне и требует предоставить ему слово вне регламента. Ельцин слова не дает, Хасбулатов выходит из зала вместе со своими сторонниками и прямо на лестнице объявляет этот орган неконституционным, а любые его решения — нелегитимными. Долой Конституционное совещание! Один из «непримиримых» (депутат Слободкин) начинает бесноваться уже в зале, его выносят на руках охранники.
Кстати, Ельцин призывает Хасбулатова и ушедших с ним депутатов вернуться в зал. На следующий день депутаты возвращаются, Хасбулатов — нет.
Работа Конституционного совещания, однако, в результате уперлась в совершенно другую проблему, о которой в начале, в общем-то, даже не думали. Руководители национальных республик отказываются подписать декларацию об основах конституции, поскольку недовольны тем, как в этой декларации прописаны их права (суверенитет Татарстана, Башкортостана и других, менее крупных автономных регионов). Печальный призрак горбачевского Союзного договора снова возникает в Кремле. Ельцин прекращает работу Конституционного совещания — уже в июле, перед отпуском.
…Пустая работа, отнявшая у него три месяца?
Ничего подобного. Эксперты, юристы, советники, несколько рабочих групп за эти месяцы, по сути дела, сводят воедино два проекта конституции — «румянцевский», то есть подготовленный группой депутатов во главе с Олегом Румянцевым, и президентский, подготовленный в администрации. «За месяц с небольшим, — пишут помощники Ельцина, — был выработан проект Конституции, по которой Президент становился главой государства с широкими полномочиями в сфере исполнительной власти». Текст конституции (в котором конечно же побеждают принципы президентской, а не парламентской республики), наконец, становится явью.
Теперь за него уже можно голосовать.
Однако заблуждением было бы считать ельцинскую конституцию — скороспелой, написанной наспех, в угоду политическим реалиям. Вот свидетельство Валерия Зорькина, председателя Конституционного суда и в те годы довольно острого оппонента президентской команды: «В 1990–1991 годах мне довелось руководить группой экспертов Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России. На фоне острой политической борьбы того периода в Комиссии велась плодотворная конструктивная работа по проектированию конституционных основ новой демократической России…
Свидетельство Зорькина неоценимо. Российская конституция рождалась по решению съезда, как поручение депутатского корпуса, а вовсе не только по воле президента. Дело в том, что старая, советская Конституция РСФСР была построена на принципах ленинского и сталинского социализма, основополагающим моментом ее было социалистическое общенародное государство, а «руководящей и направляющей силой» общества, «ядром политической системы» называлась коммунистическая партия. Были в конституции и другие понятия, утратившие свою актуальность после 1991 года. Понимая это, съезд еще в 1990 году, когда существовал СССР, поручает Конституционной комиссии разработать новый текст, в котором правовая философия Основного закона должна исходить из реалий новой страны. Но принять новую конституцию, как хотел Ельцин, уже на Втором съезде народных депутатов России, не удалось. Лишь через три года текст был окончательно доработан и утвержден.
Так что же происходит с Председателем Верховного Совета? Почему Хасбулатов пытается сорвать работу по подготовке конституции, не выполняя решения своего же парламента?
Если зимой и весной Ельцин постоянно встречается и созванивается со спикером, ведет переговоры, то осенью 93-го эти контакты прекращаются.
Хасбулатов — по-прежнему любимый персонаж политических хроник и комментариев, но при этом фигура уже скандальная.
Оскорбления во все стороны, наглые реплики по любому поводу, интриганство и цинизм, ставшие стилем. Описывать все это сегодня не очень интересно, но для полноты картины — стоит.
«Червяки» — это по поводу министров гайдаровского правительства, «заезжая бабенка» — по поводу высказываний Маргарет Тэтчер, приехавшей с визитом в Россию, постоянные намеки на неадекватность Ельцина (всем очевидцам памятен грубый жест Хасбулатова, когда он щелкнул рукой по горлу, показывая, «в каком состоянии» президент принимает свои решения).
Однако отдельные его реплики не так важны в общем контексте событий. Спикер Верховного Совета и не пытается предстать перед телекамерами в каком-то более или менее «цивильном», благородном обличье, стать популярным, хоть чуть-чуть приблизиться к идеалу политического лидера. Вся энергия Хасбулатова направлена на что-то другое. И это видно всем.
Хасбулатов — умный человек, и он прекрасно понимает, что в его руках находится мощнейший инструмент: действующая Конституция Российской Федерации. Его агрессия — явная, неприкрытая, столь несхожая с поведением в 1991–1992 годах, — свидетельствует об одном: спикер готовится к последнему и решительному бою.
Так ведет себя человек, понимающий, какой реальной силой он обладает. Какую же силу вдруг обрел этот вроде бы тихий профессор экономики, ничем, кстати, себя не проявивший после событий сентября — октября?
Такая сила — Съезд народных депутатов.
…Именно с этого момента слово «депутат» (вспомним на секунду, каким статусом оно обладало, когда с понятием «депутат» ассоциировались совсем другие имена — Сахаров, Собчак, Старовойтова) становится в народе ругательным.
Но гораздо важнее другое: съезд и Верховный Совет к этому моменту вышли за рамки любых современных моделей парламента. Единственная аналогия, которая приходит, — это ассамблея времен Великой французской революции.
Съезд и Верховный Совет — не лоббистский орган, проталкивающий те или иные законы, постановления, решения, выгодные какой-то социальной группе или классу. Ни о каких долгосрочных программах и законах речь в кулуарах съезда уже не идет. Сиюминутная политическая борьба — единственное, что волнует депутатов.
К лету 93-го многие конструктивно настроенные депутаты уходят из руководства комитетов или переходят на работу в правительство (вслед за вице-спикером Сергеем Филатовым, которому в начале года Ельцин предложил стать руководителем своей администрации). За съездом не стоят никакие партии или движения, потому что он сам себя осознает как единственную политическую силу. Съезд хочет руководить страной без президента и даже без правительства. При этом — не имея никакой персональной ответственности.
«Коллективное безумие» — так называет Ельцин этот феномен в своих мемуарах. Так что же в реальности представляет собой этот орган? Съезд и Верховный Совет — особый тип социального организма, существующий в переходную эпоху, самодостаточный, замкнутый, агрессивно перехватывающий все властные полномочия.
Такой стихией грех не воспользоваться. И возможности, предоставленные Председателю Верховного Совета съездом и конституцией, блестяще используются им в своей политической борьбе. Отныне Хасбулатов — самостоятельная фигура, борющаяся за власть. Поэтому состояние агрессии, в котором он постоянно находится, вполне объяснимо.
Позднее Хасбулатов будет объяснять все события 1993 года совсем иначе. По следам горячих октябрьских дней он выпустит книгу своих дневников, писем, записок и в ней, в частности, скажет: «…Правдой является то, что именно Верховному Совету навязывалась конфронтация. Правдой является то, что Председатель ВС страдал более всех от этой конфронтации. Правда и то, что если бы председатели палат, члены Президиума вместо того, чтобы заниматься склоками и интригами, вместе с ним попробовали бы активно повлиять на Кремль, возможно, трагедии не случилось бы».
Итак, во время отпуска Ельцин начинает готовить свои главные решения.
Хотя к этому моменту несколько важных шагов уже сделано. Он проводит резкую разграничительную линию между собой и вице-президентом: Руцкой окончательно лишается доверия, он отстранен от работы на всех своих официальных постах — в том числе в комиссии по борьбе с коррупцией и в федеральном центре по развитию сельского хозяйства. Можно сказать, что Руцкой становится во власти фигурой нон-грата. Ельцин очищает силовые министерства от ненадежных, с его точки зрения, людей.
И, наконец, он возвращает Гайдара в правительство (это происходит уже осенью, в сентябре).
Примечательная деталь: объявить о том, что главный враг оппозиции возвращается в правительство в качестве вице-премьера, Ельцин хотел на всероссийском совещании экономистов, но сделал это во время своего посещения дивизии имени Дзержинского. Вместо того чтобы объявить о возвращении Гайдара на фоне разговоров об экономической программе — Ельцин делает это на фоне показательных выступлений спецназа. Это осознанный жест. Он подзывает всем, что готов побороть махину, которая стоит против него…
Одна из главных забот Ельцина этого периода — постоянная работа с силовиками. Он понимает, что сила, в том числе вооруженная, ему вскоре может потребоваться.
Слухи о том, что президент готовит решительное наступление, вскоре просочились в прессу. Да и сам Ельцин постоянно делал намеки, что предстоит «жаркая осень».
Одними из первых (в середине сентября) о ельцинском «наступлении» узнают Виктор Черномырдин, Егор Гайдар и Сергей Филатов (то есть премьер-министр, вице-премьер и глава администрации). Ельцин обозначает сроки — 20 сентября.
Однако у «тройки» его решение восторга, мягко говоря, не вызывает. Несмотря на то, что указ о назначении новых выборов и роспуске съезда уже подготовлен (в его составлении принимали участие помощники президента Краснов, Батурин и другие, естественно, занимался указом и первый помощник Виктор Илюшин) и решение
Именно эти трое прекрасно знают, что конструкция, которая существует сейчас, ведет страну к новому кризису двоевластия. Кроме того, такое поведение в дни «решительных действий» может быть воспринято президентом как отступничество. Наконец, странным это поведение кажется и в чисто личном плане: Филатов вообще мягкий, уступчивый человек, Черномырдин — гибкий, опытный аппаратчик, прекрасно чувствующий политическую конъюнктуру, Гайдар, казалось бы, — из числа тех демократов, кто давно призывал Ельцина к «наступлению». Чем же можно объяснить их демарш?
Все трое считают, что время для наступления упущено. Что упразднять съезд с политической сцены надо было еще в апреле. А сейчас не время. Сейчас власть не готова к жесткому варианту.
Гайдар встречается с Черномырдиным и просит его уговорить президента перенести сроки «наступления», поскольку сейчас эти шаги крайне несвоевременны.
Затем Черномырдин говорит с президентом, приводя ему аргументы Гайдара и свои собственные, а Гайдар пытается лично встретиться с Б. Н.
Ельцин дважды откладывает, переносит эту встречу. В их телефонном разговоре, как пишет Гайдар в своей книге, Б. Н. берет долгую паузу, вроде бы сначала задумывается, а потом решительно произносит: нет, встречи не будет.
Он умеет говорить «нет».
Однако самый неприятный сюрприз ждет Ельцина на встрече с силовиками в Ново-Огареве 18 сентября. Все министры — обороны (Грачев), МВД (Ерин), безопасности (Голушко) — также в один голос убеждают его перенести сценарий чрезвычайные мер на более поздние сроки. Мотивируют это тем, что «неудобно» устраивать в Москве силовые акции в тот момент, когда на очередную встречу съехались главы стран СНГ. Но главное: разоружить Белый дом бескровно уже невозможно. Днем раньше, 17 сентября, Хасбулатов срочно созывает внеочередную сессию Верховного Совета. Хасбулатову известно всё.
В ситуации, когда тебя в самом начале опасного пути хватает за руки твое ближайшее окружение, когда тебя оставляют в одиночестве, не желая разделить ответственность, — в подобной ситуации лишь безумец не отступит от намеченного плана.
Безумец ли он?
Об этом стоит сейчас задуматься, пока еще не поздно, Б. Н.!
Однако думать, собственно говоря, не о чем. Главное — что он готов к выполнению задуманного (в отличие от декабря и марта). Готовы ли все остальные — его волнует гораздо меньше. Если внутри него самого всё сложилось, выстроилось в единую систему — он не отступит. Ничего страшного пока не происходит. И Гайдар, и Черномырдин, и силовики, по сути, его союзники. Стратегически они с ним. И он решает выступить именно сейчас.
21 сентября Ельцин, наконец, наносит долгожданный удар.
Он вновь выступает с телеобращением.
Страна в эти минуты включает телевизор громче, чтобы слышать каждое его слово.
«Мы с вами надеялись, что перелом наступит после апрельского референдума, на котором граждане России поддержали президента и проводимый им курс. Увы, этого не произошло.
Последние дни окончательно разрушили надежды на восстановление какого-либо конструктивного сотрудничества.
Решения по бюджету, приватизации, многие другие усугубляют кризис, наносят огромный вред стране.
Все усилия правительства хоть как-то облегчить экономическую ситуацию наталкиваются на глухую стену непонимания.
Не наберется и нескольких дней, когда Совет министров не дергали, не выкручивали руки.
…Уважаемые сограждане! Единственным способом преодоления паралича государственной власти в Российской Федерации является ее коренное обновление на основе принципов народовластия и конституционности.
Действующая Конституция не позволяет это сделать. Действующая Конституция не предусматривает также процедуры принятия новой Конституции, в которой был бы предусмотрен достойный выход из кризиса государственности.
Будучи гарантом безопасности нашего государства, я обязан предложить выход из этого тупика, я обязан разорвать этот губительный порочный круг».
Ельцин делает паузу и отпивает глоток из чашки с чаем, стоящей на столе.
«Облеченный властью, полученной на всенародных выборах в 1991 году, доверием, которое подтверждено гражданами России на референдуме в 1993 году, я утвердил своим указом изменения и дополнения в действующую Конституцию Российской Федерации.
…Высшим органом законодательной власти становится Федеральное собрание Российской Федерации — двухпалатный парламент, работающий на полностью профессиональной основе.
Выборы назначены на 11 и 12 декабря 1993 года…
Я за то, чтобы через определенное время после начала работы Федерального собрания были проведены досрочные выборы Президента.
И только вы, избиратели, должны решить, кто займет этот высший государственный пост России на очередной срок».
Итак. Краткое содержание знаменитого ельцинского указа № 1400 было таково. С 21 сентября Верховный Совет и Съезд народных депутатов объявлялись распущенными, их полномочия прекращались. Впрочем, депутатам давалась полная гарантия сохранения их привилегий: они могли вернуться на работу, которой занимались до избрания, и каждый из них мог выставить свою кандидатуру на выборах в Федеральное собрание. Введение режима чрезвычайного положения не предусматривалось, за гражданами России сохранялись все права и свободы…
Бомба взорвалась.
Выступление президента транслировалось вечером. Через два часа Хасбулатов объявил, что Ельцин больше не является президентом. Еще через три часа собравшиеся в здании Верховного Совета депутаты проголосовали за отстранение президента от власти, исходя из ранее принятых съездом поправок к конституции. На этот раз «кворум» был невелик, всего 146 депутатских голосов потребовалось для этого исторического решения. Вице-президент Александр Руцкой объявлен президентом. Он принес присягу, а затем произнес программную речь, основная часть которой посвящена экономической реформе — она вновь объявлялась преступной и антинародной. Руцкой объявил о своем намерении отойти от всех ее главных принципов — приватизации, свободного рынка, монетаристского бюджета — и вернуть страну к регулируемым ценам и плановой экономике.
Тот же состав депутатов назначил новых руководителей силовых ведомств: Баранникова — министром госбезопасности, Дунаева — министром внутренних дел (оба совсем недавно были уволены Ельциным), Ачалова — министром обороны.
Кресло премьер-министра, вопреки ожиданиям, оказалось свободным.
В Кремле тем временем готовился ответ на эти, вполне ожидаемые, действия Верховного Совета.
Первый вице-премьер Егор Гайдар 21 сентября проводит экстренное совещание рабочей группы, на котором впервые формулируются тактика президентской стороны по отношению к Белому дому (где тогда, напомню, располагался хасбулатовский Верховный Совет) и конкретные шаги в осуществлении этой тактики: отключение всех коммуникаций — электричества, воды, телефонной связи.
Черномырдин вначале отказывается подписать эти распоряжения, но через день неохотно соглашается.
Вокруг Белого дома выставляется оцепление. Но оцепление не жесткое — туда и оттуда можно выходить всем, кто предъявляет какие-либо официальные удостоверения: депутатские, журналистские и т. д.
Сквозь оцепление умудряются просочиться и те, кто идет в Белый дом, чтобы воевать против «антинародного режима», их сотни: «баркашовцы», тереховцы, макашовцы, активисты Анпилова[22], казаки…
Они вооружаются. Сквозь оцепление в Белый дом проносят всё новые партии оружия. В этом смысле ситуация становится всё хуже и хуже.
Оружия в Белом доме вполне достаточно. Да и продовольствия немало. «Мирный» план явно не срабатывает. Одни депутаты в Белый дом приходят, приезжают, другие покидают его навсегда, но дело уже не в них. Белый дом сам по себе становится все более опасным очагом политической напряженности и прямой вооруженной угрозы.
Между тем вплоть до 3 октября Кремль действует в рамках принятой концепции, которую вице-премьер правительства Сергей Шахрай (тоже, кстати, бывший депутат) сформулировал так: «Не вводить чрезвычайное положение, не арестовывать бывших народных депутатов, предотвратить кровопролитие в Москве и регионах, не поддаваться на провокации». Всю эту концепцию можно передать одним простым словом: ждать.
Ждать, пока противостояние рассосется само, пока депутатам надоест сидеть в Белом доме, пока они не устанут издавать свои воззвания, ждать, пока они не поймут, что новые выборы неизбежны.
Ждать, ждать, ждать…
Эта идея кажется наивной. И даже больше того — может быть, именно эта концепция, в силу своей пассивности, привела к трагическому развитию событий. Но давайте попробуем взглянуть на нее, исходя из логики двух основных игроков — Ельцина и его команды, с одной стороны, и руководства Белого дома во главе с Хасбулатовым — с другой.
И те и другие принимали участие в свержении ГКЧП в августе 1991 года. Подробности путча еще свежи в памяти.
Кремль старается не повторить ошибок ГКЧП. Именно введение военного положения, бронетехника и солдаты на улицах привели к взрыву народного возмущения. Значит, сегодня их быть не должно. Кремль всеми силами дистанцируется от логики «переворота», задача команды Ельцина — доказать, что меры президента — единственно возможные для преодоления кризиса, а главное — мирные. Иначе — гражданская война, чего Ельцин так не хотел.
Другая логика у Белого дома: именно жесткая непримиримость, опора на «живое кольцо», на защитников Белого дома, привела к тому, что власть ГКЧП рухнула. Значит, нужно действовать таким же образом, как в августе 1991 года. И даже еще жестче!
Что значит «еще жестче», Москва скоро узнает.
А пока — репетиция.
«Первая кровь пролилась вечером в четверг, 23 сентября. Восемь мужчин в камуфляже застрелили милиционера и ворвались в штаб-квартиру Объединенных вооруженных сил СНГ на Ленинградском проспекте. Затем нападавшие разоружили двух охранников, забрали их оружие и скрылись. Пожилая женщина, стоявшая у окна в своей квартире, была убита случайной пулей. Свидетели опознали в одном из участников нападения Станислава Терехова, председателя Союза офицеров… Виктор Анпилов, лидер воинствующего левого движения “Трудовая Россия”, выступая с балкона Белого дома во время нападения, сказал собравшимся, что Союз офицеров штурмует штаб-квартиру… и призвал демонстрантов присоединиться к штурму..» — так газеты отчитываются о первом вооруженном противостоянии сентября.
Собственно, уже до этого трагического инцидента стало понятно, что «мирный сценарий» постепенного выдавливания сторонников Верховного Совета и самих депутатов из Белого дома не срабатывает. На повестку дня встал вопрос о том, как разоружить сторонников ВС. Лужков направляет ультиматум Руцкому, Хасбулатову, Ачалову, Баранникову и Дунаеву, в котором требует, чтобы всё огнестрельное оружие и боеприпасы были переданы правоохранительным органам.
Однако у тех, кто сидит в Белом доме, — свои аргументы.
Без воды и без электричества люди, находящиеся там, начинают чувствовать себя как в осажденной крепости. Отчаяние и психоз совершенно не способствуют ведению с ними мирных переговоров. Из мирного поначалу противостояния вырастает логика гражданской войны.
Это настроение передается не только сидящим в здании парламента людям, оно проникает и на улицы, в гущу демонстрантов и сочувствующих.
То, что происходит в эти теплые осенние дни на улицах Москвы и в самом Белом доме, можно назвать так — предчувствие гражданской войны. Общество резко раскалывается на два лагеря. Политика вторгается буквально в каждую семью, иногда дети и родители, братья и сестры становятся в эти дни непримиримыми врагами. Как в 1918 году Обстановка накалена до предела. Учащаются столкновения с милицией. Милиционеры, которым отдан приказ «не допускать жертв и столкновений» (они выходили в эти дни на дежурство без табельного оружия), с каждым днем все больше озлобляются, поскольку чувствуют свое бессилие перед этой все возрастающей, осознающей свою силу, все более гневной и яростной толпой.
У уличных беспорядков во всех странах и во все времена своя определенная логика. Люди, протестующие против действий властей, выходящие безоружными против хорошо экипированных и обученных полицейских отрядов, чувствуют свое моральное преимущество, которое помогает им идти на штурм любых заграждений.
Все та же логика гражданской войны бросает их вперед. Они охвачены героическим духом сопротивления, а полицейские — жестоки и свирепы.
Это классика уличных баталий, и в Москве 93-го, увы, сценарий был точно таким же.
Вот лишь несколько свидетельств очевидцев, собранных с той стороны, антиельцинской, на одном из «патриотических» сайтов, посвященных событиям 3–4 октября и до сих пор размещенных в Интернете.
«1 октября. Я был свидетелем массового избиения граждан Москвы, собравшихся у памятника А. С. Пушкину. Операцию по устрашению митингующих и зверскому избиению граждан осуществлял отряд спецназа Софринской бригады МВД в составе 25–30 человек. У них униформа черно-коричневого цвета с зеленым и бежевым. В беретах. Это произошло между 16 и 19 часами. Руководил отрядом рослый стройный майор. Тактика их действий: неоднократно атаковали граждан, находящихся у станции метро “Пушкинская”. Причем нещадно нападали на молодых парней и граждан, которые пытались протестовать, уговаривали так называемых “бойцов” этого отряда прекратить избиение людей. Я видел, как эти спецназовцы совершили четыре атаки, и каждый раз избивали молодых людей, сваливали их на землю, били дубинками и ногами по голове, оглушив. Тащили их в свои автобусы, и там снова избивали на полу. Одну группу митинговавших загнали в метро “Пушкинская”, гнались за ними по эскалатору, который был в эту минуту выключен. У эскалатора внизу оглушили ударом дубинки по голове мальчика 16–17 лет, били его ногами и затем потащили в автобус. Позор Ерину и его приспешникам! Малахов Г., доктор исторических наук, профессор».
«30 сентября. 17 часов 30 минут. Метро “Баррикадная”. ОМОНовцы со щитами, автоматами стали загонять нас в здание метро. Народ погнали по эскалатору и, раздвигая щитами по центру, пытались вдавить людей в поезда. От ОМОНовцев пахло водкой. При сопротивлении я получила удар в грудь, в результате чего стала задыхаться и терять сознание. При попытке прорваться один ОМОНовец ударил меня со всего размаха по левой ноге. Мне помогли выйти, взяв под руки, двое мужчин. Они довели меня до Краснопресненского райсовета, где была оказана медицинская помощь, что там зафиксировано. В результате пережитого пропал голос. Гришечкина Т., 58 лет».
Те, кто выступал в эти дни на стороне Белого дома, были отнюдь не однородной массой[23]. На сторону лидеров непримиримой парламентской оппозиции встали не только мирные граждане, возбужденные и ошеломленные тем, что происходит на улицах Москвы, не только любопытные прохожие, втянутые в водоворот событий энергией толпы. Внутри Белого дома собрались и те, кто хотел воевать по-настоящему, с применением огнестрельного оружия. «Боевиков», как их называли тогда газеты, объединяло одно: жажда борьбы, готовность стрелять, драться. Никакой общей политической платформы у них не было. Объединяющим моментом, как ни странно, выступил махровый национализм, расизм (это у сторонников возврата к интернациональному СССР!).
Людей вокруг Белого дома и во время демонстраций запугивают мифической боевой организацией «Бейтар», члены которой якобы будут зверствовать по приказу властей. Никаких боевых отрядов у этой гуманитарной сионистской организации, конечно, нет, как, собственно, нет в Москве и ее самой, но списки ее членов ходят по рукам. Так же как ходят и слухи о страшных «бейтаровцах», которые «придут и будут всех убивать, насиловать беременных, пить кровь детей».
Фальшивка, причем грубая, но в дни противостояния очень действенная. Страх и ненависть сплачивают толпу лучше любых «конституционных» лозунгов. Именно в эти дни руководитель РНЕ Баркашов дает интервью, в котором превозносит Гитлера. Именно в эти дни с балкона Белого дома генерал Макашов призывает «повесить всех жидомасонов».
«Речь Баранникова прервала потасовка, вспыхнувшая у него за спиной. Два охранника министра из числа членов РНЕ (со свастиками на рукаве) избивали худого бородатого мужчину. Поскольку милиционеры наблюдали за этим, не вмешиваясь, — дело происходило не на их территории — Баранников приказал, чтобы этого мужчину подвели к нему. Избитый… объяснил на ломаном русском языке, что он американский корреспондент. “Тихо, тихо, ребята, — урезонивал министр… — Не надо было… это журналист”. “Ну, врезали немного этому жиденку, так что?.. Ладно, подожди, еще будет время”…» (Леон Арон).
Досталось не только «этому жиденку» с удостоверением американского корреспондента. Под дулами автоматов вывели за оцепление Сергея Кургиняна, яростного сторонника Верховного Совета, режиссера и политолога. Он не понравился баркашовцам и своим внешним видом (похож на еврея), и тем, что осмелился критиковать Хасбулатова за недостаточную решительность, «произносил провокационные речи». Корреспондента «Эха Москвы» арестовали и продержали в подвале Белого дома пару суток.
И таких случаев было немало.
Я не случайно останавливаюсь на этих, казалось бы, малозначительных деталях. Милосердие к «своим» раненым (в Белом доме действовал медпункт для пострадавших от действий милиции), храбрость, смешанная с обреченностью, — то есть вполне человеческие, понятные нам проявления — смешивались в Белом доме и с другими чувствами: подозрительностью, ненавистью, агрессией. Атмосфера здесь была совсем другая, чем в 91-м году.
По-другому вела себя и восставшая толпа. Внешне всё было похоже на 91-й год — те же баррикады, лозунги, плакаты, беспрерывный митинг с балкона Белого дома, — но другим было и содержание плакатов (слово «убей» встречалось там не единожды), и сам алгоритм действий людских масс. В 91 — м году толпа защищала, обороняла свой оплот — Белый дом. В 93-м году толпа шла вперед, била, ломала заграждения, сама дубасила выпавших из цепи солдат и милиционеров, нападая озверело, нелепо и зло.
…Эпицентром событий стала Смоленская площадь.
1, 2 и 3 октября многотысячная толпа раз за разом всё активнее атакует милицию. И если в первые два дня удается эту толпу рассеять, то 3 октября случается то, чего все давно ждали — толпа разгоняет милицейское оцепление. Побитые и разоруженные, без дубинок и порой без шинелей, милиционеры бегут, закрывая голову руками от камней.
Кстати говоря, оружием для демонстрантов послужила… трибуна, построенная для празднования трехсотлетия улицы Арбат. Ее разобрали, и, вооружившись палками и железной арматурой, толпа, наконец, смяла милицейские кордоны.
Праздник на Арбате — не единственное публичное мероприятие, устроенное мэрией в эти тревожные дни. На улицах Москвы уже кипит уличная война, а мэрия всё пытается устраивать мирные праздники, «отвлекать людей от политики». Но отвлечь — уже невозможно.
Вернемся на несколько дней назад.
25 сентября.
Национальный оркестр России и дирижер Мстислав Ростропович исполняют на Красной площади сюиту Прокофьева «Александр Невский» и увертюру Чайковского «1812 год».
В этот день здесь собралось около ста тысяч человек. Ельцин пришел перед началом концерта, его встретили овацией.
Было холодно, дул сильный ветер. Стариковский зачес на лысине Ростроповича сразу же растрепался, но он, как всегда, упрямо выпячивал нижнюю челюсть и дирижировал замерзающими руками для людей, которые пришли сюда, чтобы быть вместе, чувствовать друг друга. В тот день музыка Чайковского звучала как пароль. Это были очень страшные дни, когда власть в стране зашаталась, когда каждый новый день приносил ощущение надвигающейся беды, когда ненависть становилась всё явственнее, а слова — всё жестче…
Ростропович дал концерт, который навсегда вошел в историю как прямое вмешательство музыки в дела человеческие. Он поддержал того, кого считал нужным поддержать, сказал то, что считал нужным сказать, и забыть его в те минуты — невозможно. Это был яркий, изумительный поступок музыканта.
После концерта Ельцин искал Ростроповича. Но выяснилось, что маэстро настолько замерз, окоченел от ветра, что после аплодисментов скрылся, «сбежал» в гостиницу «Россия», чтобы хоть чуть-чуть согреться. А потом великий музыкант вместе с женой Галиной Вишневской провел целый вечер у Ельциных.
Ростропович — ярчайшая личность своего времени. В компании с Ельциным он смотрится вполне гармонично, хотя у них разные биографии, разные судьбы, может быть, разный язык. Им было о чем поговорить.
Было о чем поговорить с Ельциным и знаменитому кинорежиссеру Эльдару Рязанову, который в 1993 году дважды побывал у Б. Н. со съемочной группой телевидения.
Вот несколько отрывков из их разговоров:
«— Есть мнение обиходное, что политика — дело грязное, что это игра, требует каких-то извивов и компромиссов душевных. Вот как вам вообще, нравится эта профессия?
— Судьба сложилась так, я ее не выбирал… Хотя я не согласен с вами, что политика — грязное дело. Политика, грязная она или нет, зависит от человека, от самого политика: если политик ведет грязную игру, то политика — грязное дело, а если политик нравственно честен, чист, то политика — чистое дело. Я все-таки стремлюсь к тому, чтобы политика была чистой и честной.
— Это удается или иногда приходится поступаться этими нравственными постулатами?
— Честно говоря, не всегда удается, иногда приходится идти на компромисс, но на компромисс не с собственной совестью, а с обстоятельствами — обстоятельства такие сложились, что надо идти на компромисс, для того, чтобы было лучше. И я иду на это, но не до того предела, когда компромисс становится нечистоплотностью.
— …Вы боитесь смерти?
— Нет, абсолютно.
— Почему?
— Не знаю, может, я был так воспитан, может, у меня было много ситуаций в жизни. Я абсолютно не боюсь смерти, я даже не думаю об этом. Понимаете, это постоянная борьба. Я ни одного месяца, ни одной недели нигде спокойно не работал — везде какая-то борьба, с кем-то, и она, конечно, человека…
— Ожесточает?
— Ожесточает…
— Скажите, вы человек злопамятный, мстительный?
— Нет, я применяю такое определение — мягкая ладонь и крепкий кулак.
— Но вторую щеку вы не подставляете, если вам ударили по одной?
— Нет, конечно…»
Яростно поддержал Ельцина в октябре 93-го и писатель Виктор Астафьев. Позднее Ельцин, будучи в Красноярске, по реке приплывет к Астафьеву в его деревню Овсянку, и им тоже будет о чем поговорить. Как жаль, что от этих разговоров с выдающимися людьми — Ростроповичем, Астафьевым, Рязановым — так мало сохранилось. О многом бы нам могли поведать эти разговоры.
Известный российский кинорежиссер Александр Сокуров снимал документальные фильмы о Ельцине. Фильмы пронзительные, наполненные не только внимательным, пристальным
Я часто думал на эту вечную тему: что в конечном счете вообще отличает и выделяет крупного человека, личность, чем определяется эта неуловимая интеллигентность? А вот этим и определяется: умением говорить о себе абсолютно открыто. Умением сказать: я знаю, что ничего не знаю, умением признать свои ошибки и слабости.
Я видел однажды, как Елена Боннэр подошла к Ельцину и вручила ему письмо. Не знаю, о чем. Наверное, о правах человека. Ельцин взял письмо, бережно сложил его и положил во внутренний карман пиджака. «Только, пожалуйста, прочитайте, Б. Н.!» — потребовала Боннэр.
«Ваши письма я читаю всегда!» — сказал Ельцин с ударением на последнем слове.
Вообще стиль общения Б. Н. на таких встречах с интеллигенцией — момент довольно интересный.
…В марте 1993 года «Огонек» отмечал семидесятилетие со дня возобновления журнала Михаилом Кольцовым в 1923 году (с 1917 по 1923 год «Огонек» не выходил).
Как-то неожиданно выяснилось, что праздновать это славное событие редакция будет в правительственном Доме приемов на Воробьевых горах (улица Косыгина). Это был тот самый дом, где проходили в начале 60-х знаменитые встречи Хрущева с интеллигенцией, где он произносил свои многочасовые монологи о том, как надо и как не надо писать и творить, о долге художника перед народом и прочих высоких материях.
Время для Бориса Николаевича было, прямо скажем, непростое. И, конечно, все ожидали, что он поведет, используя юбилей «Огонька», какой-то разговор именно об этом. Разговор с властителями дум. Что будет дана какая-то установка. Произойдет, так сказать, диалог интеллигенции и власти. У меня, честно говоря, промелькнула мысль — надо бы записать, да жаль нечем.
Но ничего подобного, как выяснилось, у Бориса Николаевича и в мыслях не было. Произнес тост своим немного глуховатым голосом, сказал, что является подписчиком и верным читателем «Огонька» уже почти 50 лет, что ему нравится наш журнал, и радушно пригласил к столу.
На этом «диалог с властью» закончился, и началось веселье. Ельцин целовал ручки нашим заслуженным женщинам из бюро проверки, которые работали в журнале еще с послевоенных времен, беседовал со всеми, кто подходил к нему с вопросом, фотографировался вместе с редакцией. Юрий Никулин рассказывал анекдоты. Всё было замечательно.
Выходя из Дома приемов, я вдруг подумал: но как же так? В чем же секрет? В чем фокус? Почему он нас не воспитывал? Почему не просил о поддержке? Почему вообще не затрагивал серьезных тем?
А потом понял — потому что у нас был юбилей. И Ельцин, как хозяин, принимавший гостей, совершенно не хотел нам омрачать праздник.
Секрет общения у Б. Н. был очень прост: в разговоре с самыми яркими, выдающимися и знаменитыми людьми он всегда сохранял естественность и непринужденность. Ему не требовалось для этого никаких усилий. Он сам был выдающимся человеком, с мощным характером и обаянием.
Он был личностью.
И возможно, именно это стало одной из причин поражения путча 93-го года. Путча, устроенного Хасбулатовым и Руцким.
В Белом доме не было личности, равной ему.
Была отчаянная решимость, был психоз революции, была атака. Но не было личности. Ельцину противостояла, как и в 91-м году,
Конечно, далеко не все представители интеллигенции поддержали действия Ельцина в 1993 году. Кровь отпугнула и шокировала многих.
Например, Никита Михалков в те годы сильно сдружился с Руцким. Ему импонировал характер вице-президента (для меня загадка, чем именно, но ведь чужая душа — потемки). Станислав Говорухин на события 3–4 октября откликнулся яростной статьей в «Известиях», а после выборов в новый парламент стал членом фракции коммунистов. Это был его искренний протест против действий власти. Глеб Павловский, выступая по телевидению после событий 3–4 октября, сказал, что народ имеет право на мятеж, если его доводят до отчаяния, до последней черты…
Да, имеет. Но кто же был «народом» в те дни — те 100 тысяч, которые слушали Ростроповича на Красной площади и стоя аплодировали Ельцину, или те 100 тысяч, которые в давке и яростном гвалте сминали милицейские кордоны и били ненавистных, но ни в чем не повинных милиционеров?
Большинство народа (и «простого», и «непростого») в те октябрьские дни, в смятении прислушиваясь к событиям в центре столицы, молча ждали, кто окажется сильнее, кто окажется тверже и последовательнее в этом отчаянном, драматическом споре.
Это молчаливое ожидание и стало той оглушительной тишиной, которая обрушилась на столицу вечером 3 октября.
В своей книге Ельцин вспоминает:
«1 октября 1993 года. По дороге в Кремль я попросил водителя машины остановиться напротив здания мэрии. Была пасмурная погода, сильный ветер. Ко мне подбежали тележурналисты, и я сказал несколько слов: “Пока в Белом доме не сдадут оружия, никаких переговоров не будет”.
Знакомой тяжелой громадой возвышался Белый дом, ставший за последний год таким чужим. Хотелось сбросить это наваждение, прямо сейчас, разрушив все планы, всю стратегию, войти в этот подъезд, сесть за стол переговоров, вынудить их пойти на уступки, заставить сдать оружие, отказаться от конфронтации, что-то сделать.
Но сделать уже ничего нельзя. Мосты сожжены.
И от этого — тяжесть на душе, недоброе предчувствие.
Солдаты из оцепления оглядываются. Переговариваются между собой. Холодно им тут. А сколько еще придется стоять?» («Записки президента»).
Стоять солдатам осталось недолго, двое суток.
Итак, он останавливает машину у оцепления, выходит из нее и задумчиво смотрит на окружающую его картину.
Хороший сюжет для исторического живописца! О чем думает он в эти недолгие пару минут? Что вбирает в себя? Какие ощущения, какие мысли?
Одна из них четко отражена в книге: мосты сожжены, за стол переговоров с ними он уже сесть, скорее всего, не сможет. Мысль вторая, чуть ниже: «Неужели Россия обречена на кровь?»
Ничего себе вопрос. Ну а вы-то, Б. Н., можете что-то сделать, чтобы остановить это безумие?
Понимает ли он, в какой опасной ситуации находится? На тот момент, когда он подходит к оцеплению, самым крупным вооруженным формированием внутри Кольцевой автодороги являются как раз защитники Белого дома.
Удивительно, но факт. Начиная с 21 сентября и по 3 октября включительно Ельцин по-прежнему находится в логике «мирного законодательного процесса», мирного урегулирования. Несмотря на крайне жесткое поведение отдельных милицейских кордонов и омоновцев — к реальному применению силы никто в правительстве не готовится. Главная цель —
И Кремль, и Белый дом пытались подключить к переговорам авторитетных участников. Включилась даже Русская православная церковь. Начиная с 29 октября в Белом доме и Свято-Даниловом монастыре при содействии Патриарха Алексия II, члена Совета Федерации от Калмыкии Кирсана Илюмжинова и председателя Конституционного суда Зорькина идут напряженные консультации.
Утром 30 сентября в Большом зале Конституционного суда Российской Федерации состоялось заседание Совета субъектов Федерации, в котором приняли участие руководители шестидесяти восьми регионов России из восьмидесяти девяти.
Главным условием снятия блокады с Белого дома остается добровольная сдача оружия.
Записки журналиста «Коммерсанта» Вероники Куцылло хорошо передают ту обстановку взвинченности, ожесточенности, которая, собственно, и помешала некоторым здравым умам, пока еще находившимся в Белом доме, довести переговоры до результата. Но Ельцин ждет. Ждет до последнего.
«Кирсан Илюмжинов:
…На встрече с председателем правительства Виктором Черномырдиным: “Что вы видели? Там сейчас бандиты. Там пять бандитских группировок. Там находятся ракеты ‘земля — воздух’. Хасбулатов и Руцкой не контролируют ситуацию, они являются заложниками этих бандитских группировок”. (Илюмжинов цитирует слова Черномырдина. — Б. М.)
Тогда я Виктору Степановичу предложил: “Давайте мы, субъекты РФ, его представители, пойдем в БД, дайте нам пропуска, и мы посмотрим, действительно ли там ракеты, автоматы гуляют, действительно ли их там всем раздают”. Виктор Степанович выписал четыре пропуска. Я с тремя другими руководителями регионов — председателем ВС Бурятии Потаповым, председателем Ленсовета Густовым, еще двумя главами администраций пошел к БД.
…По нашим данным, всего вооруженных сейчас около шестисот, а стволов — больше тысячи. Пистолетов — около двух с половиной тысяч. Приднестровцы смогли провезти пулеметы — около 20. И столько же там было. Есть гранатометы… Они говорят, что есть “стингер”. Это точно не установлено, но возможно… Положение серьезное…» («Площадь Свободной России. Сборник свидетельств о сентябрьских — октябрьских днях 1993 года в столице России»).
(00.30)
«Вернулся Филатов и остальные, в том числе Соколов и Абдулатипов. Веселые. Сели за приготовленный отдельный столик. Едят, пьют… Мирно, вполне по-товарищески… “Чего ждем-то?” — “Протокол[24] печатают”.
Пять подписей, пять экземпляров. Читаю через плечо, пока подписывают:
“1. В целях обеспечения безопасности, сбора и складирования внештатного оружия, находящегося в Доме Советов, осуществить его сбор и складирование в Доме Советов и взятие под охрану совместных. контрольных групп, организованных из сотрудников ГУВД г. Москвы и департамента охраны Дома Советов. Для этого незамедлительно включается электроэнергия и теплоснабжение, а также необходимое количество городских телефонов для оперативной связи. Одновременно реализуются согласованные меры по сокращению потенциала сил и средств наружной охраны Дома Советов.
2. После реализации первого этапа стороны приступают к полному снятию вооруженного противостояния, заключающемуся в одновременном выводе из ДС всех охранных формирований и снятии наружной охраны ГУВД. Одновременно окончательно решаются вопросы вывоза внештатного оружия из ДС. Исполнение задач второго этапа происходит при согласовании и выполнении правовых и политических гарантий.
Абдулатипов, Филатов, Соколов, Лужков, Сосковец.
1.10.93 г. 2.40.”».
(Около 3.00)
…Рано утром 1 октября в парламент подали электроэнергию. В Свято-Даниловом монастыре первый вице-премьер Олег Сосковец и представители Белого дома подписали соглашение о постепенном разблокировании ДС при условии полного разоружения лиц, не имеющих права на хранение и ношение оружия. В ночь на 2 октября блокада была ослаблена.
Но депутаты отказались от договоренностей, посчитав, что переговорная комиссия превысила свои полномочия.
(До 09.00)
«…Вмешался Воронин (первый заместитель Хасбулатова. — Б. М.). Он созвал ВС, распространил ночной протокол в комиссиях, в военных структурах, резко высказался против достигнутых договоренностей. С соответствующими заявлениями выступили Ачалов, Баранников и Дунаев. Всё покатилось под откос.
военный совет считает:
1. Комиссия в составе Соколова В. С. и Абдулатипова Р. Г. превысила полномочия, данные ей X чрезвычайным съездом народных депутатов РФ…
2. Подписание протокола № 1 является ошибочным, так как предварительно не были выработаны условия вхождения в конституционное поле в соответствии с решением X съезда народных депутатов».
Под этим протоколом стоят подписи трех назначенных Верховным Советом «силовых» министров: министра обороны генерал-полковника В. Ачалова, министра безопасности генерала армии В. Баранникова и министра внутренних дел генерал-лейтенанта А. Дунаева.
10.00 утра
Съезд.
Вот цитата из утреннего выступления Хасбулатова перед депутатами: «Проблема оружия — это искусственная проблема, вычлененная из общего контекста. Мы, съезд, несем ответственность за всё оружие на территории нашей страны, в том числе и ядерное… Если будет продолжаться такая же линия, то этим будет показано несерьезное отношение к переговорам…»
Огородников перечисляет оружие, находящееся, по их данным, в БД: «примерно 1500 автоматов, более двух тысяч пистолетов, 18 пулеметов, десять снайперских винтовок, 12 гранатометов… те лица, которые проникали, приносили оружие… по имеющимся у нас оперативным данным, пронесено около трехсот автоматов, двадцати пулеметов, несколько гранатометов и ракета “Стингер”…»
Хасбулатов отозвал своих переговорщиков, назвал проблему оружия в Белом доме «искусственной» и отказался вести какие-либо другие переговоры до отмены Указа № 1400.
Вот его слова: «Этот режим мертв, его дни сочтены, нет никаких оснований продолжать какие-то отношения с ним». И еще: ельцинская хунта будет «выкинута из Кремля».
Интересно, что в тот момент, когда толпа на Смоленке прорвала милицейское оцепление и ринулась к Белому дому, Б. Н. находился на Арбате, на празднике, который устроил добрый мэр Лужков. Президент шел среди москвичей и гостей столицы, улыбался, жал руки. От свистящей, гудящей, яростной толпы восставших его отделяло 500 метров! Если бы они знали, что их главный враг так близко, они бы, конечно, свернули на Арбат. Ельцину, пока он идет по Арбату, докладывают обстановку. Он дошел до конца запланированного маршрута и сел в машину. Скомандовал: «В Барвиху!» Для него это столкновение — всего лишь одно из многих, которые происходили в эти дни. Обычное столкновение с милицией. Позднее выяснилось — необычное.
Не «одно из…».
Толпа движется со Смоленки к Белому дому. Она сминает все милицейские оцепления. Милиционеры бегут.
Начинается штурм мэрии, которая находится в бывшем здании Совета экономической взаимопомощи, в 200 метрах от Белого дома. Раздаются первые выстрелы, причем с обеих сторон. Однако милицейская охрана мэрии — не препятствие для восставшей толпы. Толпа врывается в здание, избивает охрану, захватывает начальника лужковского штаба. Вокруг Белого дома начинается вакханалия. «Победа, победа!» — кричат все.
С балкона Белого дома генерал Макашов призывает: захватим «Останкино»!
Несколько десятков вооруженных людей садятся на машины, захваченные у милиции, остальная толпа бредет по центру и по проспекту Мира, размахивая флагами и транспарантами.
Москва замирает в шоке.
Я помню, как мой город внезапно опустел и оцепенел. Куда девалась милиция, столь доблестно сражавшаяся еще недавно с бабушками и дедушками, с демонстрантами и агитаторами? Где ОМОН? Где хоть кто-нибудь? Боевики Белого дома начали беспрепятственно передвигаться по городу с оружием, их никто не останавливал.
Никто в этот момент не знал, что произойдет дальше.
По радио «Эхо Москвы» передавали тяжелую тревожную музыку — больше ничего. Раз в десять минут включались дикторы с новостями, но новостей не было — никакой официальной реакции, боевики Макашова и Баркашова все так же продолжают свое движение к телецентру.
По телевизору шел футбол, играли, как сейчас помню, «Спартак» и «Ротор». Но в середине второго тайма трансляция прервалась. Телевизор погас. Я с ужасом смотрел на темный экран.
«Если они смогли взять телецентр, возьмут и Кремль», — наверняка подумала в этот момент вся страна.
Телецентр в Останкине охраняли несколько десятков милиционеров и около тридцати спецназовцев из отряда МВД «Витязь».
Для начала грузовик макашовцев с разгона пробил стеклянные двери здания на улице Королева. Затем боевики сделали выстрел из гранатомета. Были убиты один боец «Витязя», один технический сотрудник и один охранник.
Завязалась перестрелка. Боевики прорвались на первый этаж и постепенно шли ко второму. Кто-то из них нес кассету с заготовленным телеобращением Руцкого…
Почему штурм начался именно с телецентра? Почему не с Министерства обороны? Не с Совета министров? Всё очень просто. Когда выключается привычная телевизионная картинка, у населения возникает полное ощущение, что власть в стране закончилась. Телевидение — индикатор власти, ее состояния, телевидение объединяет страну в единое пространство. В чьих руках телевидение, у того и власть.
…Я жил тогда в Останкине, рядом с телецентром. Понять, что там происходит, было невозможно, все телепередачи прерваны. Услышав выстрелы, я вышел на балкон и в сумерках увидел, как по Аргуновской улице продвигается колонна бэтээров. В колонне шло несколько машин. Ехали очень медленно, осторожно. Вдруг колонна развернулась и поехала назад, по Маломосковской. Затем бэтээры сделали еще один вираж в начале Звездного бульвара и вновь поехали по направлению к Останкино. (Я не знаю, чем были вызваны эти явные колебания командира колонны, но «картинка» очень выразительная.)
В быстро наступившей темноте бэтээры заняли позицию сбоку от толпы. Дали несколько трассирующих очередей поверх голов. (В самом телецентре тем временем продолжал бушевать бой.)
Кто-то из толпы кинул бутылку с зажигательной смесью в бок бэтээра. И тогда произошло то, чего уже давно можно было ожидать. Рассвирепевший командир машины отдал приказ разгонять толпу очередями. А когда люди побежали, залегли под кустами, в скверике, пулеметчик продолжал прошивать темноту, ища всё новые и новые цели.
Появились убитые и раненые… Те, кто мог, разбежались или оказывали первую помощь. Вскоре на улице Королева загудели сирены «скорой помощи».
Трассирующие пули долетали и до Аргуновской. Шпарили мимо окон. Мы с женой постарались положить детей так, чтобы они были в безопасности.
От шальных пуль в своих квартирах в те дни погибли несколько человек.
Примерно в восемь часов вечера Ельцин вылетел в Москву из Барвихи на вертолете.
За 20 минут он долетел до Кремля и вышел на Ивановской площади, рядом с храмами. Вошел в Кремль, поднялся в свой кабинет и попросил соединить его с министром обороны Грачевым.
Тот находился рядом, в здании Министерства обороны на Арбате. «Войска на подходе», — сообщил он Ельцину.
На самом же деле бэтээры Софринской бригады внутренних войск МВД, которые застрелили насмерть несколько человек, ранили несколько десятков и, прекратив штурм телецентра, снова уехали из Москвы, были в ту ночь единственными «войсками», которые сражались на стороне президента.
Ближе к ночи телевизор все-таки включился. Работало Российское телевидение. Из резервной студии на улице Ямского Поля шла прямая трансляция.
Выступали журналисты, политики, известные телеведущие. Егор Гайдар призвал москвичей идти к Моссовету. В ту ночь около Моссовета по его призыву собрались несколько тысяч человек, они жгли костры, вооружались, кто чем может. Гайдар в эту ночь находился рядом с ними. Этот шаг был необходим. Внезапно ослабевшая власть должна была знать, что ее защищают граждане, а не только вооруженные люди, связанные присягой. Да и вооруженные люди, выполняющие приказ, в такой критический момент должны знать, что граждане — на их стороне.
Но была в ту ночь и другая позиция. Ее высказал в том же эфире известный тележурналист Александр Любимов. «Никуда не ходите, — сказал он, резко осудив заявление Гайдара. — Пусть власть договаривается сама с собой».
А вот что сказала актриса Лия Ахеджакова:
«Те, кто смотрит сегодня на эти рычащие, звериные морды и разделяет их злобу, ничему не научились за прошедшие семьдесят лет. Им кажется, что тогда всё было прекрасно: была колбаса (и кого-то бросали в тюрьмы); все прилежно трудились (и людей расстреливали за опоздание на работу); и все жили так хорошо (и миллионы сидели в ГУЛАГе).
Уже три дня подряд в Москве убивают милиционеров, убивают невинных людей. Пожилые женщины в гардеробе в Останкине, женщины, работавшие там за гроши… — их убили выстрелом из гранатомета.
И за что? За Конституцию? Что же это за Конституция — черт бы ее побрал! Это та самая Конституция, по которой народ сажали в тюрьмы… Нормальных людей убивали, пытали, сажали в психиатрические больницы — и всё во имя этой Конституции!
Где наша армия? Почему она не защищает нас от этой проклятой Конституции?»
Состояние, в котором находились и те, кто выступал из резервной студии Российского телевидения, и те, кто их внимательно слушал, можно определить одним словом: шок. Ужас. Точка. Так дальше продолжаться не может. Ситуация должна повернуться или туда, или сюда.
Вот что пишет Егор Гайдар, в ту пору первый вице-премьер правительства:
«После телеобращения едем к Моссовету. Еще недавно, проезжая мимо, видели у подъезда маленькую кучку дружинников. Теперь набухающими людскими ручейками, а вскоре и потоками сверху от Пушкинской, снизу от гостиницы “Москва” площадь заполняется народом. Вот они — здесь! И уже строят баррикады, разжигают костры. Знают, что происходит в городе, только что видели на экранах телевизоров бой у Останкино. Костерят власть, демократов, наверное — и меня, ругают за то, что не сумели, не подвергая людей опасности, не отрывая их от семьи и тепла, сами справиться с подонками. Справедливо ругают. Но идут и идут к Моссовету. Да, они готовы потом разбираться, кто в чем виноват, кто чего не сделал или сделал не так, как надо. А сейчас идут, безоружные, прикрыть собой будущее страны, своих детей. Не дать авантюристам опять прорваться к власти.
Офицерскйе десятки, готовые в случае нужды взять оружие в руки, уже строятся возле памятника Юрию Долгорукому. Но это — на крайний случай.
Крепко надеюсь, что оружие не понадобится. Толпа напоминает ту, в которой стоял в августе 1991 года, заслоняя Белый дом. Те же глаза. Добрые, интеллигентные лица. Но, пожалуй, настроение еще более суровое, напряженное. Где-то среди них мой отец (Тимур Гайдар. — Б. М.), брат, племянник. Наверняка знаю, здесь множество друзей, соратников, однокашников. Выступаю перед собравшимися, сообщаю, что от Останкино боевики отброшены. Призываю оставаться на месте не рассредоточиваясь, начать формирование дружин, быть готовыми при необходимости поддержать верные президенту силы.
У Спасской башни на Красной площади, где люди собрались по своей собственной инициативе, настроение более тревожное, плохо с организацией.
Ко мне подходит военный, представляется полковником в отставке, просит указаний, помощи. Там, у Моссовета, — сплочение. Здесь — пожалуй, наше уязвимое место».
В эпицентр событий попадали и люди, казалось бы, абсолютно далекие от политики. Вспоминает Шамиль Тарпищев, в те годы советник президента по спорту:
«В Кремле мы сразу направились в кабинет Барсукова (руководителя ГСО, государственной службы охраны. — Б. М.). Только вошли, звонит Ельцин: “Что там происходит?” Барсуков докладывает: “Не волнуйтесь, всё нормально. Здесь порядок. Мы разберемся и вам перезвоним”. Буквально через десять минут Ельцин снова звонит: “Я вылетаю”. Вертолет президента приземлился прямо на территории Кремля, мы встречали его втроем (Тарпищев, Коржаков, Барсуков. — Б. М.). Так получилось, что я стал кем-то вроде офицера связи в приемной Коржакова: сидел на телефонах, а все вокруг носились как сумасшедшие… На меня надели бронежилет. Я выходил на Васильевский спуск, слушал какие-то речи. Возбуждение страшное. Передо мной долго и путано выступал какой-то депутат. Тогда я взял инициативу: “Чего вы здесь стоите? Половину давайте к Белому дому, половину — на Тверскую”. И все ушли».
А в Белом доме тем временем звучали другие, гораздо более спокойные и выношенные речи. Теперь это продуманное мнение можно было спокойно высказывать вслух.
«Оживленно дискутировался вопрос: что делать с Ельциным после того, как его поймают? Кто-то предлагал повесить его прилюдно — но не на Красной площади, это была бы слишком большая честь для него. Другие соглашались: “Да, повесим его! Нет, сначала посадим гадюку в клетку и провезем по освобожденной России, чтобы люди пугались, глядя на него”» (Леон Арон). И это не были пустые разговоры.
В этот момент Ельцин находился в здании Министерства обороны. В кабинете Грачева, среди генералов.
Вопрос только один: когда войска будут в Москве?
Генералы молчали.
Это был еще один кризис. Но он точно знал, что не выйдет из кабинета, пока не заставит их отдать приказ. Наконец Ельцин произнес то, о чем до этого никто говорить вслух не решался — нужен штурм Белого дома.
Генералы оживились. Идею предложили не они. Это важно.
Ельцин двинулся к выходу, и Грачев, покраснев, спросил его: «Борис Николаевич, вы отдадите письменный приказ стрелять по Белому дому? Без вашего письменного приказа…»
«Я вам его пришлю», — хмуро сказал Ельцин и закрыл за собой дверь.
Военная операция началась в 7.30.
Тысяча триста военнослужащих Кантемировской, Таманской, Тульской и Рязанской дивизий вместе с бронетехникой вошли в Москву.
Бэтээры прорвались сквозь баррикады у Белого дома. Живого кольца уже не было. Белый дом начал отстреливаться. Выстрелы то звучали над городом, то затухали. Генерал-лейтенант Куликов призывал защитников Белого дома сдаться.
Переговоры ни к чему не привели.
Десять танков Т-72 выехали на Новоарбатский мост.
Вокруг Белого дома собралась огромная толпа любопытных.
Их никто не разгонял. Все остальные смотрели прямую трансляцию штурма по телевизору. Переводчик-синхронист переводил комментарий корреспондента Си-эн-эн, американского агентства, которое весь день показывало одну и ту же картинку — Белый дом, танки, окна Белого дома, а затем маленькие фигурки людей, врывавшихся в Белый дом.
После десяти утра танки нанесли по Белому дому 12 выстрелов. Знаменитые десять пустых болванок и два зажигательных снаряда никого не ранили и не убили. Однако верхние этажи Белого дома загорелись. Из окон вырывались пламя, густой дым и чад.
Бой в самом Белом доме и вокруг него продолжался несколько часов. На штурм пошел отряд «Альфа». Как и в 91-м году, этот спецотряд не желал «принимать участие в политике». Ельцин лично разговаривал с командиром «Альфы» Карпухиным. Но отряд не подчинялся приказам даже Верховного главнокомандующего. Тогда альфовцев подвезли к зданию на автобусе, для того, чтобы оценить обстановку. Один из них был убит. После этого «альфовцы» вошли внутрь Белого дома, чтобы вывести оттуда людей. Так описывает ситуацию Александр Коржаков.
Через час всё было кончено.
Из Белого дома начали выходить депутаты. Они медленно, цепочкой, проходили сквозь строй спецназовцев и милиционеров, их обыскивали и отводили в автобусы, стоявшие неподалеку.
Хасбулатов и Руцкой появились одними из последних. Руцкой был в кроссовках и спортивном костюме, он уже приготовил личные вещи, чтобы ехать в тюрьму, большую спортивную сумку… Однако забыл ее при выходе из здания, и за ней кого-то послали. Все напряженно ждали, пока принесут эту несчастную сумку.
Хасбулатов был без вещей. В белой рубашке без галстука. Все депутаты тревожно оглядывались вокруг. Они давно не были на свежем воздухе, не видели солнца.
К одному из депутатов подбежал какой-то человек и яростно толкнул в плечо, потом отвесил подзатыльник. Милиционеры отогнали этого человека и увели депутата.
Из Белого дома еще довольно долго продолжали выходить люди и садиться в автобусы.
Однако многие защитники Белого дома прошли сквозь подземные коммуникации Белого дома, выбрались наружу и рассредоточились по соседним дворам и крышам. Перестрелка продолжалась вокруг здания еще очень долго.
На колокольне церкви, которая стояла рядом с Белым домом, телеоператоры засняли надпись, сделанную углем или сажей: «Я убил шесть человек и очень этому рад».
Бои в городе, в густонаселенном жилом квартале, в присутствии огромного количества любопытных (или сочувствующих тем, кто оказался в осаде) имели крайне тяжелые и трагические последствия.
Во время штурма не погиб и не был ранен ни один депутат Верховного Совета. Все благополучно вышли из здания. Но под пули солдат и милиционеров, боевиков и снайперов попало немало мирных людей, в том числе и подростков.
Общее количество убитых, как было официально объявлено через два дня, — более 150 человек.
Назывались и другие, гораздо более ужасающие цифры — несколько тысяч трупов в Белом доме. Но это неправда.
Несчастные родственники в течение нескольких дней опознавали в моргах Москвы убитых. Некоторых опознать не удалось, эти люди прибыли в Москву без всяких документов. Они хотели воевать. Но таких было не так уж много. Боевики, вышедшие с оружием из Белого дома, очень редко давали преследующим их милиционерам «последний бой». Как правило, сдавались или убегали.
Значительную часть жертв составили случайные люди, прохожие, подростки, попавшие под пули. А пули летели с обеих сторон.
Это была страшная, тяжелая победа.
Утром 4 октября Ельцин, наконец, произнес свое телеобращение, которого ждали всю ночь.
Вот оно:
«Дорогие соотечественники, я обращаюсь к вам в трудное время. В столице России гремят выстрелы, льется кровь…
Те, кто начал боевые действия против мирного города и развязал кровавую бойню, — преступники… Те, кто размахивает красными флагами, еще раз запятнали Россию кровью…
Я прошу вас, уважаемые москвичи, оказать моральную поддержку российским солдатам и офицерам. Это армия и милиция нашего народа, и сегодня перед ними стоит одна задача: защитить наших детей, защитить наших матерей и отцов, остановить и разоружить людей, участвующих в погромах, убийствах.
Я обращаюсь ко всем политическим силам в России во имя тех, чьи жизни оборвались, во имя тех, чья невинная кровь уже пролилась. Я прошу вас забыть то, что еще вчера казалось важным: внутренние разногласия. Все, кому дороги мир и спокойствие, честь и достоинство нашей страны, все, кто против войны, должны объединиться…
Вооруженный фашистско-коммунистический мятеж в Москве будет подавлен в кратчайшие сроки.
Я считаю своим долгом обратиться также к жителям Москвы. За прошедшие день и ночь нас стало меньше. Невинные граждане пали жертвами убийц. Мы склоняем головы перед памятью убитых.
Многие из вас ответили на зов своего сердца и провели ночь в центре Москвы… десятки тысяч людей рисковали своими жизнями. Ваша воля, ваше гражданское мужество и сила вашего духа оказались самым действенным оружием.
Я низко кланяюсь вам».
Утром 5 октября мы с сыном пошли в булочную за хлебом. До этого целый день семья безвылазно просидела дома, и хлеб кончился. В булочной стояла очередь — таких, как мы, в те дни было немало: когда перестрелка у Белого дома вроде бы завершилась, народ пошел по магазинам.
В свежем солнечном осеннем воздухе пахло недавней войной. Автоматные очереди и одиночные выстрелы еще раздавались тут и там. Сын вздрогнул и взялся за мою руку.
«Господи, неужели всё?» — подумал я.
Всем так хотелось мира, так хотелось вернуться хоть к какой-нибудь нормальной жизни.
Собственно, это и была причина, по которой победил Ельцин. Против ожиданий, страна не поддержала мятежный парламент. Нигде не начались забастовки, митинги, массовые манифестации. Официальные заявления руководителей местных Советов были лишь формальностью — как и все остальные, они ждали, чем завершится перестрелка в Москве. Несколько сотен людей, в двадцатых числах сентября перекрывших железнодорожную магистраль в Сибири, чтобы остановить движение поездов, были единственной формой протеста против действий правительства, но вскоре поезда пошли по расписанию. Угрозы «прекратить отгрузку товаров в Москву» в ряде регионов тоже оказались пустыми словами, всё шло по-прежнему, всё по тому же расписанию мирной жизни.
Ни одна воинская часть, ни одно милицейское подразделение не перешли на сторону Верховного Совета, несмотря на все их усилия. Несколько солдат, которые пришли в Белый дом, были единственным исключением.
На планете не нашлось ни одного государства, ни одного политического лидера, который бы оказал поддержку мятежному Белому дому.
Открытая гражданская война против нового политического строя в России закончилась навсегда.
В стране был объявлен траур по погибшим. По всем погибшим, независимо от того, на какой стороне они находились. По всем, кто случайно или неслучайно попал под пули. Две недели комендантского часа, когда в Москве милицейские отряды «зачищали» город, арестовывали подозрительных без предъявления обвинений, стреляли даже тогда, когда в этом не было особой необходимости (солнечные зайчики, блики казались им, напуганным, оптическим прицелом снайпера), стали продолжением событий 3–4 октября.
Газеты писали о том, что президент одержал победу, но цена победы оказалась слишком высока.
Страх постепенно рассеялся.
…Но Ельцин что-то потерял навсегда.
Потерял огромное число своих сторонников, которые верили в то, что демократическая революция в России возможна без крови, без вооруженной борьбы за власть. Эти люди надолго потеряли веру в то, что политическая борьба в нашей стране может идти в цивилизованных, мирных условиях. Веру, которую, как им казалось, они обрели после 91-го года.
Он потерял прежде всего свои иллюзии — о том, что демократия и рыночная экономика войдут в Россию по его плану, спокойно и мирно, в кратчайшие сроки.
Общество оказалось расколото, и надолго.
Возможно, именно тогда он впервые понял, что не знал до конца эту страну, не представлял себе, как отозвались в ней 70 лет советской власти, десятилетия политической апатии. Возможно, тогда он впервые понял, каким долгим и болезненным будет путь в общее лоно цивилизации. И насколько он будет болезненным.
Б. Н. удержал страну от большой крови. Но невинная,
Конечно, история всегда заставляет нас двигаться вперед, дальше. Смиряться с неизбежным. Объяснять немыслимое. Это порой очень больно, но это так. Никакого другого выбора она нам не оставляет. Почему реформы в России запаздывают на 100, на 50, на 40 лет — всегда, во все времена — никому не известно. Нет ответа на этот вопрос. Но уйти, свернуть, переждать, к сожалению, невозможно. Не знаю уж, обгоняет ли птица-тройка другие народы, как писал Гоголь, и расступаются ли они в страхе перед ней, или она отстает на круг, но вместе с этой птицей-тройкой всегда приходится ехать. Главное — не упасть. Не рухнуть совсем.
12 декабря в стране прошли выборы в новый парламент и референдум по новой российской конституции. Голосование состоялось. Народ пришел к избирательным урнам.
Теперь, наконец, всё стало понятно.
Стало понятно, кто и как принимает законы, утверждает правительство, назначает высшие судебные органы, стало понятно, какие права и свободы охраняет новая конституция, кто является главой государства, когда он избирается, каким путем может быть отозван, что он должен делать. Да, и это тоже — что именно он, президент, должен делать — тоже стало понятно только сейчас!
Прерогативы президента и парламента были достаточно четко прописаны в новом Основном законе, принятом на референдуме 12 декабря.
Достанем с полки и прочитаем. Это, правда, не сама конституция, а юридический комментарий к ней. Здесь всё изложено коротко и ясно.
Почти все исследователи говорят, что эта, «ельцинская», конституция была во многом слепком с конституции «деголлевской» да и принята в сходной исторической ситуации: распад Французской империи, непрерывная череда политических кризисов, экономическая депрессия и последовавший за ней разгул преступности и коррупции, непримиримое столкновение правых и левых, тяжелейшие уличные беспорядки, попытки военного переворота — все это было и во Франции 60-х, плюс война в Алжире, долгий и тяжелый уход французов из Северной Африки, сопровождавшийся большими жертвами и национальным расколом.
Было и стремление французского президента решать политические проблемы путем прямого обращения к нации, путем референдумов.
Ельцинская конституция и созданный им политический строй начали приносить экономические и гражданские плоды, привели к стабильности экономики, примерно с той же, что и во Франции де Голля, скоростью «разгоняющегося локомотива» — мощные толчки, внезапные остановки, скрежет рельсов, запах перегретого металла… И, что тоже важно отметить, уже после ухода де Голля. Притом во Франции не было тяжелого комплекса «сверхдержавы», милитаристской экономики, может быть, самое главное — не было семидесятилетнего большевистского наследия, тотальной смены государственной идеологии (так, по крайней мере, кажется со стороны). И еще: французский лидер 60-х и российский 90-х оказались не только в разной геополитической, но и в разной личностной ситуации.
Де Голль изначально воспринимался французами как «спаситель нации», как, в общем-то, и Ельцин. Кредит его политического доверия был почти безграничен, как, собственно, и у Ельцина. Де Голль «замораживал» ситуацию после окончания алжирской войны. И Ельцин принял страну в состоянии кипящего вулкана.
Но генерал де Голль лишь «поправил» существовавший и до него политический строй — Французскую республику. Ельцин заново создал новую Россию.
Причем делал он это в кратчайшие сроки, когда счет шел на месяцы, порой на дни, опираясь на только вчера написанные концепции и планы (французская конституция и французский закон о выборах также были опубликованы буквально за три-четыре месяца до самой даты голосования).
И вот после нескольких лет ежедневной, ожесточенной политической схватки Ельцин почувствовал необходимость «затормозить». Дать передохнуть стране. Принять, наконец, взвешенные, неторопливые решения.
Его обуревает странное ощущение — перепрыгнув пропасть, преодолев барьер времени, он вдруг оказался перед чистым полем, на котором, наконец, можно что-то строить. Открывшаяся впереди полоса жизни, как белый лист бумаги, и на нем нет ни понятной жесткой драматургии сражения, ни строго очерченных пределов его власти, ни привычных врагов, ни понятных союзников…
С чего начать строительство этого нового государства на карте мира?
Почти сразу после октябрьских событий, поздней осенью 1993 года, возникают три указа: о государственном штандарте (флаге), гимне, о государственных символах Российской Федерации.
У страны, как правильно рассуждает президент,
С другой стороны, спрашивать у страны, у народа, какие флаг и гимн они предпочитают — сейчас, в период тяжкой депрессии, когда еще не остыл кошмар октября, когда общество поляризовано и одни ненавидят новую власть, а другие по-прежнему полны надежд и веры, — тоже бессмысленно и даже жестоко. Ждать, пока эти решения примет Госдума, — утопия.
Он рассуждает так: в конце концов, флаг можно заменить, слова гимну придумать другие, главное — чтобы не было удручающей пустоты. Три главных символа нового государства, и об этом надо помнить, приняты в момент, когда либеральная интеллигенция, демократы первой волны задавали тон в обществе.
Но иногда сиюминутные, казалось бы, решения задерживаются в истории надолго. Порой на века. Так случилось и с российским флагом. Флаг Февральской революции, демократической России, то есть государства, которое не просуществовало даже года, — прочно закрепился над нашей страной, несмотря на вопли и плевки недоброжелателей.
С гимном другая история. Прекрасная, величественная мелодия Глинки, автора первой отечественной оперы «Жизнь за царя», — не имела слов. Слова-то и стали камнем преткновения. Поэты, приученные писать государственные вирши, ворчали, что на эту музыку «трудно сочинять слова».
Просуществовавший девять лет первый гимн России в 2002 году уступил место старой музыке Александрова и новым словам, которые написал автор советского гимна Сергей Михалков. Написал, ориентируясь на прежний текст. Это было символическим действием нового президента России Владимира Путина. Но случилось оно уже после ухода в отставку Ельцина.
И, наконец, двуглавый орел, держащий скипетр, — символ новой страны, который отсылал нас к истории, самой древней, монархической. Орел тоже остался с нами.
…Эти указы формально были первыми действиями Ельцина, обозначившими новую эпоху. В ней ему слишком многое предстояло придумать и осуществить заново.
Он категорически отказывается продлевать срок действия чрезвычайного положения в Москве, хотя в столице еще неспокойно («комендантский час» и «чрезвычайные полномочия» просуществовали всего две недели).
Разрешает выход оппозиционных газет (вместо газеты «День» начинает выходить газета «Завтра», в первом же послепутчевском номере — огромный портрет Сталина на первой полосе, а «Правда» и «Советская Россия» не меняют ни своих названий, ни своей направленности), значительно укорачивает список экстремистских организаций, которые подлежат запрету, — и наиболее значительные политические партии оппозиции, прежде всего КПРФ, благополучно идут на выборы… одним словом, Ельцин отказывается от любых элементов диктатуры.
Кажется, что это обвинение, которое кидают ему коммунисты — диктатор! — самое болезненное для него. Он — не диктатор. И, сделав над собой чудовищное усилие, гасит первый порыв гнева.
Он тормозит свои первые реакции, он пытается «не наломать дров», осмыслить эту совершенно новую ситуацию и свою новую стратегию.
Идея «национального примирения и согласия», которая готовится им и его советниками как главная политическая концепция 1994 года, на первый взгляд выглядит вполне логично. Главным тормозом экономических реформ, преодоления экономического тупика был политический раздрай 1992–1993 годов.
Теперь, когда необъявленная война против частной собственности ушла с открытой политической сцены и с московских улиц, появилась возможность двигаться дальше, вперед.
Кроме того (и, может быть, это самое главное), Ельцин никогда не был и не хотел быть представителем какой-то одной партии. Считал, и справедливо, что обществу необходимо объединиться вокруг какой-то общей идеи. Идеи возрождения страны.
Но декабрь 1993-го, январь и февраль 1994 года — те самые месяцы, когда на «белый лист» опустились первые кляксы, когда стало ясно, что всё не так, как виделось летом и осенью прошлого года.
Результаты первых выборов в новую Государственную думу поразили многих. Знаменитая фраза публициста и писателя Юрия Карякина: «Россия, ты одурела?» — обошла многие газеты, стала выражением той боли, которую испытала либеральная интеллигенция, ощутившая, что «всё не так». Не так, как хотелось бы.
Результаты выборов в Государственную думу (первый ее состав избирался на два года) были таковы:
ЛДПР (партия Владимира Жириновского) — 23 процента голосов.
«Выбор России» (партия Егора Гайдара) — 15 процентов.
КПРФ (партия Геннадия Зюганова) — 12 процентов.
«Яблоко» (партия Григория Явлинского) — 8 процентов.
Другие партии:
«Женщины России» — 8 процентов.
Партия российского согласия и единства — 7 процентов.
«Демократическая партия России» — 6 процентов.
Демократические и центристские партии получили, таким образом, лишь около ¹/³ голосов избирателей. Коммунисты серьезно поправили свое положение за счет выборов в одномандатных округах, их представительство в новом парламенте тоже было внушительным. Но главной сенсацией стала победа партии Жириновского. 23 процента ЛДПР обозначили совершенно новую тенденцию в общественной жизни — значительная часть российских избирателей не хотела голосовать ни за демократов, ни за коммунистов. Они выбирали «третью сторону».
И эта
В чем была новизна ситуации, которая резко обозначилась вместе с победой ЛДПР? До этого в России боролись как бы две главные идеи: идея восстановления советских государственных норм, государственного социализма, прежней коммунистической идеологии — и идея вхождения России в круг цивилизованных стран, идея демократии, рыночной экономики, гарантированных конституцией гражданских свобод. Однако для социального напряжения, которое накапливалось в обществе после развала Союза и гайдаровской «шоковой терапии», Жириновский нашел новую отдушину: ненависть. Ненависть ко всему «нерусскому», «чужому», к «врагам России», которые окружают ее со всех сторон. Ксенофобия, национализм, агрессия. Идеи Жириновского осчастливить всех россиян путем нескольких указов, его циничный популизм — на этом фоне смотрелись как органичное продолжение этой тотальной, старательно вбиваемой в головы людей ксенофобии.
Эта реваншистская идеология упала на благодатную почву. Многие россияне искренне считали, что в 1991 году потеряна великая страна, что к власти пришло «коррумпированное жулье», что ни «красные», ни «демократы» не способны вывести страну из тупика. Содержание речей Жириновского было похоже на геббельсовскую пропаганду в Германии 1930-х годов, аргументы и истерический стиль оказались настолько эффективны в политической борьбе, что это давало серьезную пищу для размышлений: а возможно ли вообще «примирение и согласие» в стране, где такая партия побеждает на выборах?
Словом, новый российский парламент оказался совсем не таким, каким он виделся президентской команде после 3 октября.
Вторым важнейшим событием 1994 года стала новая отставка Гайдара. Она произошла в январе. Вот как сам Егор Тимурович описывает это в своем интервью Альфреду Коху (который тоже успел поработать в гайдаровском правительстве):
«Дальше вторая работа в правительстве. Там было уже всё по-другому. Начало было совершенно безумное — события 3–4 октября, потом очень сложная ситуация конца 1993 года. После путча, но перед выборами в Думу. На меня многие смотрели как на следующего премьера: вот, сейчас будут выборы в Думу, у демократов будет большинство. Ты можешь себе представить, с каким энтузиазмом на меня смотрел Виктор Степанович. С одной стороны, он вроде действующий начальник… С другой, я — его бывший и будущий начальник.
А потом, когда мы эти выборы не выиграли… Хотя, честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему считается, что мы в декабре 1993 года выборы в Думу проиграли. Наша фракция в Думе была крупнейшей. Демократы никогда больше не показывали таких результатов, как на первых выборах в Думу. У меня на этот счет есть свое мнение.
Но дело даже не в результате и не в предвыборной кампании. Во второй свой приход в правительство на ситуацию я влиял мало, всё делалось мимо меня…
После выборов продолжать работу в правительстве было бессмысленно, и я подумал, что правильнее будет пойти в Думу. Ведь мы тогда на деле получили парламент, который способен работать. Получили Конституцию, которая установила колоссальные полномочия для президента, который, в свою очередь, настроен реформаторски».
Гайдар довольно точно представляет психологическую составляющую своей второй отставки: после неоправдавшихся ожиданий (он, как лидер победившей в парламенте партии, по праву станет премьером) отношение к нему Черномырдина резко изменилось. Проявились и ревность, и усталость от неуживчивого, неуступчивого Гайдара.
Но для общественного мнения отставка выглядела крайне неожиданной. Казалось, что ее ничто не предвещало. Оппозиция, которая требовала «головы» Гайдара, жестко боролась с его идеями, в октябре потерпела сокрушительное поражение. В последнем квартале 1993-го начались первые признаки финансовой стабилизации. Сам Гайдар, героически проявивший себя во время октябрьского путча, был уже далеко не тем политиком, который пришел в правительство два года назад. И хотя его партия «Выбор России» не получила в Думе того, что хотела — все равно за ним была весьма многочисленная депутатская фракция. За Гайдаром стояли демократические силы, первый опыт участия в парламентской борьбе, серьезная экономическая программа…
За Гайдаром стоял Ельцин, наконец.
Однако в первых числах января нового, 1994 года премьер-министр Черномырдин объявил о своих решениях, которые стали для Гайдара и для другого вице-премьера, Бориса Федорова, полной неожиданностью. Прежде всего, это был утопический план создания единой финансово-денежной системы России и Белоруссии, кроме того, новые дотации в агропромышленный комплекс, финансовые поблажки предприятиям-должникам.
Гайдар был не согласен с этими решениями, которые могли привести к новому витку инфляции. Но главное, не согласен он был прежде всего с тем, что его об этих решениях не поставили в известность.
Ельцин подписал его отставку неожиданно быстро. Это и стало главной новостью начала 1994 года. Вслед за Гайдаром ушли еще два члена нового правительства — Борис Федоров и Элла Панфилова.
Б. Н. сделал заявление для прессы, в котором очень тепло отозвался о Егоре Тимуровиче. Еще через несколько месяцев, встретившись с ним во время торжественного мероприятия в Кремле, практически открыто и публично предлагал вернуться в правительство.
Но Ельцин понимает: эпоха Гайдара прошла. А вернее, прошла эпоха надежд на
Ну, и, наконец, важная психологическая деталь — на этот раз Гайдар сам попросился в отставку. Удерживать его значило бы усугубить назревавший в правительстве конфликт.
После октября 93-го президенту срочно потребовался и новый генеральный прокурор. Валентин Степанков, который возглавил российскую прокуратуру в 1991 году, еще до того, как ушли в небытие советские органы власти, проявил себя в октябре 1993-го довольно двусмысленно.
В конце 1993 года, когда эта проблема встала во весь рост (генерального прокурора по новой конституции должен был утверждать Совет Федерации, верхняя палата нового российского парламента), а подходящей кандидатуры все не было и не было, помощники президента предложили кандидатуру Алексея Казанника, того самого юриста из Омского университета, который в памятном 1989 году уступил Ельцину свое место в Верховном Совете.
Он позвонил Казаннику в Омск и пригласил в Москву. Во время разговора в Кремле Б. Н. довольно быстро уговорил своего бывшего коллегу по депутатскому корпусу сменить насиженное профессорское место на высокое прокурорское кресло «ради интересов России».
Казанник рьяно взялся за свои новые обязанности.
Вообще и сам выбор кандидата, и типаж омского профессора — чрезвычайно показательны для той эпохи, и на них стоит остановиться подробнее.
Что, например, скрывается за фразой «Ельцин вспомнил о Казаннике» (ее вы встретите во всех мемуарах и книгах о том времени)? Невозможность назначать на высшие государственные посты в новой России старую советскую номенклатуру (пусть даже и вполне «молодую» по возрасту). И в экономике, и в государственной власти, и во внешней политике четко прослеживалась одна и та же проблема: хорошо обученные, обладавшие гигантским опытом работы специалисты не годились для того, чтобы двигать их «наверх». Во-первых, они были слишком тесно связаны со старой властью в период ожесточенной политической борьбы. И, во-вторых, они не понимали новых задач, стоящих перед страной. Мыслили в категориях старой экономики, старых законов, старой структуры управления, старых методов осуществления полномочий, наконец, старой имперской логики.
Целый класс матерых профессионалов, прошедших огромную школу советских «академий», министерств и ведомств, оказался в новой ситуации: кто-то с удовольствием адаптировался и влился в новую систему, а кто-то не мог, не хотел и даже не собирался этого делать. Ельцин был просто вынужден искать новых людей.
Эти новые люди возникали порой совершенно неожиданно. Крайне редко — это были персонажи из ельцинского прошлого, связанные с ним по предыдущим местам работы (первый глава администрации Юрий Петров, вице-премьер, а затем секретарь Совбеза Олег Лобов, оба его бывшие коллеги по Свердловскому обкому). Обычно президент исходил из главного, очень простого правила — в российскую власть он выдвигал людей из провинции, «свежих», не связанных с высшей советской партийной и государственной элитой и независимо проявивших себя в тревожные годы горбачевского правления, например, работой на Съезде народных депутатов СССР или РСФСР…
Таким образом, например, заняли высокие места в правительстве многие бывшие союзные и российские депутаты.
Это были действительно новые люди — совсем недавно они работали еще в своих городах, в «глубинке», занимали скромные должности заведующих лабораториями, кафедрами провинциальных университетов и институтов, преподавателей, районных начальников и даже и не помышляли о том испытании властью, которое им в скором времени предстоит пройти.
Одним из ярких представителей этой формации «завлабов» был и Алексей Казанник — провинциальный интеллигент, с характерной профессорской внешностью, с проседью в густой бороде, которого невозможно было бы представить на месте прокурора в советское время хотя бы из-за его выдающегося интеллигентского прононса.
Возможно, Казанник был бы хорошим прокурором… Но уже в первые дни своей работы он столкнулся с проблемой, которая накрыла его своей тяжестью.
26 февраля 1994 года Генеральная прокуратура России выполнила постановление Государственной думы об амнистии. На свободу вышли люди, непосредственно виновные в событиях 3–4 октября, организаторы путча, который мог привести к гибели тысяч людей, массовым репрессиям, террору и гражданской войне.
Почему это произошло?
Вот как описывает эти события Вячеслав Костиков, в тот период пресс-секретарь Ельцина:
«Настоящим шоком для президента стало освобождение из тюрьмы участников заговора 1991 года и неудавшегося переворота октября 1993 года. Это была четко рассчитанная и мгновенно реализованная интрига за спиной президента. Не обошлось и без предательства. Из тюрьмы выпустили яростных противников президента Р. Хасбулатова, А. Руцкого, генерала А. Макашова, бывшего заместителя министра внутренних дел А. Дунаева, лидера Фронта национального спасения И. Константинова, лидера “Трудовой России” В. Анпилова, руководителя боевиков оппозиции А. Баркашова, председателя Союза офицеров С. Терехова и других (всего 74 человека). Это было прямым вызовом Ельцину».
Выйдя на костылях из тюрьмы (после ранения), организатор штурма здания государственного телевидения А. Баркашов на вопрос журналиста, что он намерен делать, ответил: «То же, что и делал раньше». Было полное ощущение заговора. Правительство молчало и заняло по вопросу об амнистии… отстраненную позицию, как будто это его не касалось.
…Отчаянную попытку предотвратить выход арестованных на свободу предпринял вечером 25 февраля руководитель личной охраны президента Александр Коржаков. Он созвал совещание, на которое пригласил генерального прокурора А. Казанника, министра внутренних дел В. Ф. Ерина и тогда еще начальника Контрольного управления при президенте А. Ильюшенко. На совещании присутствовали помощники президента Г. Сатаров и Ю. Батурин.
…А. Казанник обвинил команду президента в том, что она не приняла превентивных мер на стадии разработки проекта акта амнистии в Государственной думе, а спохватилась, когда было уже поздно.
Были противоречия и в действиях самого Бориса Николаевича.
Он, разумеется, не мог не знать о том, что в Государственной думе поднят вопрос об амнистии. Однако у него (трудно сказать под влиянием какой информации) сложилось впечатление, что это вопрос затяжного свойства и что решение может быть принято где-то ближе к весне.
В подписанном И. П. Рыбкиным постановлении Государственной думы об амнистии был пункт 9: «Данное Постановление вступает в силу с момента опубликования. Пункты 1 и 2 Постановления подлежат исполнению немедленно». Именно эти пункты предусматривали прекращение уголовных дел и освобождение лиц, ответственных за путч августа 1991-го и октября 1993 года. И второе — свидетельство главного редактора «Российской газеты» Натальи Ивановны Полежаевой о том, что Рыбкин лично звонил ей и торопил опубликовать постановление Госдумы об амнистии…
В субботу, 26 февраля, в первой половине дня помощники президента Батурин и Сатаров работали над письмом президента в Государственную думу, предлагая Госдуме еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об амнистии. В проекте письма президента речь шла о «доработке Постановления».
Но было уже поздно.
Пока Сатаров и председатель Государственной думы Рыбкин обсуждали «пути практического осуществления мер, предложенных президентом», из следственного изолятора тюрьмы «Лефортово» начали выходить те, которые всего четыре месяца назад требовали головы президента Ельцина.
В этот день, в субботу 26 февраля, в 16.05 на свободу вышел Р. Хасбулатов. Через пять минут — генерал А. Макашов. В 16.55 почему-то из служебного выхода тюрьмы появился одетый в генеральскую форму А. Руцкой. В течение последующих двух часов были освобождены все основные участники мятежа октября 1993 года. Президент, находившийся в Барвихе на даче, по телефону пытался остановить реализацию постановления парламента. Но тщетно. Генеральный прокурор России Алексей Казанник, публично заявивший о своем несогласии с решением Государственной думы («Акт политической амнистии навсегда останется одной из позорных страниц в истории отечественного парламентаризма…»), тем не менее отказался выполнить требование Ельцина о приостановке амнистии. «Прокурор не наделен полномочиями по приостановлению акта амнистии», — отвечал он. Оказавшись зажатым между собственной гражданской позицией и буквой закона, он в этот же день заявил о своей отставке: «У меня нет выбора… Акт амнистии будет выполняться, но, разумеется, без моего участия».
Итак, организаторы путча оказались на свободе. Что же делает президент дальше? Продолжаю цитировать (потом мы проанализируем его внимательно) этот очень важный фрагмент из мемуаров Вячеслава Костикова:
«В понедельник 28 февраля спичрайтер президента Пихоя и я зашли к Борису Николаевичу.
— Голушко (в то время директор Федеральной службы контрразведки) предал меня, — угрюмо проговорил он. — Я отдал ему прямое указание никого из “Лефортова” не выпускать до выяснения обстоятельств. Он приказа не выполнил. Вот Указ о его увольнении.
Помощники предложили президенту срочно подготовить Указ с условным названием “О дополнительных мерах по поддержанию конституционного строя”.
Получив принципиальное согласие… мы засели за работу, и к 16 часам пошли к президенту. Нам долго пришлось ждать в приемной. Президент вел казавшиеся нам бесконечными разговоры по телефону. Главным образом, с министром внутренних дел В. Ф. Ериным. Мы понимали, что отсчет времени идет на часы, и, желая ускорить ход событий, передали проект Указа через А. Коржакова. В отличие от помощников, главный телохранитель имел право входить к президенту не через приемную, а через комнату отдыха.
Мы уже собирались уходить, когда нас (Ю. Батурина, Л. Пихоя и меня) пригласили к президенту. Борис Николаевич сидел за столом с подготовленным проектом.
— Слабо… Слишком вяло, — сказал он. Признаться, мы были удивлены, поскольку проект Указа был составлен в достаточно жестких тонах. Мы сказали ему об этом.
— Надо еще жестче, — отозвался президент. Смысл его высказываний состоял в том, чтобы “не размазывать ситуацию”, а “немедленно арестовать выпущенных по амнистии”. Президент был настроен очень решительно. Он нажал на кнопку пульта и тут же при нас стал говорить с В. Ф. Ериным. “Нужно немедленно провести аресты. Вы знаете кого”, — сказал он, не называя фамилий.
Мы слышали все ответы Виктора Федоровича, поскольку президент не считал нужным скрывать от нас разговор и у него было включено звуковое переговорное устройство. Ерин отвечал, что приказ готов выполнить, но что ему нужно официальное согласие нового Генерального прокурора Ильюшенко.
— Согласие будет, — коротко сказал президент и отключил связь».
«У меня нет никаких сведений по поводу того, что произошло после отъезда президента из Кремля, — пишет далее Костиков. — Весь день мы ждали свидетельств того, что приказ Ельцина будет выполнен. Но время шло, а вестей не было. Уже поздно вечером с дачи я позвонил друзьям в “Интерфакс” и, не раскрывая причин своего интереса, спросил, нет ли у них каких-либо новостей. Ожидаемых новостей не было. Не было их и утром. Сработали какие-то механизмы торможения, и приказ Ельцина был либо блокирован, либо отозван».
Итак, Ельцин шокирован. Ельцин взбешен. Ельцин принимает отставку генерального прокурора Казанника, увольняет министра безопасности Голушко, Ельцин требует от своих помощников немедленного указа, составленного в «самых жестких тонах», от министра внутренних дел — «немедленных арестов». Суета в Кремле, страшное напряжение, счет идет на часы, потом на минуты…
И что же?
Что?
Куда девалась его решимость? Почему он позволил Хасбулатову, Руцкому, Макашову и прочим остаться на свободе? Что с ним случилось?
Вернемся чуть назад. Новый состав парламента почти сразу обозначил свою агрессивность по отношению к президенту. 17 января депутат Липицкий предложил создать комиссию для разработки амнистии по делам, связанным с событиями августа 1991 года и 3–4 октября 1993-го. Затем последовала инициатива Госдумы о проведении совместных заседаний с парламентами Белоруссии и Украины с последующей денонсацией Беловежских соглашений. И хотя постановление набрало лишь 123 голоса, это был тревожный сигнал. Президент направил в Госдуму свой проект амнистии для лиц, «не представляющих общественной опасности». 11 февраля 1994 года, когда депутаты начали рассматривать президентский проект амнистии, началась бурная дискуссия. «На одном полюсе, — пишут помощники Ельцина, — выступления… пронизанные искренним стремлением умиротворить общество после трагических событий осени 1993 года; на другом — резкие взаимные политические нападки». Стало ясно, что в такой обстановке новая Дума просто не сможет работать. 18 февраля с неожиданной инициативой выступил Сергей Шахрай — от имени трех фракций он предложил принять меморандум об общественном примирении и согласии. «Женщины России» предложили объединить принятие меморандума с амнистией.
Ельцин сумел погасить порыв гнева. Сумел взвесить все «за» и «против». Он понял, что ни Руцкой, ни Хасбулатов, ни все остальные (включая гекачепистов, также выпущенных на свободу) — действительно никакой серьезной «общественной опасности» уже не представляют. Наученные горьким опытом, они будут придерживаться строгих рамок парламентской борьбы. Так и получилось. Многие из выпущенных в те дни на свободу и вовсе ушли в тень, другие остались в политике. Но серьезного влияния на жизнь России это уже не имело.
В конце февраля 1994 года Наина Иосифовна была в Свердловске, у постели тяжело больной матери. А когда она вернулась, Б. Н. вдруг предложил ей съездить в отпуск, на Черное море, в Сочи.
Это был как бы подарок на день рождения (они улетали 14 марта). Отпуск в плохую погоду, в самом начале весны, неожиданный «как снег на голову», среди бурно разворачивающихся политических событий потряс умы обозревателей.
Одни видели в этом отпуске подтверждение того, что «Ельцин так и не отошел от событий 3–4 октября», другие — что он, как всегда, убегает из Москвы после политических кризисов, впадает в период депрессии и затишья, в то время как надо решительно действовать. Третьи беспокоились о его пошатнувшемся здоровье.
Провожали президента во Внуково-2 премьер Черномырдин, вице-премьер Олег Сосковец, министры обороны и внутренних дел Грачев и Ерин. Ельцин пообщался с журналистами, которые ждали в соседнем зале, сказал, что в Сочи будет купаться и играть в теннис, несмотря на плохую погоду. Возможно, Ельцин действительно мечтал окунуться в холодное море. Эта обжигающая ледяная вода всегда давала ему какое-то освобождение, очищение.
От чего — в данном случае?
Несмотря на его убеждение, что общественное примирение и согласие — единственный на данный момент политический лозунг, который способен заставить Госдуму и все общественные институты придерживаться конституционного поля, жить в рабочем режиме, а не в бесконечной политической схватке, — внутри него бушуют еще не остывшие страсти. Надо погасить их. Надо остановиться, оглянуться. Надо понять, что происходит…
В то время как Ельцин окунается в холодное Черное море, в Москве ходит по рукам, а затем публикуется в «Общей газете» анонимный документ: «Версия № 1» (затем — уточненная «Версия № 2»).
Его так и не найденные авторы писали: весной или летом 1994 года группа высокопоставленных государственных лиц «намерена осуществить попытку отстранения Б. Ельцина от власти». Утверждалось, что эта группа уже провела предварительные переговоры с министрами-силовиками П. Грачевым, В. Ериным и С. Степашиным… Сигналом к началу действий должно было послужить выступление по Первому каналу «известного общественного деятеля», а мотивом — «ухудшение состояния здоровья президента, его физическая неспособность руководить страной».
Документ, который попал на радиостанцию «Эхо Москвы», в пресс-службу президента, в редакции известных газет, был передан по факсу с номера телефона, который оказался фальшивым.
Абсолютно фальшивым был и сам этот документ, поскольку в числе «заговорщиков» фигурировали политически совершенно несовместимые лица: вице-премьер О. Сосковец (находившийся в тесных отношениях с Коржаковым) и Ю. Лужков (который уже конфликтовал с начальником президентской охраны), начальник Генштаба генерал Колесников, спикер Совета Федерации В. Шумейко, М. Полторанин, Ю. Скоков. Некоторые из этих людей были даже не знакомы друг с другом.
Называлась и фамилия того «крупного общественного деятеля», который должен был выступить по телевидению и тем самым обозначить начало действий новоявленного российского ГКЧП, — Юрий Скоков, бывший секретарь Совета безопасности, потенциальный премьер того правительства, которое должно было «приступить», если бы события 3–4 октября повернулись по-другому.
Разумеется, все участники «заговора» немедленно дезавуировали свое участие, обозвали документ фальшивкой и потребовали начать расследование по всей форме.
Скандал был такой остроты, что главный редактор «Известий» И. Голембиовский позвонил Ельцину в Сочи и среди прочих задал ему этот вопрос:
«Не могу не спросить, как вы относитесь к появлению так называемого документа “Версия № 1”… Политическая жизнь в стране приобретает новый острый накал. И странно, что службы, обеспечивающие безопасность, до сих пор не могут сказать ничего внятного…»
Ельцин отвечал:
«Во-первых, это провокация. Во-вторых, вы правы — соответствующие службы оказались беспомощны…»
Многие в те дни приписывали «Версию № 1 и № 2» политологу Глебу Павловскому. Он сам отказался комментировать эти слухи.
Но кем бы ни был этот безвестный конспиролог, попытавшийся перессорить тогдашнюю российскую элиту, он верно уловил главное: подступающий кризис.
Кризис, который отражал внутреннее состояние самого Ельцина.
Его неподвижность, его скованность, его усталость и его… раздражение.
Словом, идея
Егор Гайдар не раз говорил, что раздражение, апатия, вялость Ельцина были следствием тяжкого стресса, который тот пережил в октябре 1993-го. На мой взгляд, причина не только в этом: он никак не мог почувствовать ситуацию, в которой находится, понять направление политического процесса. Вопрос «что делать дальше?» повис в воздухе.
Это внутреннее раздражение начинает прорываться постепенно, шаг за шагом. Еще до отъезда в отпуск он нарывается на крупный внешнеполитический скандал: бывшего президента США Ричарда Никсона, который во время своего частного визита в Москву решил встретиться с вышедшим на свободу Руцким, он лишает правительственного автомобиля и охраны. Бедный Никсон едет в аэропорт всего лишь на посольской машине. А ведь 20 лет назад москвичи встречали его, стоя на тротуаре Ленинского проспекта, с цветами и флажками! За это приходится извиняться всем: и кремлевской администрации, и МИДу, и Биллу Клинтону, новому президенту США, который вынужден делать у себя на родине политические реверансы и объяснять действия своего российского коллеги.
Сам Ельцин извиняться не собирается. По его мнению, Руцкой — преступник, оказавшийся на воле по недомыслию членов Государственной думы. Раздражение впервые публично прорывается наружу.
В том же телефонном интервью «Известиям», отвечая на вопрос о своем здоровье, он говорит:
«С врачами не встречаюсь, в Мацесту (на лечебные процедуры. — Б. М.) не езжу… Работаю… Словом, никаких признаков болезни…» После Сочи он возвращается в Москву — вроде бы полным здоровья и сил.
Но раздражение, накопившееся в нем, постепенно прорывается — в первую очередь как раз через физическое состояние, неожиданными приступами и болями в сердце.
Американский биограф Ельцина с дотошностью клинического терапевта перечисляет все его болезни:
«Как бегун на длинные дистанции после пересечения финишной линии, Ельцин вдруг почувствовал боль от всех ран и травм, которых у него было предостаточно. Особенно серьезной была травма, полученная при аварийной посадке самолета в Испании в мае 1990 года. И хотя операция по восстановлению двигательной активности прошла успешно, впоследствии каждый толчок в спину, напряжение позвоночника вызывали острую боль. Из всех болезней Ельцина самой тревожной была ишемическая болезнь сердца, или недостаточное кровоснабжение сердца в связи с полной или частичной закупоркой коронарных артерий. Одно из наиболее распространенных сердечных заболеваний, ишемическая болезнь сердца вызывает сильную боль в области груди, которая часто распространяется в спину и руку»…
Посчитайте сами, сколько раз в этом пассаже повторяется слово «боль».
А вот как сам Ельцин описывал свое состояние в книге «Записки президента», вышедшей в свет весной 1994 года:
«Я должен был пережить все это: изнурительные приступы депрессии, мрачные мысли по ночам, бессонницу, головную боль, отчаяние и печаль при виде грязной нищей Москвы… весь груз принятых решений, обиду на тех, кто когда-то был рядом, а в трудное время предал, не помог, не проявил стойкости».
В сухом терапевтическом остатке — отпуск Ельцину не помог.
Человек, поглощавший деловые бумаги как машина, запоминавший сотни цифр, целые страницы текста наизусть, возвращал теперь своим помощникам аналитические записки без каких-либо замечаний. Мы радовались, вспоминают они в своей книге, когда в верхнем углу документа находили карандашную «галочку» — это значило, что текст хотя бы привлек его внимание.
Ельцин все чаще ломает рабочий график, отменяет встречи, переносит их, уезжает из Кремля в Завидово или в Барвиху на несколько дней. Особенно мучительными были для него протокольные мероприятия, например, вручение верительных грамот послами зарубежных государств, во время которых нужно было стоять час или полтора, что заканчивалось всегда острой, невыносимой болью в ноге.
Вот что пишут его помощники:
«Ближайшей целью вернувшегося после отдыха Президента было убедить или вынудить оппозицию подписать Договор об общественном согласии. Однако недомогания и “отсутствия в Кремле” продолжались. В это время у Президента сильно болели ноги, и ему порой было трудно не только ходить, но и сидеть. Все чаще приходилось отменять заранее запланированные встречи и мероприятия…Противники… использовали каждый подобный факт для того, чтобы вновь выдвинуть тезис о недееспособности Президента. 4 апреля Борис Николаевич попросил отменить посещение вновь построенной и только что открытой церкви Иконы Казанской Божьей Матери… 5 апреля не состоялось давно ожидавшееся Совещание по экономическим вопросам… 6 апреля — заседание Совета Безопасности».
Помощники в апреле этого года напишут Ельцину первое письмо, в котором выразят обеспокоенность «потерей темпа» и предложат меры к исправлению положения: встретиться с тем-то, выдвинуть такую-то инициативу, выступить по телевидению.
Вдруг замолчавший, ушедший в себя Ельцин начал все больше беспокоить свою команду.
Еще в самом конце предыдущего, 1993 года Ельцин встречался в Кремле с представителями интеллигенции. На встречу были приглашены А. Адамович, Б. Окуджава, Ф. Искандер, Б. Васильев, Д. Гранин, Б. Ахмадулина, Ю. Нагибин, Р. Рождественский, Д. Лихачев. Эту встречу Ельцин также хотел отложить, но пресс-секретарь Костиков, учитывая уровень приглашенных, решил настоять. Он дежурил у двери, ожидая, когда президент, наконец, появится. «На этот раз он шел медленнее, чем обычно, волоча ногу. “Безжалостный вы человек, Вячеслав Васильевич, — сказал Ельцин. — Не жалеете президента…”». Думая, что президент шутит, ободренный Костиков гнул свое: «В конце концов, можно отказаться… от вашего выступления. Писатели и сами всё понимают. Им важнее высказаться самим…»
Неожиданно президент остановился и повернулся к Костикову. «Неужели вы не понимаете? — сказал он Костикову голосом, который Костиков назвал «металлическим». — Сегодня мне даже сидеть трудно».
Подписание Договора об общественном согласии происходит 28 апреля 1994 года. Это большое, торжественное событие в Георгиевском зале Кремля по-своему уникально. Цветы, пресса, парадные костюмы — среди тех, кто ставит свои подписи, есть и непримиримые враги — например, Гайдар и Жириновский.
Ельцин работает над текстом своего выступления на церемонии подписания договора 28 апреля очень тщательно, отвергает один вариант за другим, правит, дополняет, исправляет. Как пишут помощники, «это было одно из тех событий, когда он по-настоящему волновался». Неужели будет достигнута та ситуация, при которой можно спокойно продолжать реформы, вывести Россию из тупика?
Вот что говорил Ельцин 28 апреля 1994 года:
«Почти восемь десятилетий назад нашу страну постигла страшная трагедия. Россия была ввергнута в бездну Гражданской войны… Кровавая межа разделила людей на белых и красных, на своих и чужих, на врагов друг другу.
…Надо прервать кровавую череду подобных событий. Это не было сделано нашими отцами и дедами. Это обязаны сделать мы. Обязаны сделать, чтобы вручить нашим детям мирную Россию…»
Но договор отнюдь не вызвал в российском обществе того энтузиазма, на который он рассчитывал. Лидер российских коммунистов Г. Зюганов и лидер партии «Яблоко» Г. Явлинский отказались ставить свои подписи под договором. Критиковала договор и демократическая интеллигенция — не слишком ли высокую цену собирается заплатить президент за мифическое «согласие»? Первые же сессии Государственной думы выявили одну простую истину: оппозиция осталась оппозицией, причем — по-прежнему непримиримой.
Однако ситуация все-таки изменилась. Вместо эпохи открытого противостояния началась эпоха закулисных договоренностей, долгих изнурительных переговоров, торга, компромисса. Да, это было много лучше, чем уличная война.
Ельцин внимательно прислушивается к тем сигналам, которые посылает ему оппозиция через своих переговорщиков. При подготовке Договора об общественном согласии коммунисты выставили ряд неприемлемых условий: отказаться от приватизации, от реформ, удалить из правительства реформаторов, вернуться к государственной собственности в ряде приоритетных отраслей. Требование «убрать Чубайса» станет знаковым для всех закулисных переговоров с оппозицией образца 1994 года. Например, лидеры «красных фракций» считали, что Ельцину выгоден перенос выборов. И парламентских, и президентских. Перенос выборов их вполне устраивал, новые выборы в парламент в 1995 году казались слишком близкими.
«В обмен» они требовали контроля над правительством — убрать одних, назначить других.
Ельцин, лично не принимая участия в переговорах, рекомендовал — выслушивать, записывать, но не давать никаких обещаний.
Помощники Ельцина пишут: «Отсутствие в Думе пропрезидентского… большинства заставляло исполнительную власть прибегать к нестандартным ходам для “продавливания” своих решений. Фактически это сводилось в той или иной мере к подкупу в виде раздачи льгот, преференций и т. п. для коммерческих структур, стоявших за депутатскими фракциями (группами). Ясно, что чем дальше развивалась эта практика, тем дороже становились депутатские “услуги”».
Летом 1994 года он окончательно понимает — мечта об общественном договоре, о политическом перемирии, о совместной работе всех политических партий и движений пока несбыточна. У них нет общей платформы. Они никогда не смогут договориться.
Остается взирать на эту шахматную партию сверху, расставлять фигуры…
Вячеслав Костиков, пресс-секретарь Ельцина, напишет позднее: «Желая вывести Ельцина из-под огня критики по экономическим вопросам, помощники президента, члены Президентского совета настойчиво рекомендовали ему., дистанцировался от действий правительства, сосредоточить внимание на политической стратегии, на отношениях с парламентом, с политическими партиями. По существу, это были верные советы, вытекавшие из сути новой Конституции. И президент принял их во внимание. Он отошел от непосредственного руководства экономикой, почти перестал вести “президиум Правительства”. Но в личном плане это отрицательно сказалось на внутренней стабильности Ельцина.
Он вырос и сформировался в гуще хозяйственных вопросов. Как бывший секретарь обкома КПСС, ответственный за огромный и насыщенный промышленностью регион, он привык именно к экономическому руководству, привык вникать во все тонкости хозяйства. Все его способности и привычки развились именно на этой ниве… И вот теперь, сдав Черномырдину тяжелый экономический рюкзак и, казалось бы, освободив силы и время для национальной стратегии, он вдруг оказался без внутреннего стержня. Ельцину пришлось учиться играть на совершенно новом поле и в новую игру, где еще не было правил и где его личный опыт был мало пригоден. В 63 года ему пришлось учиться заниматься собственно политикой. Его интеллектуальный аппарат, отточенный для решения конкретных вопросов, оказался мало адаптирован для осмысления достаточно абстрактных понятий, таких, как национальные интересы, политическая стратегия. Он привык к огромным усилиям воли и ума, которые тем не менее приносили видимые и быстрые плоды. Теперь же пришлось столкнуться с проблемами, решение которых требовало времени — пяти, десяти и даже более лет. Это обескураживало. Положение усугублялось тем, что Ельцин не привык быть в роли ученика, не привык получать советы. Да и советы, в сущности, давать было некому. Большинство других российских политиков страдали теми же недостатками, что и Ельцин, но не имели его смелости, его способностей, его воли. В новой роли стратега Ельцину, в сущности, не на кого было опереться».
Не думаю, что его бывший пресс-секретарь Костиков здесь во всем прав: нет, Ельцин внутренне был готов и к стратегическим решениям, и к долгосрочным планам переустройства России. Но ему хотелось видеть хоть какие-то плоды своих усилий сегодня, сейчас, участвовать в стройке самому. А реальность новой России, хаотичная, неустойчивая, депрессивная, властно отодвигала от него этот долгожданный момент.
Между тем в ошарашенной всеми последними событиями Москве слова о «примирении и согласии» воспринимаются, мягко говоря, с иронией. Примирением и согласием здесь и не пахнет.
Первая половина 1994 года проходит под знаком краха «финансовых пирамид» и прежде всего — «МММ», творения братьев Мавроди. Причем «МММ» — далеко не единственная, а просто самая большая и популярная среди населения «пирамида». Смысл ее прост — покупая акции «МММ», так называемые «мавродики», по одной цене, люди буквально через два-три месяца могут продать их по более высокой. Пирамида подпитывает сама себя, и понятно, что рано или поздно она рухнет, а вкладчики останутся ни с чем.
Именно это и произошло летом 1994 года, спустя несколько недель после подписания меморандума о гражданском мире. Толпа окружила офис здания «МММ» на Варшавском шоссе и блокировала его. Это был непрекращающийся круглосуточный митинг. Десятки тысяч людей непрерывно дежурили у здания, их состояние можно было определить просто — психоз.
Вот что пишут очевидцы этих событий:
«Часть толпы вкладчиков, численностью около трех-четырех тысяч человек, организованно во время зеленого света на пешеходном переходе заняла его и отказалась уйти оттуда. Возникла ситуация перекрытия Варшавского шоссе — одного из самых оживленных в Москве.
В толпе в то же время раздавались призывы блокировать дополнительно и линию железной дороги, проходящую с другой стороны здания “МММ”.
Постовой сотрудник ГАИ, пытавшийся помешать толпе, был ею оттеснен, а когда попробовал сопротивляться — ему стали угрожать мерами физического воздействия. В этой ситуации сотрудник милиции произвел выстрел, почему-то в асфальт. По счастливой случайности рикошетом никого не ранило. После этого был вызван ОМОН для разгона вкладчиков».
Нетрудно было понять ярость и гнев этих людей — ведь многие из них продавали квартиры, занимали огромные деньги, чтобы вложить их в акции «МММ». На некоторых московских предприятиях даже зарплату выдавали не рублями, а «мавродиками». Ирония заключалась в том, что сам Мавроди был глубоко убежден, что к концу 1994 года превратит «мавродики» (с изображением своего портрета на ассигнациях) в «стабильное платёжное средство».
Рекламная кампания «МММ», которая велась по всем телевизионным каналам, со смешным персонажем из «народа», Леней Голубковым, с его нелепыми родственниками, у кого-то вызывала полное отторжение, а у кого-то ажиотаж. Леня Голубков на государственных каналах ТВ казался символом своего времени.
Символ был чрезвычайно грустным — в реальности Леня Голубков оказался обманутым вкладчиком.
Страна заново училась всему — участвовать в выборах, переносить экономические реформы, жить при демократии, при свободном рынке, наконец, училась покупать и продавать ценные бумаги. Но никто толком не мог объяснить, что же это такое — ценные бумаги. Определить их настоящую ценность.
Разноцветные «мавродики», цветные бумажки, с катастрофической скоростью потерявшие всякую стоимость, к сожалению, были своеобразной пародией на
1 июля 1992 года президент Ельцин объявил о начале программы «чековой приватизации». Перед миллионами телезрителей предстал руководитель Госкомимущества Анатолий Чубайс, который с указкой в руках, на схемах и диаграммах попытался объяснить, каким образом государственные предприятия должны переходить в частные руки.
…Именно этот исторический момент, если судить по многочисленным статьям, книгам, научным работам, стал отправной точкой коллапса отечественной промышленности, причиной ее упадка, падения в пропасть, остановки производства на многих и многих заводах и фабриках. В реальности промышленный кризис начался за несколько лет до этого. Прекращение государственных дотаций, госзаказа, разрушение экономических связей между республиками и регионами, исчезновение единой плановой экономики стран «социалистического содружества» произошло гораздо раньше. По причинам не только экономическим, но и политическим. Советская экономика перестала работать уже в 1989–1991 годах.
Развалилось на части само Советское государство, а без него не могла работать и экономика. И наоборот — развалилась советская экономика, а без него не могло существовать и Советское государство. Это был единый процесс, развивавшийся стремительно, могучими разрушительными толчками, похожий на землетрясение.
Приватизация тут была совершенно ни при чем.
Более того, стихийная приватизация госпредприятий гигантскими темпами шла и до Чубайса. Только называлась она по-другому.
Еще при союзном премьере Рыжкове вступила в действие так называемая «концепция полного хозяйственного ведения». Уже в конце горбачевской эпохи директор предприятия мог распоряжаться основными фондами предприятия
Вот к чему это приводило: «На финише 1991 года стихийная приватизация уже бушевала вовсю. Чаще всего работали две схемы захвата госсобственности. Первая: имущество госпредприятия просто переписывалось как составная часть некоего вновь создаваемого акционерного общества. Вторая: госимущество становилось частной собственностью в результате проведения нехитрой операции “аренда с выкупом”» («Приватизация по-российски»).
Анатолий Чубайс приводит классический пример такой стихийной директорской приватизации НПО «Энергия». Здесь в уставном капитале акционерного общества поровну были оценены — и оборудование огромного завода, и «интеллектуальная собственность некоего товарища Петрова». «Что интересно, — пишет Чубайс, — открутить обратно такие сделки, как правило, невозможно. Потому что вновь созданные акционерные общества тут же вносятся в другие акционерные общества, и в составе этих обществ они еще раз оцениваются и переоцениваются… Абсолютно непробиваемая схема. Абсолютно неограниченных размеров хищения».
«Директорская» приватизация набирала обороты. Политически корпус «красных директоров» выступал против гайдаровской реформы, за восстановление госзаказа и плановой экономики. Практически — был заинтересован в том, чтобы закон о разгосударствлении был принят как можно позже.
«В чьих интересах шла спонтанная приватизация? Всегда, когда нет единого государственного подхода и нет настоящей государственной власти, всплывают интересы каких-то локальных элит. Так было и с приватизацией до 92-го года. Безусловно, захват собственности осуществлялся в интересах наиболее сильных — представителей партийной, директорской, региональной и отчасти профсоюзной элит. Государство не получало ничего: бюджетные интересы в ходе спонтанной приватизации не учитывались. А трудящиеся?.. В этих процессах они не участвовали никак. Словосочетанием “трудовой коллектив” лишь красиво прикрывалась выгодная для начальства сделка».
Поскольку процесс стихийной приватизации уже развернулся вовсю, с управляемой приватизацией («по закону») ждать было невозможно. Государство
Развернулись споры о том, как и когда это делать.
Директорское лобби повело атаку с двух сторон: во-первых, говорили представители директорского корпуса, предприятия должны продаваться по «индивидуальным» схемам; во-вторых, необходимо подождать, пока ценовая реформа не стабилизирует инфляцию, пока рынок не наполнится товарами, а госбюджет — реальными деньгами. По сути, это значило отложить приватизацию на неопределенный срок, может быть — навсегда.
Чубайс отвергал и первый, и второй аргумент.
Разумеется, говорил он, освобождение цен приносит результаты очень быстро, раньше чем через год. Приватизация дает финансовые результаты лишь через семь-восемь лет. Но это не значит, что ее надо откладывать, — мы просто-напросто прибавляем к этому длинному сроку еще один год, еще два.
Где написано, гневно вопрошает он, что приватизация должна проходить после ценовой реформы? Странный вопрос. Нигде не написано. В том-то и дело, что разгосударствление такой огромной махины, как советская экономика, было процессом сугубо уникальным, не имеющим аналогов.
Сложнее было с первым аргументом. Директора (или, на западный манер, менеджеры) советских промышленных гигантов не хотели подпускать «чужаков» даже близко к своей территории. Хотели, чтобы процесс перехода собственности от государства к новым собственникам проходил под их чутким контролем. Чтобы они сами искали покупателей, а еще лучше — сами были бы и продавцами, и покупателями. Так, например, возникла идея «финансово-промышленных групп» под эгидой бывших министерств и ведомств, которая сразу хоронила главное зерно приватизации — возможность появления на нерентабельном предприятии эффективного собственника. В эти гигантские конгломераты предполагалось объединить заводы, фабрики, объекты соцкультбыта, дороги… Эту идею активно пробивало промышленное лобби в Верховном Совете РФ.
Чубайс признается, что приватизационная программа в какой-то мере была насилием. Но насилием над чем (или над кем)? Над стихийным экономическим эгоизмом руководителей предприятий, которые не хотели отдавать никому столь сладкий кусок. «Вспомним, — пишет Максим Бойко, один из соавторов программы, — на дворе канун 1992 года. “Умные головы” по телевизору, в газетах, в представительных собраниях озабоченно дискутируют на тему: готова ли Россия к рынку?.. А можно ли вообще в нашей стране проводить приватизацию? Поймут ли “наши люди”, что такое аукцион?.. На фоне всей этой теоретической дичи в стране вовсю развернулась спонтанная приватизация. Директора предприятий, руководители министерств и ведомств… делали свой маленький (а кто и не очень) бизнес. Правда… хотя они и контролировали предприятия, но не были их владельцами и потому не могли получать прибыль открыто, законно. Поэтому заключались контракты на продажу продукции по заниженным ценам, помещения и производственное оборудование сдавались в аренду подставным фирмам, выдавались кредиты, которые потом не возвращались, и т. д. — все это, конечно, с учетом личной заинтересованности директора…
Масштабы бесконтрольного воровства росли и ширились, и власть, сознавая, что надо вмешаться, не понимала, как это сделать».
Итак, зафиксируем этот момент:
Наконец, последний, «железный» аргумент противников закона о приватизации был таким — приватизацию проводить надо, но «как в других странах», за реальные деньги, это единственно экономически обоснованный путь, это дополнительные средства в бюджет, это появление эффективного собственника.
Вслушаемся теперь в аргументы Чубайса. «Слова были вроде и правильные, но я думаю, что главная цель той полемики была другой: затормозить приватизацию любой ценой! Наши оппоненты понимали: после того, как механизм массовой приватизации будет раскручен, остановить его окажется невозможным».
Чубайс и его команда попытались проанализировать схемы, по которым шла массовая приватизация в бывших социалистических странах. «Изучили мы, например, опыт польской приватизации. Там начали продавать собственность на денежных аукционах. И что же? Из-за отсутствия иностранных и внутренних инвестиций продажа (контрольных пакетов. — Б. М.) двигалась черепашьими темпами и приносила бюджету не такие уж большие деньги. За первые два года… удалось продать контрольные пакеты акций только тридцати двух крупных и средних предприятий. Это принесло в бюджет всего 160 миллионов долларов…»
Главное в этом пассаже, впрочем, не цифра — а «черепашьи темпы» приватизации. И еще один момент. «Действовавшая программа приватизации (та самая стихийная «аренда с выкупом». — Б. М.) противопоставляла интересы менеджеров и работников предприятий интересам всего остального населения. А нас еще и подталкивали к тому, чтобы усугубить этот разрыв!» Чубайс никогда не скрывал, что приватизация — вопрос политический. Если ее сорвать, затормозить, повернуть вспять, извратить ее смысл — не будет в России частной собственности. Не будет и собственника. А главное — не будет новой рыночной экономики, новой страны. Чубайс же хотел, чтобы в результате программы приватизации собственником стал каждый гражданин России. Даже самый бедный.
Была рассмотрена другая модель, чешская.
«Там, по крайней мере, каждый гражданин мог получить приватизационные чеки и свободно принять участие в аукционе. Однако копировать целиком и полностью эту модель… мы тоже не могли. Чехословакия — страна маленькая, и вместо многих чековых аукционов у них проводился один-единственный, на котором одновременно продавались акции всех предприятий».
Авторы программы решили объединить чешскую модель с опытом зарождавшегося в России «директорского» капитализма. Решили учесть тот факт, что «ломать через колено» директорский корпус — для нашей страны огромный политический риск. Надо дать директорам некоторые привилегии. Но не забыть при этом об основной массе населения. Еще раз напомню фундаментальную идею Чубайса: в приватизации может принять участие каждый гражданин России!
Это была красивая идея. Но ее подоплекой, говоря по совести, была причина, о которой Чубайс упоминает «через запятую», — отсутствие на тот момент в стране реальных денег.
Простой пример — в 1994 году «Норильский никель» продавался примерно за 200 миллионов долларов. Казалось бы, смехотворная сумма по сегодняшним меркам. Но и эту сумму с трудом удалось собрать группе В. Потанина. А когда его компания пришла на предприятие и увидела, в каком оно состоянии, новые собственники обратились в правительство РФ со следующей идеей: деньги оставьте себе, но и предприятие возьмите обратно! Сделать его рентабельным в тот момент не представлялось возможным. А других покупателей просто не было…
Завод в 1994 году стоил именно столько, и это еще была хорошая цена.
Связьинвест три года спустя, в 1997-м, ушел на открытом аукционе уже за 1 миллиард 875 миллионов долларов. За эти три года в России появились собственники, у них появились деньги. Но этого времени надо было дождаться. Даже если бы к приватизации были допущены иностранные компании без всяких ограничений — это тоже не решило бы проблему. Тогда, в начале 90-х, иностранцы инвестировали в нашу промышленность очень неохотно и осторожно (пример: Сибнефть, которую в 1997 году отказалась покупать французская компания), да и политический риск продать чуть ли не всю экономику в чужие руки казался слишком острым.
Итак, была предложена следующая схема.
Всем гражданам, включая детей, за плату в 25 рублей предлагалось получить приватизационные чеки номинальной стоимостью в 10 тысяч рублей. Каждый гражданин имел право продать свой чек без ограничений; участвовать в чековых аукционах, где чеки обменивались на акции приватизированных предприятий; вложить его в чековые инвестиционные фонды. Рабочие приватизируемых предприятий, кроме того, могли использовать чек для покупки акций своего предприятия в ходе закрытой подписки.
А вот что происходило с самими предприятиями.
«Первоначальный вариант льгот (для работников предприятия и для его руководства. — Б. М.) состоял в том, что 25 процентов привилегированных (без права голоса) акций предприятия бесплатно распределялось среди работников. Кроме того, члены трудового коллектива имели право приобрести еще 10 процентов обыкновенных (голосующих) акций за деньги, но с 30-процентной скидкой… А руководству оставалось еще 5 процентов, но уже без скидок.
Несмотря на то, что уже первый вариант был беспрецедентен в мировой практике (с точки зрения льгот трудящимся и управленцам. — Б. М.), давление на правительство продолжалось», — пишет Чубайс.
Конечный вариант выглядел так. Работники предприятия получали 51 процент голосующих акций, то есть контрольный пакет. Все акции надо было выкупать по цене, в 1,7 раза превышающей номинальную. Акции приобретались отдельными работниками, а не на имя «всего коллектива». То есть дальше их можно было продавать.
Это был компромисс с директорским лобби. Но компромисс, который устраивал правительство, Чубайса, Ельцина. Потому что происходило главное — в России появлялась частная собственность. «Вся борьба сводилась уже к выторговыванию особых схем приватизации, смысл которых, как правило, заключался в том, что директор хотел получить еще больше собственности, чем предписывали правила».
Но и этого было мало.
«Под их (директоров. — Б. М.) ожесточенным давлением появился третий вариант приватизации: на предприятиях средних размеров руководство получало право выкупать 40 (!) процентов акций по очень низким ценам. С огромным трудом удалось исключить из этой схемы крупные предприятия, мотивируя это тем, что превращение в один прекрасный день тысяч директоров в мультимиллионеров спровоцирует народный гнев».
Отметим и вторую особенность приватизации по-российски: «красные директора» добились немыслимых, беспрецедентных льгот в ходе приватизации. Чубайс в книге, посвященной истории приватизации, мучительно размышляет: а стоило ли? Не слишком ли высока была цена?
И приходит к выводу: если бы не пошли на уступки, приватизации не было бы вообще. Из общей программы приватизации были исключены железнодорожный транспорт, аэрокосмическая промышленность, топливно-энергетический комплекс, учреждения здравоохранения и образования, значительная часть предприятий оборонной промышленности ит. д.
И даже этот закон Чубайсу удалось провести через Верховный Совет (обсуждение закона о приватизации шло начиная с 1992 года) с невероятным трудом. А когда он был принят, началась новая история — в различных регионах России местные элиты начали сопротивляться. Чубайс описывает первый аукцион в Нижнем Новгороде, куда они приехали вместе с Гайдаром. Здание, в котором должен был проходить аукцион (продавались первые небольшие предприятия), окружила толпа. Причем толпа далеко не пролетарского вида, это были сытые, хорошо одетые, вполне цивильного вида граждане. Сквозь них Гайдар и Чубайс прорывались едва ли не с кулаками. В результате получился первый образцово-показательный аукцион.
По-другому пришлось бороться за приватизацию в Челябинске. Здесь Чубайс уединился с руководителем областного Совета Суминым, который запрещал проведение аукционов и торгов в своей области, и жестко надавил на него: «Хотите войны? Будет война!» Сумин в конце концов уступил.
Юридические уловки, административный нажим, целая система компромиссов, каскад хитроумных приемов — пришлось пойти на всё, чтобы первый этап приватизации начался.
Но наиболее драматический случай в истории приватизации связан с 93-м годом. Несколько миллионов приватизационных чеков (ваучеров) Госкомимущество отдало в хранилище при московской мэрии. В это время воровство ваучеров было массовым явлением, и команда Чубайса выбрала, как им казалось, самое надежное место в столице. Каков же был шок, когда российские приватизаторы узнали о том, что здание захвачено восставшим Верховным Советом! «Я требовал у Лужкова броневики, — пишет Чубайс, — чтобы отбить здание хоть на несколько часов, ничто другое меня в этот момент не волновало». Но никаких броневиков у Лужкова в тот момент не было. Спасла случайность: перед дверью, ведущей в хранилище (на двери висел «простой замок»), кто-то догадался поставить вешалку. Боевики дверь просто не заметили… «Пока на верхних этажах растаскивали компьютеры и срезали телефоны, ваучеры общей стоимостью приблизительно в 20 миллионов долларов никто не тронул».
В 1994 году, когда должен был завершиться первый этап приватизации («ваучерная приватизация»), возник новый кризис. Биржевая цена ваучера резко упала. Он стоил примерно три с половиной тысячи рублей, в то время как изначально его рыночная цена была объявлена, напомню, в десять тысяч. «Критический момент в ходе чековой приватизации, — пишет Дмитрий Васильев, — возник в январе 1994 года. Тогда выяснилось, что в ходе аукционов собрано очень мало чеков. Предприятия в большинстве своем не торопились участвовать в ваучерной приватизации. Все надеялись: а вдруг пронесет?» Машиностроители, нефтяники, металлурги, предприятия ВПК вели себя очень агрессивно. Однако к лету ситуация изменилась. Региональные чиновники в итоге испугались срыва программы приватизации. Был составлен список приватизируемых предприятий, которые к 1 июля были проданы.
Как же распорядилось своими ваучерами российское население?
25 процентов ушли в чековые инвестиционные фонды. (По наблюдениям социологов, в фонды очень любила вкладывать интеллигенция.)
Еще 25 процентов чеков было продано. Продавали свои ваучеры, как правило, люди, относящиеся к приватизации с большим скепсисом. Эти чеки перешли в руки юридических лиц. Оставшиеся 50 процентов чеков были вложены членами трудовых коллективов (и, как правило, их родственниками) в собственные предприятия — либо по закрытой подписке, либо на чековых аукционах. Всего в ходе приватизации было использовано 95–96 процентов выданных чеков. «Это очень хороший показатель», — пишет Чубайс.
Да, хороший. Но почему же приватизация в итоге оказалась чуть ли не главным «черным пятном» в народной мифологии 90-х годов?
«…В ходе ваучерной приватизации рядовой работник “Норильского никеля” получил по закрытой подписке примерно 300 акций своего предприятия. Если он сумел продать свои акции на пике спроса (по 16–17 долларов за акцию), он получил за них около пяти тысяч долларов» (этот простой пример приводит Альфред Кох).
Вот и та самая машина «Волга», которую обещал Чубайс, выступая перед телезрителями всей страны 1 июля 1992 года, и которую потом ему еще долго припоминали. Но спросим себя: а если это был не работник «Норильского никеля»? А если он продал эти акции не «на пике спроса»? Как правило, акции своего предприятия продавали по гораздо более низкой цене, не умели ими распорядиться.
Как рассказывал мне во время интервью Олег Дерипаска, ныне один из богатейших людей России, в то время он чуть ли не сам стоял у проходной Саянского алюминиевого завода с рукописным плакатом: «Куплю акции». И рабочие охотно продавали свои акции. Вскоре Олег стал одним из собственников завода, оказался успешным-менеджером, управленцем, вывел завод, а потом и всю отрасль из глубокого кризиса. Но много ли было таких примеров?
Как правило, работники бывших советских предприятий стремились быстрее избавиться от «непонятных бумажек», причем покупать акции своего предприятия никто не спешил, никто в 1994 году не верил, что эта прачечная или этот завод могут быть доходными, прибыльными. Люди пытались вложить ваучеры в различные «пирамиды», «паевые фонды», приобрести акции мифических «инвестиционных компаний». Стать собственниками в полном смысле этого слова, объединившись с другими держателями ваучеров, работники предприятий не могли или не хотели.
Эти цветные бумажки с водяными знаками в России 1994 года скупали по дешевке, массово — те, кто понял, какой куш можно получить на этой дешевизне, на этом неумении и нежелании российских людей распорядиться ценными бумагами. В итоге собственность перешла в руки тех, кто хотел ее получить.
Ваучеры, вложенные куда угодно, но только не в свой завод, не в свою фабрику или мастерскую, стали синонимом обмана. Люди пытались избавиться от ваучеров, обменивали их на деньги или просто откладывали в дальний ящик пыльного шкафа. Акции своего предприятия продавали мгновенно, за первую предложенную цену. Почти беспрекословно отдавали управление акциями в руки директоров. Между тем те самые акции через десять лет сильно возросли в цене. Ваучер, который люди смогли обменять на акции Газпрома, в конце 2008 года стал очень дорогим.
Словом, экономический «ликбез» в нашей стране проходил трудно.
Одной из главных ошибок приватизации Чубайс считает создание так называемых «чековых инвестиционных фондов».
«Да, это правда: приватизация не устроила в итоге многих. Почему интеллигенция, например, осталась так недовольна чековой приватизацией?.. Как ни странно, потому что интеллигенция пыталась вложить с умом: не в акции какого-нибудь пивного заводика, а в солидные чековые инвестиционные фонды, обещавшие хорошие дивиденды: в “Хопер”, “Гермес”, “Нефтьалмазинвест”. Часто эти фонды оказывались заурядными пирамидами. На вложениях в такие пирамиды попались, например, практически все сотрудники Минфина».
Итак, основная ошибка приватизации состояла в том, что населению не объяснили: «быстрые» деньги от приватизации получить невозможно! «Пирамиды», то есть компании, обещавшие нереально высокие проценты (и одной из них была знаменитая «МММ»), как объясняет Чубайс, оказались вне поля зрения государства — ни Минфин, ни Госкомимущество, ни другие ведомства не несли за их деятельность никакой ответственности.
Немалая часть ваучеров попала именно в эти «пирамиды», как бы они тогда ни назывались. Государство смогло остановить их деятельность не сразу. И в результате возможность для огромной массы населения, для простых людей участвовать в приватизации была упущена, сгорели деньги, доставшиеся с таким трудом.
Разноцветные бумажки — ваучеры, акции, «мавродики» и прочие «ценные бумаги» разнообразных финансовых «пирамид», кредитные обязательства, доллары — замелькали в руках у всей страны. И в это же время нашу экономику постиг тяжелый кризис.
Но мог ли он ее не постигнуть?
Ни для кого не секрет, акции каких предприятий стали стоить дорого через несколько лет после начала массовой приватизации, какие из этих предприятий сегодня оцениваются в миллиарды долларов (хотя в десятки раз возросла цена и всех остальных) — это сырьевая, добывающая, металлургическая промышленность. Став частью мирового рынка, Россия развивает те отрасли, продукцию которых можно продать. Благодаря приватизации этих отраслей Россия сегодня преодолевает свой экономический спад. Однако в 1992–1994 годах ваучерная приватизация оказалась накрепко связана в умах россиян с этим промышленным спадом. Просто потому, что проходили они — одновременно.
«Еще в 1989 году, — пишет Анатолий Чубайс, — мы с Сережей Васильевым подготовили материал о том, что предстоящие преобразования будут очень тяжелыми, что они не будут приняты большими группами населения, что возникнет серьезное социальное напряжение, особенно в таких сферах, как угольная отрасль, ВПК, бюджетники… Мы понимали, что придется принимать непопулярные меры, такие, например, как закрытие шахт. Мы понимали, что степень неприятия того, что мы будем делать, какое-то время станет только нарастать… Вообще мы полностью отдавали себе отчет в том, что масштаб преобразований требуется настолько гигантский, сложный и болезненный, что абсолютно неочевидно: получится ли что-то в конечном счете из всего этого. Тем не менее было понятно, что других вариантов просто не остается».
Трудно добавить что-то к этим словам. Пожалуй, только одно: для всего этого потребовалось не только мужество отдельных членов правительства. Но и политический лидер, который взял на себя ответственность за всю эту боль, за все эти «кровь, пот, слезы».
К счастью, такой лидер был — Ельцин.
Но Россия, оставшаяся без привычной работы и привычного образа жизни, серьезно затосковала.
В какой-то момент показалось, что мир попросту рухнул.
Да, большинству было не очень ясно, где заработать деньги. Но главное, было не очень ясно и другое — как вообще жить в этом новом мире?
Трудно было привыкнуть не к существованию «дорогих вещей» самих по себе. Невозможно было привыкнуть к тому, что коммерческая составляющая проникла во все сферы жизни, что платить теперь приходилось за то, что считалось бесплатным просто по определению.
Я помню, какой шок вызвало у населения появление на улицах Москвы первых платных туалетов (хотя туалетов при этом стало значительно больше). А что же говорить о сотрудниках коммунальных служб, которые теперь открыто требовали денег на каждом шагу, «в карман» или «через кассу», о врачах и медсестрах, которые, ссылаясь на низкую зарплату, не хотели оказывать первую помощь, об учителях, которые предлагали родителям ребенка «дополнительные занятия» за наличный расчет…
На фоне исчезновения привычных форм существования, государственной заботы и государственных гарантий — вдруг проснулись темные, забытые, зоологические социальные инстинкты.
В этой книге я не буду касаться темы «нового русского криминала», захлестнувшего Россию. О нем написаны тысячи статей, книг, и серьезных, и в «легком детективном жанре», а уж что касается фильмов, посвященных нашим родным бандитам, ей-богу, уж лучше б их было поменьше…
Любопытно другое: откуда все это выросло, на какой почве так пышно расцвели эти новые «цветы зла»?
Вот интересный документ — аналитическая записка, появившаяся на столе у Ельцина примерно в первой половине уже следующего, 1995 года, авторы которой пытались проанализировать отношение населения к новой российской власти в разных регионах страны. Читаем:
«
Как видите, кремлевская администрация вовсе не была «страусом», который прячет голову от реальных проблем. Но, несмотря на эти исследования, ясно показывающие градус социального напряжения, президент продолжал проводить реформы.
В книге «Американская цивилизация» М. Лернера (посвященной менталитету американцев в 50-е годы) я наткнулся на такой вот интересный пассаж:
«Страсть к созданию всякого рода сообществ в Америке очень сильна: ни в одной другой стране вы не найдете столько тайных братств, “деловых клубов”, профессиональных или отраслевых ассоциаций. Вот лишь несколько выборочных цифр, относящихся к середине 50-х годов, для иллюстрации: разного рода братства объединяли в своих рядах по меньшей мере 20 миллионов членов; существовало около 100 тысяч женских клубов; 2 миллиона молодых людей принадлежали к клубам “4 Эйч” в сельской местности и в маленьких городках. По крайней мере, 100 миллионов американцев были членами какой-нибудь общенациональной организации».
Фантастические цифры, не правда ли? За этой сухой статистикой — портрет нации, у которой были сильно развиты «соседский», общественный инстинкт, чувство локтя и товарищества, а значит, и чувство сострадания, коллективной морали.
Возможно, именно этот сильно развитый «общественный инстинкт» помог американцам выстоять и сохранить свои ценности в годы Великой депрессии (вопреки нашим штампованным представлениям об индивидуализме американцев). Куда же девался в трудные 90-е годы знаменитый советский коллективизм? Очевидно одно: новая общественная ситуация оказалась для него непреодолимой. И в нужный момент он не сработал. Объединиться перед лицом возникшей угрозы общество не смогло.
Для общественного примирения и согласия отсутствовали самые главные инструменты — возможность объединиться хоть на какой-нибудь почве. Общество оказалось расколото ментально, единицы не составляли целого, депрессия поразила главным образом не экономику, а сознание людей.
Но все-таки, несмотря на тяжелый процесс в экономике, страна потихоньку начала выбираться из кризиса, связанного с событиями октября 1993 года. Выбирался, безусловно, и Ельцин.
Психологический портрет президента 1994 года — это отнюдь не только усталый человек, страдающий от своих хронических болезней, измотанный бессонницей, ушедший в себя.
Это, конечно, и деловой, рабочий Ельцин, который борется за подписание Договора об общественном согласии, подписывает проекты важнейших законов, возвращает их на доработку, ведет сложные и многоступенчатые переговоры с депутатскими фракциями, впервые выступает с ежегодным президентским Посланием Федеральному собранию.
Неудовлетворенность тем, что происходит в стране и в Кремле, далеко не всегда заставляет его «уходить в себя». Усталость сменяется бодростью, энергией, активностью.
Огромную часть его работы в 1994 году составляют международные визиты. Их много. Иногда он посещает сразу несколько стран. Довольно часто перелетает из одного края мира в другой. Режим его поездок плотный, даже очень.
Ельцин с трудом воспринимает любой протокол, особенно дипломатический. Вот как он сам напишет об этом в своей книге:
«Вообще у нас в России очень не любят выполнять всякие правила, законы, инструкции, указания, в общем, соблюдать какой-то заранее установленный регламент. Непунктуальный мы народ, и регламент для нас — острый нож. Часто спрашивают: смущали ли меня вот эти протокольные тонкости — куда ступить, где остановиться, и как я со всем этим справлялся?
Естественно, поначалу далеко не всегда я чувствовал себя уверенно. Не до таких уж мелочей протокол продуман: встать справа или слева, делать шаг вперед или у самого флага остановиться… Тут я сам, присмотревшись к окружающим, пытался уловить, как именно надо поступить» («Записки президента»).
А вот еще один интересный фрагмент:
«Международный протокол всегда был для меня каким-то камнем преткновения. Я довольно часто нарушал установленные правила. Просто из чувства внутренней свободы, из-за того, что на меня давила тень прежней, советской, дипломатии. Но, нарушая протокол, я всегда четко осознавал и его значение…» («Президентский марафон»).
Кстати, именно Ельцину принадлежит возрождение «дипломатии без галстуков», та новая степень свободы, которую вдруг приобрели в общении между собой мировые лидеры[25].
Оказалось, что так легче.
Но поначалу мир трудно привыкал к этой новой манере Ельцина вести себя.
Во время российско-американского саммита на высшем уровне, на встрече в музее-имении Ф. Рузвельта, президент США Клинтон и президент России Ельцин в прекрасном расположении духа вышли на пресс-конференцию к журналистам.
Б. Н., который выпил за завтраком сухого вина, был в возбужденном настроении, «широко жестикулировал, громко и безостановочно шутил». Клинтон старался делать вид, что всё в порядке, но когда настала пора заявления для прессы, Б. Н. сделал суровое лицо и сказал журналистам: «Вы говорили, что эта встреча закончится провалом! Но провалились вы сами!»
В этот момент Клинтон разразился приступом страшного хохота. Это был рекорд его смеха по продолжительности — по Интернету до сих пор гуляет видео с этой пресс-конференции, заразительный смех Клинтона длится на нем около четырех минут… Кто-то писал, что президент США смеялся «деланым смехом», чтобы спасти положение, поскольку Ельцин уж слишком сильно нажал на журналистов, провоцируя резкую атаку с их стороны.
Однако попробуйте сами хохотать четыре минуты, «чтобы спасти положение». Ничего не выйдет. Безудержный хохот Клинтона был совершенно естественным. Ельцин, увидев, как хохочет его напарник, тоже начал улыбаться (что бывало на его пресс-конференциях далеко не всегда). Почему же смеялся американский президент?
Ельцин потряс его тем, что никого не боялся…
Он не боялся выйти за рамки, нарушить приличия, он не боялся ничего. Степень внутренней свободы российского президента оказалась для Клинтона просто заразительной.
На следующий день, возвращаясь из Нью-Йорка, самолет российского президента приземлился в ирландском аэропорту «Шеннон». Там была запланирована сорокаминутная встреча с ирландским премьер-министром. Ельцин не вышел из самолета. Вместо него, примерно через час, вышел смущенный вице-премьер Олег Сосковец.
Наша пресса после этого эпизода была полна злобных карикатур и фельетонов. Широко обсуждалась версия, что «Ельцин напился», и во многих статьях и книгах того времени этот апокриф остался в том самом неизменном виде — как «непотребное» поведение Ельцина в аэропорту «Шеннон».
На самом деле события разворачивались таким образом.
В самолете президент и его супруга обсудили с министром иностранных дел Андреем Козыревым итоги визита и отправились спать. Лег спать и телохранитель Ельцина Александр Коржаков.
…Пробуждение было страшным.
Наина Иосифовна вызвала его и почти исчезнувшим от волнения голосом сказала, что Борис Николаевич пошел в туалет, упал, потерял сознание и лежит в салоне, на полу. «Он лежал на полу неподвижно, с бледным, изменившимся лицом».
Начальник охраны быстро взял шефа под мышки и вместе с Наиной Иосифовной положил Б. Н. на кровать. Позвали врачей. Ставили капельницы, делали уколы. Это случилось за три часа до приземления в Шенноне.
Что же это было? Либо сильный сердечный приступ, либо микроинсульт.
Через полтора часа после посадки в Шенноне (все это время Олег Сосковец вел переговоры) самолет взял курс на Москву. Врачи помогли Ельцину, ему стало лучше. Он позвал в свой салон помощников, чтобы посоветоваться, как объяснить инцидент, что сказать встречающим его журналистам. Было придумано, на мой взгляд, странное оправдание — мол, проспал, вовремя не разбудили…
Да, Борис Николаевич не любил показывать свою слабость.
Выглядел во время этого объяснения в аэропорту Ельцин, прямо скажем, ненатурально. Отсюда потянулись слухи, опровержения, домыслы, мол, был пьян, не вязал лыка, шатался и т. д. Сложился стереотип, который для современников Ельцина, знающих его по газетным статьям, уже не выветришь, не исправишь никакой правдой.
А ведь правда была и человечна, и печальна — там, в Шенноне, вернее, в самолете, Борис Николаевич потерял сознание, лежал с тяжелейшим приступом, под капельницей.
Однако здоровье президента еще долго будет темой прежде всего политической. Поэтому вопрос о том, что же случилось в Шенноне, будет закрытым для журналистов.
Тем не менее эти проблемы становились всё явственнее. Среди помощников Ельцина постоянно обсуждалась тема здоровья президента, его вредных привычек, психологического состояния. Катализатором ситуации стал эпизод в Берлине.
Это случилось 31 августа того же 1994 года. Ельцин вместе с канцлером Германии Гельмутом Колем присутствовал на торжественном параде, посвященном выводу советских войск из Германии. Начало визита не предвещало ничего плохого.
В самолете, который летел в Берлин, Ельцин, как всегда, читал записки и справки своих помощников. Готовился к визиту. График был очень плотный — огромное количество протокольных мероприятий. И лишь 30 августа, как написано в его рабочем графике, был «свободный вечер».
Этот свободный вечер он провел с министром обороны Павлом Грачевым, который сопровождал его в поездке. «Разговор по душам» затянулся надолго. И Ельцин накануне самого ответственного, самого важного дня не смог заснуть. Без сна он приходил в состояние тяжелое, как любой другой человек. Наступило утро. В Берлине стояла страшная жара, и чтобы расслабиться и успокоиться, Ельцин выпил пива (чего делать, конечно, было в такой ситуации нельзя).
Начались запланированные встречи. Но в них сразу проявился незапланированный элемент.
Пока Ельцин возлагал цветы к памятнику воину-освободителю в Трептов-парке, напротив памятника, через дорогу, собралась толпа с плакатами.
Б. Н. не послушался телохранителей и пошел к этим людям. В руках у них были плакаты далеко не дружественного содержания, и выкрикивали они лозунги тоже далеко не пророссийские. «Столкновение» с пикетом длилось недолго, но что-то Ельцина явно разозлило.
Заслышав вскоре после этого эпизода звуки оркестра, он подошел к дирижеру и взял у него палочку. Затем заиграла «Калинка-малинка».
Этот экспромт Ельцина не остался незамеченным ни в наших, ни в мировых СМИ. Кадры с дирижирующим Ельциным стали просто классикой — образ прилепился к нему навечно.
Приговор российской демократической прессы был, кстати, куда более суровым, чем прессы зарубежной. «Известия», в частности, писали, что «президент не частное лицо и представляет не себя одного, не только собственные вкусы и пристрастия. И каждое его появление на людях, каждое сказанное им слово, каждое движение многое говорят не только о нем лично, но и о нас с вами, о политическом и культурном уровне новой России».
Гораздо больше о «культурном уровне» могли бы сказать те, кто действительно был рядом с Ельциным в эти минуты.
Вот что пишет пресс-секретарь Ельцина Вячеслав Костиков:
«После церемонии возложения венков к монументу русского воина-освободителя в Трептов-парке Борис Николаевич шел рядом с Г. Колем в сторону поджидавших нас автобусов и неожиданно начал напевать мелодию из знаменитой “Ленинградской” (блокадной) симфонии Дмитрия Шостаковича — так называемую “тему нашествия”. Я и не предполагал, что у Ельцина такая хорошая музыкальная память. Он довольно точно воспроизвел целый пассаж.
— Похоже, что это Шостакович, — заметил я.
Ельцин был в веселом настроении и стал шутливо доказывать мне, что это мелодия его собственного сочинения…
— Хорошо, Борис Николаевич. Но лучше было бы сказать, что это Шостакович в аранжировке Ельцина.
Между тем Коль насторожился. Он слышал мелодию, которую напевал президент, и, несомненно, она была ему знакома. Конечно же он понимал и заложенный в ней смысл. Он попросил переводчика перевести наш разговор. Выслушав перевод, канцлер остановился и взял Ельцина за руку. Они давно уже были на “ты” и называли друг друга по имени.
— Послушай, Борис… Пусть уж лучше это останется мелодией Шостаковича, а не Ельцина».
Так вот какая музыка на самом деле звучала у него в голове! Тревожная, страшная музыка Шостаковича. Музыка, которая является музыкальным символом фашистской угрозы. Незабываемым символом великой войны. И тогда становится понятным состояние Б. Н.
Утром этого дня Ельцин был страшно взволнован и даже оскорблен некоторыми комментариями в немецкой прессе — о том, что Советская армия победила во Второй мировой, а теперь уходит с позором, поспешно… «Веселое настроение», о котором пишет Костиков, скорее всего, было маской, скрывавшей его подлинные чувства.
Борис Ельцин.
С президентом США Джорджем Бушем-старшим
С президентом Франции Франсуа Миттераном
С канцлером ФРГ Гельмутом Колем
С папой римским Иоанном Павлом II
С Елизаветой II, королевой Великобритании, во время ее визита в Москву
С президентом США Биллом Клинтоном
С председателем КНР Цзян Цзэминем
1996-й — год выборов. Во время поездки по стране
На молодежном рок-концерте во время предвыборной кампании
Во время поездки в Чеченскую Республику
Вместе с членами Аналитической группы. Слева направо: Г. Сатаров, С. Шахрай, В. Шахновский, дочь Ельцина Татьяна, Б. Ельцин, А Чубайс, В Илюшин, С Зверев, И Малашенко
Наина Иосифовна с хирургом-кардиологом Ренатом Акчуриным (слева) американским кардиологом Майклом Дебейки
После операции с внучкой Машей.
На Волге.
Со старшими внуками — Борей, Катей и Машей
В рабочем кабинете в Кремле
С Патриархом Московским и всея Руси Алексием II
С президентом Франции Жаком Шираком.
С председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным
С президентом Белоруссии Александром Лукашенко
С президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
Наина и Борис Ельцины с Мстиславом Ростроповичем
С народным артистом СССР Юрием Никулиным
С Владимиром и Людмилой Путиными
После отставки
Борис и Наина Ельцины
С младшими внуками Машей и Ваней
Однако тему, возникающую на нашем пути, не обойти никак. Это тема пресловутых «вредных привычек» первого российского президента. Собственно, речь идет об одной-единственной привычке. Других вредных не было, только полезные.
Тему начали еще при Горбачеве, когда Ельцин был «главным оппозиционером». Врагом партии. «Отщепенцем и оппортунистом» для КПСС. Именно тогда в народное сознание стали целенаправленно внедрять идею: Ельцин — тяжело пьющий человек. Внедрять с помощью газет, телевидения, «инструктивных писем». Политический заказ ушел, а тема, вбитая усилиями горбачевских пропагандистов, в памяти осталась. Как только, начались непопулярные реформы — она сразу вспомнилась и очень многим пригодилась, особенно коммунистам и деятелям из Верховного Совета 1992–1993 годов.
Между тем, как мы помним со слов его близких, «снимать стресс таким образом», то есть пытаться расслабиться с помощью алкоголя, Ельцин научился только в Москве, не раньше[26].
Однако это вовсе не значит, что до этого Ельцин вовсе не употреблял алкоголь.
Стиль, что в партийных, что в комсомольских органах (последние я помню хорошо до сих пор по работе в молодежной прессе 80-х годов) был, за редким исключением, единым: кто не пьет, тот «не наш человек». Партийные ужины и обеды, встреча гостей из Москвы (а их у Ельцина было немало) проходили в основном без женщин. Обязательным считалось выпить много, но не потерять контроль.
Рассказов о том, как Ельцин выпивал, в литературе, посвященной девяностым, достаточно. Рассказывали не только явные враги, но порой и друзья, и многолетние партнеры по политике (Сергей Филатов, Аркадий Вольский, Борис Немцов и т. д. и т. п.), а уж анекдотов и мифов на эту тему просто не счесть. Известно, какую водку Ельцин предпочитал, известно, как дегустировал коньяк, как спровоцировал приступ, не зная особенностей ликера «Куантро». Верить, не верить, делить надвое или на десять — это дело читателей.
Я же хочу добавить со своей стороны в эту тему одну деталь, вернее, предположение.
Ельцин принимал снотворное и так называемые «плановые» лекарства — видимо, сердечные, от давления, обезболивающие (после травмы позвоночника). На этом фоне пить, конечно, не следовало. Даже немного. Но у него была одна особенность (и об этом он сам написал в своей книге): он не признавал возраст, не признавал болезнь, не верил, что его организм может дать сбой. Говоря другими словами, до операции на сердце Ельцин всегда воспринимал свое здоровье только как богатырское.
Интересно провести аналогию с другой политической фигурой — бывшим президентом США Ричардом Никсоном. Через десятилетия после того, как Никсон ушел в отставку, вскрылись неприятные факты: Никсон консультировался у психотерапевта, в громадных количествах принимал психотропные препараты, наконец, Никсон много пил. Приступы его неадекватного состояния, приступы гнева или паники, когда он требовал, например, немедленно начать ядерную атаку на СССР, кончались тем, что окружение президента было вынуждено прибегать практически к изоляции главы государства.
Ничего подобного у нас в России, к счастью, не было. Никто бы и подумать не смел о какой-либо «изоляции» Ельцина. То, что в США было страшной государственной тайной, у нас широко обсуждалось в печати и на улице: о «вредной привычке» Ельцина вслух говорили с высоких политических трибун. Но самое главное, Ельцин никогда не прятался, как Никсон, в тайных комнатах и кулуарах. По русской традиции, после выпитой рюмки он совершенно не скрывал от окружающих своего веселого расположения духа или своего резкого недовольства. Так что говорить о «синдроме Никсона» тут не приходится. Скорее — о синдроме Ельцина. Он, повторяю, никогда не прятал своих слабостей, у него не было «второй жизни». Напротив, Ельцин жил абсолютно распахнутой, прозрачной жизнью публичного человека.
Вспомним его знаменитых современников, у которых наблюдались те же проблемы: Владимир Высоцкий, Олег Даль, Василий Шукшин, Олег Ефремов… Писатели, поэты, актеры. Их склонность к алкоголю оправдывалась тем, что в творческой профессии всегда найдется место и внезапным стрессам, и перепадам настроения, и тяжелой неуверенности в себе. Их внезапные «исчезновения» близкие друзья, семья, коллеги старались просто «не замечать».
Но разве в политике нет стрессов, нет перепадов, тяжелых, мрачных полос?
Другое дело, что крупный руководитель не может никуда исчезнуть — ни на год, ни на месяц, ни даже на один день. Становясь политиком, он как бы подписывает невидимое миру обязательство — отказ от обычных человеческих слабостей и проблем. Это жестокая реальность.
Неприятная грань проблемы еще и в том, что здоровье Ельцина стремительно ухудшалось. Было и другое — неожиданные экспромты, неподготовленные заявления, срывы рабочего графика. И тем не менее именно в те годы (1994–1996), когда близкие президенту люди вынуждены были постоянно следить за его состоянием здоровья, за его формой, Ельцин жил в сумасшедшем рабочем режиме: поездка следовала за поездкой, причем почти без перерыва, совещание за совещанием, вал принимаемых решений (и каких решений) поглощал его с головой. Его переутомление было крайним, предельным, а его сердце работало на последнем ресурсе.
Реакция ельцинской команды на инцидент в Берлине была очень острой. Тревога за его состояние, которая росла в течение всего 1994-го, достигла наивысшей точки. Казалось, президент теряет не только политическую инициативу (хотя его рейтинги были по-прежнему высоки), но и самое главное — прежнюю энергию, умение наступать. «Верните нам прежнего Ельцина!» — говорили демократы в том 1994 году.
— Честно говоря, — сказала Наина Иосифовна, вспоминая 1994 год, — я не могу слышать, когда ему снова и снова припоминают эти два эпизода, Шеннон и Берлин. Как будто не было ничего другого! Просто не к чему прицепиться, нечего предъявить, вот и спекулируют на этом.
Не к чему прицепиться? Поначалу меня удивила эта фраза Н. И. Как это «не к чему»? А Беловежская Пуща, а 93-й год, а война в Чечне? Но постепенно, раз за разом прокручивая пленку с этим разговором, я согласился с ней. Речь идет именно о личной чистоте политика. А не о тех исторических конфликтах и противоречиях, схватках и сражениях, в которых ему довелось участвовать. Однако именно способность Ельцина участвовать в «схватках и сражениях» и была поставлена под сомнение тогда, в 94-м.
Вернувшись в Москву, все помощники Ельцина решили изложить свою позицию в письменном виде. Первый помощник Виктор Илюшин сначала отнесся к идее письма отрицательно. Прийти в кабинет Ельцина целой группой тоже было нелегко, психологически немыслимо. Делегировать свои полномочия кому-то одному?
«…Когда письмо было готово, решили, что все-таки неправильно обойти первого помощника, тем более что по сути он разделял наши тревоги, — пишет Вячеслав Костиков. — Прочитав письмо, В. Илюшин неожиданно изъявил желание тоже подписать его».
4 сентября президент улетал в Сочи в отпуск. С ним уезжали А. Коржаков, М. Барсуков и В. Илюшин. Было решено, что письмо лучше всего отдать президенту в самолете.
Первый помощник Илюшин и начальник службы безопасности Коржаков в самолете напряженно посматривали друг на друга, сидя на своих привычных местах. Вскоре президент должен был нажать кнопку для вызова Илюшина — для традиционного просмотра документов.
Илюшин положил письмо в папку.
Дождался, когда загорелась кнопка, прошел к Ельцину в салон, положил папку на стол: «Посмотрите». Вышел, напряженно согнувшись.
Реакция последовала незамедлительно.
Ельцин снова вызвал Илюшина. В тяжелом гуде моторов, в вибрации полета как будто стала слышна и сердечная вибрация.
— Вы что мне за гадость тут подсунули? Что за галиматья? Помощники…
Он швырнул Илюшину письмо.
Сделал знак рукой — идите, видеть вас не хочу.
У трапа Илюшина ждала Наина Иосифовна.
— Зачем вы это сделали, Виктор Васильевич? Что вы ему там дали? Что теперь будет?
— Это было необходимо, Наина Иосифовна, — подавленно ответил Илюшин.
Но президент вел себя в Сочи на удивление спокойно. Никаких разносов, конфликтов. Никакой реакции. Он просто с ними не разговаривал.
Молчал.
Так что же писали помощники своему шефу тогда, в сентябре 1994 года? Почему так долго (семь лет!) не решались опубликовать этот документ?
Письмо большое, и я позволю себе привести лишь некоторые фрагменты (полностью оно опубликовано в книге «Эпоха Ельцина»):
«Уважаемый Борис Николаевич!
…Приближается 1996 год — год выборов… Фактически в стране начинается предвыборная президентская кампания. Подошло время, когда требуется высочайшая концентрация воли, здоровья самого Президента, четкое и активное взаимодействие с помощниками и единомышленниками.
Однако в последнее время все очевиднее проявляется противоположная тенденция. Налицо снижение активности Президента. Работа носит нерегулярный характер со взлетами и резкими падениями активности. Утрачивается постоянный и стимулирующий контакт с политической средой, Президент оказывает все меньшее воздействие на политическую ситуацию. Политическое планирование, столь необходимое для поддержания стабильности в стране, все в большей мере подвержено иррациональным факторам, случайности, даже капризу. Существенно снизилась интенсивность политических контактов и консультаций Президента с партиями, лидерами. Мнению и голосу общественности все труднее достучаться до Президента. В этой связи центр не только экономической, но и политической активности постепенно смещается в сторону Правительства. Утрачиваются позиции в среде предпринимателей и интеллигенции.
Становится заметным, что Президенту все труднее дается контакт с общественностью, журналистами, читательской и телевизионной аудиторией. Усиливается замкнутость Президента в крайне узком кругу частного общения.
Понимаем, что одной из важных причин этих негативных тенденций является объективная усталость. Ведь Вы уже в течение 10 лет выдерживаете огромную политическую и моральную перегрузку. Однако есть и иные причины. Прежде всего пренебрежение своим здоровьем, известное русское бытовое злоупотребление. Имеет место и некоторая успокоенность, даже переоценка достигнутого. Отсюда — высокомерие, нетерпимость, нежелание выслушивать неприятные сведения, капризность, иногда оскорбительное поведение в отношении людей.
Говорим об этом резко и откровенно не только потому, что верим в Вас как сильную личность, но и потому, что Ваша личная судьба и образ тесно связаны с судьбой российских преобразований. Ослабить Президента значило бы ослабить Россию. Этого допустить нельзя.
В этой связи считаем своим долгом привлечь Ваше внимание к “берлинскому инциденту”. Важно понять его политические последствия…»
Далее помощники дают конкретные рекомендации, и эти подробности сегодня не столь уж важны.
А концовка письма такая:
«Борис Николаевич!
При необходимости можно было бы расширить перечень назревших мер и корректировок. Но нужна ваша воля и решимость внести эти корректировки. Нужно тесное взаимодействие с командой.
В сложившихся условиях фактор времени имеет решающее значение. Начинать нужно сейчас, не откладывая. Необходимо перехватить политическую инициативу.
Готовы помогать Вам, работать вместе с Вами во имя интересов демократической России. Верим в Вас!»
С Людмилой Пихоя, руководителем группы своих спичрайтеров, Ельцин впервые заговорит лишь через полгода, зимой 1995-го.
— Почему вы это сделали? — спросит он ее. — Почему не поговорили со мной лично?
Запомните эту фразу…
Считается, что Ельцин расправился со всеми, кто подписал письмо. Это не так. Лишь Вячеслав Костиков, пресс-секретарь Ельцина, прошедший с ним самые трудные дни 1992 и 1993 годов, осенью 1994-го будет отправлен в почетную ссылку — послом в государство Ватикан.
Однако сам Ельцин перед тем, как окончательно попрощаться, спросил Костикова:
— Вячеслав Васильевич, так что будем с указом (о переводе на другую работу. — Б. М.) делать? Может, вернетесь?
Среди подписавших письмо есть одна фигура, которая стоит как бы особняком. Александр Коржаков. Каково же его участие в этой истории?
…Начиная с 1990 года Ельцин и Коржаков становятся всё ближе, их отношения довольно скоро перестают носить характер служебных, чисто деловых. Формально Коржаков числился в частной охранной структуре, никакой официальной должности при Ельцине с 1988 по 1990 год у него не было.
Тем не менее до того, как стать депутатом, Председателем Верховного Совета РСФСР, Ельцин частенько передвигался по Москве на личной машине Коржакова — «Ниве». А когда политическая борьба слишком «доставала», с удовольствием ездил в его летний дом, в подмосковную деревню, которую Александр Васильевич не без юмора называл «Простоквашино».
Именно к этому периоду относится период ельцинской «реабилитации», когда после жуткого напряжения, депрессии, после стольких лет существования в футляре партийного лидера он вновь ощутил почти забытый вкус жизни, почувствовал себя свободным и сильным.
Прямо скажем, романтический период…
В ситуации непрерывного стресса Ельцину был очень нужен друг, с которым можно поговорить откровенно и который при этом не будет вникать во все сложности политической борьбы. Пусть этот «друг» далеко не всё понимал, пусть ему не хватало кругозора и интеллекта, в данном случае это не важно. Эмоции нужнее.
Кризисы 1991 и 1993 годов сделали эти эмоции прочными и глубокими. Ситуация грозила стать катастрофической, и Ельцину было действительно важно знать, что рядом есть человек, в прямом смысле готовый пожертвовать ради него своей жизнью. Ельцин, конечно, не забыл, как предал Горбачева в августе 1991-го начальник его охраны Медведев. Да и Коржаков никогда не ленился грамотно напомнить ему об этом.
При этом Ельцин никогда, ни при каких обстоятельствах не переходил с Коржаковым на «ты». Их отношения развивались как бы на двух уровнях. Первый, так сказать, рабочий и будничный, предполагал наличие дистанции, жесткую иерархию, прохладно-вежливое «вы». На втором уровне, пусть и никогда не проявлявшемся открыто, остававшемся в подтексте, Коржаков был другом, «кровным братом», которому было позволено многое, и об этом они оба тоже никогда не забывали. Отношения этих людей, достаточно глубокие и драматичные, могли бы стать предметом самостоятельного, может быть, даже художественного исследования. Достаточно упомянуть, что Ельцин был шафером на свадьбе дочери Коржакова, а сам Коржаков был крестным ельцинского внука. Слуги, помощники, секретари довольно часто перестают играть чисто формальную роль и занимают особое положение в государственной иерархии. Это мы хорошо знаем из истории. Но никогда это добром не заканчивается. «Тень, знай свое место!» — так герой может решить эту проблему только в сказке.
Собеседники Коржакова всегда отмечали его цепкий природный ум, хорошую память и реакцию, народный юмор. И конечно, преданность президенту. В качестве телохранителя Коржаков был действительно золотым самородком. Но для уровня руководителя самой мощной на тот момент федеральной спецслужбы ему слишком многого не хватало, прежде всего осознания пределов своей компетенции.
Коржаков никогда не скрывал, что рассматривает понятие «безопасность» предельно широко. «Я на вас стучал президенту, стучу и буду стучать, это моя работа», — откровенно говорил он в кругу помощников. Коржаков считал «своей работой» абсолютно все аспекты политической жизни. «Стучать», то есть вмешиваться, используя свое влияние, и в дела президентской администрации, и в отношения Ельцина и Черномырдина, он продолжал, несмотря ни на что. Конечно, представить себе такое при прежних, советских руководителях было немыслимо.
В силу особого положения он постепенно становился самостоятельной фигурой и подбирался к рычагам власти, стал лидером «силового блока» в окружении Ельцина. Начал проникать Александр Васильевич и в другие сферы. Ему удалось уговорить Б. Н. поставить «своего» человека в Госкомимущество, организовать особым указом льготы на торговлю алкоголем и сигаретами для Национального фонда спорта, где у него тоже стоял свой человек.
Были и другие примеры: так, однажды главный телохранитель предложил пресс-секретарю Ельцина прочитать «на предмет экспертизы» объемную экономическую программу, составленную его службой, в противовес программе правительственной.
— Александр Васильевич, но при чем здесь я? — слабо оправдывался пресс-секретарь.
Надо сказать, что все эти «записки» Коржаков исправно подавал на стол Ельцину.
К первой половине 1995 года список людей Коржакова, то есть его друзей или его протеже во власти, оказался уже довольно широким: в него входили и генеральный прокурор А. Ильюшенко, и вице-премьер Олег Сосковец, и начальник Государственной службы охраны, а затем Федеральной службы контрразведки Михаил Барсуков, вице-премьер, а затем глава администрации Николай Егоров. Пытался Коржаков назначить и «своего» председателя Российской телерадиокомпании и т. д….
В рамках этой нехитрой, но эффективной стратегии «порядочному и преданному» Коржакову был очень выгоден сентябрьский демарш главных фигур в администрации Ельцина.
Между тем реакция Наины Иосифовны на письмо помощников была весьма красноречива. Она абсолютно не считала его полезным. И вовсе не потому, что не разделяла тревоги его авторов.
Н. И. прекрасно знала характер того, к кому было обращено это послание. Она заранее знала, что реакция Б. Н. на письмо будет резко отрицательной.
Очень жесткие политические характеристики, данные в письме помощников, больно задели его — ведь это была его команда, и получалось, что они оставляют его одного вместе с этими проблемами, отказываются идти дальше вместе с ним, ставят условия…
Пусть это субъективная, эмоциональная оценка, но другой в тот момент она быть, наверное, не могла.
Прекрасна знал это и Коржаков, когда подписывал письмо.
Характер, привычки, миросозерцание слуги позволяли ему спокойно выносить жесткий нрав Ельцина, который для других становился непреодолимым барьером, позволяли интриговать, не стесняясь ничего. В этой обстановке он чувствовал себя как рыба в воде.
Этот год был очень нелегким (и объективно нелегким) прежде всего в экономике.
11 октября 1994 года грянул «черный вторник», обвал рубля.
Из-за падения курса российского рубля на ММВБ на 845 пунктов возникла реальная угроза экономического кризиса. Президент назвал сложившуюся ситуацию «попыткой финансового путча». Сотрудники банков объясняли происшедшее бездействием ЦБ РФ и правительства. В свою очередь, чиновники во всем обвиняли коммерческие банки, которые якобы по плану выбрасывали на биржу миллиарды рублей.
«Геращенко проглядел 11 октября 1994 года — “черный вторник”. Тогда… при полном попустительстве Центробанка курс рубля с грохотом обрушился на 27 процентов. В угоду банкам-спекулянтам. И президент Ельцин уволил “проницательного банкира”», — пишет современный обозреватель.
Ельцин не стал требовать отчета у председателя Центробанка о причинах падения национальной валюты. Без комментариев потребовал у него написать заявление об уходе.
Кстати говоря, миф о «великом банкире» Геращенко (который был создан впоследствии коллективными усилиями журналистов), судя по мемуарам современников и активных действующих лиц экономической драмы, не всегда соответствует действительности. Пока Гайдар боролся за жесткую финансовую стабилизацию в течение 1992 года, руководитель Центробанка, подотчетный лишь Верховному Совету, на полную катушку запустил печатную машину. Считал, что только так можно спасти экономику от кризиса. Именно Геращенко давал огромные «технические кредиты» странам СНГ.
История финансовой стабилизации в 90-е годы, а проще говоря,
Образовавшееся к концу 80-х — началу 90-х гигантское количество «свободных» денег, необеспеченных товарами (так называемый «денежный навес»), невозможность что-либо купить на эти скопившиеся у населения громадные личные сбережения — продиктовали логику гайдаровской реформы. Необходимость сокращения денежной массы понимали, конечно, задолго до появления Гайдара. Но время «Ч» откладывали до последнего. Что было отчасти и понятно в стране, которая напоминала кипящий котел.
Евгений Ясин прибегает даже к такой смелой метафоре: когда командир в бою посылает людей в атаку, он знает, что не все вернутся из боя. Но если бой не выиграть, погибнет гораздо больше людей. Первые несколько месяцев гайдаровской реформы правительству удавалось держать жесткие рамки финансовой дисциплины. «Принимать какие-то популистские меры, в общем, нетрудно. А вот такие, это подвиг», — говорит Евгений Ясин. В начале 90-х президент Борис Ельцин потратил почти весь свой политический ресурс на поддержку гайдаровских реформ. Почему же они не принесли желаемого, то есть быстрого результата?
Во время либерализации цен огромную опасность для экономики представляет гиперинфляция. Запускается действие свободных цен, которые балансируют спрос и предложение. Поскольку спрос гигантский, а предложение маленькое — взмывают цены. Стандартным критерием гиперинфляции является месячная инфляция 50 процентов. Значит, в это время весь финансовый механизм страны приходит в негодность. Люди, схватив деньги, где бы они их ни заработали, немедленно бегут в магазин, потому что у них очень высокие инфляционные ожидания. В итоге очень трудно удовлетворить спрос, остановить цены. Начинает крутиться спираль гиперинфляции. Из этой ситуации очень трудно выйти.
Но в нашей стране стандартная модель (и без того невыносимо трудная) финансовой стабилизации столкнулась с еще одним, уже специфически российским явлением: сопротивлением реформе внутри самой власти, внутри существовавших тогда элит. Гигантская плановая экономика не хотела подчиняться законам стабилизации.
Рассказывает Евгений Ясин: «Цены либерализованы, и первые три-четыре месяца команда Гайдара держит деньги в ежовых рукавицах. И предприятия, которые привыкли получать деньги от государства, их не получают и никак не понимают, ну а что же дальше? Ну, хорошо, мы подождем еще месяц, еще месяц. Но мы же так не можем. Мы закроемся! Нам нужно покупать сырье, платить зарплату. Что они там себе думают? Пока они поставляли друг другу товары в долг. Но одновременно все время нарастало давление на правительство, потому что действительно это перенести было невозможно. Ну, предприятия просто останавливались. И, собственно говоря, с этого начался разлад между правительством и Ельциным, с одной стороны, и парламентом, Верховным Советом, с другой стороны, чтобы прекратить “это безобразие”. “Это безобразие” как раз и прекратил Виктор Васильевич Геращенко, когда он стал председателем Центрального банка. По совету одного из своих заместителей, они произвели зачет взаимных требований, то есть практически выпустили в оборот большое количество денег».
Это был гигантский удар по политике гайдаровского правительства. Джинн выпущен из бутылки, государство вновь запустило печатный станок.
Инфляция в 1992 году достигла такой цифры: 2600 процентов. 1993 год — годовая инфляция 930 процентов. Темпы помесячной инфляции не сокращались. Первые признаки финансовой стабилизации (после января — апреля 1992 года, когда еще работали гайдаровские «ежовые рукавицы») замаячили лишь к лету 1993 года: появилась на свет национальная валюта, российский рубль, и страны СНГ были вынуждены выйти из так называемой «рублевой зоны». В конце 93-го года, когда Гайдар вновь вернулся в правительство в качестве первого вице-премьера, на 30 процентов были сокращены бюджетные расходы, произведен так называемый секвестр.
Инфляция вроде бы вновь начала падать. «И хотя секвестр, который был проведен, — рассказывает Ясин, — оказал определенное воздействие, инфляция несколько упала к концу года, но она оплачена и самым большим падением производства за весь период 90-х годов. В начале 94-го года промышленное производство упало примерно на 20 процентов. И, конечно, это производило ужасное впечатление. И поэтому пошли опять на какие-то уступки. Опять северный завоз, опять посевная и т. д. И стали выпускать деньги в обращение, чтобы несколько смягчить ситуацию. Гром грянул 11 октября 94-го года. Когда за один день рубль упал на 30 процентов. И стало ясно, что жить государство долго так не может».
Однако и после «черного вторника», когда страна была вынуждена пойти на жесточайшую финансовую дисциплину, российский рубль продолжало лихорадить. Выискивались самые разные способы выскользнуть из финансовых норм. Только один обзор всех этих лазеек и ухищрений составил бы отдельную главу. Были, конечно, и объективные причины — неминуемое повышение зарплат и пенсий, война в Чечне. Однако в конце 1997 года помесячная инфляция составляла лишь 13 процентов, то есть снизилась практически до современного уровня.
…Казалось, что все тяжелые события этого года уже должны были кончиться, исчерпаться. Но впереди было еще одно, самое тяжелое испытание 90-х.
10 декабря 1994 года в Кремле шла рассылка поздравительных посланий президента России по случаю Дня Конституции.
«В официальном списке поздравляемых, — пишут помощники Ельцина, — по статусу значилась и фамилия президента Чеченской республики. В круговерти дел никто не обратил на это внимания. Так бы и ушло поздравление Ельцина мятежному генералу, если бы в группу спичрайтеров не вошел растерянный офицер фельдсвязи и не спросил, каким образом доставлять письмо в Грозный».
Этот эпизод как в капле воды отражает общую неопределенность и расплывчатость отношений Москвы и Грозного начиная с 1991 года. Хорошо представляю себе эту картину: предпраздничная суета, секретарши заклеивают конверты, неожиданно входит человек в мундире. Его вопрос застает кремлевских служак врасплох. На Кавказе уже практически идет военная операция… По сути дела, война.
О чеченской войне написано очень много. И все факты вроде бы хорошо известны. Но очень часто, листая страницы воспоминаний, перебирая в уме события, я не могу избавиться от мысли: чего-то не хватает. Не хватает какой-то последней точки, не хватает ясности.
Так что же случилось 11 декабря 1994 года, на день позже того вечера, когда офицер кремлевской фельдсвязи со своим кожаным портфельчиком вошел в комнату спичрайтеров и застенчиво спросил, как ему доставить поздравление Дудаеву с Днем Конституции.
«В ноябре 1990 года в Грозном состоялся “I съезд чеченского народа” (впоследствии переименованный в Общенациональный конгресс чеченского народа, ОКЧН)… С первых же шагов деятельность этой организации создавала почву для этнических чисток», — пишут помощники Ельцина.
Этнические чистки, напомню, — это аресты и расстрелы без суда и следствия, по национальному признаку. Ближайший по времени пример — Югославия.
«С лета 1991 года, и особенно после августовского путча, ОКЧН приступил к практическим действиям по захвату власти. 28–29 августа вооруженные отряды ОКЧН блокировали центральные улицы и площади Грозного, силой захватили здания Совмина, радио и телецентра, аэропорта».
Москва отреагировала быстро. В Грозный вылетела делегация в составе зампреда Совмина РСФСР Гребешевой, народных депутатов Аслаханова и Гаджиева (последний был еще и союзным министром, заслуженным нефтяником) — вылетела, поскольку Ельцин и Хасбулатов (кстати, тоже видный чеченец) поручили им договориться с местной элитой о прекращении беспорядков и кровопролития.
Договориться не удалось. 6 сентября вооруженный отряд ворвался в здание Дома правительства, где заседал Верховный совет Чечено-Ингушской республики (на тот момент Чечня и Ингушетия еще не разделились). Пытавшихся сопротивляться депутатов жестоко избивали.
Председатель городского Совета, шестидесятилетний Виталий Куценко, разбил окно и попытался выпрыгнуть, чтобы спастись. Но выпрыгнуть удачно из высокого окна первого этажа ему, увы, не удалось. Он ударился головой и через несколько дней скончался в больнице. Двадцать человек доставили в реанимацию.
Так началась история новой Чечни.
Ельцину на стол тем временем поступает абсолютно противоречивая информация о ситуации в Грозном. По одной версии, Доку Завгаев, глава республики, «как паук, опутал сетью всю республику, расставил везде своих подонков и отчаянно цепляется за власть. Что если бы снять его указом Горбачева? Это оздоровило бы обстановку». По другой — «в начале сентября 1991 года в республике совершен антиконституционный переворот… Республика вовлечена в глубокий политический кризис, последствия которого, безусловно, будут для нее катастрофичными».
Некоторая противоречивость позиции новой российской власти по отношению к перевороту в Чечне стала понятной позже. Вот что пишет об этом Сергей Филатов, в ту пору работавший в Верховном Совете РСФСР, а позднее глава кремлевской администрации:
«На следующий день после этого кровавого побоища пришла в Грозный телеграмма от исполняющего обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатова: “Дорогие земляки! С удовольствием узнал об отставке Председателя ВС республики. Возникла, наконец, благоприятная политическая ситуация, когда демократические процессы, происходящие в республике, освобождаются от явных и тайных пут…” В Хасбулатове бурлила прямо-таки лютая ненависть к Завгаеву, а независимость Доку Гафуровича приводила его в бешенство — до такой степени, что он, говорят, по телефону, плохо себя контролируя, требовал расстрелять земляка. Но и тот, видимо, относился к Хасбулатову не лучше и как-то в разговоре даже обронил: “Когда всё закончится и обстановка у меня на родине нормализуется, я добьюсь, чтобы в тюрьму посадили единственного человека — Хасбулатова. Вот уж кто настоящий преступник!”».
Итак, Ельцину кладут на стол две противоположные по смыслу, по оценкам записки о положении в Чечне.
Он пишет на второй записке резолюцию для первого вице-премьера Бурбулиса: «…Глубоко ли мы разобрались в процессах в ЧИ?»
Но вскоре и самой «ЧИ», то есть Чечено-Ингушетии, как территориального образования в составе России, не стало. 27 октября 1991 года прошли выборы в чеченский парламент «на произвольно очерченной территории». «Конгресс чеченского народа» определил границы: где Чечня, где Ингушетия, а где Россия.
Однако чем бы ни руководствовались восставшие люди в Грозном, но по отношению к федеральной власти это был явный мятеж, бунт, причем вооруженный. 19 октября Ельцин направил в Грозный ультиматум, предложив в течение трех суток освободить все захваченные здания и помещения, сдать всё имеющееся оружие органам внутренних дел и распустить незаконно созданные вооруженные формирования (если бы он знал, сколько таких ультиматумов ему еще придется подписывать!). А 6 ноября 1991 года президент России ввел в Чечено-Ингушской республике чрезвычайное положение.
В то время председателем российского КГБ был Виктор Иваненко. Иваненко позже рассказал журналисту Леониду Млечину, что, когда мятежники захватили здание КГБ в Грозном, он попытался дозвониться до Ельцина в Сочи, но его «не соединили». Иваненко в интервью возмущается тем, что «руководитель спецслужбы не может связаться с президентом, когда такое происходит в стране!». Что же хотел сообщить Иваненко Ельцину? «…Был выбор: то ли идти на силовые действия, то ли договариваться с Дудаевым».
На самом деле никакого выбора не было…
В своей записке Ельцину Иваненко позднее напишет: «Значительная часть населения, прежде всего чеченской национальности, поддерживает смещение Верховного Совета Чечено-Ингушской республики. В этих условиях, на наш взгляд, выход из кризиса возможен только на путях политических решений, поскольку силовые методы неминуемо приведут к эскалации насилия, большим жертвам, дискредитации политики РСФСР и ее руководства».
А вот что пишет в своей книге об этой ситуации Сергей Филатов:
«К ночи в Белый дом приехал Хасбулатов; вместе с ним мы спустились к Руцкому, который взял на себя руководство по организации ЧП в Грозном. Ждали пяти часов утра, а в пять или немного раньше выяснилось, что внутренние войска, на действии которых и строился весь расчет, с места не сдвинулись: таков приказ Баранникова, тогда министра внутренних дел СССР, полученный от Горбачева. Думаю, если бы Горбачев не сделал этого шага, события в Чечне в дальнейшем развивались бы по другому, менее драматичному сценарию, ибо каждое нарушение закона должно быть наказуемо. Решение вопроса отложили до 14 часов. По поручению Хасбулатова в 14 часов прихожу к Руцкому: там уже все “полуночники”. Александр Владимирович докладывает свой план решения проблемы. Мне в ту ночь, и особенно при его докладе, как-то по-новому пришлось взглянуть на Руцкого: этот человек, понял я, весь во власти амбиций и эмоций; в этот момент он беспощаден, предлагая окружить непокорную республику кольцом армейских подразделений и начать тотальную бомбежку ее территории. Такому жестокому варианту я воспротивился — прошу перенести обсуждение на заседание Верховного Совета, который правомочен утвердить или не утвердить указ о чрезвычайном положении: ведь указ появился накануне праздника, депутаты в отпуске. Ясно, что чрезвычайное положение организовать не удалось, подготовка его сорвана: каждый надеялся на другого, а сами собой такие дела никогда не делаются».
Ельцин прекрасно понимает, что происходит в Чечне. Но понимает и другое: эскалация военного конфликта сейчас, в ноябре 1991 года, через три месяца после августовского путча, абсолютно невозможна. Конфигурация власти еще до конца не определена, опасность продолжения неконтролируемых событий висит в воздухе, попытка подавить мятеж вооруженным путем в республиках России грозит новым мятежом в самой Москве. Цепная реакция гражданской войны. Ее нужно прекратить, Ельцин не готов решать конфликты с применением силы.
Председатель Верховного Совета РФ Хасбулатов направляется в Грозный, чтобы создать новый орган власти — Высший временный совет, который бы возглавил еще один «видный чеченец», Леча Магомадов, председатель российского госкомитета по ценам. Но, увы, «на путях политических решений» уже стоял мощный заслон: генерал Джохар Дудаев.
Почему, кстати, чеченцы выбрали именно его в свои руководители? Ведь, как и другие «видные чеченцы», авиационный генерал Дудаев никогда не жил в самой Чечне, вернулся туда только в 1991 году, женат на русской, вся его карьера проходила в военных гарнизонах, которыми он командовал на Украине, в Сибири, в Прибалтике. Между тем среди «видных чеченцев» был не только Хасбулатов, второй по статусу человек в новой России, но и еще, как мы видели, два министра, несколько заместителей министров, академики, предприниматели, руководители крупнейших производств. Так почему же именно Дудаев?
Считается, что Чечня очень гордилась своим единственным генералом Советской армии. Ликовала, когда Дудаев получил это звание. Ведь среди осетин, например, издавна были генералы, большие советские военачальники, а среди чеченцев — нет. Вот и гордились Дудаевым, вот и пригласили его в Грозный как главного претендента на лидерство. Потому что, мол, народ воинственный, превыше всего ценящий воинскую доблесть.
К этой легенде в Москве относились всегда очень уважительно.
Всем в Кремле казалось, что Дудаев стал лидером Чечни (а по сути, «приглашен на царство») совершенно логично: харизматическая личность, большие звезды на погонах, красавец-мужчина.
Именно с таким, как бы уважительным отношением главная военная газета страны «Красная звезда» послала своего корреспондента взять интервью у генерала Дудаева осенью 1991 года. Вот что поведал Дудаев военному журналисту:
«Да, мне доставались в основном трудные гарнизоны… Но я всегда выводил их в отличные. Я был лучшим командиром дивизии… Армия мне дала многое. Практически всё. Но отношение к армии у моего народа очень негативное. И прежде всего потому, что в ней портят наших юношей. Наши юноши рождаются воинами. Им, к примеру, нельзя есть сало. И не потому, что оно жирное, просто у юноши-горца особый склад организма. В армии же их заставляют его кушать, заставляют строиться, убирать чужое дерьмо…
На сегодняшний день в республике сформирована национальная гвардия численностью в шестьдесят две тысячи человек и народное ополчение — триста тысяч… Мы приступили к законодательной разработке оборонных структур и самой оборонной системы… Любое вооруженное вмешательство России в дела Чечни будет означать новую кавказскую войну. Причем войну жестокую. За последние триста лет нас научили выживать. И выживать не индивидуально, а в качестве единой нации. Да и другие кавказские народы не будут сидеть сложа руки… Да, это будет война без правил. И будьте уверены: на своей территории мы воевать не собираемся. Мы перенесем эту войну туда, откуда она будет исходить».
Напомню, что все это Дудаев говорит еще осенью 1991 года… Еще не распался Советский Союз, российское руководство предпринимает только первые, как бы на ощупь, шаги к урегулированию чеченского узла. А Дудаев выступает уже с абсолютно готовой концепцией. Ему уже все ясно.
Эта концепция, во-первых, крайнего национализма и фанатизма. И, во-вторых, объединение чеченской нации предполагается им на почве совершенно обязательной, как хлеб, необходимой для сплочения чеченцев,
На мой взгляд, вовсе не генеральские погоны, а именно этот крайний национализм, эта внутренняя готовность к войне были главной причиной, по которой лидеры «чеченского конгресса» выбрали Дудаева.
Никакой союзный или республиканский министр, никакой академик на эту роль, конечно, не годились.
Постановлением съезда народных депутатов РФ от 2 ноября 1991 года выборы в Чечне признаны незаконными. Но уже в 1992 году тот же самый съезд признал упразднение Чечено-Ингушской АССР и образование двух новых республик — Чечни и Ингушетии (президентом Ингушетии избран другой советский генерал — Р. Аушев). Таким образом, республика была признана де-факто в границах 1938 года.
Между тем события в новообразованной республике принимали все более крутой оборот.
В 1992 году российские войска (бывшие гарнизоны Советской армии, которые там дислоцировались) были выведены из Чечни. По соглашению с чеченской стороной большая часть военных арсеналов оставлена на территории республики. С российской стороны соглашение подписал генерал-лейтенант И. Строгов, действовавший от имени Министерства обороны РФ. Но подписывал директивы правительства на этот счет вице-премьер, а затем и. о. премьера Егор Гайдар. Как считает сам Гайдар, это было трагической неизбежностью: в заложниках у вооруженных чеченцев оставались жители военных городков — женщины, дети, старики. А оружие было такое: пусковые установки ракетных комплексов сухопутных сил, 260 учебно-тренировочных самолетов, 42 танка, 34 БМП, 139 артиллерийских орудий, 2500 автоматов и 27 вагонов боеприпасов.
Вывод войск из Чечни и соглашение о разделе военного имущества происходят на фоне другого тяжелейшего северокавказского конфликта — между осетинами и ингушами.
Вот что Егор Гайдар напишет об этом в своей книге:
«Хорошо помню, как все это началось. Впервые за несколько месяцев решил в воскресенье выспаться, не ходить на работу. Рано утром звонок. На границе Ингушетии и Осетии масштабные беспорядки. Захвачено вооружение батальона внутренних войск. Идет бой. Министерство безопасности назревающую взрывную ситуацию блестяще прозевало. Узнаем о происшедшем как о свершившемся факте. Возникает реальная угроза получить новый Карабах с хроническими боевыми действиями, но уже на территории России.
…Первым делом направляюсь в Назрань. Еду на бронетранспортере внутренних войск. Зрелище не для слабонервных. Видны следы настоящего боя, разрушений, в Пригородном районе множество горящих домов. Нетрудно догадаться, что в первую очередь — ингушских. На границе с Ингушетией встречает Руслан Аушев. Руслан говорит, что на бронетранспортере дальше ни в коем случае ехать нельзя — подстрелят. Сажусь в его машину, он — за рулем. Центральная площадь в Назрани запружена беженцами, тысячи несчастных людей, ставших жертвами политиканов, что разыгрывали самую простую и вместе с тем самую опасную в политике карту радикального национализма. По дороге Аушев пытается выяснить мое мнение, кто стоит за всей этой страшной кровавой катавасией. К сожалению, ничем не могу ему помочь, доклады Министерства безопасности — по-прежнему свидетельство полнейшей беспомощности. Потом — переговоры с ингушскими лидерами и прибывшей в Назрань, чтобы предотвратить распространение боевых действий на территорию Чечни, делегацией чеченского правительства во главе с Яраги Мамадаевым. Тяжелый разговор с людьми на площади. По крайней мере, удается добиться одного — у ингушей исчезает убежденность, что для российских властей в этом конфликте есть заведомо правая и заведомо неправая стороны».
Но вот что интересно.
Перед российским руководством (и Гайдар пишет об этом) в тот момент, когда войска МВД и десантники входили в Пригородный район, чтобы развести враждующие стороны, стоял вопрос: а не решить ли разом и чеченскую проблему? Захватить Грозный, отстранить Дудаева от власти? Ведь все равно в Ингушетии действует чрезвычайный режим, «один полк туда, один — сюда». Но, по зрелому размышлению, от этой идеи отказались. Поняли, что «одним полком» решить проблему не получится.
Российская власть понимала: на Кавказе начинается страшный пожар. И дело не в одной только Чечне. Российские миротворцы уже гасили этот пожар между ингушами и осетинами, между Южной Осетией и Грузией, с 1993 года — между Грузией и Абхазией. Свои дудаевы могли появиться везде, в каждой северокавказской республике — и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, и в Карачаево-Черкесии.
Сепаратизм — жуткая головная боль даже для устойчивой политической системы.
Но в России власть только установилась. Только-только стала легитимной. У России еще не было новой конституции. Не было законов, которые регулировали бы подобные ситуации. Не было нового федеративного договора. Ее новые международные отношения лишь начинали выстраиваться.
Конфликт между президентом и Верховным Советом, не говоря уж о политическом противостоянии с непримиримой оппозицией, да и вообще все политические события 1991–1993 года заставляли откладывать решение чеченской проблемы в долгий ящик. Российская власть была не готова вести полномасштабную военную операцию в 1991–1993 годах. Морально не готова, организационно, идеологически — не готова со всех точек зрения.
Разводить враждующие стороны, не допускать кровавой резни между двумя народами, охранять мирных жителей, держать разделительные полосы в опасных районах — да. Но в Чечне на тот момент было полное единодушие: Дудаев вернул чеченцам независимость.
В мае — июне 1993-го Дудаев расправился со своим парламентом. Разогнал он и Конституционный суд. «В борьбе против собственной оппозиции Дудаев предоставил карательным органам (департаменту государственной безопасности) фактически неограниченные полномочия. На окраине Грозного, на Корпинском кладбище производились массовые захоронения расстрелянных политических противников Дудаева. Новый правитель Чечни объявил незаконной деятельность всех оппозиционных партий (“Даймокх”, “Маршо”) и их изданий. В средствах массовой информации была установлена жесточайшая цензура. На телевидении был запрещен прямой эфир. Цензура обрушилась на учреждения культуры, в частности на театр» («Эпоха Ельцина»).
Была разграблена знаменитая картинная галерея Грозного, закрывались учебные заведения, насаждались законы шариата, словом, новый режим практиковал исламский фундаментализм все шире и шире. В республике воцарилась военная диктатура.
За три года в Чечне прекратили свою деятельность все федеральные государственные органы.
Тем не менее чеченские власти пытались установить с Москвой формальные отношения, наладить контакт, подписать хоть какие-то, пусть временные, документы о разграничении полномочий. Чечня, например, направила в Москву своего «посла», причем верительную грамоту составили по всей форме, в рамках высоких дипломатических традиций:
«В целях укрепления двухсторонних отношений между Чеченской республикой и Российской Федерацией, придания им доверительности и искренности… Аккредитуя господина Апазова Солтмурата Несерхоевича настоящей грамотой, правительство Чеченской республики просит Вас принять его с благосклонностью и верить всему тому, что он будет иметь честь излагать Вам…»
Ну просто английские джентльмены!
На верительных грамотах не остановились, послали в Москву «министра иностранных дел» с представительной делегацией для ведения соответствующих переговоров. Ельцин направил резолюцию в МИД России: «Судя по докладу, переговорный процесс полезен. Прошу продолжать. Но должна быть выработана линия, которая была бы положена в основу работы всех федеральных органов… Полагаю, что это должен сделать МИД… Б. Ельцин».
Российские ведомства ведут активную переписку по поводу чеченской проблемы.
Заместитель министра иностранных дел А. Адамишин ответил президенту: «…Назначение МИД РФ в качестве координатора переговорного процесса с Чечней означало бы, что российская сторона признает за республикой статус иностранного государства».
В общем, при чем тут МИД, Борис Николаевич!
Вялотекущие переговоры с Чечней ни к чему не привели, хотя с самого начала в них принимали участие солидные российские политики. С. Шахрай и Р. Абдулатипов подготовили вполне серьезный проект договора о разграничении полномочий, выезжали в Грозный, работали над текстом (в конце 1992 года).
Огромную активность проявлял и сам Джохар Дудаев. В отличие от своих министров и советников он выражался отнюдь не высокопарно, не дипломатично, не витиевато, а на простом, понятном языке.
«Борис Николаевич.
Я решил передать Вам настоящее послание в связи с тем, что нахожу ситуацию, сложившуюся в отношениях между Чеченской республикой и Россией, ненормальной… В качестве первого шага мы могли бы начать путь компромиссов путем, с одной стороны, признания прав Чеченской республики на самостоятельное определение собственных экспортных квот (на нефть), лицензирование и, с другой стороны, согласия Чеченской республики осуществлять оплату транзитных тарифов по взаимосогласованному размеру в пользу России…»
Это письмо Дудаев послал Ельцину еще в июле 1992 года. Ельцин пишет резолюцию: «Е. Т. Гайдару. Прошу рассмотреть предложения Д. Дудаева и подготовить проект ответа».
Дудаев предлагает делить между Россией и Чечней деньги за экспорт нефти. И на этой основе договариваться о политическом консенсусе.
Купите нас! Мы согласны…
Между тем российские ведомства продолжают считать Чечню российской территорией — туда идут пенсии, пособия, а также циркуляры и указы. Кому они направляются, не совсем, правда, понятно. Никаких федеральных органов на территории Чечни уже нет. Это приводило к случаям достаточно анекдотическим. Рассказывает Александр Казаков, один из руководителей Госкомимущества:
«Никогда не забуду свою командировку в Чечню. Я вез генералу Дудаеву письмо Президента России с предложением провести чековую приватизацию на территории республики. Мы вылетели в Назрань, где в то время не было даже ни одной гостиницы — я ночевал дома у начальника управления бытового обслуживания Ингушетии. На следующий день удалось созвониться с аппаратом Дудаева. За мной прислали машину с автоматчиками, и я оказался в его резиденции.
Принят я был демонстративно холодно. В приемной меня продержали больше часа. Наконец, я встал и, достаточно грубо отозвавшись о генерале, вышел из приемной. Меня догнали в коридоре — и я был принят Дудаевым. Поскольку он принимал в штыки все инициативы, исходящие из Москвы, у него уже был готов ответ на послание Ельцина: население Чечни не будет принимать участие в чековой приватизации. Я пытался объяснить ему, что чеченцев нельзя обделять в том, что им принадлежит по закону и граждане республики все равно смогут участвовать в приватизации на территории, скажем, той же Ингушетии. В какой-то момент мне даже показалось, что он внутренне согласился со мной. Переговоры закончились ничем. Но в итоге чеченцы действительно участвовали в приватизации, получив ваучеры именно в Ингушетии».
По «дипломатической» переписке, в которую пытались включить даже МИД, видно, что Ельцин и сам не понимает, кто должен заниматься в российском руководстве этой проблемой: правительство, администрация? Набирает силу жесткое противостояние с Верховным Советом, тяжелая ситуация в экономике, не принята новая конституция. В стране, по сути, царит двоевластие.
Дудаев, считает Сергей Филатов, искал встречи с Ельциным по вполне понятной причине: его авторитет стал резко падать — ведь государства как такового нет. «Народ начал вооружаться, почти все школы отдали под казармы, миграция шла колоссальная. Дудаеву необходимо было показать, что Москва с ним считается. Для Дудаева сесть за стол переговоров с Ельциным означало бы признание Россией легитимности его власти. Многие из дудаевского окружения спекулировали на этом. Потому я и объяснил дудаевским посланникам, что он не может сесть за стол переговоров с Президентом России как президент независимой суверенной республики. Другое дело, если встретится с Борисом Николаевичем генерал Джохар Дудаев, лидер Чечни».
Тонкий нюанс. Может быть, даже слишком тонкий для Дудаева.
Вокруг этого долго еще велись переговоры; происходили встречи с помощниками Дудаева, с «государственным секретарем» Чечни, и каждый раз со стороны России проявлялась готовность к встрече на тех же условиях. Но Дудаев и его окружение никак на это не шли.
Чечня стала метастазой общей болезни российского политического организма — болезни, возникшей в результате распада Союза. Этот проблемный кусок российской территории — который готов был отвалиться и держался крайне непрочно, шатался, сыпался, и трещина от него грозила перекинуться дальше, на всю конструкцию — не давал покоя Москве.
В начале 90-х шла отчаянная борьба за суверенитет Татарстана. В 1990–1991 годах в Приморье возникло движение за воссоздание Дальневосточной республики (которая существовала в годы Гражданской войны, до образования СССР, как самостоятельное государство). В 1993 году в Свердловской области по инициативе Свердловского областного совета был проведен референдум о создании Уральской республики, затем Эдуард Россель торжественно объявил о создании конституции Уральской республики, в которую позднее предполагалось включить и соседние области. Только вмешательство президента осенью 1993 года смогло предотвратить этот очень опасный политический маневр уральских элит.
Сепаратизм быстро расползался по стране.
И в Кремле постоянно медлили, осторожничали, откладывали, боясь, что при неудачном решении чеченского вопроса трещина полезет дальше. Ну ничего не отваливается же пока! По крайней мере, не до конца…
А как закрепить этот проблемный кусок территории, задержать этот процесс, где клеить, каким составом — никто не знал.
Чечня стала первой самопровозглашенной республикой, провела свои выборы вопреки Москве, не имела с Москвой ни одного соглашения, правового документа о разграничении полномочий, о своем статусе. Чеченский режим организовал на своей территории незаконную армию, оснащенную российским же оружием, захваченным фактически с помощью угроз и шантажа; чеченцы ввели в оборот свою валюту, устроили на своей территории целый завод по печатанию фальшивых российских рублей, торговали фактически украденной нефтью.
Лидер Чечни постоянно угрожал России. На ее территории скрывались террористы с заложниками (в мае 1994 года разные чеченские банды трижды захватывали рейсовые автобусы в районе Минеральных Вод, требовали выкуп и вертолет для возвращения в Чечню, дважды их требования удовлетворялись, в третий раз был отдан приказ освободить заложников, но в ходе операции пятеро наших граждан погибли). На территории Чечни открыто грабили проходящие поезда. Фальшивые чеченские авизо (поддельные финансовые документы, с помощью которых путем обмана и шантажа с территории России вывозились мешками, грузовиками наличные деньги) стали громким всероссийским скандалом.
Продолжались этнические чистки и депортация русского населения. По оценкам статистиков, из Грозного в течение 1992–1994 годов уехали 147 тысяч человек[27].
И все-таки, несмотря ни на что, это были детали процесса. Надо было ответить на главный вопрос: что же делать с самим процессом?
Как видим, до 1994 года Москва постоянно упиралась в некую смысловую развилку. В Кремле понимали, что есть два пути — либо жесткая военная операция, либо долгие переговоры.
Так продолжалось до 1994 года, когда после событий 3–4 октября и выборов в новый парламент, после того, как российские граждане одобрили новую конституцию, стало ясно — проблему территориальной целостности откладывать в долгий ящик больше нельзя.
Но возник другой вопрос. А именно: прежде чем садиться за стол переговоров, надо четко решить — с кем? Дудаев, угрожающий Москве войной, для этой цели, решили в администрации президента, явно не подходит. И прежде чем в Чечне не будет другого лидера, начинать переговоры не стоит.
Предпосылки к новому подходу возникли именно в 1994 году, когда власть Дудаева зашаталась. Чеченская оппозиция захватила Надтеречный район. Начались ее контакты с «московскими чеченцами».
Все говорили в один голос: режим Дудаева висит на волоске!
Событие, которое довольно сильно повлияло на ход российской истории, внешне выглядело довольно заурядно: летом 1994 года в гостинице «Пекин» собрались «видные чеченцы», которые решили поддержать оппозицию. Мало кто обратил на это внимание. Может быть, лишь гостиничный швейцар отметил, что собралось так много представителей чеченской диаспоры, причем явно не бандитов, а людей вполне представительных. Конечно, помимо этой встречи было много и других контактов — доверительных, официальных, но консолидированное мнение «авторитетных чеченцев» не могло не повлиять на позицию президентской администрации.
Через некоторое время Москва решила признать Временный совет Чеченской республики, который возглавил главный оппозиционер дудаевского режима, глава администрации Надтеречного района Умар Автурханов, бывший милиционер. От себя Москва делегировала в этот орган все того же Гаджиева, бывшего союзного министра. Опиралась оппозиция на боевые отряды Лабазанова и Гантамирова.
Ну и, наконец, главное — идею о штурме Грозного, насильственном смещении Дудаева силами оппозиции поддерживала сама президентская администрация. Поддерживала отныне абсолютно открыто.
Занимались этой идеей («оппозиция против Дудаева») в Кремле на самом высоком уровне: ее вели Сергей Филатов, в то время глава администрации, и Сергей Шахрай, в то время вице-премьер.
Они, конечно, лишь возглавляли, курировали эту работу. Аналитические записки и экспертизу идее давали и менее известные стране люди, также работавшие в администрации. Например, советник президента по национальным вопросам Эмиль Паин. Вот что он говорил в одном из интервью: «Идея была такая: одна Чечня — две системы. Чеченская республика остается, но есть некие районы (три северных), куда поступает гуманитарная помощь. Там строятся больницы и детские сады, выдаются пенсии. Подходит время к выборам, выбирайте, что вам больше нравится. Жить без всего в независимой Чечне или жить обеспеченно в составе федерации».
Однако сами лидеры оппозиции, которые выводили на митинги сотни людей с автоматами, понимали, что подобные красивые планы — чистая утопия. Победить в Чечне можно только силой. Поэтому они обратились к эмиссарам Москвы с просьбой — вооружите нас, и мы возьмем Грозный! Да и как еще организовать в Чечне «три северных района», как оградить их от вторжения? Только одним путем — свергнуть Дудаева.
Сначала речь шла лишь о военных советниках, затем оппозиция запросила танки и вертолеты. К разработке операции подключились Сергей Степашин, глава Федеральной службы контрразведки (ФСК), и его заместитель Евгений Савостьянов.
Снова вспоминает Сергей Филатов:
«В Чечне зрели тенденции рассчитаться с Дудаевым своими силами — теми, которые пострадали от его режима. Возникли оппозиционные формирования Гантамирова и Лабазанова. Дудаев то ли во внутренних разборках, то ли в назидание другим предпринял попытку захвата Лабазанова в Грозном.
При этом погибли около трехсот человек, а отрубленные головы родственников Лабазанова были выброшены на площадь. После этой кровавой драмы я стал серьезно сомневаться, что возможна встреча Ельцина и Дудаева, и получил подтверждение своих сомнений при встрече с Борисом Николаевичем. Дудаев сам отрезал себе пути к переговорам с Президентом России. Нормализовать положение в республике оставалось возможным лишь путем новых выборов.
Примерно в то же время против Дудаева выступила оппозиция во главе с главой Надтеречного района Чечни Автурхановым, который с первых шагов дудаевской власти ей не подчинился. Возглавляемый им Надтеречный район ни разу не допустил представителей дудаевской власти на свою территорию. Целью оппозиции стала борьба с властью Дудаева; ставилась задача провести выборы президента не в 1995 году, как об этом объявил Дудаев, а в 1994-м. Оппозиция на своем съезде образовала Временный совет и обратилась к Президенту России с просьбой оказать помощь в налаживании нормальной жизни в Надтеречном районе и других населенных пунктах, где влияние Дудаева потеряно.
Встретиться с Автурхановым мне предложил Е. В. Савостьянов, который замещал в это время директора ФСК С. В. Степашина и курировал по его поручению урегулирование ситуации в Чечне. Во время нашего разговора Савостьянов обратил мое внимание на то, что оппозиция Автурханова не ставит никаких условий перед российским руководством, но подтверждает, что признает Конституцию Российской Федерации, в то время как лидеры других оппозиций ставят различные условия. На встречу я согласился. С обращением к Президенту России Автурханов и приехал в Москву в июне 1994 года. Мы встретились, и я взял для передачи Президенту России обращение общенационального съезда чеченского народа с просьбой о признании федеральной властью Временного совета, через который можно восстановить нормальную жизнедеятельность республики и социальное обеспечение. Б. Н. Ельцин дал поручение правительству Российской Федерации оказать Временному совету содействие в подготовке и проведении выборов в Чечне. В душе я надеялся, что Президент поручит мне курировать этот вопрос, но такого поручения не последовало».
Итак, Ельцин поддержал план оппозиции.
17 ноября 1994 года антидудаевская оппозиция разгромила пост дудаевцев в селении Братском.
25 ноября оппозиция начала атаку на Грозный. Это было вечером, в темноте, в 21 час 10 минут. Наступающие отряды Лабазанова и Гантамирова поддерживали российские вертолеты. Они обстреляли ракетами базы дудаевских войск в районе Терского хребта и на северной окраине Грозного. После нанесения ракетного удара с воздуха бронетанковые колонны двинулись по направлению к Грозному.
В семь утра 26 ноября шесть танков прорвались к президентскому дворцу. Отряды оппозиции захватили центр города, здания «госбезопасности» и «Министерства внутренних дел». Президентский дворец был пуст. Там никого, кроме охраны. Бумажки перекатывались от ветра, окна распахнуты. Дудаев со своей гвардией куда-то скрылся. Отряд Лабазанова, захвативший дворец, начал праздновать победу, стрелять в воздух.
«К 16.30 бои в чеченской столице практически прекратились. В телеобращении к гражданам республики У. Автурханов заявил, что власть в Чечне перешла в руки Временного совета. Отсутствие реального сопротивления опьянило автурхановцев, и они были готовы отпраздновать скорую победу», — пишут историки.
Но радость была преждевременной. Когда штурм прекратился, гранатометчики Дудаева начали методично расстреливать танки, а снайперы на крышах — танкистов, которые выскакивали из горящих машин. Танки поддерживали немногочисленные пехотные расчеты. Отряды лабазановцев и гантамировцев были рассеяны и уничтожены.
Но самое страшное — были убиты, ранены и взяты в плен российские военнослужащие, которые участвовали в операции, кроме, разумеется, вертолетчиков.
Дудаевцы захватили в плен 150 человек, в том числе около семидесяти российских военных.
Это была катастрофа.
Чеченцы закрывали белыми полотенцами головы убитых. По всем улицам Грозного виднелись эти страшные белые полотенца. Чеченцы показывали по телевидению, записывали на пленку интервью с российскими солдатами и офицерами, попавшими в плен. Всего танков было около сорока, часть из них удалось отбить и вывести из города, но это уже не спасало общей ситуации.
Командиры и экипажи российских танков нанимались Федеральной службой контрразведки по частным контрактам, для «секретной командировки», свои военные билеты они сдавали офицерам контрразведки, у них с собой не было никаких документов, в своих частях они не значились, руководство армии об этой операции вроде бы ничего не знало (хотя поверить в это трудно).
В десять часов утра 26 ноября 1994 года Ельцин открыл экономическое совещание в Москве. В эти часы в Грозном уже шли серьезные бои. Первый помощник президента Виктор Илюшин рассказывал потом, что в перерывах к Ельцину подходил директор ФСК Сергей Степашин, докладывал о ходе операции. Вначале, вспоминает Илюшин, в первой половине дня, тон Степашина был мужественным, сдержанным, он старался показать себя подлинным профессионалом: «Работаем по Грозному, Борис Николаевич, всё идет по плану..» Но к концу дня доклады Степашина становились всё растеряннее, он не знал, что и как докладывать.
Власти в Чечне предупредили, что около семидесяти захваченных в плен российских граждан — офицеров и военнослужащих — будут расстреляны, если российские власти не признают факта их участия в войне на стороне оппозиции.
Именно с этого страшного дня — 26 ноября — Россия переступила черту, до которой еще можно было говорить о политическом процессе. Теперь все это закончилось. Поверив антидудаевской оппозиции, Россия оказалась втянута в настоящую войну.
Ельцин проводит одно совещание за другим, и все они посвящены чеченскому вопросу. В администрации обсуждают два плана: экстренно перебросить новые силы российских войск в помощь оппозиции или начать переговоры с Дудаевым? Учитывая крах первой попытки, экстренный план должны были согласовать все три силовых министра. Ерин, министр МВД, был против немедленной эскалации военной операции. Не хотел рисковать. Министр обороны Грачев тоже сомневался — не приведет ли поддержка оппозиции к новым неоправданным жертвам? «Консенсуса» не было.
«…Был подготовлен проект указа о введении в Чечне чрезвычайного положения. Требовалось ввести туда внутренние войска, чтобы помочь Временному совету сохранить власть в Грозном. Но этот процесс притормозил, по-моему, тогдашний министр внутренних дел В. Ф. Ерин, сказав Президенту, что все происходящее в Чечне требует серьезной проверки и нужно понаблюдать несколько дней за развитием событий», — комментирует Сергей Филатов.
В его комментарии, если внимательно в него вчитаться, явственно ощущается чувство вины, которое не дает покоя и по сей день, много лет спустя:
«Оперативнее данные были у ФСК. Ерин традиционно им не поверил. Факт, что Президент не подписал указа, который я практически согласовал со всеми службами и которого ждали и Грачев, и Степашин, и Егоров. Когда я по телефону сообщил об этом Грачеву, он дрогнувшим голосом попросил отпустить его, хотя бы одного, очень переживал за своих ребят, несколько раз повторил: “Как я буду смотреть им в глаза?!” А затем, несколько дней спустя, состоялось решение Совета безопасности о введении войск в Чечню. В этих процессах я уже не участвовал. И очень жаль, что политическая линия на неприменение войск на территории Чечни была нарушена. Дудаев оставался в одиночестве; его практически не поддерживали ни свои, ни зарубежные чеченцы, ни руководители стран, где проживали чеченские диаспоры; но при этом все зарубежье, да и сами чеченцы предупреждали, чтобы ни в коем случае не вводились войска на территорию Чечни. При этом принципиально менялся характер войны — она превращалась в национально-освободительную и Дудаев вновь становился национальным героем. Накануне введения войск было сделано предупреждение Дудаеву, предъявлен ультиматум о сдаче оружия. Дальше началась сама операция».
Да, Дудаев постепенно утрачивал контроль над территорией Чечни, его власть уже была сильно ограничена внутренним конфликтом. Но гражданская война, которую вели между собой лидеры различных кланов (и в которую они сумели втянуть российские силовые ведомства), внезапно переросла в войну с Россией. Враждующие чеченцы разом объединились.
Вот как описывает свой разговор с Ельциным Юрий Батурин, помощник президента по национальной безопасности. В тот день, 29 ноября, в 15.00 Ельцин вызвал его и попросил высказать свое мнение. Батурин честно сказал, что, по его мнению, военного решения вопроса нет. Необходим политический план. Посредник для обмена пленными. Для военного варианта, сказал помощник, необходимо наладить координацию между силовыми ведомствами. На боевое слаживание уйдет не меньше месяца. Да и вообще, вслух задумался Батурин, война — это же триллионы бюджетных рублей.
«Ельцин, — пишет Батурин, — посмотрел долгим испытующим взглядом и сказал: “Я назначил Совет безопасности по Чечне. Вам там быть не надо”».
Давайте посмотрим, что за люди планировали и давали добро на поддержку штурма Грозного «силами оппозиции». Глава администрации Сергей Филатов, директор ФСК Сергей Степашин…
Оба — бывшие российские депутаты. Депутаты демократической волны.
К «ястребам» (если пользоваться традиционной политической терминологией) их можно причислить с огромной натяжкой. Скорее, очевидные «голуби» — по своим взглядам, по жизненному опыту. Странная, согласитесь, получается картина: демократические «голуби» выступают за немедленное решение конфликта силовым путем, военные «ястребы» — силовики — отмалчиваются, выжидают. Это сигнал нам, пытающимся сегодня разгадать загадку чеченской войны. Все было совсем не так однозначно.
Люди из кремлевской администрации, вовлеченные в чеченскую тему, прекрасно понимали: если мы не решим проблему Чечни в ближайшее время, возникнет угроза территориальной целостности страны. Сепаратизм расползется в разные стороны. Сегодня, исходя из опыта двух чеченских войн, можно сказать определенно: видимо, нельзя было это делать тогда, в 1994 году. Можно было идти по другому пути: экономическая блокада, изоляция режима Дудаева, помощь Надтеречному району. Конечно, по-другому надо было проводить и военное вмешательство: разобщенность российских силовиков в этой ситуации не могут оправдать никакая «секретность» и «внезапность».
То, что случилось потом, после 26 ноября, во многом объясняется этим провалом. Как говорил позднее Сергей Александрович Филатов, «…инициатива опять-таки шла снизу. Даже не от нас — из самой Чечни. Мы поддержали Автурханова, но ведь это он сам к нам обратился, а не мы его вытащили…».
Существует еще один расхожий стереотип: война в Чечне была вызвана внутренним кризисом самой власти.
Вызов, брошенный Жириновским на парламентских выборах 1993 года (когда его партия победила благодаря националистическим, шовинистическим лозунгам), был принят. Ельцин поднял перчатку, считает его американский биограф Леон Арон. «Маленькая победоносная война» — огромный политический соблазн во все времена.
Однако факты — упрямая вещь.
В плену оказались 70 российских военнослужащих. Президент в безвыходной ситуации. Давайте зафиксируем ее.
Кровавая мясорубка, которая царила в Чечне, сама логика хаоса и распаду, которая грозила перекинуться на весь Кавказ и на всю страну, подталкивали Кремль к решительным мерам, заставляли выйти из фазы неопределенности. Но неопределенность, некая аморфность в принятии решений была и внутри самой власти. Эта расплывчатость, половинчатость решений достигли критической точки в конце ноября 1994 года. Для того чтобы, наконец, внести ясность в этот хаос, потребовалась воля одного человека.
Но никто еще не знал, какой будет цена этой ясности, этой определенности.
После 26 ноября события начнут развиваться с калейдоскопической быстротой.
29-го Ельцин направил участникам вооруженного конфликта обращение, в котором потребовал в течение сорока восьми часов прекратить огонь, сложить оружие, распустить вооруженные формирования, освободить всех захваченных и насильственно удерживаемых граждан.
«Если в течение установленного срока это требование не будет выполнено, на территории Чеченской республики будут использованы все имеющиеся в распоряжении государства силы и средства для прекращения кровопролития, защиты жизни, прав и свобод граждан России, восстановления в Чеченской республике конституционной законности, правопорядка и мира».
Для тех, кто внимательно вслушивался в слова этого обращения, все было уже предельно ясно. По сути, президент принял решение. И война неизбежна.
Однако у тех, кто находится рядом с Ельциным, еще остаются иллюзии.
Георгий Сатаров, помощник президента, рассказывал позднее журналисту Леониду Млечину: «Я знаю, что разрабатывалось несколько разных вариантов действий. Те варианты, которые я знал, казались довольно осмысленными. Они не влекли за собой полномасштабную войну. И когда мы узнали, что вошли войска — это было шоком. Я написал заявление об уходе. Но меня остановили коллеги: “Ты уйдешь, он уйдет… И кто будет советовать президенту? И что будет дальше?”».
Какие же варианты имел в виду Сатаров? Все те же, один из которых обсуждался еще летом: расположить войска вдоль Терека, установить контроль над тремя северными районами, окружить мятежную Чечню санитарным кордоном. Долгий вариант. Очень долгий…
В то время казалось, что есть путь короче.
Президент начал ежедневную работу по подготовке военной операции. Было принято решение о назначении Николая Егорова (министра по делам национальностей) постоянным представителем президента в Чечне, Сергея Грызунова (в то время возглавлявшего Роскомпечать) — руководителем Временного информационного центра. Грызунов сообщил, что «по периметру границ Чечни сконцентрированы три мощные военные группировки». 5 декабря в Моздок вылетели министр обороны Грачев, министр внутренних дел Ерин и директор ФСК Степашин.
Грачев лично передал Дудаеву ультиматум Ельцина: сложить оружие, распустить свою армию, иначе — война.
Первая же акция «информационного центра», который должен был освещать войну в Чечне, была довольно интересна: прямой репортаж о личной встрече Грачева и Дудаева. В программе «Вести» показали небольшой домик, где они встречались. Затем — уникальные кадры, где Грачев и Дудаев еще вместе, улыбаются. Затем интервью. Дудаев в кадре, естественно, ничего не говорил. Говорил только Грачев. Вот его слова:
«Мы с ним уединились в соседней комнате один на один. Я ему прямо сказал: “Джохар, это твой последний шанс, и давай поймем как военный военного. Давай решим таким образом, чтобы по опыту Афганистана не было крови в Чечне. Джохар, неужели ты думаешь, что будешь воевать против нас? В любом случае я тебя разобью”. Он спросил: “Неужели вы действительно пойдете?” — “Да, действительно принято решение — готовься к самой настоящей войне, но пока не поздно, нужно признать незаконность всех решений и отказаться от ведения силовых действий”. И тогда он мне заявил, что не может отказаться.
Я задал вопрос: “Почему ты не можешь отказаться?” И вот здесь у этого человека вырвалось: “Я не принадлежу сам себе. Если я приму такое решение, меня не будет, но будут другие. Меня они просто не выпустят. Будут другие, и они все равно будут выполнять то решение, которое нами уже утверждено”. Тогда я ему сказал: “Тогда война”. Он сказал: “Да, война!”».
Поразительный по откровенности человеческий документ.
В нем есть всё. И смятение Грачева, который понимает, что будут жертвы, прольется большая кровь, но прячет это смятение. В нем есть и темная, опасная сдержанность Дудаева, который тоже понимает, чего будет стоить эта война его народу, но за этой сдержанностью полыхает абсолютный фанатизм.
Однако 6 декабря, когда два генерала встретились в избушке на окраин» Грозного, план военной операции еще только складывался в единое целое. Происходили движение и передислокация войск, но еще не было ясно, какие части будут принимать участие в группировке. Она формировалась срочно, впопыхах.
…Когда-то я читал публиковавшиеся в «Огоньке» дневники советского танкового офицера, который принимал участие во вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 году. Так вот, их начали готовить к операции — то есть проводить инструктаж, учения, тренировки, подтягивать к границам — за полгода до самой операции!
При этом советские военачальники понимали — Чехословацкая армия почти наверняка не будет воевать с Советской. И тем не менее готовились тщательно. Очень тщательно.
Окончательное решение о начале военной операции в Чеченской республике принимал Совет безопасности в таком составе: Борис Ельцин, Виктор Черномырдин (председатель правительства), Павел Грачев (министр обороны), Юрий Калмыков (министр юстиции), Андрей Козырев (министр иностранных дел), Евгений Примаков (директор Службы внешней разведки), Иван Рыбкин (спикер Госдумы), Сергей Степашин (директор ФСК), Сергей Шойгу (МЧС), Владимир Шумейко (спикер Совета Федерации)… Все высказались «за». Единственным человеком, который проголосовал «против», был министр юстиции Калмыков, уроженец Кавказа, который вскоре был отправлен в отставку.
Однако чеченская тема обсуждалась не только на Совбезе. Ельцин постоянно собирал совещания. Выпустил три указа по Чечне на протяжении трех суток, один из них, от 11 декабря, — секретный («О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской республики»), В этот же день президент обратился к гражданам России. «Наша цель, — сказал Ельцин, — состоит в том, чтобы найти политическое решение проблем одного из субъектов Российской Федерации — Чеченской республики, защитить ее граждан от вооруженного экстремизма. Но сейчас мирным переговорам, свободному волеизъявлению чеченского народа препятствует нависшая опасность полномасштабной гражданской войны в Чеченской республике».
Все официальные органы власти, начиная с Думы и кончая правительством, развили бурную активность — создавали комиссии, назначали чрезвычайных представителей, уполномоченных, «рабочие группы» и т. д. и т. п. Николай Егоров, вице-премьер, на одном из заседаний сказал историческую фразу, которую будут потом цитировать журналисты и писатели как ярчайший пример ошибочной оценки ситуации: мол, режим Дудаева настолько непрочен, что местные жители «будут посыпать мукой» дороги, по которым предстоит пройти российским частям.
А ведь на Егорова, уроженца Краснодарского края, бывшего главу местной администрации, надеялись, рассчитывали на его глубокую осведомленность в ситуации на юге России, знание своих соседей-чеченцев, менталитета северокавказских народов…
Но и в среде военных сразу возникли разногласия, достаточно острые и притом публичные, что совсем нехарактерно для военной среды. Достаточно перечислить тех, кто высказался резко против немедленного начала военной операции: начальник Генштаба генерал М. Колесников, главком Сухопутных сил В. Семенов, начальник Федеральной службы погранвойск А. Николаев. Но когда решение было окончательно принято, Генштаб снарядил целый бронепоезд, направив в Чечню несколько сот своих военных советников. И, как пишет генерал Трошев, который принимал участие в штурме Грозного, они создавали в те дни бессмысленную суету.
В Моздоке, где находился военный аэропорт, от генеральских звезд в декабре 1994-го просто слепило глаза. Туда срочно вылетели все руководители силовых ведомств, большинство их заместителей. Но раздрай среди армейских продолжался.
19 декабря Грачев отстранил генерала Митюхина от командования военной группировкой за его несогласие с темпами и методами операции. Затем отказался участвовать в войне генерал Эдуард Воробьев. Среди высокопоставленных военных явно шло брожение по поводу Чечни.
Суть противоречий проста: операция не готова по срокам, ее план детально не разработан, ставка делалась на быстрый успех.
Очень многое в те дни зависело от позиции Павла Грачева, министра обороны. Но она также постоянно менялась. Знаменитая фраза, что Грозный можно взять одним парашютно-десантным полком, которую потом ему припоминали сотни, может быть, тысячи раз, — наверняка относится к тем дням, когда Грачев встречался с Дудаевым в «секретной избушке». Это тот момент, когда первый российский министр обороны вдруг осознал, что война, видимо, неизбежна, что нашу армию и саму Чечню от нее может спасти только чудо. Грачев был одним из тех немногих генералов, кто реально знал, что такое война, чувствовал ее страшный запах, ведь он многое прошел в Афганистане.
Фразу можно объяснить только этим невероятным волнением…
И тем не менее какие-то детали в его поведении все равно необъяснимы. Например, на одном из первых заседаний Совета безопасности, посвященных непосредственно Чечне, Ельцин спросил Грачева, сколько времени ему требуется на подготовку операции. Грачев ответил: три дня. Пораженный Черномырдин сказал Грачеву: «Павел Сергеевич, ты хоть десять дней возьми». Грачев заколебался: ну, неделя…
А на заседании кабинета министров 18 декабря с участием членов Совбеза Олег Лобов задал вопрос: «Сколько же продлится, по оценке министра обороны, военная стадия операции?» Грачев, помрачнев, ответил: полгода. Настроение министра обороны постоянно менялось. Он чувствовал себя заложником ситуации.
Вот что пишет о Грачеве другой генерал, Геннадий Трошев: «…Главный мотив его тогдашнего бездействия мне видится… в тотальном разочаровании Павла Сергеевича в успехе чеченской войны и во многих серьезных и фундаментальных вещах.
Еще тогда, наблюдая его на совещаниях в Моздоке и Грозном, я обратил внимание на несоответствие потенциала Грачева тому, что он делал и говорил. Например, Павел Сергеевич никогда детально не вникал в наши тактические планы. Выслушает, кивнет головой, задаст пару несущественных вопросов и закончит какой-нибудь “декларацией” типа “уничтожайте бандитов!”, “берегите людей!”, “побольше награждайте солдат!” и т. п.
…Грачев — опытный вояка, все командные должности прошел, “духов” в Афгане громил, в отличие от большинства из нас, еще не наживших боевого опыта, и от него мы ждали каких-то нестандартных решений, оригинальных подходов, в конце концов, полезной, “обучающей” критики.
Но, увы, свой афганский опыт он будто в запасник музея спрятал, не наблюдали мы у Грачева какого-то внутреннего горения, боевого азарта… какая-то индифферентность, даже отстраненность».
То, что Грачев еще в момент начала операции в Чечне внутренне «сгорел», можно объяснять, конечно, и политическими причинами, и духовными, и идеологическими, как это делает генерал Трошев. А можно — вещами куда более прозаическими и конкретными. Грачев оказался подавлен свалившейся на него ответственностью. И быстро понял, что операция плохо спланирована и обречена на неудачный, кровавый сценарий.
Уже 12 декабря,
убито — 7, в том числе 2 офицера;
ранено — 13, в том числе 6 офицеров;
попали в плен — 17;
потеряно — 1 танк, 1 БТР, 22 автомобиля.
Войска еще только начинали движение к Грозному, а жесткое встречное сопротивление заставляло Российскую армию почувствовать, что ее ждет впереди. Никаких дорог, «посыпанных мукой», не наблюдалось и в помине. Население Дагестана и Ингушетии возмущено, ситуация по пути следования войск накалилась до предела. Войска не имели времени на так называемое «боевое слаживание», техника ломалась, группировка формировалась наспех.
И тем не менее до 1 января 1995 года надежда на другое развитие событий еще теплилась. Казалось, что вот-вот начнутся переговоры, что при виде такой мощной силы, которая двигалась по направлению к Чечне, дудаевцы одумаются, предложат какие-то отступные варианты. Надеялись и на то, что может появиться посредник, который поможет реальному началу переговоров.
10 декабря Ельцин ложится в ЦКБ на «плановую операцию» носовой перегородки; анализируя работу его сердца, врачи настаивают на том, чтобы операцию провести немедленно, дабы обеспечить сердцу больший приток кислорода. Им казалось это важным. И Ельцин согласился операцию не откладывать, хотя момент был выбран неудачный.
17 декабря, за три дня до выписки, прямо в больнице, Ельцин провел еще одно заседание Совета безопасности. Члены Совбеза сидели, накинув белые халаты.
В решении СБ подчеркивалось, что в ночь с 17 на 18 декабря истекает срок добровольной сдачи оружия и амнистии. Ельцин поручил Егорову и Степашину пригласить Дудаева в Моздок для «выработки порядка сдачи оружия и боевой техники». «Больше заседаний Совета безопасности по этому вопросу не будет, и никаких обращений делать не собираюсь», — сказал Б. Н. в заключение. Как понимать эту фразу? Он верил, что военная операция принесет мгновенный успех? Или надеялся, что военный человек, генерал Дудаев, который понимает весь ужас последствий применения современного оружия, все-таки дрогнет?
Однако Дудаев в Моздок не поехал. Он узнал, что туда собираются Егоров и Степашин. Это его совершенно не устроило.
Без всяких объяснений руководство Грозного отказалось послать своих представителей на переговоры. Д. Дудаев направил телеграмму Б. Ельцину, в которой выражал готовность принять делегацию России в Грозном.
«Выполняйте решение Совета безопасности по полной схеме», — сказал Ельцин Грачеву.
Обмен телеграммами продолжался, причем Дудаев одновременно пытался оттянуть время, договориться о встрече и выступал по радио с призывом «очистить землю от скверны», «полить кровью путь этих ублюдков», «перенести линию фронта в Москву, к Кремлю». Ельцин еще раз подтвердил телеграммой, что Дудаева ждут для переговоров в Моздоке, потом распорядился больше на его телеграммы не отвечать.
Встретиться с Дудаевым немедленно выражал готовность председатель правительства Виктор Черномырдин. Но надежда на переговоры оттягивалась и оттягивалась. 29 декабря, когда стало ясно, что штурм Грозного неизбежен, Дудаев наконец откликнулся панической телеграммой: «Еще раз заявляю и подтверждаю готовность лично возглавить переговоры с российской стороной на уровне Черномырдина тчк для ведения переговоров на любом другом уровне подготовлены правительственные делегации тчк…»
Дудаев хотел, мечтал, жаждал встретиться с Ельциным. Он хотел этого давно, начиная с 1991 года. В Кремле, в Грозном, за границей, где угодно. Он очень надеялся, что в связи с угрозой войны эта идея наконец осуществится.
Кстати, некоторые советники президента, например Эмиль Паин, рекомендовали в своих записках Ельцину «не понижать уровень переговоров» и встретиться с Дудаевым лично.
Почему же этого не произошло? Ельцин исходил из того, что прецедент подобных переговоров может перевернуть всю политическую ситуацию в стране в целом.
Ведь Дудаева волновали отнюдь не мирные переговоры, а попытка зафиксировать, наконец, независимый статус республики. Попытка подтвердить свою легитимность как главы непризнанного государства, попытка продемонстрировать всему миру, кто хозяин в этой ситуации. В Моздок, договариваться о сдаче оружия, он так и не приехал.
Попробую отойти на шаг от чеченской драмы, от хроники тех дней.
Весь 1994 год Ельцин находится в состоянии сжатой пружины, и пружина эта внутри него сжимается все больше и больше. Амнистия организаторам событий 3–4 октября 1993 года, неудача с меморандумом об общественном согласии, письмо помощников, наконец, «черный вторник». Сбрасывать со счета этот личностный фактор, конечно, нельзя. И тем не менее повторю еще раз — Ельцин действовал практически в безвыходной ситуации. Отступать было уже некуда.
В конце декабря войска наконец подошли к Грозному. Было решено начать блокаду города. А что такое блокада? Это долгая, тяжелая история. Нужно строить блиндажи, окапываться. Подвозить продовольствие, складировать боеприпасы. И каждый день нести запланированные потери. Солдаты мерзли, жгли костры. Между тем Ельцин оказался под огнем жесточайшей общественной критики. Возмущению журналистов, политологов, депутатов не было предела. Военная операция превращалась в снежный ком, который грозил заслонить весь политический горизонт. Многим в те дни хотелось скорее закончить эту войну.
1 января министр обороны Павел Сергеевич Грачев отмечал свой день рождения.
Начинался новый, 1995 год…
Снова обращаюсь к воспоминаниям генерала Трошева:
«31 декабря 1994 года началась операция (штурм Грозного. — Б. М.)… По мнению некоторых генералов, инициатива “праздничного” новогоднего штурма принадлежала людям из ближайшего окружения министра обороны, якобы возжелавшим приурочить взятие города ко дню рождения Павла Сергеевича… Не знаю, насколько велика здесь доля истины, но то, что операция действительно готовилась наспех, без реальной оценки сил и средств противника — это факт. Даже названия операции не успели придумать.
Исходя из оперативных данных о группировке, оборонявшей город, для штурма необходимо было иметь как минимум 50–60 тысяч человек. У таких расчетов своя логика, проверенная историческим опытом. Вот только один пример из Великой Отечественной войны. С 17 ноября по 16 декабря 1941 года наши войска освобождали город Калинин от фашистов, имея четырехкратное превосходство в живой силе. Это нормальное соотношение атакующих к обороняющимся. У нас же по состоянию на 3 января непосредственно в Грозном было не более пяти тысяч человек, а боевиков, напомню, насчитывалось в два раза больше!..
Радиосвязь в подразделениях, штурмующих Грозный, была почти парализована из-за царившей в эфире неразберихи. Между подразделениями практически не было взаимодействия, сказывалась неопытность большинства механиков-водителей танков и БМП. После проведенной огневой подготовки на ряде направлений выдвижения войск образовались труднопроходимые завалы. Смешанные колонны (автомобили и бронетанковая техника) растягивались вдоль узких улиц, не имея пространства для маневра. В результате из зданий пехоту и технику расстреливали в упор.
Командиры, начиная от комбата и ниже, фактически не имели карты Грозного, отсюда и частые “сбои” с маршрута, утрата ориентировки. А если у кого и были карты, то в лучшем случае образца 1980 года, сильно устаревшие…
По сути, боевики только и ждали появления бронетехники в городе, действуя по ставшей классической схеме, которую применяли душманы в Афганистане: огонь наносился по головной и замыкающей машинам в колонне, после этого следовал шквальный огонь по остальной, “запертой” бронетехнике. По основным городским магистралям танки и БМП прорвались в центр города, но, оставшись без поддержки мотострелков, в большинстве своем были подбиты из противотанковых гранатометов.
Фактически эффект внезапности был нами утерян, сложилась катастрофическая обстановка. В город смогли прорваться лишь группировки “Север” и “Северо-Восток”, но они вели бои в окружении превосходящих сил противника».
Сводный отряд из трехсот бойцов, пишет Трошев, заблудился в городе, вышел к железнодорожному вокзалу, занял его и более суток отражал атаки дудаевцев, которые скрытно окружили вокзал. Командовавший отрядом полковник Иван Савин пошел на прорыв, был убит. Но часть людей удалось спасти. Потери на этом участке составили более семидесяти человек.
Этот бой «потерянного» в городе отряда стал основным сюжетом телевизионных репортажей из Грозного в первые январские дни. Считалось, что погибли практически все, назывались страшные цифры — 300 человек убитых, 500… Возмущение было направлено против бездарной и скоропалительной подготовки операции.
И, как следствие, против самого характера этой никому не нужной войны…
Затянувшийся штурм Грозного стал настоящим шоком для президента Ельцина.
За три первых месяца группировка российских войск потеряла убитыми около 1400 человек.
Огромные человеческие жертвы влекли за собой и тяжелые политические потери.
Информационная подготовка операции так же не была продумана, как и военная. Репортажи велись прямо с улиц Грозного как зарубежными, так и российскими корреспондентами. Никакой внятной линии, продуманного плана у официальных кремлевских пропагандистов не было. Была та же самая надежда на быстрый успех, и больше ничего.
На человека, сидящего у телевизора, потоком шла горячая, только что пролитая кровь. Тела убитых. Наспех забинтованные раненые. Разрушения. Человеческие жертвы. Страдания людей, оказавшихся в Грозном, в том числе русских.
Звериная ненависть с обеих сторон.
Припавшая к телевизорам страна впала одновременно и в депрессию, и в истерику.
Требования немедленно вывести войска звучали со всех сторон. Это была, возможно, единственная в XX веке война, которая освещалась в условиях отсутствия какой-либо военной цензуры. Через месяц после ее начала опросы показывали крайне негативное отношение российского общества к военной операции.
Контуры политической катастрофы медленно начали выплывать из порохового дыма.
В начале января из Грозного вернулся полномочный представитель президента по правам человека Сергей Адамович Ковалев.
Заочная полемика между ними начата еще в конце декабря. Ельцин в ответ на многочисленные интервью Ковалева, в которых он призывал остановить войну и постоянно говорил о нарушениях прав человека в Чечне, публично напомнил правозащитнику, что права человека нарушались в Чечне целых три года, с тех пор, как там к власти пришел Дудаев, но Сергей Адамович об этом почему-то молчал…
Ковалев откликнулся новым обращением к Ельцину:
«Может быть, Президент России недоволен моей миссией, но я тоже не очень доволен Президентом. Пора прекращать кровопролитие среди мирных жителей. Президент — гарант прав человека, и это записано в Конституции… Я могу ответить только репликой такого же сорта. Почему-то Президент три года молчал, а потом послал бомбардировщики… Пусть он скажет, кто принял решение о бомбардировках города. Если он Президент, он должен это знать и должен принять меры к тому, чтобы мирное население не гибло. Он очень точно сказал, что право на жизнь — это основное право. (Ельцин говорил, что в Чечне три года нарушалось основное право человека, право на жизнь. — Б. М.) Пусть он ответит на те вопросы, которые мне задаются мирными жителями. Они адресованы и Президенту тоже, и даже больше Президенту, чем мне».
Ковалев подготовил объемный доклад и официально попросил аудиенции у Ельцина. Сразу после этого он назначил пресс-конференцию. Вот что сам Ельцин пишет об этом в своей книге:
«Я помню, скольких усилий стоила мне встреча с Сергеем Адамовичем Ковалевым, который в первые дни военной операции принял сторону сепаратистов и потом приехал в Москву, чтобы рассказать на пресс-конференции о разрушениях и жертвах в Грозном.
Какие внутренние противоречия меня раздирали! Вот сидит передо мной достойный человек, демократ, правозащитник, уполномоченный президента по правам человека. Как объяснить ему, какими словами, что на карту поставлена сама государственность, сама жизнь России? Ведь все равно он моих аргументов не услышит.
Я выслушал его молча, взял доклад и поблагодарил за работу. Если бы в те дни, — а дни были очень острые, когда каждый военный репортаж по телевизору воспринимался моими помощниками как предательство, — мы пошли на чрезвычайные меры, на ограничения свободы слова, раскол был бы неминуем…»
Ельцин выслушал доклад Ковалева в абсолютном молчании, мрачно, сухо поблагодарил, взял доклад и попрощался.
Ковалев занял жесткую, непримиримую позицию: он находился в расположении дудаевцев, оперировал их данными, очень часто непроверенными, порой они пользовались им просто как «живым щитом», перебрасывая его из одной части города в другую. Порой он говорил вещи, которые воспринимались воюющими российскими офицерами очень болезненно — о «героическом характере» чеченцев, о их воинском мужестве и т. д.
Многие российские генералы, да и люди в окружении Ельцина требовали немедленного возвращения Ковалева, даже насильственного, прекращения его деятельности в качестве уполномоченного, чуть ли не ареста. И уж точно не советовали Ельцину встречаться с ним в Кремле.
Сам характер поступков этого человека, который всегда находился в оппозиции к советской власти, его диссидентский опыт, внешний облик интеллигента старой школы, который знает только одну правду и не хочет принимать другую, — в этот момент, конечно, раздражал Ельцина. Но он уважал Ковалева за смелость. Это было очевидно всем.
Интуиция подсказывает Ельцину — полемику в обществе по поводу Чечни нельзя прекращать цензурными запретами.
Полемика, впрочем, идет не только в СМИ. Она с новой силой разгорается и внутри его собственной команды. В Кремле.
Помощник президента Г. Сатаров — Борису Ельцину:
«…Мы исходили из того, что будут использованы военные средства решения проблемы, учитывали общую политическую ситуацию, сложившуюся к этому моменту в стране… Мы не могли игнорировать того, что центр подготовки и принятия решений начал смещаться в Ваши структуры безопасности (для меня это было не предположением, а точным фактом, сообщенным мне г. Коржаковым).
Мы пришли к заключению, что возможны следующие последствия:
1. Резкий откат от Президента демократических сил… лояльной прессы и общественного мнения…
2. Раскол в генералитете и резкое возрастание недовольства министром обороны и Главнокомандующим. Деморализация частей, находящихся в Чечне…
3. Обострение ситуации в Федеральном собрании:
— возможно отстранение ныне действующих председателей
— возможен запуск процедуры импичмента
(По моим довольно надежным данным, это вполне реально. Коммунисты в обеих палатах ждут, когда количество крови и беспорядка перейдет в нужное им качество. Подготовка уже ведется.)
4. Раскол в исполнительной власти и череда отставок.
5. Раскол регионов, возрождение центробежных тенденций. (Сейчас это ощущается только на Северном Кавказе. Но не нужно обольщаться — неизбежное ослабление центральной власти тотчас же воскресит ситуацию середины прошлого года[28].)
6. Потеря каких-либо шансов на президентских выборах…» («Эпоха Ельцина»).
А вот какую докладную записку о заседании Экспертно-аналитического совета при президенте направил примерно в это же время Ельцину начальник службы президентской безопасности Александр Коржаков:
«…Советник президента Г. Сатаров отмежевался от позиции Президента о необходимости введения войск в Чечню, о котором узнал только 10 декабря. Он отметил также, что, по его мнению, в проведении этой акции имелась большая несогласованность действий на всех уровнях госструктур. Сатаров отметил также, что если это обычная практика работы госорганов, то в дальнейшем это рано или поздно приведет к краху существующего в России режима.
Все вышеизложенное (Коржаков цитирует в записке высказывания других членов президентского Экспертно-аналитического совета — Волкогонова, Паина, Карякина, Гозмана, Масарского, Ясина, все они также жестко критикуют Ельцина и его позицию по Чечне. — Б. М.) свидетельствует о том, что члены Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ отнюдь не разделяют его (президента) политические взгляды в отношении чеченской проблемы… Напротив, их точка зрения смыкается как с парламентской, так и непарламентской оппозицией.
Учитывая также, что членом Экспертно-аналитического совета является и С. Ковалев, становится ясно, члены указанного Совета подобраны таким образом, когда истина рождается не путем споров, а путем политического поддакивания и подпевания друг другу.
Небезынтересно также отметить, что кроме О. Лобова и С. Филатова все остальные выступавшие ничего практически не говорили о нарушении прав человека вооруженными отрядами Дудаева, о криминализации республики, торговле оружием, наркобизнесе, процветающих в Чечне, а также о том, что Чечня — неотъемлемая часть территории РФ…
…во-первых, необходима оперативная замена как отдельных членов Президентского Совета, так и Экспертно-аналитического совета, скомпрометировавших себя легковесными политическими высказываниями…»
На фоне войны в Чечне Коржаков продолжает бороться за влияние, за власть. Как же на это реагирует Ельцин?
«Ельцин скромно встретил Новый год. С 1 по 3 января он предпочитал оставаться один, не допускал к себе даже Коржакова и Барсукова, переживал по поводу трагедии в Грозном. Президент распорядился, чтобы в эти дни к нему поступали только доклады Батурина по ситуации в Чечне, больше ничего велел ему не присылать…» — пишут в своей книге помощники Ельцина.
Можно ли верить помощникам? Неужели Ельцин в эти дни отказался читать доклады военной разведки или контрразведки? Вряд ли. Но перемену в его настроении помощники зафиксировали четко.
4 января Ельцин провел в Кремле совещание по Чечне. Он задал своим советникам много вопросов.
Каковы были цель и замысел операции в Грозном? Вошли в город — что дальше? Задача армии? Задача внутренних войск?
Почему операции в городе проводились без поддержки внутренних войск МВД?
Почему в городе ведут бои необстрелянные молодые бойцы? Проводилась ли их подготовка для боя в городе?
Что послужило основанием для использования в городе танков и бронетехники?
Почему не перекрыты юг и другие пути подхода боевиков в Грозный?
Когда (по срокам) могут быть взяты ключевые объекты города? Возможно ли это вообще?
Какие реальные потери: наши, боевиков, гражданского населения?
…Почему горят нефтепромыслы?
Где все же Дудаев — в бункере или ушел? Если ушел, почему не арестован?
Как планировалась операция в Грозном?
Это была жесткая, тяжелая критика. Но неудача его не останавливает. Армия, в неразберихе и сумятице, ввалилась в операцию. Но она должна извлекать уроки даже из этого страшного опыта.
Начиная именно с этого момента он оказывается как бы зажатым в тисках двух кардинально противоположных вариантов действий. Первый: произвести ряд отставок среди руководства армии и гражданских ведомств, заморозить боевые действия, прекратить войну, дистанцироваться от своего же решения. Второй вариант: объявить в стране чрезвычайное положение, ограничить свободу слова, по сути дела передать часть своих полномочий генералитету, руководителям силовых ведомств. И первый, и второй путь вполне логичны. Оба варианта предполагают практически готовый набор действий: а, б, в…
Что же делает Ельцин в январе 1995 года? Ни первое и ни второе.
Ельцин тратит весь свой политический ресурс, тающий на глазах, на поддержку военных. Но не ограждает их от критики.
Не раз и не два, выступая по телевидению, он будет акцентировать этот момент, подчеркивая какими-то деталями, что это он взял на себя всю тяжесть решения, что это он отвечает за последствия войны в Чечне. Вот, например, текст его телеобращения, одного из самых первых в длинном ряду подобных заявлений:
«Сейчас нередко звучит вопрос: имело ли государство право на силовые действия в Чечне? Это, поверьте, один из самых сложных вопросов. Россияне долго и справедливо упрекали нас в нерешительности, в отсутствии политической воли… Крайне сложная ситуация требовала принять тяжелейшее решение…»
С другой стороны, он с самого начала понимает: война — это лишь этап, через который нужно пройти, чтобы дальше снова возникла мирная жизнь.
Грозный разрушен? Будем восстанавливать. Идет война? Все равно будем проводить референдум, выборы.
Ельцина критикуют за то, что Российская армия не обладает «высокоточным» технологичным оружием нового поколения, что ракетно-бомбовые удары наносят огромный ущерб, приводят к жертвам среди мирного населения. И вопреки всей логике военных действий он неоднократно объявляет о том, что ракетно-бомбовые удары, применение авиации с такого-то числа (с 1 января, например) «будут прекращены».
Но воевать с чеченской армией без самолетов просто невозможно.
Однако логика немедленного отвода войск (хотя бы до Терека), на которой настаивают демократы, правозащитники, международные организации, президента тоже не устраивает. Поскольку это логика поражения. Потеряв столько убитыми в маленькой Чечне, Российская армия просто не может отступить. Эта простая на первый взгляд теорема по сути дела не имеет решения. Поражение Российской армии в Чечне — в начале 1995 года — сулит России не меньшую, а большую политическую катастрофу, чем самые тяжелые человеческие жертвы, кровопролитные сражения, которые разворачиваются в перспективе этого года.
Генералы опасались воевать в начале войны. Но коль уж они начали, выгонять их оттуда — опаснее во сто крат.
Иными словами, могли Ельцин тогда, в начале 1995 года, признать неготовность армии к войне, вывести войска, блокировать мятежную республику, утвердив де-факто ее самопровозглашенный статус? И тем самым остановить многочисленные дальнейшие жертвы?
Думаю, нет. Ситуация весны 1995 года намного более опасна, чем лета 1994-го.
Генералы не раз и не два затем будут упрекать Ельцина в «предательстве», мол, он отнял у них победу в 1995-м, внезапно останавливая боевые действия, запрещая наносить ракетно-бомбовые удары с воздуха. Тактика «ни войны, ни мира», мол, лишь затягивала боевые действия, приводила к новым жертвам. Он пытается примирить в себе две эти логики — попытку уменьшить потери среди мирного населения, среди российских солдат и жесткую логику реальных боев.
Постепенно и у российских военных возникает понимание, с кем же они воюют в Чечне, с каким опасным врагом столкнулись. «Дикая армия» Дудаева, которая должна была разбежаться при виде грозной российской техники, самолетов и танков, на самом деле оказалась хорошо подготовленной, обученной, получающей серьезную помощь извне. Российские телезрители поначалу просто не могут понять, о каких «арабах» идет речь, когда тела последних находят среди убитых боевиков. Российская армия воюет с исламским фундаментализмом, который все сильнее закручивает этот столь выгодный ему механизм войны: финансовыми потоками, оружием, разведкой и «военными советниками», пропагандой. Это было первое пришествие той «войны цивилизаций», о которой столько напишут в последующие годы и которая жестоко даст о себе знать в Афганистане, Нью-Йорке, Лондоне, Мадриде.
Между тем военная ситуация в Чечне развивалась. К весне достигнуты первые успехи. Вот что напишет об этом генерал Трошев:
«…В течение февраля Грозный был окончательно блокирован со всех сторон… К апрелю боевики были вытеснены к предгорьям Главного Кавказского хребта. Их основные базы располагались в Шатойском, Веденском и Ножай-Юртовском районах… В апреле войска армейской группировки, которыми я стал командовать, были готовы к действиям в горах. Однако передышка тоже была необходима. За несколько месяцев почти непрерывных боевых действий накопились неотложные проблемы, в частности, необходимо было восстановить поврежденную технику, провести техобслуживание, пополнить материальные запасы. Устали и люди… К тому же по замыслу всей чеченской кампании на разных этапах боевых действий предусматривались и меры политического характера, переговоры и иные мероприятия. Другое дело, что с какой-то дурной закономерностью повторялась одна и та же картина: все объявленные моратории (а их было за время первой чеченской войны несколько) наша сторона всегда строго соблюдала, а противник постоянно их нарушал…
Так или иначе, но весной 95-го мы все же надеялись, что дудаевцев можно склонить к сдаче оружия и прекращению сопротивления. В переговорном процессе довелось участвовать и мне, я первым из командования группировки встретился с Масхадовым… (Однако переговоры эти, увы, ни к чему не привели. — Б. М.)
26 апреля 1995 года Президент Б. Ельцин подписал Указ “О дополнительных мерах по нормализации обстановки в Чеченской республике”. Мы понимали, что объявление моратория носило чисто политический характер — страна готовилась к празднованию 50-летия Великой Победы, в Москву прибывали многочисленные зарубежные делегации».
Да, на фоне чеченской кампании Россия готовилась к празднованию пятидесятилетия Победы.
В Москве строится Мемориал Победы на Поклонной горе, величественное сооружение, несколько удивившее москвичей футуристической формой, огромный парк с фонтанами, готовятся грандиозный Парад Победы с участием фронтовиков, ветеранов войны, концерты, торжественные собрания, словом — праздник.
Приедут ли руководители ведущих держав, чья общественность сильно насторожена и даже испугана ходом боевых действий? Сможет ли Москва обеспечить безопасность грандиозного праздника от террористической угрозы? Уместно ли вообще что-либо праздновать, когда льется кровь, каждый день гибнут люди? Все эти вопросы журналисты открыто задают со страниц газет, а телекомментаторы — в своих прямых эфирах.
Праздник тем не менее состоялся. Ельцин стоит на трибуне вместе с другими главами стран «Большой восьмерки» — Клинтоном, Миттераном, Колем (а кроме них в Москву прибыли первые лица и главы дипломатических ведомств десятков стран, со всей планеты). Это важно, потому что именно сейчас, сегодня уважение к его стране, к Победе, к русскому народу — ценнее, чем когда-либо.
Как странно, как парадоксально было это — встречать юбилей Великой Победы в такие тяжелые дни. Мы вспоминали Сталинград, Курск, а в Грозном и вокруг него шли бои, по своей картинке жутко напоминавшие военную хронику — солдаты в касках, пороховая гарь, оглушительная канонада.
В 45-м казалось, что человечество навсегда распрощалось с идеей решения своих проблем старинным средневековым способом — на полях сражений. Нет, увы, не распрощалось. И вот что удивительно: весь XX век доказывает — армия огромной страны, оснащенная самым современным оружием, обученная, подготовленная, намного превосходящая противника в боевой силе и технике, раз за разом терпит обидные поражения в партизанской войне. Но избежать этой судьбы не удавалось ни одной, самой демократической, самой развитой стране!
Малые народы, защищаясь, порой яростно, порой неумело, порой отчаянно, не воюют, а цепляются за жизнь, для них нет выбора. У них совсем другая история и другое историческое время. Установить «правильный мир» удается лишь компромиссом с местной элитой. Но для этого порой требуются десятилетия.
К маю — июню 1995 года Российская армия окончательно научилась воевать в Чечне. Все основные группировки, «армии» боевиков разгромлены, остатки оттеснены в горы.
Вот, например, судьба отряда Шамиля Басаева (продолжаю цитировать генерала Трошева):
«К началу боевых действий с “федералами” под командованием Басаева было 2 тысячи человек. Но после разгрома в Ведено (май — июнь 95-го) в “батальонном” строю осталась лишь десятая часть бойцов.
Никогда не забудется Шамилю день 3 июня, когда ракетно-бомбовым ударом был уничтожен дом Басаева, в котором погибли 11 членов его семьи, в том числе официально зарегистрированные жена и дети. Через 11 дней последовал акт мести…»
Да, в июне 1995 года на авансцене чеченских событий появился новый лидер. Басаев реализовал обещание чеченцев — «перенести войну на территорию России».
Именно в эти дни боевики начали первую террористическую операцию вне пределов Чечни. «14 июня в 11 часов 30 минут на КПП-1 ГАИ на 104-м километре дороги Георгиевск — Каспийск в направлении города Буденновска была обнаружена… автоколонна из трех КамАЗов и “жигулей” с милицейскими опознавательными знаками — кустарно выполненной синей полосой и мигалкой. Но люди в “жигулях” были одеты в милицейскую форму, выглядели как славяне и говорили без акцента… Все автомобили были без госномеров… Милиционеры скомандовали колонне остановиться. Из “автомобиля сопровождения” высунулся человек в милицейской форме и резко бросил: “Колонна досмотру не подлежит и везет ‘груз 200”’ (тела убитых российских солдат)» («Эпоха Ельцина»).
Милиционеры заставили колонну свернуть и направили ее к зданию Буденновского ОВД. Там и началась трагедия. Боевики, находившиеся в «машине сопровождения» и в КамАЗах, захватили сначала здание городской милиции, затем администрации, Дома пионеров, пожарной части и, наконец, добрались до буденновской районной больницы. К этому моменту они уже взяли в заложники 400–500 человек. В больнице — 450 человек медперсонала и примерно столько же больных, в том числе женщин из родильного отделения. Всего заложников было около 1400. Семерых военнослужащих, которые находились в больнице, боевики расстреляли сразу. Во время боя в городе погибли несколько милиционеров. Погибли и шесть боевиков.
«В ночь на 15 июня по телефону боевики высказали требование о прекращении боевых действий в Чечне. С этим заявлением выступил Ш. Басаев, представившись командиром диверсионного отряда. Начались переговоры…»
Мучительная буденновская эпопея…
«15 июня в 8 часов 20 минут, в связи с неявкой в договоренное время представителей прессы на территорию больницы, по приказу Басаева были расстреляны пять человек…
Премьер-министр В. Черномырдин прервал свой отпуск и вернулся в Москву».
Отныне, по договоренности с президентом, он станет главным переговорщиком со стороны Кремля. Именно с ним будет связываться по телефону Басаев. Отмечу в скобках, что переговорщиком премьер-министр оказался способным. Другое дело, что за действия силовиков он отвечать не мог. И это сильно снижало его ресурсы.
Ельцин вылетел на встречу «Большой восьмерки» в канадском городе Галифакс 15 июня, как и было ранее запланировано. Однако еще до его отлета принято решение: в случае затягивания переговоров и жертв среди заложников — занять «жесткую позицию».
«17 июня в 4 часа 50 минут утра была предпринята попытка взять штурмом здание городской больницы. Первый штурм продолжался четыре часа. Был захвачен первый этаж больницы, на втором возник пожар. Террористы засели на третьем этаже. Штурм не только не удался, но и повлек за собой огромные потери. 120 заложников погибли, 80 были ранены. Но не только от “своих” пуль. Террористы расстреливали всех, кто сопротивлялся и отказывался становиться в “живой щит”. Погибли также трое военнослужащих “Альфы” и семеро бойцов МВД…»
Всех интересовал вопрос: кто отдал приказ о штурме? Из Управления правительственной информации сообщили, что такого приказа не поступало, а действия спецназа были эмоциональной реакцией на крики заложников. Ельцин из Галифакса несколько прояснил ситуацию: «Это решение мы приняли с Ериным (министром МВД. — Б. М.) до отъезда. Но решили, давайте сутки, полтора суток подготовимся, чтобы что-то там не натворить во вред себе».
«Не натворить во вред себе» снова не получилось. Он снова берет всю ответственность на себя, прикрывает своих генералов. Но в Буденновске ресурс его доверия к силовикам будет окончательно исчерпан. В 14 часов — новый штурм, который продолжался всего 55 минут. Басаев просит прекратить огонь и отпускает 120 женщин. Кадры того, как насмерть измученные, перепуганные женщины в больничных халатах бегут из больницы, стали мировым информационным событием.
Когда дым рассеялся, стало ясно — с боевиками все-таки придется разговаривать.
Итог переговоров: требования Басаева были частично удовлетворены. Поступил приказ о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров в Чечне.
«А в Буденновске продолжались переговоры по порядку перехода боевиков в автобусы и освобождения заложников… Автобусы были приготовлены к 13 часам 19 июня (таким образом, трагедия в Буденновске продолжалась пять дней. — Б. М.). В заложники предложили себя и добровольцы, среди которых были представители администрации Ставропольского края, депутаты Госдумы, журналисты… В 16 часов 05 минут колонна вышла из Буденновска. В ней было 114 заложников (остальных, оставшихся в живых, отпустили), 8 водителей, 9 депутатов, 16 журналистов, 73 террориста и 17 трупов боевиков». Заложники на границе Чечни были отпущены…
Чечня встречала Басаева ликованием, как героя. Начались долгожданные мирные переговоры о «выводе войск». Ельцин, прилетев из Галифакса, 29 июня провел заседание Совета безопасности. На «ем были отправлены в отставку: глава администрации Ставропольского края Е. Кузнецов, министр МВД В. Ерин, директор ФСБ С. Степашин, вице-премьер Н. Егоров (тот самый, который говорил про муку и про дороги, рьяно поддерживал ввод войск и который позднее, после ухода С. Филатова, станет главой кремлевской администрации. — Б. М).
Отставку министра обороны Грачева и секретаря Совета безопасности Лобова президент не подписал.
Чеченский шок продолжался. Надежды на военных себя не оправдали.
Захват заложников был классическим, хрестоматийным приемом из арсенала боевых действий чеченцев во время первой большой кавказской войны — в XIX веке. Они тогда захватывали заложников десятки, сотни раз… «Вспомнить» о том, как это делается, для них было несложно. Но для России, пережившей две мировые войны, ушедшей в истории гораздо дальше, изменившей свою психологию, в том числе и военную, это стало тяжелым откровением. Терроризм, о котором столько говорили и писали, стал приобретать реальные, жуткие черты.
И все-таки, несмотря на то, что все наши СМИ были полны криками «позор! позор!», несмотря на атмосферу страха и растерянности (теперь чеченцев боялись так, как не боялись никого до этого, ждали их в любой точке страны, в любом маленьком городке, людям даже начали сниться сны, как их берут в заложники), несмотря на вынужденные переговоры с террористами, Буденновск стал очень важной поворотной точкой в истории первой чеченской войны.
Если до Буденновска у дудаевского правительства были хоть какие-то шансы на оправдание своих действий, а значит, и на международное признание, — то после Буденновска их не стало. Именно в Буденновске замаячил призрак будущего кошмара: торговля людьми, отрезанные головы, каменные ямы, в которых живых людей заставляли сидеть в нечистотах в течение нескольких месяцев или лет, захват заложников.
Именно после Буденновска пришло осознание, что это какая-то другая война. До Буденновска мы не видели, не знали войны, в которой участвуют беременные женщины и дети. «Победа» в Буденновске стала прологом к поражению сепаратистов в Чечне. Мир отвернулся от них.
Однако помимо чеченской войны перед страной вставали и другие проблемы, они никуда не исчезали и требовали решения. И прежде всего — проблемы политические. Надвигались новые парламентские выборы.
…В сентябре 1995 года администрация Ельцина срочно стала готовить идеологию выборов — Кремль решил, что его интересы будут представлять сразу две партии («это будет началом цивилизованной двухпартийной системы», — с умным видом говорили политологи): «правоцентристская» и «левоцентристская». Первую («Наш дом — Россия») должен возглавить Виктор Черномырдин. Вторую — социал-демократическую, Иван Рыбкин, спикер Госдумы, «аграрий с человеческим лицом». «Мы будем двигаться двумя колоннами!» — сказал Ельцин в телеинтервью.
Однако двигаться «двумя колоннами» не получилось. Партия «чиновников», как сразу окрестили НДР Черномырдина, несмотря на мощный административный ресурс, несмотря на то, что туда поспешили записаться многие главы администраций, крупные промышленники, мэры городов, — заняла лишь третье место на выборах. И получила меньше голосов, чем гайдаровский «Выбор России» в 1993-м.
29 декабря Центризбирком обнародовал окончательные итоги выборов. В Думу прошли лишь четыре избирательных объединения — те самые, которые с самого начала захватили лидерство: КПРФ, получившая 22,3 процента голосов (за нее проголосовали почти 15 с половиной миллионов человек), ЛДПР — 11,18 процента (7,7 миллиона), «Наш дом — Россия» — 10,13 процента (чуть более 7 миллионов), «Яблоко» — 6,89 процента (4,8 миллиона).
Ни рыбкинская партия, ни другие более или менее демократически настроенные или хотя бы «умеренные» партии — например, «Демократический выбор» или «Женщины России», а также партия Лебедя «Конгресс русских общин» (по идеологии скорее приближавшаяся к жириновцам) — в Думу вообще не прошли. Не набрали необходимые пять процентов.
Это был самый крупный политический триумф коммунистов за все годы их существования в новой России.
Для Ельцина парламентские выборы стали тестом на проверку Черномырдина как преемника. Легко можно представить себе ситуацию: партия «Наш дом — Россия» получает 30–35 процентов голосов, забирает большинство мандатов, и Ельцин с легким сердцем отказывается от идеи второго срока. Но, увы, — итоги выборов стали тяжелым ударом по Черномырдину. Вопрос «кто?» зазвучал еще острее и стал приобретать зловещие черты политической катастрофы. Рейтинг Ельцина упал с 20 процентов в начале года (в начале 1994-го он еще держался на уровне 30 процентов) до трех процентов в конце.
Во второй половине 1995 года Б. Н. пережил, один за другим, два инфаркта. В официальных сообщениях они именовались «ишемической болезнью сердца».
«Считается, — пишет журналист Олег Мороз, — что первый инфаркт случился у Ельцина в ночь с 10 на 11 июля». Дежурный реаниматор обнаружил Ельцина лежащим на полу в ванной, куда он направился ночью. Президент был срочно госпитализирован в ЦКБ. Это была реакция на ВСЕ события, которые случились с ним в последние годы. Ельцин не следовал рекомендациям врачей. Ельцин продолжал жить так, как жил раньше, всегда — от стресса к стрессу. От одной схватки с обстоятельствами до другой.
Организм 64-летнего человека не выдержал испытаний, которые стали для него системой.
Кремлевская пресс-служба именно так и попыталась объяснить ситуацию: президент за последнее время пребывал в очень сильном напряжении.
Он «недолежал» в больнице, не прошел полный курс реабилитации в барвихинском санатории, выписался раньше срока. Всё лечение заняло недели две. Затем — визиты во Францию, США. После этого Ельцин отправился в Сочи, в резиденцию «Бочаров Ручей», чтобы восстановиться. «Восстановиться» вновь не получилось.
26 октября последовал второй инфаркт. Ельцина на вертолете привезли из Завидова. Приступ начался, когда Б. Н. находился в бане, в парилке. Он по-прежнему верил, что его организму не может угрожать ничего серьезного.
На этот раз врачи решили довести лечение президента до конца: остаток октября и весь ноябрь он должен провести «под пристальным наблюдением медиков». По-видимому, в необходимости этого удалось убедить и самого Б. Н. Консилиум, состоявшийся 27 октября в ЦКБ, констатировал, что у него «сохраняется нестабильное кровоснабжение сердечной мышцы», хотя признаков сердечной недостаточности нет.
Руководитель консилиума академик Андрей Воробьев заявил на пресс-конференции 31 октября, что до конца следующего месяца президент будет находиться в ЦКБ.
Вот тогда-то ему впервые, может быть, в своей жизни пришлось провести в больнице целый месяц (ноябрь). Здесь было время подумать — кто пойдет на предстоящие президентские выборы 96-го года? Для всех стало вроде бы понятно — не он.
С таким здоровьем, с висящей на его плечах войной в Чечне? Нет, не он.
Явно не он.
В Кремле ждали решения самого Ельцина — в этой ситуации толкать его на второй срок команда президента не решалась. При этом кто-то считал, что ничего страшного не происходит, а кто-то начал просчитывать «вариант Черномырдина»: изучать здоровье премьера, биографию, политические взгляды. Пытаться конструировать возможный сценарий президентских выборов с его участием. Уже возник образ «умеренного либерала» и «умеренного консерватора». Изучали также и возможность передачи властных полномочий уже сейчас, не дожидаясь выборов. Многие аналитики, в первую очередь зарубежные, считали, что слабеющему кремлевскому лидеру нужно сделать это вовремя.
Ельцин молчал и тему никак не комментировал. Единственной его реакцией можно считать неразбериху, возникшую в связи с поручением Черномырдину «заниматься силовыми министерствами» и «координировать их работу» во время его второго обострения ишемической болезни. Как только президент почувствовал себя лучше, он отозвал это поручение.
Сюжет был скомкан.
Инфаркты Ельцина поставили прежде всего перед ним самим огромную проблему — что делать?
Идти или не идти на второй срок? Готов ли Черномырдин стать преемником?
Состоятся ли новые президентские выборы в 1996-м?
И что это будет означать?..
Здоровье его было подорвано.
Чеченская война продолжалась…
В 1995 году кремлевская администрация провела большое исследование по всей России об отношении населения к политике президента. «Исследование, — пишут помощники Ельцина, — выявило целый комплекс негативного восприятия… “старый”, “больной”, “обещает, но не выполняет обещаний”, “не контролирует выполнение законов и указов”, “имеет вредные привычки”. Фрагментами присутствовали и остаточные положительные оценки: “дал свободу”, “опытный”, “с ним не страшно” и т. п.»…
Как это — «с ним не страшно»? После октября 93-го, шока, вызванного реформами, после чеченской войны? Странная, парадоксальная оценка, не правда ли, если исходить из нашей сегодняшней логики? И вполне понятная тогда, в 96-м. Всю глубину этой «остаточной оценки», весь объем настроений и ожиданий, который за ней таится, кремлевские политтехнологи оценят позже.
Новый, 1996 год не сулил ему поначалу ничего хорошего.
В декабре — снова сердечный приступ. Ельцин теперь постоянно находится между ЦКБ, барвихинским санаторием и Кремлем. Выглядит уставшим, несмотря на то, что вроде бы много отдыхает. Но отдых под присмотром врачей его совсем не радует. 31 декабря в своем кабинете в Кремле он по традиции собрал ближайших сотрудников. Открыли бутылку шампанского. Разлили. Ельцин посмотрел на них с печальной иронией. «Вам шампанское, а мне — заменитель», — грустно сказал он.
В конце декабря 1995-го Центризбирком окончательно подвел итоги выборов в Госдуму. Выяснилось, что коммунисты, с учетом одномандатных округов и «сочувствующих» депутатов, одержали серьезную победу. У них, правда, не было так называемого «квалифицированного» большинства для автоматического преодоления вето или, скажем, для президентского импичмента, но и того, что они набрали, вполне хватало, чтобы большинство руководящих кабинетов в парламенте заняли депутаты с партийным билетом КПРФ. На четыре года, как пишут помощники Ельцина, Госдума стала «просторным, хорошо оборудованным, комфортабельным штабом коммунистической партии». После победы на парламентских выборах Геннадий Зюганов, лидер российских коммунистов, стал претендентом номер один на президентских выборах.
Новые страшные сюрпризы преподносила и чеченская война.
9 декабря отряд боевиков, командиром которого был зять Дудаева, бывший комсомольский работник Салман Радуев, совершил нападение на дагестанский город Кизляр. Сначала боевики попытались атаковать военный аэродром, уничтожить вертолеты, но потом изменили маршрут и захватили больницу, родильный дом, школу. Под дулами автоматов загнали в больницу несколько тысяч человек. Расстреляли несколько десятков. Кошмар Буденновска повторился.
На пути следования отряда Радуева, сказал возмущенный Ельцин, было «несколько тысяч российских военнослужащих», немалое количество блокпостов, милицейских кордонов. Однако российские «проверки на дорогах» не выдерживали никакого испытания (что в дальнейшем доказали события в Москве, в Театральном центре на Дубровке, и в Беслане). Война шла внутри России — вот в чем дело. А внутри России, даже на отдельной ее части, невозможно обеспечить жесткий пограничный контроль.
Мобильная группа Радуева спокойно обошла кордоны и заставы. Ей не помешали ни армейские бронемашины, ни милицейские патрули, ни фээсбэшные осведомители и информаторы. Позже выяснилось, что в российскую разведку шли сигналы о возможности такой операции. Указывали даже конкретные сроки.
Российскую ФСБ после Сергея Степашина возглавил Михаил Барсуков, бывший комендант Кремля, бывший руководитель Главного управления охраны (ГУО), человек, находившийся постоянно рядом с Коржаковым, скромный, немногословный, стремившийся избегать публичности.
Барсуков — выходец из органов, но «органов» весьма специфичных, занимавшихся только Кремлем и его обитателями. Профессионалом в области безопасности его можно назвать с большой натяжкой.
Профессионалы, которыми он руководил и которых собрал в своем ведомстве, в дагестанском кошмаре тоже проявили себя отнюдь не лучшим образом.
Поначалу ситуация развивалась так же, как в Буденновске. Премьер-министр Черномырдин и руководство республики Дагестан вступили в переговоры с террористами. Им были даны гарантии беспрепятственного ухода к границе с Чечней. Предоставлены автобусы. В автобусы вместе с заложниками (как и в Буденновске, их было примерно полторы сотни) сели представители власти — дагестанские депутаты, а также два журналиста. Колонна направилась по заранее намеченному маршруту.
…Как вдруг с воздуха их обстреляли российские вертолеты.
Автобусы срочно повернули и оказались в селе Первомайское. Недалеко от чеченской границы. Там террористов вместе с заложниками блокировали. К селу были подтянуты крупные силы: армия, милиция, ФСБ.
И вот тогда стало понятно, что Москва решила круто изменить сценарии. Террористов не отпускать. Любой ценой.
Это вызвало в Дагестане огромное возмущение. Несколько тысяч дагестанцев подошли к Первомайскому, чтобы попытаться разблокировать село, не допустить кровопролития. Но их не пустили войска. Несколько тысяч человек окружили село, где засела сотня боевиков. Живым щитом радуевцам служили жители Первомайского, ставшие заложниками. Боевики их снова согнали, как и в Кизляре, под дулами автоматов, в одно место. Угрожали расстрелять.
И тогда начался штурм. По селу вела огонь артиллерия, вертолеты обстреливали его ракетами. Затем в бой вступил спецназ. Село было разрушено. Десятки заложников и мирных жителей погибли вместе с боевиками. Но часть отряда Радуева, в том числе и он сам, сумела вырваться из окружения и уйти в Чечню.
В паузе между захватом больницы в Кизляре и штурмом Первомайского страна, вновь припавшая к телевизорам, жила в тяжелой информационной лихорадке. Боль Буденновска сменилась отчаянием. Казалось, что это замкнутый круг. Из этого исходили и спецслужбы, которые убедили Ельцина прибегнуть к силовому сценарию, ведь именно эта логика — один безнаказанный захват заложников ведет к другому — стала моральным обоснованием его жесткой позиции. «Мы спровоцировали новую трагедию нашим прошлым решением (в Буденновске)», — сказал он.
Но чем оправдать гибель ни в чем не повинных людей, неудачный исход операции, когда заложники гибнут, мирное село разрушено, а главарь банды — на свободе? Как понять одного из руководителей ФСБ, генерала Михайлова, который прямо говорил в телевизионном эфире: участь заложников все равно предрешена, то есть они все равно погибнут, от нас или от радуевцев… А ведь это был представитель официальной власти. Власть говорила его словами.
Но самым поразительным было то, что Б. Н. снова взял на себя всю тяжесть ответственности. Снова прикрыл силовиков своей широкой спиной.
Почему он это сделал? Еще и еще раз спросим себя — мог ли Ельцин в тот момент поступить по-другому? Наверное, все-таки нет — иначе паника, охватившая общество, достигла бы крайней точки.
Президент провел в те тревожные дни совещание руководителей силовых ведомств по обстановке в Первомайском. Михаил Барсуков доложил, что ситуация под полным контролем федеральных сил, все боевики на прицеле у снайперов.
После этого Ельцин в одном из телеинтервью принялся объяснять всему народу, какие могучие силы и спецсредства будут задействованы в операции. У нас 38 снайперов, говорил он, «каждый террорист на прицеле». И показал, состроив многозначительную гримасу, как снайпер держит на мушке проклятого террориста. Мол, ни один не уйдет от возмездия.
Однако 38 мифических снайперов не помогли. Не поверили люди и в объяснения генерала Михайлова о необходимости применения артиллерии и ракет — якобы в Первомайском был построен для Радуева хорошо укрепленный бункер. Никакого бункера там не оказалось. Село это возникло на пути следования радуевцев случайно. В таких селах в домах вообще отсутствуют подвалы. Выяснить это журналистам не составило большого труда.
Ресурс доверия к президенту, как к демократическому лидеру, казалось, был окончательно исчерпан.
Наступил очередной момент истины.
В книге «Президентский марафон» Ельцин пишет:
«…Я стоял перед жизнью, продуваемый всеми ветрами, сквозняками, стоял и почти падал от порывов ветра: крепкий организм подвел; “ближайшие друзья” — уже нашли тебе замену, как стая, которая исподволь, постепенно намечает нового вожака; наконец, отвернулись от тебя и те, на кого ты всегда опирался, кто был твоим последним рубежом, резервом — духовные лидеры нации. А народ… Народ не может простить ни “шоковой терапии”, ни позора в Буденновске и Грозном. Казалось бы, всё проиграно.
В такие мгновения приходит прозрение. И вот с ясной головой я сказал себе: если иду на выборы — выигрываю их, вне всяких сомнений. Это я знаю точно. Несмотря на все прогнозы, несмотря на рейтинги, несмотря на политическую изоляцию. Но вот вопрос: иду ли? Может, действительно пора мне сойти с политической сцены?
Но мысль о том, что тем самым буду способствовать приходу к власти коммунистов, показалась нестерпимой… Вероятно, выручила моя всегдашняя страсть, воля к сопротивлению.
В конце декабря я свой выбор сделал…»
Красиво сказано, но, как всегда у Ельцина, здесь в одном клубке переплетено столько противоречий, настолько этот монолог отражает подспудную борьбу самых разных чувств, страстей, противоречивых логик, разных стратегий, — что во всем этом стоит разобраться отдельно.
Во-первых, надо ответить себе на вопрос: когда именно Ельцин принял окончательное и бесповоротное решение баллотироваться на второй срок?
Осенью 1994 года президент в одном из выступлений обронил фразу, что собирается участвовать в выборах 96-го года «только как избиратель». Эту фразу процитировал пресс-секретарь, и за нее немедленно ухватились газеты — еще бы, сенсация! Крайне недовольный, Ельцин позвонил Костикову и спросил: «Позвольте, когда это я такое говорил?» Пресс-секретарь напомнил, когда именно и при каких обстоятельствах. «Ну, вообще я совсем не это имел в виду», — сказал Ельцин. «Впрочем, что с вами спорить, вы всегда все лучше знаете, — добавил он. — Надо дезавуировать эту позицию… Придумайте что-нибудь, хорошо?.. Ну, например, что участие в выборах президента возможно, если этого потребуют сами избиратели».
О том, что Ельцин совершенно не собирается сдаваться, уходить из политики, что это не в его характере — кремлевские помощники знали прекрасно. Но предлагали пока хранить молчание, наложить информационное вето. И вот почему.
В 1994 году никакого закона о выборах не было. Выборы 1993 года, как и принятие конституции на референдуме, состоялись в обстановке острейшего политического кризиса, сразу после октябрьского вооруженного столкновения. На подготовку к ним оставалось чуть менее двух месяцев. Их решили не откладывать, чтобы, во-первых, доказать демократическую направленность действий Ельцина и, во-вторых, дать возможность всем политическим силам обрести трибуну, а не уходить в подполье. Первая Дума была выбрана на два года.
И вот теперь предстояло решить — как дальше проводить выборы? Принять закон. Определить сроки.
Целый год (1994-й) парламент и президент согласовывали закон, который, по сути дела, регулировал жизнь всех российских политических институтов. Первое чтение… поправки… второй альтернативный вариант… опять поправки, преодоление вето в Совете Федерации. В тот момент, хотя уже шла чеченская война и несколько депутатских фракций запустили процедуру импичмента (то есть обратились в Конституционный суд с запросом о соответствии конституции действиям президента в Чечне), начались открытые дебаты: а
Отложенные выборы сулили немало выгод. Депутатскому корпусу можно было оставаться в своих креслах на Охотном Ряду еще два года, укрепить позиции, обрасти политическим капиталом, связями и т. д. Исполнительная власть получала иллюзию политической стабильности, укрепляла свой ресурс в обществе.
Было и еще одно соображение, его в те дни высказывали многие обозреватели: Россия устала от выборов. Это дорогостоящее дело. И очень опасное, в смысле сохранения политического равновесия. А страна, мол, у нас, сами знаете, какая. Опять всё зашатается и, того гляди, рухнет.
О том, что выборы надо перенести, тем более в условиях чеченской войны, говорили и люди, близкие к Ельцину, толковые аналитики. Например, Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь, руководитель фонда «Стратегия»:
«Президент идет на вариант “плюс 2” (то есть переносит выборы на 1998 год. — Б. М.) без выборов, но не баллотируется в президенты в 1998 году. Это соображение сегодня самое конструктивное для всех нас… Прекращается разгон тех, кто появляется на горизонте с претензией на президентское кресло. Президент будет сам заинтересован в появлении нормальной плеяды лидеров. А пока высунулся чуть-чуть Черномырдин, удалось ему свой рейтинг поднять, так обязательно нужно искать вариант, чтобы “прихлопнуть” Виктора Степановича, чтобы сидел на своих газовых кнопках и не изображал из себя политика государственного масштаба… Появляется еще четыре года, и Ельцину уже ни к чему ставить конкурентам подножку… И самое важное — на выборы не прибегут случайно, по конъюнктуре сбитые блоки со зловещим финансовым запалом: “Купим вас всех разом”…»
К вопросу о том, насколько прав был Геннадий Бурбулис, говоря о желании Ельцина «прихлопнуть конкурентов», мы еще вернемся. Бурлящий событиями 96-й такую возможность предоставит. Но есть в его анализе аргумент, казалось бы, железный: выборы главы государства — по сути дела, первые демократические выборы по демократической конституции — надо проводить в обстановке стабильности и при наличии «плеяды лидеров», чтобы народ мог подумать и действительно
Как сохранить эту конкуренцию в условиях тяжелого гражданского конфликта? Как сохранить демократические институты в процессе долгой, мучительной реформы, когда от государства требуется максимум воли и настойчивости?
Тяжелейший, мучительный вопрос.
Время ответило на него со всей определенностью. Любой перенос выборов, по любой схеме — мог навсегда поломать только-только начинавшую формироваться российскую демократическую культуру. В острой экономической ситуации, в обстановке продолжавшейся «скрытой войны» против частной собственности (плюс кровавый чеченский узел) любой перенос выборов мог стать постоянным и удобным инструментом сохранения власти, то есть угрожал самой легитимности государства.
Несмотря на все политические выгоды и дивиденды, несмотря на «железную» логику подобных раскладов, Ельцин сумел почувствовать эту угрозу и отодвинуть ее. Переносить парламентские (а значит, и президентские) выборы отказался. После кризиса 93-го года отступать от рожденной в муках и борьбе конституции для него было невозможно. Ельцин напряженно ждал исхода парламентских выборов 95-го года — сможет ли Черномырдин со своей партией выиграть их убедительно, набрать большинство в парламенте? Сможет ли стать его преемником в президентской гонке? Однако результаты выборов были неутешительны.
Второй вопрос, который Ельцин ставит сам себе: о «продуваемом всеми ветрами, сквозняками» организме, о личностном кризисе, о своей физической форме, о запасе прочности. Запас прочности измерялся в его случае отнюдь не кардиограммой и не цифрами артериального давления, а чем-то совсем другим.
…Наина Иосифовна поначалу умоляла его не выдвигаться на второй срок. Она считала, что это просто равносильно самоубийству. Однако после парламентских выборов, в декабре, в семье Ельцина эти разговоры о здоровье прекратились… «Он ведь никогда не советовался с нами, когда принимал то или иное решение, — рассказывает Наина Иосифовна. — Исключением стал 1987 год и 1996-й. Мы часто собирались вот здесь, в гостиной, он садился в кресло, мы вокруг него, и он размышлял вслух: кто может пойти на выборы? Кто сможет выиграть у Зюганова? Получалось, что никого нет — должен идти он. Постепенно мы тоже начали понимать это…»
Ельцин неслучайно собирал всю свою семью (и не раз), снова и снова заводил разговор о предстоящих выборах. Это было труднейшее, мучительное решение. И здесь от позиции его близких зависело очень многое. Пожалуй, впервые после 1987 года он принимал
О том, что Ельцин тяжело болен и ему не под силу пройти через вторые выборы, писали тогда многие газеты. Это была как бы информационная аксиома 96-го года.
Борис Николаевич обстоятельно попытался оценить свое физическое состояние. Сам, без помощи врачей. Главной составляющей его здоровья по-прежнему была воля. Этот волевой импульс был по-прежнему настолько могучим, насколько было нужно. И еще: непрерывная работа, жесткий контроль над собой, никаких вредных привычек.
И, наконец, третий важнейший лейтмотив разбираемого нами отрывка из его мемуаров: одиночество. Ельцин, конечно, не считал себя одиноким по-человечески. Рядом с ним замечательная семья, его окружали верные, преданные люди. Откуда же тогда эти отчаянные нотки в его признании («ближайшие друзья» — уже нашли тебе замену, как стая, которая исподволь, постепенно намечает нового вожака; наконец, отвернулись от тебя и те, на кого ты всегда опирался, кто был твоим последним рубежом, резервом — духовные лидеры нации»)? Кого он имеет в виду?
В начале января Ельцин отправляет в отставку Анатолия Чубайса. Причем с довольно странной формулировкой: «Из-за низкой требовательности»… Это у Чубайса-то низкая требовательность?! Пожалуй, наоборот. Чубайс отвечал в правительстве за финансовый блок, нажил себе немало врагов, вышибая налоги из сырьевых монополистов, чтобы наполнить бюджет. Жестко контролировал финансовые органы, требуя вовремя выплачивать проценты по международным долгам — чтобы поднять уровень доверия к России у кредиторов. Чубайс, несмотря на сопротивление Верховного Совета, сумел закончить первый этап приватизации. Золотовалютные запасы, наконец, впервые в новой российской истории начали расти, хотя и составляли всего 12 миллиардов долларов.
Однако приватизация по-прежнему вызывала огонь критики со всех сторон. «Всеобщая ненависть», о которой сам Анатолий Борисович пишет в своей книге довольно спокойно, почти без эмоций, достигла предельного накала. Ельцин уверен в том, что к провалу партии Черномырдина на парламентских выборах в какой-то мере причастен и «главный приватизатор» — уж слишком непопулярной была эта фигура. Ельцин в сердцах бросил: Чубайс отнял у НДР, возможно, не менее десяти процентов голосов избирателей.
…Уход Чубайса окончательно переполнил чашу терпения тех, кого Б. Н. в своей книге называет «духовными лидерами нации», российских демократов. Называет — с большой долей натяжки, конечно. Идеи демократии, рыночной экономики и тогда не были популярны в российском обществе, вызывали подозрение и даже ненависть, как, впрочем, и сейчас. Но, в общем, люди эти в те годы были действительно весьма заметны и на духовное лидерство претендовали по праву.
Егор Гайдар от имени политсовета своей партии обратился к Ельцину с призывом не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. «Если нынешний президент решит баллотироваться на второй срок, это будет лучшим подарком, который можно сделать коммунистам», — сказал он. Причины: штурм Первомайского и кадровые перестановки, в частности, отстранение от своих должностей Анатолия Чубайса и Сергея Филатова. «Неизвестно, чего было больше — беспомощности, жестокости или лжи» — это по поводу событий в Первомайском. «Отставка Чубайса лишила правительство возможности вести какую бы то ни было осмысленную политику» — это уже по второму пункту обвинений.
В этот же день Гайдар направил Ельцину заявление о своем выходе из Президентского совета, мотивируя его несогласием с рядом последних шагов президентской власти.
«Не представляю ситуации, при которой я бы мог вернуться на позицию поддержки президента». И еще одна его характерная для того времени фраза: «Президент образца 1991 года и президент начала 1996 года — два очень разных человека, с разным кругом общения и с разной реакцией».
Помимо Гайдара из Президентского совета вышли Сергей Ковалев, экономический публицист Отто Лацис, известный юрист Сергей Алексеев.
Начался лихорадочный поиск «единого кандидата от демократических сил». Но, увы, такого кандидата просто не было. Гайдар срочно летит в Нижний Новгород — уговорить губернатора области Бориса Немцова баллотироваться в президенты. Час напряженной беседы за закрытыми дверями — и никакого результата. Гайдар выходит из кабинета Немцова и дает разочарованное интервью. «Я считаю, — говорит он, — у Немцова были бы большие шансы на победу, их можно “просчитать социологически”». И приводит такой аргумент: Немцов — единственный молодой российский руководитель, который придерживается демократических взглядов и при этом «ни в чем не виноват».
Гайдар пытается договориться с Явлинским (в очередной раз), что ДВР и «Яблоко», а также другие демократические партии будут выступать на выборах единым фронтом — поддерживать кандидатуру Явлинского. Но Явлинский, как и прежде, неприступен. Ему с другими демократами не по пути. «Товарищи по партии» предлагают Гайдару, раз уж так получилось, самому идти на выборы в качестве «единого кандидата». Егор Тимурович благоразумно отказывается.
Единственный человек в политсовете ДВР, кто выступает с особой позицией и продолжает упрямо утверждать, под возмущенные крики Сергея Адамовича Ковалева и других демократов, что кандидатуру Ельцина нельзя списывать со счетов, — это Анатолий Чубайс. Тот самый, которого Ельцин только что уволил из правительства.
…Демократические лидеры, должен заметить на полях, не просто однократно высказались против выдвижения кандидатуры Ельцина. Они говорили об этом, используя любой информационный повод. Искренне считали, что это выдвижение станет «наихудшим подарком демократии» и наилучшим — коммунистам, реваншистам да и просто фашистам. Только не Ельцин. Кто угодно, только не Ельцин!
Питерские демократы проводят, по своей собственной инициативе, собрание «группы избирателей» в поддержку выдвижения кандидатуры Виктора Черномырдина на пост президента. «Мы, — говорит Галина Старовойтова, — хотим ему помочь и вбить клин между ним и Ельциным, мы играем на победу умеренных реформированных коммунистов — Черномырдина, Лужкова, Сосковца, Бакатина, Вольского, Гончара…»
Да, кто угодно, только не Ельцин.
Такие же «группы поддержки», собирающие подписи для выдвижения кандидатуры Черномырдина, появляются и в других городах. Причем сам Черномырдин отчаянно отрицает свое участие в предвыборной борьбе. И даже уходит в отпуск на две недели, чтобы никто не заподозрил его в обратном.
Вот что пишет об этом в своей книге журналист Олег Мороз:
«Если же не Черномырдин, то — кто? По мнению известного дэвээровца депутата Госдумы Сергея Юшенкова, которое он высказал в разговоре со мной, один из потенциальных кандидатов в президенты, которого могли бы поддержать демократы, — Горбачев.
— У Горби одна проблема — выход во второй тур, — уверял меня Юшенков. — Но эта проблема решаема. Он может привлечь часть левого электората. Умеренно левого. Привлечь центристов. В конце концов, интеллигенция не относится к нему резко отрицательно: на нем нет такой крови, как на Ельцине. Он в достаточно хорошей форме. У него сохранилась команда профессионалов. Если сравнивать, скажем, горбачевского соратника Бакатина и ельцинского Барсукова, ясно, на чьей стороне преимущество… Примаков — из той же горбачевской команды… То есть определенные плюсы у Михаила Сергеевича имеются. Хотя, конечно, и минусов много. Мы все о них знаем.
Правда, на политсовете ДВР Юшенкова, по его словам, “активно высмеяли”, когда он затеял разговор о Горбачеве. Однако он рассчитывал вернуться к этому разговору где-нибудь в марте или апреле, когда ситуация станет более ясной.
Более реальным кандидатом, которого мог бы поддержать ДВР, был, конечно, Явлинский. Но и тут возникала проблема. У Явлинского, полагал Юшенков, больше шансов, чем у Горбачева, хорошо выступить в первом туре, но, по-видимому, практически нет перспективы победить во втором.
Юшенков, однако, считал, что Горбачев и Явлинский могли бы сыграть в пас: первый идет в президенты, второй — в премьеры».
Итак, российские демократы в трудном положении. Они мечутся, не могут определиться. Горбачев, Черномырдин, Явлинский, Немцов, Гайдар… В крайнем случае, бойкот выборов. Лихорадочные, почти панические заявления, действия, переговоры. Словом, «духовные лидеры нации», как это ни прискорбно, оказались в полной прострации…
Ну а, собственно говоря, почему они настолько не готовы к этой ситуации? Почему заранее не провели хоть какие-то, пусть предварительные, переговоры с Немцовым, с Явлинским, с Черномырдиным, наконец? Почему не попытались «изобрести» какую-то новую фигуру до начала кампании, как-то поднять ее на щит, вывести на арену общественного внимания? Ведь у них было для этого время. Очевидно, что и Ельцин давал дорогу…
Однако, кроме Ельцина, реального кандидата для предвыборной схватки с коммунистами на тот момент не существовало. Поэтому оцепенение, которое охватило демократический лагерь, вполне понятно.
Достаточно заглянуть в газеты того периода. Режим Ельцина авторитарен. Ельцин готовит антиконституционный переворот. Ельцин исчерпал ресурс своей легитимности. Единственный выход для Ельцина — отмена выборов. Это дежурный набор фраз и для газеты Проханова, и для газеты Егора Яковлева, и для «Новой газеты», и для газеты «Правда». И даже, что самое интересное, для вполне правительственной газеты «Известия» этот набор постулатов тоже не был чужд. И не потому, что Ельцин давал к этому какие-нибудь особые поводы. Просто решение идти на выборы, по мнению большинства аналитиков, а также простых читателей, было для него тогда равносильно политическому самоубийству.
В конце декабря, после серии долгих и тяжелых разговоров, Ельцин окончательно объявил своей семье о намерении баллотироваться на второй срок. Однако тогда об этом знал только узкий круг людей.
Б. Н. до последнего держал свое решение в тайне.
Объявление о создании предвыборного штаба, руководителем которого поначалу был назначен первый вице-премьер Олег Сосковец, застало врасплох всех — и демократов, и коммунистов. Это случилось 15 января. Сам Ельцин объявил, что окончательное решение он примет через месяц, 15 февраля.
И поскольку официально Ельцин о нем еще не заявил, штаб оказался в довольно глупом положении. «Это штаб в поддержку Ельцина?» — спрашивали в лоб журналисты. «Нет, это штаб в поддержку избирательного процесса вообще», — с широкой улыбкой заявлял Сосковец. Олега Сосковца попытались вызвать на заседание Госдумы, чтобы он все-таки объяснил, почему первый вице-премьер правительства собирается «поддерживать в стране избирательный процесс вообще», а не занимается своими прямыми обязанностями? Но Сосковец в Думу не явился. Слал уклончивые депеши. Да и что, собственно, он мог сказать? Ельцин упорно молчал.
Между тем работа штаба уже началась, то есть началась работа аналитиков и экспертов.
…Чтобы победить на выборах, надо знать, откуда возьмутся голоса избирателей. В январе 96-го у Ельцина — три процента (вопрос, поставленный социологами, звучит так: «За кого бы вы голосовали, если бы выборы состоялись сегодня?»), у лидера российских коммунистов Зюганова — 26–28 процентов. Отрыв неимоверный.
И чтобы бороться, Ельцину надо понять — кто эти люди, которых он собирается разбудить, переубедить, привлечь на свою сторону? Анализ подсказывает единственное решение: это электорат, который будет голосовать не столько за него, сколько против коммунистов. Это люди, которые не хотят возвращения в советское прошлое.
Социологи, эксперты, помощники говорят: да, опросы показывают огромный рейтинг Зюганова. Но эти же опросы свидетельствуют о другом: значительная часть опрошенных (от трети до половины) еще не определилась, за кого голосовать и следует ли идти на выборы вообще. Вся надежда была на то, что в головах у них «прояснится».
Что они «не захотят расставаться с завоеваниями демократии».
Нам, живущим уже в XXI веке, не так уж легко понять психологию этих людей 1990-х. Ведь многие из них свою мотивацию за эти десять лет изменили. Тогда же, в 96-м, их помыслы были совершенно другими…
Условно говоря, потенциальный ельцинский избиратель мог временно сидеть без работы, проедать последнее, но одно то, что он имел право читать «все книжки, какие хочешь» и слушать «всю музыку, какую хочешь», оказывало на его психику оглушительное воздействие. И расстаться с этим новым качеством жизни он не хотел ни за что.
Тогда, в 96-м, самым активным и социально востребованным было именно то поколение, которое больше всего не воспринимало советский образ жизни за обилие унизительных, оскорбительных запретов. Сама возможность определять самостоятельно, без идеологического контроля свои приоритеты, свою судьбу, свой образ жизни казалась людям главным, базовым достижением.
Да, этот 20—40-летний ельцинский избиратель мог не стать бизнесменом, брезгливо чурался барахолки, «купли-продажи», но саму возможность участия в частном бизнесе, в близком будущем, «когда всё станет на свои места», не хотел отдавать ни за что. Зачастую не имея денег для поездки за границу, он был уверен, что когда-нибудь накопит и поедет, поедет обязательно — в Турцию, в Италию, в Индию, куда угодно.
В прекрасное далёко.
Словом, это поколение, 1950—1960-х годов рождения, было, с одной стороны, довольно молодым, но при этом — отлично помнило советскую власть. До деталей. До мельчайших подробностей.
Но и людей, которые уже заработали, уже купили машины, новые квартиры, компьютеры, дорогую бытовую технику (казавшуюся в то время чудом), съездили за границу, чуть разбогатели, встали на ноги, — тоже было немало, поскольку экономическая ситуация к началу 96-го начала понемногу выправляться. Конечно, всех этих «выигравших» было гораздо меньше, чем тех, кто в 90-е годы «проиграл»: потерял привычную работу, привычную социальную опору, привычные ценности. Людей, утративших смысл жизни и лихорадочно искавших новый, было гораздо больше. Но и они, как ни странно, не стремились к возвращению в старую систему, вернее, не верили в ее возвращение. И если кто-то из них собирался голосовать, то уж, конечно, не за Зюганова или Ельцина, а за кого-то третьего.
Опорой Зюганова были люди старшего поколения, причем чаще из неблагополучных социальных слоев и регионов. Пенсионеры, сельские жители (а в деревнях оставались, как правило, люди тоже немолодые), люди физического труда, которые оказались в 90-е без нормальной, социально защищенной работы. В этом смысле партия Зюганова выступала, кстати, с очень благородной миссией — как защитница самых обездоленных, униженных, несчастных, как говорили, «обворованных» людей. Это был верный, надежный электорат. Но у него была одна особенность — такой электорат не мог расти. Ему некуда было расти.
Поэтому предвыборная кампания 96-го года, как, наверное, никакая другая в мировой истории демократии, во главу угла поставила не вопрос о конкретных социальных программах, не проблемы экономики или политики, внешней и внутренней, а вопрос о
И вот на этом поле Ельцин получал перед коммунистами значительное преимущество. Их пропаганда была по-прежнему старой, ржавой, отдающей классовой ненавистью. Идеология кандидата Ельцина звала вперед. В будущее. А психологически это значительно выигрышнее. Как говорят психологи, люди «живут проектами». Проективное мышление — особенность человека конца XX — начала XXI века.
Вот сухие цифры, на которых строилась стратегия ельцинской команды:
«В то время как “жестко” антиельцинский и в основном прокоммунистический электорат составлял от 29 (“Я никогда не поддерживал и сейчас не поддерживаю Б. Н. Ельцина”) до 42 процентов (“Не буду поддерживать Ельцина ни при каких обстоятельствах”), 54 процента из опрошенных осенью 1995 года заявили, что “не считают коммунистическую систему приемлемой для России”. При проведении общенационального опроса в январе 1996 года на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы в стране был снова установлен коммунистический режим, 39 процентов опрошенных ответили утвердительно, а 61 процент — отрицательно».
…Да, но капитализм и коммунизм — понятия достаточно отвлеченные. И нередко выбор духовных ценностей очень сильно зависит от того, что мы видим на полках и на ценниках в магазинах.
«В январе 1996-го был задан вопрос, что было бы “лучше” — иметь в магазинах много дорогих товаров или мало, но дешевых, — по ценам, контролируемым государством. 59 процентов предпочитали первый вариант, а 41 процент — второй. Эти результаты, в свою очередь, близко соответствовали собственному положению респондентов: 36 процентов заявили, что “нельзя больше терпеть наше жалкое положение”, в то время как 57 процентов сказали, что “трудно живется, но терпимо”, или же “не все так уж плохо, жить можно”. Особенно твердую позицию занимали сторонники Ельцина среди молодых россиян. В проведенных многочисленных опросах… россияне в возрасте от двадцати до сорока четырех лет (38 процентов от всего населения страны) отвергали коммунизм при любой формулировке вопроса» (Леон Арон).
Учитывались и результаты парламентских выборов. Да, они принесли победу коммунистической партии. Но если подсчитать мнение всех голосовавших, в том числе тех, кто отдал голоса партиям, не преодолевшим пятипроцентный барьер, получалась такая картина: 21 миллион голосов был отдан за прореформистские, демократические партии (в том числе оппозиционные, например, «Яблоко», ДВР), 11 миллионов — за партии, на электорат которых Зюганов мог рассчитывать лишь в небольшой степени, скажем, на треть. «Сатаров и его коллеги, — пишет Леон Арон, — надеялись, что страх… перед свертыванием реформ и возвратом к прошлому снова спасет президента».
И, добавлю от себя, спасет страну.
Такова первая стадия ельцинского анализа.
Вторая стадия — оценка главного конкурента. Лидера коммунистов Зюганова. Его потенциальных возможностей, его резервов.
В январе 1996-го ситуация выглядела в этом смысле весьма тревожной.
Если простой избиратель, судя по опросам, вовсе не собирался поддерживать Зюганова или упрощать ему дорогу к власти, то общественное мнение сильно качнулось в его сторону.
Поясню: «общественное мнение» — это ведь не только сухие цифры опросов, некая среднестатистическая «душа населения». Это общественные деятели, политики, журналисты. Те, кто каждый день выступает, пишет, оценивает, говорит… и влияет, влияет, влияет. Влияет на эту «среднестатистическую душу».
В январе 1996-го демократическая пресса, журналисты, публицисты и философы, из «двух зол» (Ельцин или Зюганов) не выбирала никого — и тот и другой кандидат казались одинаково плохим вариантом. Более того, постепенно чаша весов склонялась в пользу Зюганова.
В это трудно поверить сегодня, но это было именно так. Логика самая простая: Ельцин неизбираем. Что дальше? Можно ли
Андрей Синявский, писатель:
«Во Франции не будет трагедией, если Ширака не переизберут на второй срок. Точно так же не будет трагедии в Америке, если не выберут Клинтона. А почему в России обязательно трагедия?.. Если не Ельцин, то трагедия».
Яков Кротов, священник:
«Нет, извините… я не приемлю концепции “меньшего зла”. Мне со злом не по пути, даже с маленьким. Тем более что оценка Ельцина как “меньшего зла” достаточно субъективна. Для родственников чеченца, которого убили в 1996-м, самое большое зло — Ельцин. И, во всяком случае, делать меньшее зло символом борьбы с большим — странно. Все равно что вместо Рождества Христова праздновать день рождения Ленина под лозунгом “Ну Ленин же — не Гитлер!”».
Вячеслав Игрунов, ученый:
«С Зюгановым, который, на мой взгляд, движется в сторону социал-демократии, можно обсуждать ряд проектов и направлений в развитии страны… Коммунистов нельзя считать нашими устойчивыми союзниками, но они вызывают у меня меньшую неприязнь, чем другие фракции — НДР, ЛДПР».
Чутко улавливающие политическую конъюнктуру обозреватели, видя молчание действующего президента, уже начали выстилать ковровую дорожку перед лидером коммунистов. Мне же из всех подобных статей больше всего запомнился «подвал» в «Общей газете» политолога Дмитрия Фурмана. Он яростно доказывал, что победа Зюганова на выборах (ох, как всем неудобны были эти выборы!) — гораздо лучше, чем победа Ельцина. Что Зюганова, мол, перетерпим, уйдем в подполье, в то сладостное состояние, когда враг понятен, методы борьбы — тоже, выдержим, выстоим и потом победим…
А вот если, мол, Ельцин, то демократия в России будет проиграна навсегда.
Словом, интеллигенция уже готовила себя к новому этапу — борьбе за демократию в условиях подполья или полуподполья. Как уж повезет. А если вспомнить, как широко распахнулись информационные двери перед Зюгановым во время подведения итогов парламентских выборов, в час его триумфа, какие подобострастные интервью брали у него и в газетах, и на НТВ, и на «Радио России», то ситуация могла показаться крайне тревожной. Зюганов создавал (или ему создавали) образ не просто «борца за права угнетенных», но борца благопристойного, солидного и презентабельного.
С этим «посланием» Геннадий Андреевич в качестве фигуры номер один в российском политическом истеблишменте решил поехать в Давос, на Всемирный экономический форум.
Он тоже анализировал свой электорат и приходил к таким же выводам, что и Ельцин: надо расширять, надо искать новую социальную опору. В среде предпринимателей, например. Да и интеллигенцию, которая колеблется, не знает, куда ей бежать, тоже можно привлечь на свою сторону.
Зюганов был принят в Давосе в кругу крупнейших бизнесменов мира с большим интересом (форум открылся 1 февраля). Всех волновало ближайшее будущее России. Заранее объявлен «русский день», один из главных в программе. Первым номером значилась пресс-конференция Геннадия Андреевича. Собралась огромная аудитория. Слушала внимательно, затаив дыхание. Записывала. Конспектировала.
«Надо найти правильное соотношение государственных, коллективно-долевых и частных форм собственности при условии, что все подчиняются закону, вовремя платят налоги и система организации хозяйства так построена, что выгодно работать, а не воровать и пьянствовать», — говорил Зюганов.
«Государственный контроль необходим в ключевых отраслях экономики, но не может быть и речи о широкой национализации собственности, если наша партия придет к власти. Мы понимаем, что если завтра у кого-то начнут отнимать, то послезавтра по всей стране — от Мурманска до Владивостока — будут стрелять. Те приватизированные предприятия, которые хорошо работают и соблюдают трудовое законодательство, будут иметь все возможности работать и дальше. Опасность будет грозить лишь тем предприятиям, которые уничтожают, ликвидируют, разворовывают производственную базу, но этим должны заниматься соответствующие органы, как в любой стране, строго по закону», — обещал Зюганов.
«В нашей стране есть опасения у всех жителей, в том числе и у инвесторов, что положение может окончательно развалиться, дестабилизироваться. Поэтому наша точка зрения — и она сформулирована во всех документах — надо без потрясений и гражданской войны нормализовать весь промышленно-производственный процесс».
«КПСС была не партией, а системой управления страной, в то время как КПРФ — полноценная политическая партия, в отличие от своей предшественницы она выступает за многоукладную экономику и политический плюрализм, КПРФ отказалась от атеизма, открыта для диалога с любыми политическими силами», — убеждал Зюганов.
После этой речи его приглашали на разнообразные завтраки и обеды, его интервью были просто нарасхват. Многие дамы, и российские, и зарубежные, видевшие все это по телевизору, про себя отметили: Зюганов как-то незаметно расцвел, стал прилично выглядеть, хорошо одеваться…
И в этот момент на Давосском форуме появился Анатолий Чубайс.
Он немного запоздал да и вообще приехал в Давос как частное лицо, поскольку месяц назад был уволен из правительства. Но, увидев Зюганова в кругу, как вспоминал Чубайс, «своих друзей», владельцев крупнейших компаний, с которыми он много лет вел переговоры, увидев, как они благоговейно внимают лидеру российских коммунистов, Анатолий Борисович пришел в неописуемую ярость.
5 февраля Чубайс собрал в Давосе свою пресс-конференцию. Попросил аудиторию сравнить то, что Зюганов говорил иностранным партнерам, с тем, что он говорит в России. Зюганова импортного и Зюганова для внутреннего употребления. Просто достал одну из его брошюр и стал зачитывать оттуда целые куски[29].
Зал вздрогнул.
А если говорить серьезно, Зюганов оступился, потому что сыграл не на своем поле. Здесь вожак коммунистов тактически просчитался. И был за это впоследствии жестоко наказан.
Дело было, конечно, совсем не в том, что «Чубайс разоблачил Зюганова перед Западом». Зюганову, по большому счету, на это наплевать. Поездка в Давос не носила для него принципиального характера, была лишь частью тактической игры.
Но яростный, спонтанный штурм Чубайса разбудил ту часть ельцинского электората, которая, как и интеллигенция, и демократы, и молодежь, пока пребывала в некотором ступоре. Правда, это была очень малочисленная часть электората, можно сказать, даже крошечная, всего-то человек десять-пятнадцать — представители крупного российского бизнеса. Они тоже были в Давосе. Они тоже все это видели и слышали.
И они кое-что решили.
Их делегатом выступил Борис Березовский. Он пришел к Чубайсу с невероятным предложением — именно ему надо возглавить предвыборный штаб Ельцина и «выиграть выборы».
Березовский сказал, что это позиция всех крупных российских предпринимателей. В своей обычной манере он несколько опережал события, выдавал желаемое за действительное. Но опережал осмысленно.
Чубайс поначалу сдержанно отнесся к его предложению. Но переговоры с советниками Ельцина начались, затем в них вступила дочь Ельцина Татьяна, с которой предварительно переговорил Валентин Юмашев, а она, в свою очередь, — с отцом.
Итак, Борис Николаевич предложил Чубайсу встретиться. В середине февраля состоялась их первая после чубайсовской отставки встреча, уже в новой, предвыборной ситуации.
Мотивация, которую предложил Чубайсу Ельцин, была очень проста: надо отнестись к предвыборной кампании как к технологическому процессу, отладить его, сделать эффективным. Она была для Анатолия Борисовича внятной и убедительной, и он согласился.
У читателя наверняка возник вопрос: каким образом здесь появилась Татьяна, младшая дочь Ельцина? Ведь до этого момента она вовсе не принимала участия в политике…
— Как все это получилось? — спрашиваю я ее.
— Предложение было совершенно неожиданное. Во-первых, только что родился сын Глеб, я была очень занята. Во-вторых, политика меня действительно никогда не привлекала. В ней, как и в любом другом деле, необходимы профессионализм, серьезная подготовка. Но папа сказал, что в штабе ему необходим человек, который выступит, что ли, непредвзятым наблюдателем. Который практически в режиме нон-стоп, 24 часа в сутки, сможет докладывать ему о происходящем. Попросил помочь. «Другого такого человека, — сказал он, — взять неоткуда».
В 1996 году, особенно в начале года, всех родных Ельцина охватила тяжелая тревога. Как и все обычные люди, Наина Иосифовна, дочери Лена и Таня, их близкие — задавали себе один и тот же вопрос: как выдержит эти выборы Борис Николаевич?
Конечно, думала об этом и Татьяна.
«Но я при этом часто спрашивала себя — если не папа, то кто? И не только думала, но и говорила об этом». Это и был сигнал, свидетельствующий о том, что она стала относиться к политике по-другому. Однако Татьяна поначалу резко отказалась от предложения отца.
Валентин Юмашев, литературный помощник Ельцина, привел пример, прецедент в международной политике — во время предвыборной кампании президента Франции Жака Ширака его дочь Клод Ширак вошла в предвыборный штаб отца, став его официальным советником по имиджу. Шел день за днем, откладывать решение было уже невозможно. Главное, что она не лезет в политику, а просто должна помочь отцу.
Наконец Татьяна согласилась войти в предвыборный штаб.
Поначалу это «назначение» члены штаба восприняли довольно равнодушно, даже снисходительно. Коржаков считал затею «дочкиным баловством», капризом президента. Таню он по привычке, по психологической инерции считал просто членом семьи, ребенком, которого надо опекать и охранять.
О заседаниях штаба, на которые она попала в феврале 1996-го, Таня говорила потом как о «каком-то дурном сне», напомнившем ей то ли заседание парткома, то ли комсомольское собрание в школе, пустую говорильню, не дающую результата.
«Никто здесь не обсуждал никаких аналитических разработок, долгосрочных стратегий, всё шло очень вяло, на уровне “приняли-постановили”, для отчетности, для галочки… Но дальше постановлений дело не шло. На самом деле я была в ужасе», — вспоминает дочь Ельцина.
Кстати говоря, оценка Татьяны подтверждается письмом, которое Ельцин получает от группы своих помощников. В нем — резкая критика деятельности предвыборного штаба и предложение — немедленно отстранить О. Сосковца от руководства:
«Уважаемый Борис Николаевич!
Наше обращение к Вам вызвано глубокой обеспокоенностью ходом подготовки и проведения Вашей избирательной кампании. Наблюдения аналитиков и наши собственные убеждают нас в том, что проблемы кампании упираются в личность и деятельность О. Н. Сосковца.
Ясно, что он не специалист в публичной политике и избирательных технологиях, и это сразу проявилось. Но это не компенсировалось его возможными достоинствами, на которые Вы, видимо, рассчитывали.
…Нормальная работа штаба до сих пор не началась. Он не может контактировать с людьми, отличными от него по складу ума, но необходимыми в кампании. Его влияние на руководство регионов обернулось вульгарным и бесплодным администрированием, которое не только компрометирует Президента, но и отталкивает от него возможных сторонников. Те же методы, с тем же результатом применяются им и в работе с правительственными ведомствами, представителями СМИ, коммерческих и банковских кругов. Самое странное, что О. Н. Сосковец не смог решить самую важную задачу: мобилизовать за короткое время необходимые финансовые ресурсы для проведения кампании.
В результате безвозвратно потеряно больше месяца; не организована и не скоординирована работа всех предвыборных структур; в большинстве регионов подготовка к кампании еще не начиналась…
В обществе начали курсировать два слуха… первый — Президента “сдали” коммунистам, и потому предатели саботируют развертывание кампании; второй — плохой организацией (а точнее — провалом) избирательной кампании Президента затаскивают в ситуацию, в которой он будет вынужден отменить либо выборы, либо их результаты…»
Словом, идея российских бизнесменов, напуганных перспективой второго пришествия коммунистов, — ввести в штаб новых людей — показалась Тане и перспективной, и технологичной.
Кстати говоря, запоздай эта встреча Ельцина и Чубайса на пару-тройку недель, не окажись дочь Ельцина столь решительной уже в первых своих действиях в предвыборном штабе — и события этого года могли бы принять совсем иной оборот.
15 февраля Ельцин официально объявил, что баллотируется в президенты. Это произошло в Екатеринбурге. Для него такой ход естествен — точно так же в Екатеринбурге (тогда еще — Свердловске) он начинал свои прошлые избирательные кампании, и всегда они проходили успешно.
В родном городе было довольно холодно. Но Ельцин не мог не пройтись по знакомым улицам — если бы он спрятался от горожан в президентском лимузине, за кордоном охраны, его здесь не поняли бы. Кроме того, почувствовал резкую потребность вновь общаться с людьми импровизированно, стоя посреди толпы. Неожиданно останавливаясь, неожиданно переходя дорогу.
Неприятным последствием уличных импровизаций на морозе стало то, что голос его от напряжения и холода сел, он почти не слышал себя, когда вышел на трибуну из-за кулис.
О том, что Ельцин очень волновался, когда произносил свою речь, говорили все, кто видел и слышал его в этот день. До этого момента он еще мог повернуть назад. С этого момента — уже нет. Он вновь входил в эту обжигающе ледяную воду…
Что же говорил Ельцин в тот день?
Президент сформулировал главную идею своей платформы: невозможность возврата к коммунистическому прошлому для страны.
«Столько пережить, столько понять, — осипшим голосом читал он самую важную часть своей речи, — стоять на пороге цивилизованной жизни и снова скатиться назад — это будет нашим общим поражением и позором. Можно ли мне в этой ситуации не участвовать в президентских выборах? Не раз и не два задавал себе этот вопрос. Но пока есть угроза столкновения “красных” и “белых”, мой человеческий и гражданский долг, мой долг политика, стоявшего у истока реформ, добиться консолидации всех здоровых сил общества и предотвратить возможное, вплоть до гражданской войны, потрясение. Несмотря на настойчивые призывы достойно уйти, мой отход от участия в выборах стал бы шагом безответственным и непоправимо ошибочным. Надо довести до успешного завершения дело, которому я полностью отдал себя. Я уверен, что смогу провести страну сквозь смуту, тревоги и неуверенность.
Поэтому я решил баллотироваться на пост Президента России и объявляю об этом здесь, в дорогом для меня зале, в родном городе, вам, моим землякам, всем гражданам России и для сведения всего мира…
Мне часто напоминают данное когда-то обещание лечь на рельсы. Хочу напомнить: я выполнил его, когда настоял на проведении референдума в апреле 1993 года и вручил свою судьбу в руки избирателей. Но на нынешних выборах речь пойдет не только обо мне. На рельсах окажется Россия, и нам надо сделать все возможное, чтобы и мы, россияне, и наша страна не погибли под красным колесом прошлого.
Мы сильнее тех, кто все эти годы вставлял нам палки в колеса, мешал нашему движению к великой и свободной России, к достойной жизни всех россиян. Мы сильнее собственных разочарований и сомнений. Мы устали, но мы вместе, и мы победим!»
Впрочем, Ельцин в Екатеринбурге говорил не только о призраке коммунистического прошлого, но и о вполне конкретных, сегодняшних вещах.
«Помните громадные очереди за хлебом и сахаром в 1991 году? — спрашивал Ельцин аудиторию в Екатеринбурге. — Помните, как люди стояли в очередях даже ночью, обогреваясь у костров? Теперь этого нет. Магазины полны, ваши дети и внуки никогда не узнают, что представляли собой нехватка и талоны на продукты. Чем вызвано такое обилие товаров? Оно вызвано свободными рыночными ценами, введенными в 1992 году! Гиперинфляция остановлена, в государственном казначействе большие золотовалютные резервы, рубль стал стабильным».
Россияне, сказал Ельцин в той же речи, теперь имеют самое ценное право — право выбирать. Свободные выборы — это единственный способ для восстановления государства, единственный способ постепенно избавиться от приспособленцев и коррумпированных начальников. Свободные выборы введены навсегда. Они дают гарантию того, что государство служит людям, а не наоборот.
Он говорил о свободе слова, свободе совести, свободе выезжать за границу, свободе от идеологических оков.
Вообще все эти постулаты из его первой предвыборной речи и из его Послания Федеральному собранию, которое появилось несколько недель спустя, на мой взгляд, достойны того, чтобы их изучали в школе. В них есть все, что нужно знать и детям, и, замечу с некоторым прискорбием, большинству взрослых, которые этого еще не выучили.
Но сейчас мы находимся в 1996 году и должны вслушиваться в эту речь с позиции людей, которые сидят в зале Дворца молодежи в Екатеринбурге. Да, думают они про себя, в магазинах, конечно, все есть, и свобода слова вещь хорошая, и свобода совести, и т. д…. Всё правильно говорит.
Но не это волнует их в этой ельцинской речи. Не это «цепляет».
Цепляет по-настоящему — вот этот не очень даже ясный пассаж о гражданской войне, о красном колесе, о рельсах, на которых может оказаться Россия. Сердцем избиратель чувствует — да, вот она, правда!
Вот где больное место. И вот где причина, чтобы голосовать за Ельцина, как бы в душе к нему ни относиться.
О какой же «гражданской войне» он говорит? Почему предрекает новое деление на «белых» и «красных»? Чем грозит и чего старается не допустить?
Ельцин говорит простую вещь (и люди его прекрасно понимают): если на выборах победит кандидат от коммунистов, ситуация в стране станет взрывной. Вспыхнет новый передел собственности, вспыхнет гражданский конфликт.
И это не пустые угрозы. Не риторика.
Давайте еще раз вернемся в Давос.
Тогда, после выступления Зюганова, журналисты спрашивали российских предпринимателей: стоит ли опасаться возвращения к власти коммунистов? Многие абсолютно реально воспринимали такую перспективу, собирались жить на осадном положении, защищать свои предприятия с оружием и т. д.
«Кто-то выберет полную сдачу в плен, кто-то, очевидно, вооруженную борьбу, кто-то, вероятно, эмиграцию», — сказал один из них.
А теперь я напомню фразу самого Зюганова, которой он пытался «успокоить» Запад: «Мы понимаем, что если завтра у кого-то начнут отнимать, то послезавтра по всей стране — от Мурманска до Владивостока — будут стрелять». Дать собственность и потом безнаказанно, без компенсации, отнять ее — просто нельзя, невозможно. Это, в общем, понятно всем.
О том, как коммунисты собирались возвратить приватизированную собственность народу, четко, конкретно, с деталями сообщил в своем интервью газете «Известия» депутат коммунистической фракции и юрист по совместительству Юрий Иванов.
«Иванов и его единомышленники уже наметили к тому времени ряд “крупнейших” предприятий, которые они, обретя власть, национализируют в первую очередь. Таковых было примерно двести. Безоговорочной национализации будут подлежать и коммерческие банки, по крайней мере, 90 процентов из них, “ибо они — угроза обществу”.
Каков будет порядок национализации? Чтобы доказать, что предприятие было приватизировано “незаконно”, можно, конечно, действовать через арбитражные суды, но это, по мнению коммунистов, слишком долго и муторно. Можно, говорит Иванов, прибегнуть к “ускоренной процедуре” — через “комиссии, наделенные особыми полномочиями”. Саму эту процедуру Иванов видит так: “Я бы за месяц с небольшой группой ее разработал. Я тут проблем не вижу. Процедуру в рамках комиссии, а не судебных органов”» (Олег Мороз).
Главным аргументом Зюганова в диалоге с Западом, напомню, было то, что старая КПСС — «это не партия, а система власти», а новая КПРФ — это «нормальная партия».
Действительно, партия Зюганова заседала в парламенте. Голосовала за законы, принимала бюджеты, правда, совершенно нереальные, инфляционные. Но речь сейчас о другом. У каждой партии есть своя идейная платформа. В своей идейной платформе коммунисты умудрились совместить социализм и национализм. Плюс имперскую идею. Причем в крайней форме.
Вот характерный отрывок из Зюганова того периода:
«Начиная с девятнадцатого века на мировоззрение, культуру и идеологию западного мира все более ощутимое воздействие начинает оказывать иудейское расселение, влияние которого буквально возрастает не по дням, а по часам. Еврейская диаспора, традиционно контролировавшая финансовую жизнь континента, по мере развития “своего рынка” становится своего рода держателем “контрольного пакета” акций всей хозяйственно-экономической системы западной цивилизации. Мотивы особого избранничества, “высшего предназначения” для руководства миром и собственной исключительности — столь свойственные религиозным верованиям иудеев — начинают оказывать существенное воздействие на западное самосознание… К тому же исламская цивилизация практически застывает в своем развитии и не представляет собой сколь-либо серьезную угрозу западному доминированию, а остальные мировые культуры оказываются неспособными противостоять военной, экономической и идеологической экспансии Запада, особое значение приобретает славянская цивилизация в лице Российской империи, ставшей последним противостоянием западному гегемонизму» (Геннадий Зюганов «За горизонтом»).
Еще из Зюганова:
«Грустно смотреть телепередачу, всё только комик Хазанов или пародист Иванов. Где русские?»
«Я русский по крови», — говорит Зюганов в первом параграфе своего предвыборного обращения. Ну и бог бы с ним, русский, конечно, но это ведь не просто констатация факта, на фоне всего остального — это угроза.
«В моей деревне посадили в 37-м двоих, а выяснилось — за дело», — говорил Зюганов. Мол, разобраться бы еще надо с этим пресловутым ГУЛАГом.
Дело было не только в том, что Зюганов 96-го года придерживался предельно националистических взглядов и собирал вокруг себя таких же людей. Дело в том, что все эти его ученые «идеи», брошенные в толпу обедневших и озлобленных масс, грозили такими же погромами и пожарами, как в 1905 году или в 1918—1920-м.
И все-то в этой программе «гармонично»: и «мировая закулиса», которая сознательно разрушает Россию, и «чрезвычайки», которые быстро ликвидируют вредные банки и отдадут государству «незаконно приватизированные» предприятия. И конечная, основная цель — вернуть общенародную собственность на средства производства. Снова всё сделать «ничьим».
Поэтому, когда в марте 1996 года состоялась встреча ведущих предпринимателей с Ельциным, им было что сказать Б. Н.
Зюганов своей замечательной предвыборной программой придал им и убежденности, и смелости. Встреча проходила 19 марта.
«…Я встретился в Кремле с руководителями крупнейших банковских и медиагрупп: с Гусинским, Ходорковским, Потаниным, Березовским, Фридманом и другими известными бизнесменами… Это была первая моя встреча с представителями российского бизнеса в таком составе. Она состоялась по их инициативе, к которой я поначалу отнесся довольно сдержанно. Понимал, что деваться им некуда, все равно будут меня поддерживать, и думал, что речь пойдет, видимо, о финансировании моей предвыборной кампании. Но речь пошла совсем о другом. “Борис Николаевич, то, что происходит в вашем предвыборном штабе во главе с Сосковцом, в вашем окружении, — это уже почти крах. Именно эта ситуация заставляет одних бизнесменов идти договариваться с коммунистами, других — упаковывать чемоданы. Нам договариваться не с кем. Нас коммунисты на столбах повесят. Если сейчас кардинально не переломить ситуацию, через месяц будет поздно”. Такого жесткого разговора я, конечно, не ожидал», — пишет Ельцин в книге «Президентский марафон».
«…Кто-то должен был сказать Ельцину горькую правду — он больше не популярен. Кто конкретно? Чубайс водрузил портфель на элегантно сервированный стол, открыл и вытащил бумаги. “Борис Николаевич, — бесстрашно начал он, — ситуация непростая. Ваш рейтинг — пять процентов!” Президент глянул на бумаги, отшвырнул в сторону: “Полная чушь!” Затем медленно, сдерживая гнев… проговорил: “Анатолий Борисович, надо выяснить, кто подготовил эти рейтинги. Я думаю, они не верны”. Он сделал ударение на последних словах — “не верны”. Пришла очередь краснеть Чубайсу. Повисла долгая пауза. Затем голос подал Гусинский: “Борис Николаевич, всё, что ваши люди говорят вам — это всё ложь”. Ельцин повернулся и впился взглядом в Гусинского. “А откуда вы знаете, что мои люди говорят мне?” — “Борис Николаевич, — ответил Гусинский, — я это вижу по тому, как вы себя ведете. Они дают вам неверные сведения”. Еще одна долгая пауза… Однако разговор через пень-колоду, но все-таки продолжился. Банкиры предложили Чубайса в качестве ответственного за ведение избирательной кампании. И ушли, обменявшись на прощание с Ельциным рукопожатием, но так и не поняв, с каким результатом закончилась встреча» (Дэвид Хоффман «Олигархи и власть…»).
В чем же был смысл сказанного, если отбросить слова и междометия?
Да, так называемые олигархи (которых тогда еще так никто не называл, слово это ввел в оборот в 97-м году озлобившийся на них Борис Немцов, убежденный либерал) действительно предлагали избирательной кампании Ельцина серьезную помощь. Не только финансовую, но главным образом организационную, интеллектуальную. Тогда молодой российский бизнес сумел собрать вокруг себя талантливых специалистов во всех областях — юристов, социологов, политических аналитиков.
Но их интересовало: а как предвыборный штаб Ельцина распорядится этой помощью? Не будут ли ресурсы потрачены впустую? Короче говоря, кто в штабе хозяин, кто принимает решения?
С точки зрения деловых людей такая постановка вопроса была вполне понятна. Понимал ее и Ельцин.
Но как он сам относился к тем, кто пришел говорить с ним о выборах — говорить откровенно и даже требовательно?
Почти всех этих людей он видел впервые. Никто из них не стремился к тому, чтобы мелькать на телеэкранах. Как правило, они отказывались от любых интервью и публичных выступлений.
То, что они говорят, ему понятно — нормальной жизни при Зюганове эти люди себе не представляют, поэтому и предлагают помощь, поэтому критикуют, поэтому готовы включиться в избирательную кампанию всеми ресурсами. Но думает ли он об исходящей от них
— Конечно, нет, — отвечает на мой вопрос Татьяна, дочь Ельцина. — О том, что это создаст какие-то проблемы в будущем? Никогда папа об этом не задумывался. Он был абсолютно уверен в своей силе.
— А почему?
— Не знаю. Просто уверен, и всё. Он был такой человек. Позднее, уже в 1998 году, когда набрал силу и огромное влияние Лужков, когда он метил уже в президенты и ситуация, на наш взгляд, была действительно опасная — папа, например, так не считал. Он не видел Лужкова в большой политике, и этого ему было достаточно. «Кто такой Лужков?» — спрашивал он нас. Другое дело, что эти бизнесмены могли одновременно ходить к Черномырдину, торговаться, выставлять свои условия — тогда или потом, вот это могло быть. Но не с папой. Кроме того, нельзя забывать и о том, что некоторые из них, несмотря на свою позицию, одновременно вели работу и с коммунистами. Они работали с ними в Думе, лоббируя определенные законы, они думали и о том, что будет, если папа не победит. Так что всё не было так однозначно.
Не смущает Ельцина и пресловутый анкетный «пятый пункт» большинства из собравшихся. Для него это никогда не было проблемой. Будущее и здесь доказало его правоту: крупнейшие бизнесмены России имеют очень пеструю национальную принадлежность, тут и русские, которых большинство, и татары, и евреи, и армяне, и грузины, и азербайджанцы, и выходцы из разных частей Средней Азии. Смешно было бы «пропускать» в большой бизнес по регистрации и прописке. Это тоже — мировая тенденция. Люди с низким социальным стартом, дети далеких окраин, с неким изначальным комплексом совершают порой головокружительные карьеры, достигают фантастических успехов. Тут всё понятно.
Одно могло его смутить, и сильно. Этот отчаянный тон. Эти панические интонации. То, как с ним говорят. И в конечном итоге то, что ему диктуют некую логику поступков.
Этого он не позволял никому.
Тут — позволил.
И больше того, сразу после разговора резко изменил структуру своего предвыборного штаба. Координатором всех подразделений Ельцин назначил своего первого помощника Виктора Илюшина. Внутри штаба создана так называемая Аналитическая группа во главе с Чубайсом, а по сути дела, группа антикризисного управления. Именно Аналитическая группа в дальнейшем играла первую скрипку в предвыборной стратегии Ельцина. Она была мозгом избирательной кампании, разрабатывала ее тактику и стратегию. Штаб занимался организационной работой.
После встречи с бизнесменами и Чубайсом Ельцин 19 марта подписывает документ о «переформатировании» своего штаба. «В соответствии с этим документом создавался Совет избирательной кампании под председательством Б. Н. Ельцина. В его состав вошли В. Илюшин (заместитель председателя, организация подготовки и проведения), В. Черномырдин, Ю. Яров (оперативное управление), С. Филатов, А. Чубайс (информационно-аналитическое обеспечение кампании), И. Малашенко, директор НТВ (работа со СМИ), Н. Егоров, Ю. Лужков, О. Сосковец, М. Барсуков, А. Коржаков (контрольно-ревизионные функции), Т. Дьяченко (независимый контроль хода кампании). Совет планировал собираться раз в неделю. Так оно поначалу и было, но затем ритм был нарушен, а еще спустя какое-то время Президент стал вместо Совета обсуждать ход кампании с ядром Аналитической группы.
23 марта Ельцин провел заседание Совета избирательной кампании в новом составе. Представил его фактического руководителя — своего первого помощника В. Илюшина (на время работы в штабе он ушел в бессрочный неоплачиваемый отпуск). Представил членов Аналитической группы, которую возглавлял Анатолий Чубайс. Его фамилия, кстати, ни в каких официальных сообщениях о работе Совета не упоминалась. Тем не менее на заседании 23 марта Ельцин дал понять, что отныне он будет исходить из рекомендаций Аналитической группы, а все остальные должны эти рекомендации выполнять, помогать в работе.
В ее состав, помимо Чубайса, входили: Георгий Сатаров, Сергей Шахрай, Татьяна Дьяченко, Игорь Малашенко, Василий Шахновский, Александр Ослон, Вячеслав Никонов, Сергей Зверев» («Эпоха Ельцина»).
Все эти люди — специалисты в узких областях: юрист, «информационщик», социолог, политтехнолог, аналитик. Это эксперты, умные головы, а отнюдь не новый орган власти. Но именно они помогали Ельцину выиграть выборы.
Встреча Ельцина с представителями крупного российского бизнеса и создание Аналитической группы произошли 19 марта. Нетрудно заметить, что Б. Н. довольно долго ждал, «раскачивался», прежде чем принять эти решения. Что же послужило для них толчком?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется вернуться на три дня назад, к 15 марта 1996 года. В этот день Госдума РФ приняла решение о денонсации Беловежских соглашений. Признала их незаконными.
Давайте вдумаемся в этот факт.
По сути дела, это удар по легитимности государства. Пусть пока де-юре. И Ельцин начинает реагировать на события в логике всей своей предыдущей политической борьбы.
Сначала президент выступил с официальным заявлением:
«Какой бы мотив ни лежал в основе принятого постановления, его инициаторам не мешало бы подумать о тех последствиях, которые оно может иметь для России и Содружества Независимых Государств…
Его попытку можно рассматривать как попытку Думы ликвидировать нашу государственность.
…Гарантирую российским гражданам, народам стран Содружества Независимых Государств и мировому сообществу:
Российская Федерация сохраняет свой статус и придерживается всех заключенных ею договоров».
В субботу, 16 марта, Ельцин взял паузу. В воскресенье начал действовать.
Вот что пишут его помощники:
«Утром в воскресенье 17 марта секретари приемной Б. Ельцина сделали довольно много звонков, вызывая к Президенту его помощников, спичрайтеров, некоторых министров, других высоких должностных лиц. В полдень в кабинете президента за столом для совещаний сидели В. Илюшин, С. Шахрай, Г. Сатаров, М. Краснов, Ю. Батурин и сам Б. Ельцин. Президент поставил задачу — подготовить нормативную основу и текст обращения о роспуске Государственной Думы, запрете КПРФ и переносе президентских выборов. Реакция приглашенных была отрицательной. Но Б. Ельцин был жестким и непреклонным. Дав указания, он выпроводил присутствовавших из кабинета».
Помощники Ельцина, посовещавшись, начали готовить докладную записку, смысл которой сводился к тому, что разгонять Думу нельзя, что она провоцирует президента на силовые действия, что провинция не поймет и не пойдет за президентом, что силовой сценарий приведет к полной потере политического лица. А вот прекратить деятельность КПРФ и отменить выборы, добавляли помощники, наверное, можно.
Когда Илюшин доложил, что помощники против, и Ельцин понял, что указа нет, он снова отправил группу «работать». «Готовьте указ!» — сказал он.
В приемной у Ельцина сидели министр внутренних дел Куликов, начальник службы безопасности президента Коржаков, директор ФСБ Барсуков. Они заходили в кабинет Ельцина поодиночке. Увидев растерянных помощников президента, выходящих из его кабинета, Куликов понял, что именно там происходит.
Обо всем дальнейшем министр МВД рассказал позднее в своей книге.
«Ельцин показался мне взбудораженным, — вспоминает Куликов. — Пожал руку и без лишних разговоров объявил: “Я решил распустить Государственную думу. Она превысила свои полномочия. Я больше не намерен терпеть этого. Нужно запретить коммунистическую партию, перенести выборы”. “Мне нужно два года, — он несколько раз, как заклинание, повторил эту фразу: ‘Мне нужно два года’, — и я такое решение принял. Во второй половине дня вы получите указ”».
Первой реакцией Куликова была реакция военного служаки, привыкшего беспрекословно подчиняться начальству:
«Борис Николаевич, — сказал я, — вы — президент и Верховный главнокомандующий и можете принимать такие решения. Мы все обязаны им подчиниться. Я прямо сейчас отдам все необходимые распоряжения на этот счет».
«Но если вы не возражаете, — сказал министр президенту, — я бы хотел продумать и доложить вам сегодня, к семнадцати часам, свои соображения более подробно».
Приехав в свое министерство, Куликов собрал коллегию, рассказал о решении президента и приказал «готовить расчет сил и средств».
«Что-то говорило мне, — вспоминает Куликов, — президента кто-то здорово накручивает. На это указывало излишнее возбуждение Олега Сосковца и Александра Коржакова. Делая вид, что решение президента для них столь же неожиданно, как и для остальных, они немного переигрывали. И было понятно: Сосковец провалил первоначальный этап предвыборной кампании, а его штаб не был в состоянии привести Ельцина к победе. Война, которую затевал президент, могла списать все эти промахи, а Коржаков, который, как оказалось потом, чуть ли не выращивал из Сосковца будущего российского президента, действовал с ним заодно. Ради власти этих людей — сегодняшней и будущей — в принципе и была придумана вся эта комбинация. Ельцина попросту провоцировали, играли на его слабых струнах. И в какой-то момент он поддался на уговоры, приняв, как это он сам говорил впоследствии, вот эту “стратегию”».
На прием к Ельцину к 17.00, не спросив разрешения у самого президента, Куликов пригласил генпрокурора и председателя Конституционного суда. Сцена последовала тяжелая:
«Президент… был мрачен: лицо землистого цвета, неприветлив… Я коротко доложил: “Борис Николаевич, работа по выполнению вашего решения идет, расчеты производятся. Но мы, — я указал на Юрия Скуратова и Владимира Туманова, — считаем его ошибочным”. Предлагаю высказаться своим коллегам — они говорят в принципе то же самое.
Президенту страшно не понравилось, что мы пришли втроем. Вроде как я подбил остальных на групповое неповиновение. Говорит мне с упреком: “Но вы же утром мне ничего не сказали”. Уточняю: “Борис Николаевич, я ничего и не мог вам сказать. Поэтому попросил принять меня в 17 часов и выслушать предложения. Так вот — наше предложение заключается в том, что этого делать нельзя. Я готов объяснить, почему”. Начал с того, что до выборов еще много времени, что рейтинг еще можно поднять. Но самая главная опасность заключается в том, что в стране возможен социальный взрыв, а вот сил, для того чтобы контролировать ситуацию, у нас нет и не предвидится… Они в Чечне. Они еще воюют. Сказал, что нам проще всего было щелкнуть каблуками, а потом всё свалить на президента. Но мы решили не скрывать своих опасений.
Ельцин меня прервал: “Министр, я вами недоволен! Указ последует. Идите! Готовьтесь и выполняйте!”».
Вскоре Куликов узнал, что против ельцинских планов настроены и люди, которым поручено непосредственно подготовить президентский указ.
Выйдя от президента, он зашел в кабинет первого помощника Илюшина и спросил: «Вы, что ли, указ пишете?» Взгляд главы МВД из-под очков был, как всегда, сухим и колючим.
«У Куликова, — пишут помощники Ельцина, — была с собой записка с аргументацией и возражениями. Он показал ее помощникам. Те ему — свою. Записки оказались очень похожи, местами даже до совпадения формулировок. Расстались, договорившись вести общую линию.
В 19.30… пришел А. Чубайс:
— Ребята, кто пишет указ — отвечает за эти действия, независимо от того, ставил визу или нет. Остается только заявление об уходе. Это ведь политическая гибель президента.
Помощники показали ему свою записку с возражениями. Чубайс руками изобразил реакцию на нее президента: разорвать и выбросить.
В 19.4 °C. Шахрай взял записку и пошел к А. Коржакову. Коржаков был у Ельцина, и Шахрай оставил ему записку, расписавшись.
В 20.15 приехали Л. Пихоя и А. Ильин. Президент уехал на дачу, распорядившись, чтобы В. Илюшин к 23 часам привез ему Указ.
К 22.30 записка (без Указа) была готова. В ней, в частности, говорилось: “Указ не получился, потому что правовых обоснований нет. Кроме того, Указ — реакция на постановление Думы неадекватными реальной опасности средствами… В случае принятия Указа нависает угроза гражданской войны”. Подписали В. Илюшин, Г. Сатаров, Ю. Батурин, М. Краснов, Л. Пихоя, С. Шахрай.
В 22.50 В. Илюшин позвонил на дачу президенту, чтобы передать докладную записку. Ельцин с ним говорить отказался. Решили, что Илюшин не должен ехать, чтобы не выпускать документ из рук. Он пошел в свой кабинет дожидаться утра. Президент приехал в Кремль в 5.45. В 5.50 Илюшин вошел к нему в кабинет, положил на стол записку помощников. Ельцин спросил: “Кто подписал?”
Илюшин перечислил.
Ельцин остался один. Накануне он назначил совещание с силовиками на 6 утра.
Через пятнадцать минут началось совещание».
За столом в кабинете президента сидели Ельцин, Черномырдин, Куликов, Барсуков, напротив Сосковец, Илюшин, Коржаков и Егоров. Кроме того, на совещание были приглашены руководители московской милиции.
Накануне Барсуков и Коржаков согласовали с Ельциным план, по которому 17-го числа ближе к вечеру здание Госдумы было занято подразделениями ОМОНа и ГУО (Главного управления охраны). Всего, по оценкам свидетелей, в нем оказалось около полутора сотен человек с оружием. Всех служащих и депутатов, которые находились в этот момент в здании, оттуда выдворили…
По коридорам Госдумы гуляли милиционеры с собаками. Объявлено, что в здании на Охотном Ряду заложена бомба. Здание оцепили. А в Москву уже входили дополнительные силы, внутренние войска МВД.
Однако жесткое сопротивление почти всех, кто должен был выполнять его распоряжение, заставило Ельцина приостановить запущенную машину. Он колебался.
Возвращаюсь к воспоминаниям А. Куликова:
«Заходим в кабинет. Президент еще мрачнее, чем был накануне. Ни с кем не поздоровался. Когда сели, я спросил: “Борис Николаевич, разрешите доложить?” — “Нет. Садитесь, я не с вас хочу начать, — Ельцин сразу обозначил свое отрицательное отношение ко мне, — я сейчас послушаю московских…” А Коржаков тем временем подсовывает ему под руку записочку с именами-отчествами милицейских генералов (двоих однофамильцев министра внутренних дел — начальника ГУВД Москвы генерал-полковника милиции Николая Куликова и его коллеги из Московской области генерал-полковника милиции Александра Куликова. — Б. М.). Ельцин прочел ее и поднял с места начальника ГУВД Московской области: “Доложите, Александр Николаевич, как идет подготовка!” Тот сообщил о работе, которая уже проведена: “В соответствии с полученной от министра задачей произведен расчет сил и средств, взяты под охрану объекты, 16 тысяч человек задействованы, требуются дополнительно еще как минимум 13 тысяч”.
Президент с деланым удовлетворением на лице: “Ну вот, хорошо идут дела в Московской области, не то что в Министерстве внутренних дел!..”
…Я ожидал, что именно сейчас президент перевернет лист на столе (Куликов считал, что вопрос о его увольнении уже был готов. — Б. М.) и подпишет указ о моем освобождении. После тяжелой паузы Ельцин произнес, как мне показалось, через силу: “Да, их нужно разогнать. Мне нужны два этих года. Указ готов к подписанию. Проблему решим, наверно, так: поэтапно… Помещение Госдумы и компартии пока не занимать! Сегодня я буду говорить со Строевым и с Лужковым. Идите. Ждите команды”.
Когда Ельцин это сказал, я понял, что ничего страшного уже не случится. У президента хватило мудрости перешагнуть через себя, через свой характер. Он понял, что затея может кончиться трагически, что его пытаются использовать. Я не сомневался, что ельцинская фраза: “Ждите команды” — это уже слабый отголосок пролетевшей грозы. Последними раскатами грома были и начатое блокирование здания Госдумы, и объявление, что оно заминировано. Но уже около 8.00 Крапивин (начальник Главного управления охраны), позвонивший мне в министерство, начисто рассеял все мои сомнения: “Дана команда думцев запускать!”».
А теперь обратимся к воспоминаниям самого Ельцина об этих двух днях:
«…Честно говоря, тогда казалось, что необходимы жесткие, решительные шаги. Ясно было, что начинается война нервов.
Александр Коржаков тоже нашел свою “предвыборную технологию”. “С трехпроцентным рейтингом бороться бессмысленно, Борис Николаевич, — говорил он. — Сейчас упустим время за всеми этими предвыборными играми, а потом что?”
Чего греха таить, я всегда был склонен к простым решениям. Всегда мне казалось, что разрубить гордиев узел легче, чем распутывать его годами. На каком-то этапе, сравнивая две стратегии, предложенные мне разными по менталитету и по подходу к ситуации командами (важные слова, обратите на них внимание. — Б. М.), я почувствовал: ждать результата выборов в июне нельзя… Действовать надо сейчас!
Я решился и сказал сотрудникам аппарата: “Готовьте документы…” Началась сложная юридическая работа. Был подготовлен ряд указов, в частности, о запрещении компартии, о роспуске Думы, о переносе выборов президента на более поздние сроки. За этими формулировками — приговор: в рамках действующей Конституции я с кризисом не справился…
В 6 утра состоялось закрытое совещание с участием Черномырдина, Сосковца, силовых министров, главы администрации Николая Егорова. Я ознакомил всех с этим планом…
Неожиданно резко против этого плана высказался Анатолий Куликов, министр внутренних дел. “Компартия, — сказал он, — в половине регионов России контролирует местную законодательную власть…”».
Далее Ельцин довольно подробно приводит контраргументы Куликова, с которыми мы уже знакомы. Продолжаю цитату:
«Ту же позицию занял и Черномырдин, сказав, что не понимает, чем вызвана необходимость столь резких и необратимых ходов.
Но большинство участников этого утреннего совещания поддержали идею переноса выборов. “Борис Николаевич, — говорили мне, — вы же не отказываетесь от выборов, вы только переносите их на два года, поэтому обвинить вас в нарушении демократических принципов нельзя. Народ не хочет никаких выборов. Все привыкли к вам. И с коммунистами можно покончить только решительными действиями… Сейчас, может быть, тот самый благоприятный момент, когда это можно сделать. У вас пошел рейтинг вверх, за вами все пойдут”.
Наконец, я сказал: “Все понятно. Большинство — ‘за’. Совещание закончено. Идите, я подумаю сам”.
Оставшись один, я всё обдумал: решать надо сейчас, в течение суток… Опять почувствовал этот внутренний холод: я один должен принять решение и один отвечать за него.
Пока я находился в кабинете, Таня позвонила Чубайсу, позвала его в Кремль. “Папа, ты обязан выслушать другое мнение. Просто обязан”, — сказала она. И я вдруг понял: да, обязан…»
Далее Б. Н. кратко пересказывает свой разговор с Чубайсом.
«“Борис Николаевич, — сказал он. — Это не девяносто третий год. Отличие нынешнего момента в том, что сейчас сгорит первым тот, кто выйдет за конституционное поле… Это безумная идея — таким образом расправиться с коммунистами. Коммунистическая идеология — она же в головах у людей. Указом президента новые головы не приставишь. Когда мы выстроим нормальную, сильную, богатую страну, тогда только с коммунизмом будет покончено. Отменять выборы нельзя”.
…Мы разговаривали около часа.
Я возражал. Повышал голос. Практически кричал, чего вообще никогда не делаю.
И все-таки отменил уже почти принятое решение. До сих пор я благодарен судьбе, благодарен Анатолию Борисовичу и Тане за то, что в этот момент прозвучал другой голос — и мне, обладающему огромной властью и силой, стало стыдно перед теми, кто в меня верил».
Рассказывает Татьяна, дочь Ельцина:
— Рано утром, до того как папа назначил совещание, я зашла к нему в кабинет. Может быть, впервые в жизни я так отчаянно просила, даже умоляла его выслушать другую позицию, отличную от его собственной. И он принял Чубайса именно тогда, утром. Но после совещания.
Логика тех, кто отчаянно сопротивлялся уже принятому решению Ельцина (отдадим должное их смелости и принципиальности), была, так сказать, сугубо негативной: этого делать нельзя, потому что это опасно. Грубо говоря, они пытались напугать Ельцина.
Именно такую логику он и не принимал. Не хотел принимать.
Чубайс говорил с ним о другом. О том, что Ельцин обязательно выиграет эти выборы, если захочет, о том, что «когда мы выстроим нормальную, сильную, богатую страну, только тогда с коммунизмом будет покончено». Опасность отмены выборов он аргументировал иначе. В стране, где выборы отменяют, переносят, переформатируют в зависимости от политической ситуации, демократию не построишь.
Думаю (хотя это только предположение), что Чубайс говорил Ельцину и более прямые вещи. Не называя Коржакова прямо, он наверняка сказал Ельцину, кто подталкивает его к отмене выборов. Дальше неминуемо следовала дилемма: надо выбирать между теми, кто не верил в способность Ельцина выиграть у Зюганова, и теми, кто верил…
Ельцин выбрал вторых.
Коржаков мог не бояться сопротивления руководителя МВД и ельцинских помощников. Это было обычное, рядовое сопротивление исполнителей, тех, кто не хотел брать на себя ответственность за неверное, по их мнению, решение. Административное сопротивление.
С административным сопротивлением можно справиться такими же административными методами.
Аргументы Чубайса опирались на другие черты Ельцина: на его перспективное видение страны. Вот почему и психологически, а не только по времени, для Ельцина этот разговор был последний, решающий.
Чтобы сделать этот выбор, ему, конечно, потребовалась именно острая, кризисная ситуация. Это был его характер, его образ действий. Свои самые значительные шаги он предпринимал именно так, на первый взгляд неожиданно. На самом деле он шел к ним годами, накапливая, анализируя свои соображения и идеи. Но потом все это прорывалось в самый кризисный момент.
Так было и в те мартовские дни 1996 года.
В своей книге Ельцин пишет, что выбирал «между двумя командами, разными по менталитету и по подходу к ситуации». На самом деле выбирать пришлось не просто между командами, а между двумя образами новой России. И, как это ни странно прозвучит, между двумя образами Ельцина-президента.
Он вдруг понял, что та новая Россия, о которой он столько раз говорил в своих речах, говорил много лет, в разных ситуациях, которая была гипотетической целью всех его шагов, — эта новая Россия уже существует. Она уже возникла, проросла, пусть очень робко, стала реальностью,
До сих пор он был конструктором этой новой страны, ее творцом, он собирал ее из разрозненных частей снова и снова; он, как автор всего политического процесса последних лет, считал себя вправе определять его контуры, направлять, регулировать и выносить последний вердикт.
И вот это время кончилось.
Новая страна теперь хотела жить по тем законам, которые он для нее создал.
И она появилась перед ним в облике этих «новых людей», которые говорили с ним, совершенно неожиданно для него требовательно и даже отчаянно: как хор в античной драме призывает героя прислушаться к «воле богов», так и они призывали его прислушаться к логике истории.
Конечно, эта реальная страна была не такой, какой он ее задумывал и представлял. Выламывалась за рамки проекта, который родился в 1990-м. В ней слишком много бедных, в ней было коррумпированное чиновничество, в ней не утихали политические конфликты, в ней возник чудовищный терроризм. В ней шла война против чеченских боевиков — страна новая, и ее легко было разрушить.
И тем не менее страна эта существовала и требовала выбора. Выбора от него.
Но, выбирая образ своих дальнейших действий, он выбирал и другое — людей, которые составляли его ближайшее окружение.
…Чтобы понять суть взаимоотношений Ельцина и Коржакова, недостаточно простых схем, которые сразу приходят на ум: «хозяин — слуга», «царь и серый кардинал». И хотя подобных примеров в истории действительно навалом, в истории новой России эта схема взаимоотношений действовала очень своеобразно.
Коржаков создает в Кремле новую структуру (по типу американской), преобразуя бывшую «девятку», то есть 9-е управление КГБ, службу охраны высших должностных лиц, в самостоятельную и гораздо более мощную Службу безопасности президента (СБП). Как у каждой спецслужбы, у нее есть аналитический отдел. Коржаковские мыслители по заказу своего шефа лепят образ идеального, по их мнению, президента-царя. Вот лишь одно из таких творений аналитиков СБП:
«…Пункт 8. В качестве ключевого момента проблемы формирования Кредо и Кодекса российского президентства предлагается все более ясное проявление современной ситуации, для которой, во-первых, характерна несформированность самого института и, во-вторых, имидж
Не в чистом праве, а в особом типе ожидания населения от президентства и Президента, где все еще веры содержится больше, чем доверия — основания этого мотива.
Пункт 9. Кредо Президента — символ веры, система убеждения, которые принимает сам на себя субъект политической деятельности. Кодекс — система норм с сильным оттенком конвенциональности, появляющимся вокруг консенсуса трех сторон: Президента — Политики — Гласа Народного (общественное мнение).
…Пункт 11. Итак, вывод. Имидж Кодекса: традиция Согласия в России выше традиции законности и Кодекс российского президентства выше Закона о Президенте».
Подтекст записки, как ни парадоксально это звучит: демократический президент в России — чуть ли не самодержец, иного не дано.
Вот что получает Ельцин из рук Коржакова.
Справедливости ради надо сказать, что в это же время Ельцин читает десятки других аналитических записок, подготовленных профессиональными аналитиками. Но если подходить к поставленной проблеме всерьез, то возникает вопрос и о кодексе, моральных ограничениях для тех, кто находится рядом с властью, а иногда слишком близко от нее.
Коржаков, находившийся при Ельцине неотлучно, не раз доказывавший свою личную преданность, настолько хорошо за эти годы изучил его характер, привычки, биоритмы, реакции, поведенческие особенности, мельчайшие нюансы общения, что накопил колоссальный ресурс влияния на всю окружавшую президента политическую среду.
Но распорядиться этим ресурсом можно было по-разному. Другим, противоположным, примером подобного рода был первый помощник Ельцина Виктор Илюшин. Он, обладавший огромным аппаратным чутьем, никогда не переходил рамки «контракта» с государством, хотя тоже имел такую возможность. Однако Илюшин пошел другим путем — в рамках своей службы создал серьезный интеллектуальный аппарат, привлек сильных аналитиков, которые работали на российскую власть.
Коржаков просто органически не смог оставаться в тени своего шефа, и со временем произошла некая подмена ролей. Это был очень сложный, во многом спонтанный, но вполне отслеживаемый процесс. Чувствуя, как постепенно, из-за проблем со здоровьем, президент слабеет и выходит из поля публичной политики, Коржаков начиная с 1994 года шаг за шагом создает дублирующую систему, свою властную корпорацию в «тени» президентских структур.
Планы у Александра Васильевича были, прямо скажем, масштабные. Они касались всего — экономики, безопасности, внутренней и внешней политики.
«Летом 1995 года в ближайшем окружении Президента во главе с А. Коржаковым конфиденциально обсуждалось предложение о выделении казначейства из Минфина, соединении его с Гохраном, Госкомимуществом и другими ведомствами. Планировалось стянуть в эту структуру управление основными финансовыми и имущественными потоками и фактически вывести ее из Правительства. Во главе монстра должен был стоять чиновник в ранге первого вице-премьера, подчинявшийся лично Президенту. Таким способом намеревались финансировать победу на выборах. Были даже подготовлены все необходимые указы и постановления. Президент спросил совета, помощники резко возражали. В результате он отверг эту опасную затею и больше к ней не возвращался» («Эпоха Ельцина»).
Другая идея — попытка перехватить у главы правительства контроль над сырьевыми ресурсами.
30 ноября 1994 года Коржаков направил письмо премьер-министру Черномырдину, в котором слишком либеральному вице-премьеру Шохину вменялось в вину ни больше ни меньше как предательство интересов России (Шохин пытался привлечь к экспорту нефти иностранные инвестиции): «…Национальное хозяйство не может укрепиться за счет зарубежной инвестиции в сырьевые отрасли экономики… Создание так называемого “не дискриминационного” доступа к нефтепроводам… означает не что иное, как ограничение свободы экспортной политики российского ТЭК и навязывание собственных, выгодных МБРР (Международному банку реконструкции и развития), но невыгодных России финансовых соглашений».
В заключительном абзаце письма содержалось главное: Коржаков «считает целесообразным» предложить председателю правительства поручить первому вице-премьеру Сосковцу создать комиссию для проведения «экспертной оценки» этих вредительских шагов бывшего министра экономики по привлечению иностранных инвестиций.
«Кто управляет страной — Ельцин, Черномырдин или генерал Коржаков? — вопрошали в те дни «Известия». — Выдвижение Коржаковым Олега Сосковца на роль спасителя нефтяной отрасли — это очередная попытка “вытащить из-под Черномырдина ТЭК”».
Но все это были лишь первые прикидки, подступы. В области безопасности Коржаков продвинулся намного дальше: ФСБ, с тех пор как директором ее стал бывший комендант Кремля Барсуков, стало подконтрольным ему ведомством, практически две спецслужбы срослись в одну.
Министр обороны Грачев после начала чеченской войны был подавлен, надломлен… Единственным «силовиком», который оставался вне его поля влияния, был министр МВД Куликов (что и показали события марта 1996-го).
Большую роль в «корпорации» Коржакова, которую он пытался создать, играл первый вице-премьер Олег Сосковец, бывший министр металлургии еще в советском, горбачевском правительстве. Считается (по крайней мере, такую оценку вы найдете во многих книгах о той эпохе), что Коржаков прочил его в «наследники» Ельцина.
Но вот что интересно — нигде, ни в одних воспоминаниях вы не найдете высказываний самого Сосковца. Каких-либо внятных
Притом что Сосковец был совершенно нормальным, общительным человеком и наверняка в частном разговоре высказывался охотно и на разные темы. Но в публичной политике он участия не принимал. Как будто перед ним зажигалась красная лампочка.
Точно так же вел себя и другой важнейший для Коржакова человек, Михаил Барсуков, директор ФСБ. Он несколько иного склада — тихий, скромный, как бы прятавшийся в тени своего друга. И тоже молчал как рыба!
Кто мог поговорить и отнюдь не стеснялся публичности, так это Павел Бородин, управляющий делами администрации президента. Или Шамиль Тарпищев, министр спорта. Их часто видели вместе с Коржаковым. Оба близки к Ельцину. Частенько общались с ним.
Но ни один, ни другой, ни третий, ни четвертый никогда не выступали по политическим вопросам, понимая, «кто старший в доме». Это была очень молчаливая группа влияния. Практически бессловесная власть, избегавшая всякой публичности. Власть за спиной Ельцина образца 1994–1995 годов — одинокого, сражающегося со своими инфарктами.
Именно такой Ельцин был им нужен.
Я перечислил лишь нескольких ближайших друзей Коржакова, но на самом деле в сфере его влияния к началу 1996 года находились и некоторые министры, и руководитель кремлевской администрации Егоров, промышленники и бизнесмены, зависимые от его людей в правительстве, а самое главное — чиновники среднего уровня.
Выборы-96 для этой корпорации были словно кость в горле. И дело не только в том, что они боялись их исхода, проигрыша (такого исхода боялись многие здравомыслящие люди). Им не нужен был Ельцин, который вновь набирает популярность, активно общается с журналистами, выходит к народу и т. д.
Такой Ельцин ломал планы «корпорации», а планы эти, как мы видим, были грандиозными.
Тем не менее линия Коржакова была чрезвычайно осторожной. Вряд ли он открыто и прямо говорил Ельцину, что не верит в его победу. Возможно, впервые это случилось 18 марта, на том историческом заседании, начавшемся в шесть утра.
Когда Дума денонсировала Беловежские соглашения, для всей корпорации Коржакова наступил решающий момент. Коммунисты невольно выдали ему и его команде «входной билет в рай». Реакция Б. Н. была им заранее понятна, не надо быть большим стратегом, чтобы предсказать — Ельцин станет требовать жестких, силовых мер. Но не думаю, что Коржаков даже тогда действовал открыто. Он подталкивал Ельцина к этому решению исподволь, мягко, ненавязчиво, так, как он умел это делать.
Неслучайно генерал Куликов пишет, что Сосковец и Коржаков «выглядели чересчур возбужденными» в день принятия этого решения, неслучайно помощники отмечают, что Коржаков зашел в кабинет президента сразу после Чубайса. Детали многозначительные.
Однако ничто здесь прямо не выдает намерений и стратегии Коржакова.
Впрочем, есть документы, в которых правда отражена еще полнее.
Один из них цитирует в своей книге сам Александр Коржаков. Он пишет, что премьер-министр Виктор Черномырдин после неожиданного отпуска в феврале начал активно искать с ним встречи. Коржаков отказывался и согласился встретиться в президентском клубе только после 15 февраля, официального срока регистрации кандидатов на пост президента. Черномырдин, как пишет Коржаков, «втихомолку» собрал более миллиона подписей, и это очень возмущало Александра Васильевича.
«
Трудно представить себе, что руководитель президентской охраны позвал на разговор премьер-министра, заранее зная, что будет записывать его на диктофон, как трудно представить себе и то, что руководитель президентской охраны
…Вчитываясь внимательно в ход самого разговора, ловим себя на мысли, что есть какая-то вторая тема, которую собеседники не называют вслух. Какая же?
Коржаков активно пытается выдавить Черномырдина из ближайшего окружения Ельцина накануне выборов. Собирает на него компромат.
Точно так же в декабре выдавливает из правительства Анатолия Чубайса, пытается в начале чеченской войны разогнать ближайших кремлевских советников Ельцина, поссорить Ельцина с демократами, с членами правительства, которые ему не подчинялись, были не подконтрольны (Чубайс, Шохин, председатель Центробанка Дубинин) — со всеми, кто так или иначе мог повлиять на Ельцина помимо него.
Это четкая, осмысленная корпоративная стратегия. И в марте 96-го Коржаков еще чувствовал себя достаточно спокойно. Ему казалось, что вся борьба впереди. И его, и Сосковца Ельцин пока оставил в предвыборном штабе.
Для чего я так подробно описываю всю эту закулисную, кулуарную сторону предвыборной борьбы?
Дело в том, что вокруг выборов Ельцина в 96-м году давно сложился устойчивый миф. Миф о том, что выборы были выиграны «не по правилам».
Каждый добавлял в этот миф свое: коммунисты обвиняют президентскую сторону в фальсификациях; Коржаков — команду Чубайса в том, что они превратили Ельцина в «куклу»; американская группа политконсультантов, оставшись в процессе кампании ненужной, невостребованной, выдумала версию о том, что «авторы победы» — именно они (есть даже американский фильм на эту тему); наконец, нынешние противники ельцинской эпохи уверяют, что «демократией тогда и не пахло»: и не будь поддержки олигархов, ему бы ни за что их не выиграть…
Как же было на самом деле?
Решение Ельцина стартовать в предвыборной гонке сразу после трех инфарктов, в разгар непопулярной чеченской войны, после Буденновска и Первомайского, с самым низким среди тогдашних политиков рейтингом — было одним из главных решений в его жизни.
Оно казалось совершенно безумным. Было так же взрывоопасно, как его речь на октябрьском пленуме или выступление на партконференции. Как речь на броне танка в 91-м или разгон Верховного Совета в 93-м. Это было одно из тех его решений, которые заставляли близких испытывать шок, а зрителей — закрывать глаза от ужаса или восторга.
Прыжок в ледяную воду, который всегда придавал ему новые силы.
Все, что было потом — после января 96-го — лишь следствия этого
Стоило Ельцину принять решение и «проснуться», как его рейтинг немедленно пополз вверх. Уже 19 марта, когда президент принял у себя в Кремле ведущих предпринимателей, рейтинг составлял 15 процентов. Не три и не пять, как в январе, а уже пятнадцать.
Вот конкретные данные о росте его популярности в течение первой половины 96-го:
Итак, уже в апреле рейтинг Ельцина — чуть выше, чем у Зюганова. Произошло чудо?
Нет.
Вернее, да, но это было «обыкновенное чудо», которое еще в январе 1996-го предсказали социологи. У Ельцина был свой электорат, пассивный, скрытый в огромном проценте тех, кто не участвовал в голосовании в декабрьских выборах 95-го, кто не определился, не хотел, уклонялся от формулировки своей позиции.
Постепенно эти люди начали осознавать, что именно происходит.
Но чтобы они это поняли, им нужно было помочь.
Предвыборная кампания Ельцина началась с определения его политических союзников. Я уже говорил, как жестко дистанцировались от Б. Н. демократы. Чем же ответил он?
В ответ на публичные заявления Гайдара и на выход его из Президентского совета Ельцин написал ему письмо.
«Егор Тимурович! — говорилось в письме. — Судьба свела нас в один из самых ответственных и опасных для страны моментов. В немалой степени благодаря Вашему мужеству удалось начать настоящую экономическую реформу, политические преобразования. Что бы ни говорили сейчас, остаюсь верен этому курсу.
Знаю, что Вы активно заняты политикой не ради корысти. Очень надеюсь, что при решении исключительно сложных политических проблем нынешнего года Вы, как и прежде, во главу угла будете ставить не эмоции, а интересы России, что в самые критические моменты Вы проявите ясное стратегическое видение».
Дело происходит, напомню, в конце января 1996 года. Ельцин оставил дверь открытой.
Вторым его шагом было определение стратегического союзника на выборах — того, кто займет третье место и кто сможет во втором туре выборов отдать Ельцину голоса своих сторонников.
24 января 1996 года представитель Ельцина встретился с Явлинским.
Вот что пишут помощники Ельцина об этой встрече:
«Представитель Б. Ельцина дал понять, что этот разговор ведется по его собственной инициативе, чтобы поспособствовать встрече Явлинского с Президентом. Мотивы и аргументы: обеспокоенность общей политической ситуацией на выборах; у Явлинского нет шансов победить (он не возражал); шансы у Президента выше (Явлинский не комментировал, что неудивительно, поскольку на тот момент рейтинг Ельцина был ниже, чем у него); есть общая для всех опасность — приход к власти коммунистов (Явлинский полностью разделял этот тезис, он не видел своего будущего после победы коммунистов).
…Следующий тур переговоров с Явлинским проходил уже в ходе развернувшейся кампании. В них участвовали С. Зверев, А. Чубайс, В. Илюшин. На завершающем этапе переговоров представители Президента имели на руках уже подписанный указ о назначении Г. Явлинского на пост первого вице-премьера. В случае согласия текст тут же шел в прессу. Но “да” не последовало…»
Эта история имела продолжение. Накануне первого тура Ельцин уже лично встретился с Явлинским. Снова речь зашла о том, чтобы Григорий Алексеевич вошел в команду президента, был назначен первым вице-премьером, курирующим экономику. Явлинский вновь твердо отказался. Он хотел продолжать борьбу за президентское кресло. Тогда Ельцин взял паузу и, помолчав, закончил разговор: «Знаете, Григорий Алексеевич, на вашем месте я поступил бы так же».
«Место “стратегического партнера” оставалось вакантным. Тогда основное внимание было переключено на А. Лебедя. Здесь всё выглядело гораздо проще. И сразу после согласия генерала ему на подмогу были брошены серьезные организационные и информационные ресурсы. Это не замедлило сказаться на росте рейтинга генерала Лебедя…» — продолжают помощники Ельцина.
Лебедь (в 1996-м ему исполняется 46) — десантник, боевой офицер, бывший командующий Тульской дивизией ВДВ, ветеран Афганистана. Затем — конфликт в Приднестровье, где Лебедь командовал 14-й армией и тогда довольно часто появлялся в телерепортажах. Затем он вроде бы исчез из публичного, информационного поля и вдруг возник вновь, уже на выборах в Госдуму в 1995 году. О том, что изначально его вовлекли в политику коммунисты, а затем Конгресс русских общин, все забыли. Лебедь получил поддержку со стороны крупного бизнеса — и финансовую, и информационную.
Вообще, выборы-96 для многих российских бизнесменов стали своеобразным полигоном. До этого они никогда не участвовали в политике. Но в 96-м осознали — если не будут в ней участвовать, потеряют всё. И дело не только в поддержке Ельцина как кандидата в президенты. Каждый сильный бизнесмен вел свою игру: Гусинский поддерживал Явлинского, группа «Альфа-капитал» сделала ставку на Лебедя и т. д. Телеканалы и газеты, все информационные ресурсы, которыми владели представители бизнеса, включились в раскрутку своих партий и кандидатов.
Лебедь и стал той третьей силой, с которой собиралась сотрудничать на выборах президентская команда.
Все, что делала команда Ельцина в эти месяцы, — классика предвыборной борьбы.
В ней надо побеждать, в ней надо искать сильные стороны у себя и слабые — у соперника. Выборы есть выборы. И когда в них участвует действующий президент (премьер, канцлер), всё происходит по одной и той же схеме. Так делают везде, во всех странах. Здесь не нужно изобретать велосипед. Надо просто работать. Как работать?
Вот только некоторые из указов президента, которые появились весной 1996 года:
«О повышении стипендий студентам государственных образовательных учреждений… и аспирантам государственных образовательных учреждений»;
«О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности»;
«О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования», о предоставлении бесплатных участков земли;
о конституционных гарантиях прав граждан на землю, о мерах по усилению борьбы с терроризмом, о реализации жилищной программы «Свой дом», о мерах по усилению государственной поддержки науки и высших учебных заведений Российской Федерации, «О программе урегулирования кризиса в Чеченской республике».
Но особое место имел Указ № 66 «О мерах по обеспечению своевременности выплаты заработной платы за счет бюджетов всех уровней, пенсий и иных социальных выплат». Затем, в начале февраля, появился Указ «О некоторых дополнительных мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы».
О чем, собственно, шла речь? Своими указами о земле, жилье, поддержке науки, студенческих стипендиях Ельцин пытался раздать старые долги, залатать дыры. Это — популистские распоряжения, некоторые из которых выполнить полностью было изначально невозможно, в казне не было для этого денег. Но хоть какое-то движение в сторону социального государства все же началось.
Однако с выплатой зарплаты положение было просто аховое. Война в Чечне пробила огромную дыру в бюджете.
Президент начал затяжную борьбу с регионами, в которых зарплата не выдавалась по многу месяцев, лично контролировал положение дел на ежедневных совещаниях, посадил своего помощника А. Лившица за ту работу, которой, по идее, должно было заниматься правительство.
«Каждый руководитель знал, что за умыкание бюджетных денег можно незамедлительно лишиться поста. Тем более что для острастки Президент действительно снял с работы несколько федеральных чиновников… Каждое утро Президенту надо было докладывать о том, как идут дела у пенсионеров, бюджетников, военных, шахтеров. Это была изнурительная процедура. Б. Ельцин нервничал, стал приезжать в Кремль все раньше и раньше. Как-то А. Лившица вызвали на доклад к 7.00. Тогда и случился небольшой конфуз. Помощник пожаловался, что приходится доходить чуть ли не до каждого райцентра, а особенно донимает какой-то поселок Бутка в Свердловской области. “Вовсе не какой-то, — обиделся Президент. — Я там родился”… Поскольку народ понял, что деньги действительно дают, объем обращений к Президенту превысил все мыслимые пределы. Приходилось чуть ли не вручную регулировать финансовые потоки, устанавливая губернаторам сроки для погашения долгов по зарплате в отдельной школе, больнице и т. д. Операция “Зарплата” дала неплохие побочные эффекты. Дело не только в том, что люди стали получать свои деньги. Немного подтянулась исполнительская дисциплина. Зашевелились прокуроры, активнее заработали государственные службы, контролировавшие соблюдение социальных прав человека. Только Рострудинспекция вернула гражданам около 1,5 триллиона рублей зарплаты» («Эпоха Ельцина»).
Но это был только первый шаг.
Впервые к выборам подошли, как к технологическому процессу, до этого в России
Образ «проснувшегося льва» сразу начал приносить реальные результаты. Практически любое появление Ельцина на телеэкране — будь то поездка в регионы, выступление перед аудиторией, его интервью — давало ощутимый рост рейтинга. И вот почему. «Ниша Ельцина» в сфере ожиданий, надежд, тревог была пуста. Только он мог занять ее. Его вдруг возникшая активность обнаружила настоящую, долгожданную потребность в человеке, который брал на себя гарантии мирного будущего.
Вот в чем была истинная причина победы Ельцина.
В чем же была принципиальная новизна того, что предлагала Аналитическая группа? Предельно коротко эту концепцию сформулировал социолог Александр Ослон: «В 1996 году президент Ельцин на три месяца отказался от роли первого лица (это при его-то характере!), стал “всего лишь” кандидатом, действовал в полной синхронности с Аналитической группой…»
Ельцин привык выступать перед людьми. Чутко улавливал настроения, импровизировал, мгновенно реагировал. Но всегда полагался только на себя, на свою интуицию. Теперь каждая его поездка в регион предварялась комплексным социологическим исследованием, в ходе которого выявлялись самые насущные проблемы региона, самые острые ожидания, самые «бьющие через край» настроения — и Ельцин был вынужден не просто импровизировать, а учитывать то, что рекомендует ему группа аналитиков. «Из результатов этих исследований извлекались темы, о которых следовало говорить в ходе предвыборной кампании, вопросы, на которые следовало отвечать, слова, которыми надо было изъясняться, недоумения, которые следовало развеивать, причем это все намечалось делать так, чтобы любая аудитория в зависимости от ее состава услышала бы не только то, что волновало всех, но и что-то специфическое, интересующее именно ее», — пишет Александр Ослон.
Но гораздо сложнее сменить свою внутреннюю роль, исходную позицию — теперь Ельцин просто обязан был говорить с людьми не как президент, а как
…И на него, как в 1989–1991 годах, когда он вел свои первые избирательные кампании, вновь обрушилась волна людских эмоций — очень разная, иногда озлобленная, иногда восторженная. Перед ним была измученная, больная страна, задающая самые разные вопросы, жаждущая увидеть его вплотную, страна, которая по-прежнему принимала и с нетерпением ждала его.
Это было потрясением для Ельцина. Он был ошеломлен этой новой встречей. «Папа за последние годы привык к более “протокольным” мероприятиям, всюду его сопровождала охрана, которая не подпускала людей слишком близко из соображений безопасности. После одной из встреч папа велел убрать этот кордон, он хотел видеть людей близко, на расстоянии вытянутой руки. Это его невероятно возбуждало, это ему нравилось. С другой стороны, это требовало от него невероятных физических сил. Я все время думала о том, выдержит ли он эту кампанию. Ведь темп кампании был просто бешеный. Город следовал за городом, регион за регионом. Каждый день нужно было изучить перед встречей документы, каждый день выступать по многу раз, разбираться в ситуациях, решать какие-то проблемы региона», — вспоминает дочь Ельцина Татьяна.
«Он впитывал всю информацию, начиная от истории региона или какого-то объекта в нем и кончая цифрами добычи руды, надоев молока или выпуска пиломатериалов. Помнится, в Белгородской области перед визитом на Лебединский горно-обогатительный комбинат он в пять утра поднял с постели своего помощника А. Корабелыцикова, чтобы уточнить какие-то детали…» — пишут его помощники.
Ельцин по-прежнему вставал очень рано, как все «жаворонки», но теперь предстоящий день радовал его. Потому что требовал от него поступков, невероятных усилий, а если принять во внимание состояние его здоровья — практически подвигов.
Рутинная работа, политика в режиме ожидания отступили на второй план.
За время предвыборной кампании группа спичрайтеров подготовила около четырехсот выступлений и обращений президента.
Снова обращаюсь к воспоминаниям социолога Александра Ослона:
«Сейчас трудно представить себе степень изумления публики, когда Ельцин уже в первой предвыборной публичной речи в начале апреля вдруг заговорил о проблемах женщин, пенсионеров, детей, о массовом обнищании и т. д., да еще простыми, неказенными словами, да еще с выражением искреннего сочувствия. Еще больший эффект произвела его официальная предвыборная рекламная кампания, где ключевыми слоганами были знаменитые “Выбирай сердцем!” и “Верю! Люблю! Надеюсь!”. Это настолько контрастировало со сложившимся после 1993 года образом жесткого и даже жестокого человека, что начало его разрушать, на что и рассчитывала Аналитическая группа».
Сколько же предвыборных поездок совершил Ельцин за эти несколько месяцев? Подсчитать непросто. Ведь некоторые его маршруты были просто фантастическими.
«В апреле, мае и июне Ельцин побывал в 26 регионах, пересек Россию от полярного круга до кавказских гор и от Балтийского моря до Охотского, посетив Белгород, Астрахань, Красноярск, Омск, Ростов-на-Дону, Архангельск, Уфу и Пермь (и это далеко не полное перечисление. — Б. М.). В последнюю неделю кампании он заложил камень в основание храма Христа Спасителя в Калининграде, а на следующий день, преодолев восемь часовых поясов, призывал избирателей в Хабаровске не терять чувства солидарности, надежды и доверия. В один и тот же день, 11 июня, он выступал в Ханты-Мансийске… где в тундре только что проклюнулась трава, и в Новочеркасске, на 2400 км южнее, где на базаре вот-вот должны были появиться арбузы и знаменитая крупная, темная, сочная вишня» (Леон Арон).
Сумасшедший темп!..
«Он встречался с людьми в изнуряющей жаре в Кисловодске, под снежным штормом в Воркуте. Обещал дать десять миллионов рублей кондитерской фабрике в Екатеринбурге. Обещал зерноуборочный комбайн в Ставрополе. Обещал достроить метро в Новосибирске.
Именно там, в Новосибирском метро, произошел характерный случай: когда он спустился вниз, на станцию, одна женщина вдруг тихо сказала ему, что Библия будто бы запрещает куплю-продажу земли. Приехав в Москву, он немедленно запросил справку у своих помощников. Те сели изучать текст “нормативного документа” (то есть Библии). И написали шефу: “Уважаемый Борис Николаевич! Никаких прямых указаний о запрете купли-продажи земли в Библии нет. Богословы (причем разные) считают, что высказывание женщины в Новосибирске есть сектантство. Наоборот, в Новом Завете есть прямое свидетельство о сделках с землей. Цитата дословная:
Книга “Деяния святых апостолов” (гл. 4 и 5).
“Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного. И полагали к ногам апостолов; и каждому давалось то, в чем кто имел нужду”» («Эпоха Ельцина»).
Да, встречали его по-разному. В некоторых местах стояли группы людей с плакатами «Банду Ельцина — под суд!». Но он не испытывал страха перед «коммунистическим» электоратом. Возлагал венки к памятникам Великой Отечественной войны, где его ждали возмущенные ветераны, спускался в шахты, заходил в бедные пригородные магазины, и люди мало-помалу шли к нему навстречу и начинали задавать вопросы. Нигде не было настоящей обструкции, никто не отшатывался, не бойкотировал, не свистел.
Просили обо всем.
Просили помочь в делах мелких и крупных, причем «в толпе обязательно находились те, кто пришел не просто полюбопытствовать, сколько пожаловаться на притеснения или просто попросить о чем-то». Помощники держали наготове блокнот для записи «челобитных». Над обработкой просьб и записок работала целая группа. Иногда просьбы ставили в тупик, настолько они были сложными. В течение нескольких часов, иногда дней помощники искали решение. Потом писали короткую записку — что можно сделать. Но внутренний смысл этих бесконечных «записок» и просьб был совсем не «жалобным».
Страна надеялась. Страна по-прежнему верила в чудо.
Этот поток жалоб, прошений, выкриков, просьб иногда прерывался, и наступал некий момент истины, который запоминался всем окружающим надолго. В Подмосковье, в поселке Атепцево, где Ельцин должен был совершить под прицелом телекамер целый вихрь заранее запланированных ритуалов — поздравить молодоженов, посетить дом рабочего, попить с его семьей чаю (Ельцин выставил сопровождающих за дверь), попасть в магазин и школу, — вдруг возникла странная пауза.
Ветеран войны (дело происходило 7 мая), который на своем садовом участке в шесть соток ждал Ельцина, встретил гостей, совершенно сияющий, с двумя стопками водки в руках. Мечтал выпить с Ельциным. Помощники, которым строго-настрого было наказано врачами — никакой водки, ни под каким видом, бросились к старику с грозными увещеваниями. «Щас, ребята, вам тоже принесу», — начал успокаивать помощников ветеран. Но Ельцин взял его под руку, с двумя стопками они ушли за дом, «на грядки», где и просидели довольно долго. Разговор двух пожилых людей, который никто не записывал и содержание которого узнать, в общем, так и не удалось, имел, быть может, историческое значение… Однако он остался тайной.
Но я здесь рискну приоткрыть завесу над этой тайной, хотя это — всего лишь предположение. В лице пожилого ветерана Ельцин уговаривал целую страну поверить в то, что надежда есть, что до полного «выздоровления» осталось потерпеть недолго. Он верил в то, что говорил, я совершенно в этом не сомневаюсь…
За все это время Б. Н. похудел на девять килограммов. Излучал энергию, силу.
Впервые за очень долгое время ездил без Наины Иосифовны. Лишь в некоторых поездках они были вместе. «Маму воспринимали очень хорошо, но Аналитическая группа, тем не менее, решила, что постоянно находиться рядом с папой в поездках она не должна, чтобы не вызывать какого-то раздражения. У нее во многих городах была своя программа», — вспоминает дочь Ельцина Татьяна. Елена, старшая дочь, помогала маме.
Татьяна же участвовала во всех без исключения предвыборных поездках Ельцина (кроме одной, речь о которой еще впереди). Она была активным координатором, быстро реагировала, вникала в любую мелочь, четко отслеживала выполнение рекомендаций. Она могла быть жесткой, но могла со слезами на глазах уговаривать. В ней как-то очень быстро проявились отцовское упорство, настойчивость.
Ельцин на полную мощность задействовал свой последний, самый крайний ресурс — помощь семьи. На это тогда обратили внимание все. Для нашей страны такой подход крайне необычен.
Понимал ли он, что, приближая членов своей семьи к выборам, он втягивает их в политическую орбиту, в публичное пространство, откуда выхода уже не будет? Да, знал. Он всегда избегал этого, чтобы сохранить их покой. Но в этой борьбе он призвал их на помощь.
Надо отдать должное его семье. Никто из близких Ельцина не поддался естественному искушению: мелькать в телевизоре, занять какой-либо пост, использовать свое влияние в личных целях. Тщеславие, публичность чужды самой их природе, воспитанию. Единичны те случаи, когда Наина Иосифовна, дочери президента давали интервью журналистам.
Мне довелось разговаривать с Татьяной летом 2000 года. После интервью спросил о том, что не хотел включать в текст беседы:
— Таня, сейчас огромная общественная потребность в женщинах-политиках. Вы бы не хотели стать во главе какой-то газеты или телекомпании или, например, участвовать в каких-либо выборах? В будущем, когда-нибудь? Может быть, в нашей стране появится, наконец, женщина-президент?
Она ответила очень сухо:
— Если стране понадобится женщина-президент, можно поискать. Но я лично тут ни при чем. Не хочу заниматься политикой. Категорически.
Ельцин участвовал в кампании на последнем пределе физических возможностей. Внимательный взгляд наблюдателя отмечал: похудевший Ельцин, конечно, гораздо легче двигался, больше улыбался, намного более энергичен, но он… выглядел как-то странно, почти светился, иногда до прозрачности. Нехарактерная бледность и такая же нехарактерная для него легкость тела выдавали страшное напряжение, работу сердца на последнем рубеже.
Реаниматолог постоянно находился рядом с ним. Очень часто, незаметно для окружавшей его толпы, Ельцин исчезал из поля зрения, чтобы врачи могли проверить давление, дать таблетку или сделать укол. «Ельцин поставил на кон предвыборной игры свое собственное здоровье, в сущности, жизнь», — написал впоследствии его бывший пресс-секретарь Костиков.
Да, это было так. Однако с одной важной поправкой — риск проиграть эти выборы был для него гораздо важнее, чем риск свалиться с очередным инфарктом.
«Я страшно боялась этих выборов, — рассказывала Наина Иосифовна, — Но в декабре 1995 года, когда мы разговаривали с ним, он раз за разом ставил один и тот же вопрос: скажи, кто? Черномырдин, Явлинский? Да, я понимала, что на карту поставлена его жизнь, но в то же время понимала другое — проиграть он не может. Для него это было бы невозможно. Он такой человек».
Родные понимали: если решение принято, им остается одно — помогать ему во всем.
В конце кампании Ельцина сопровождали не только помощники и политические консультанты, но и самые популярные рок-исполнители. Для кого-то это был заработок, причем очень неплохой, для кого-то — гражданский долг. Молодежь, которая ненавидит политику, обычно не ходит на выборы. Но тут, на концерте, она слышала ясные, прозрачные аргументы, понятные каждому слова.
«Я уже был под коммунистическим режимом и больше не хочу, — сказал Андрей Макаревич. — Приходите 16 июня и проголосуйте, чтобы “Машина времени” могла играть». Как после этого не проголосовать?
«Алиса», «Цветы», «Наутилус» — все они были представителями того самого поколения, которое выросло в атмосфере протеста, в атмосфере борьбы против запретов и казенной цензуры.
Главный лозунг Ельцина — борьба за свободу — совпал с их личной идеологией.
В Волгограде Б. Н. вышел на сцену перед рок-концертом, на площади стояли десятки тысяч. Он произнес короткую речь, и аудитория взревела от восторга — это был апофеоз его поддержки. Ельцин, знавший толк в публичных выступлениях, был потрясен этими бушующими стадионами, раскованностью, эмоциональным зарядом, который шел на него из зала. Его пляска на одном из концертов стала классикой ельцинской «иконографии» — смешной, неуклюжий, пожилой человек танцует твист вместе с молодым певцом (это был исполнитель старых дворовых песен Женя Осин, который до сих пор любит об этом рассказывать). Но это был его ответ, эмоциональная реакция, выплеск его страсти, которую он не смог и не захотел удерживать в себе.
«Мы умоляли папу не делать этого, — рассказывала мне Таня. — Чуть ли не держали его за руки. Но удержать было невозможно. При виде огромной молодежной аудитории, собравшейся на рок-концерт, он пришел в дикий восторг».
Вот тогда (хотя танец Ельцина на сцене далеко не у всех вызывал только улыбку) стало окончательно ясно — с ним не страшно.
Этот танец, как ни странно, сыграл чуть ли не решающую роль в эмоциональном «признании» Ельцина, в его окончательном утверждении в роли лидера. С ним было не страшно, потому что к нему, вот такому,
Но за мелодраматической стороной предвыборной борьбы Ельцин никогда не забывал, что именно хочет сказать, донести до сознания людей. «Нам не нужна новая революция, Россия не переживет новой революции», — говорил он в апреле в Москве.
«Свобода есть наиболее ценное достояние человечества», — говорил 3 мая в Ярославле. «Нам с самого начала было ясно, что дело не сдвинется с места, если у нас по-прежнему останется ничейная “государственная” собственность и люди будут лишены возможности владеть средствами производства… Приватизация была вопросом жизненной важности», — говорил в интервью «Российской газете» 5 июня.
От недели к неделе менялась и интонация ведущих отечественных СМИ. Резкий, жесткий, во многом агрессивный тон в начале предвыборной кампании Ельцина сменился в конце ее на безусловную поддержку. (Коржаков на заседании предвыборного совета попытался устроить разнос Игорю Малашенко, руководителю НТВ, за «антипрезидентскую позицию», то есть за критику предвыборной кампании, но Ельцин резко осадил его, заявив, что «это раньше нельзя было ругать генсеков, сейчас другое время».)
«Сегодня мы можем честно признать, что общество пережило гражданскую войну, хотя и в ее “холодном” варианте, — напишет через несколько дней после выборов руководитель социологической службы канала «ОРТ». — В этой ситуации телевидение действительно не было беспристрастным. Оно было тенденциозным в пользу демократии… в пользу выживания средств массовой информации как института общественного мнения… Для нас было бы приятнее просто информировать общество, апеллируя к разуму и рассудку. Это будет возможно тогда, когда мы будем выбирать между социальными и экономическими программами, а не между плохой свободой и хорошей тюрьмой».
Изменение позиции СМИ происходило без всякого нажима. Их не нужно было уговаривать, увещевать, распределяя рекламные бюджеты, вызывать в Кремль для «доверительных» бесед. Вот удивительный феномен выборов-96 — руководители электронных СМИ, газет и журналов поддерживали Ельцина настолько искренне и страстно, что это перекрывало все ожидания Аналитической группы.
И все же на пути к победе лежала мина замедленного действия — Чечня.
Еще в марте Ельцин объявил, что у него есть «семь планов выхода из кризиса». Но какой из них лучший и по какому пути он будет идти — оставалось неясно. Не помогали ни обилие планов, ни постоянно нарушавшийся мораторий на боевые действия… Война в Чечне продолжалась, и выход из кризиса не просматривался вплоть до конца апреля 1996 года.
Два обстоятельства неожиданно вмешались в ситуацию, которая казалась неразрешимой.
В конце апреля информационные агентства сообщили о гибели Джохара Дудаева. «Нива», в которой чеченский лидер выезжал из своего тайного укрытия для переговоров по радиотелефону, подверглась обстрелу самонаводящейся российской ракетой. Многомесячная работа российских спецслужб оказалась в какой-то момент эффективнее всех партизанских предосторожностей охраны чеченского лидера. Неуязвимый Дудаев погиб.
Это событие стало определяющим для всего хода чеченской войны.
Российские и мировые СМИ долго не хотели верить в это известие. Но похороны Дудаева и официальный траур заставили признать факт его смерти.
Отныне исчезла главная преграда для переговоров. Оставшиеся после него чеченские лидеры — Зелимхан Яндарбиев и Аслан Масхадов — были более приемлемыми для Кремля субъектами переговорного процесса. На них не висело того груза, который связывал действия Дудаева, у них была бóльшая степень свободы.
Исчез некий моральный барьер для контактов на самом высоком уровне.
Вторым обстоятельством, способствовавшим выходу из кризиса, была позиция генерала Александра Лебедя. Намерение «остановить бессмысленную войну» стало главным пунктом его предвыборной программы.
Наконец в российской политике появился посредник, которого так давно ждали. Посредник, обладавший именем, влиянием, бесспорным моральным авторитетом. Лебедь еще в августе 1991-го был посредником между Ельциным и Грачевым во время событий у Белого дома. А затем, в качестве командарма 14-й армии, расквартированной в Приднестровье на спорной, взрывоопасной территории, — сумел остановить войну и там, на границе самопровозглашенной республики.
Уйдя в отставку и занявшись политикой, Лебедь с его брутальной внешностью командира спецназа и низким голосом, которым он любил изрекать фразы в духе то американского боевика, то русского анекдота (знаменитое «упал-отжался»), — быстро набирал очки. Изо всех сил стремился приобрести себе славу всероссийского миротворца. Военного, который научит гражданских политиков как следует гасить локальные конфликты. Остановить войну в Чечне, несмотря на позицию генералитета, было идеей фикс Лебедя. В войсках к нему относились между тем с огромным уважением.
И хотя российская армия не хотела уходить из Чечни проигравшей и имела на то веские основания, Ельцин после появления на политической арене Лебедя получил мощного союзника в своей мирной стратегии.
Через несколько дней после гибели Дудаева было совершено покушение на Зелимхана Яндарбиева, исполняющего обязанности президента Чечни. В республике образовался вакуум власти, и одна из группировок явно хотела эту власть перехватить.
В Москве поняли — с переговорами надо торопиться. Конфликт между «полевыми командирами» грозил стать стихийным, неуправляемым процессом. Ельцин дал поручение готовить встречу с представителями чеченцев.
Первый вопрос — где принимать?
Ельцин сам решил выбрать помещение в Кремле, где должны пройти переговоры. Однозначного решения не было, и со свитой помощников он начал обход.
«Остановились на одном из залов — прямоугольный с большим столом. Три входные двери: одна — из комнат президента напротив торца стола, и две — в боковой стене…
Президент распорядился одну из этих дверей закрыть, а у других поставить по вооруженному охраннику в форме».
Чеченская делегация должна была войти через боковую дверь и сесть вдоль стола слева от президентского кресла, затем появляются члены федеральной делегации — премьер-министр Виктор Черномырдин, председатель Временного совета Чечни Доку Завгаев и секретарь Совета безопасности Олег Лобов — и рассаживаются напротив. Далее через свою дверь входит президент, произносит общее приветствие и предлагает всем сесть. Таков был сценарий.
Москва следила за информацией из Чечни о передвижении Яндарбиева. Чтобы обеспечить безопасность колонны, генерал Тихомиров, командующий группировкой, несколько раз менял маршрут. Делегацию останавливали на блокпостах. Наконец колонна добралась до станицы Слепцовская, где ее ждал личный самолет президента Ингушетии Аушева. 120 боевиков ехали в сопровождении чеченской делегации. 50 боевиков взяли под охрану самолет.
Однако после недолгих переговоров удалось уговорить Яндарбиева и его делегацию пересесть на самолет, который прислал президент России. 17 вооруженных людей, помимо официальной делегации, отправились спецрейсом в Москву.
На территории Внуково-2 появились ОМОН и сотрудники спецслужб «в штатском». Чеченцев поехали встречать министр юстиции Сергей Степашин и представитель ОБСЕ Т. Гульдеманн. И снова переговоры: кто поедет в Кремль? Чеченцы настояли на том, что в Кремль поедут пять официальных членов делегации, Ширвани Басаев (брат Шамиля Басаева) и два прилетевших из Чечни корреспондента. Все остальные чеченцы сидели в самолете до тех пор, пока не было подписано соглашение, и ждали.
Кортеж из десяти машин выехал с территории аэропорта в 16.35. Машины домчались до Кремля за 15 минут.
«Когда чеченцы вошли в пустой зал для переговоров и служба протокола стала их рассаживать, возник небольшой скандал. Чеченцы оказались недовольны планом рассадки: Яндарбиев хотел сидеть напротив Президента, а не против Доку Завгаева. Президент должен был сидеть в торце, во главе стола.
Поскольку из-за опоздания чеченской делегации Ельцин, Черномырдин и другие вошли вместе (по первоначальному плану Президент должен был появиться позже остальных), Ельцин сразу предложил садиться. Чеченцы заявили, что в таком варианте они отказываются садиться и покинут зал переговоров. Тут Президент резко скомандовал: “Закрыть двери, никого не выпускать”» («Эпоха Ельцина»).
Охрана моментально выполнила приказание. Трудные переговоры начались.
Вечером 27 мая после двухчасовых переговоров В. Черномырдин и З. Яндарбиев подписали соглашение о полном прекращении боевых действий с ноля часов 1 июня.
Однако главный сюрприз Ельцина был еще впереди.
Еще утром этого дня, до начала переговоров, президент объявил: «Завтра лечу в Чечню».
Его намерение — лететь во что бы то ни стало — казалось Службе безопасности равносильным самоубийству. Ельцина в Чечню пытались не пустить.
Но это на удалось. Вот как описывает эту сцену Борис Немцов, которого Ельцин взял с собой в качестве губернатора, собравшего в своей области миллион подписей против продолжения войны:
«Поездка обещала быть тревожной и напряженной. Боевики грозили убить Ельцина и вообще много чего заявляли. В аэропорту “Внуково-2” Барсуков, тогдашний начальник ФСБ, показал красную папку с грифом “Совершенно секретно”, где лежало донесение ФСБ: “Агент по кличке ‘Кума’ докладывает, что в районе села Знаменское во время пребывания президента России Бориса Ельцина на него будет совершено покушение бандой Басаева с использованием ракет ‘Стингер’. Рекомендация: отказаться от поездки”.
Барсуков говорит мне: “Тебя Ельцин любит, скажи ему, чтобы он не ездил. Ты должен уговорить его остаться в Москве”.
Без одной минуты девять к трапу подъезжает Ельцин, а вылет самолета назначен на девять утра. Выходит. Мы стоим — Коржаков и я. За нами полный самолет бойцов спецназа и “Альфы”.
— Чего стоите? — спрашивает Ельцин.
— Борис Николаевич, Александр Васильевич и Михаил Иванович считают, что лететь не надо. Какой-то агент написал донесение, — говорю я и даю президенту бумажку.
Ельцин прочитал и произнес: “Идите в самолет, Борис Ефимович, а вы, трусы, оставайтесь здесь”».
«Яндарбиев и члены его делегации узнали о поездке Ельцина в Чечню из вечерних новостей по телевидению. По сути, весь этот день они провели на шикарной подмосковной даче в качестве заложников», — пишут помощники Ельцина.
В 11 часов 28 мая президентский самолет приземлился в Моздоке. Президент и его сопровождение пересели на вертолеты. «Встав в круг, “вертушки” заходили на посадку и снова взмывали. В этой мельнице нельзя было понять, в каком из вертолетов Ельцин. Наконец, машины сели».
Ельцин прошел по чеченскому селу.
К нему выходили люди — женщины, старики. Разговаривали с ним. Потрясение, которое испытывали все, невозможно передать словами. Свершилось невозможное, всё происходило как будто во сне.
Ельцин снова и снова обещал мир. Разрушенная жизнь, истерзанная земля, отчаяние, весна, надежда. Первоначально Б. Н. хотел выступить на стадионе, перед пятитысячной толпой. Но
Затем Ельцин перелетел на вертолете в Грозный, в расположение 205-й мотострелковой бригады. Генерал Трошев запомнил слова, сказанные тогда Ельциным: «Война окончилась. Победа за вами. Вы победили мятежный дудаевский режим».
«Но мы, военные, — продолжает Трошев, — понимали, что это заявление носило исключительно конъюнктурный характер и преследовало единственную цель — привлечь голоса избирателей. Большинство из нас к тому времени уяснили очевидную истину: наши миротворческие усилия противник расценивает как нашу слабость, и, следовательно, надо кардинально решать проблему». Но Ельцин не воспринимал мир в Чечне как чисто конъюнктурное решение. Он надеялся: закончив войну, России удастся втащить Чечню в свою орбиту чисто экономическими методами.
Между тем начавшиеся в Шали переговоры с местными старейшинами сам Трошев расценивает как «первый серьезный совместный шаг на пути к миру».
Первая чеченская война начала выдыхаться…
Зюганов, как и Ельцин, совершал многочисленные поездки по стране.
Куда бы он ни приезжал, его хлебом-солью встречали у вагона или трапа самолета местные «функционеры»: депутаты-коммунисты, представители местной власти. За две недели до выборов только сорок девять из восьмидесяти глав российских регионов выразили свою поддержку Ельцину. В «красных регионах» и в сельских районах, где поддержка Зюганова была почти тотальной, руководители местных администраций, директора предприятий, председатели колхозов не скрывали радости по поводу возвращения советской власти. Например, среди руководителей Волгоградской области и районов только один из тридцати открыто поддерживал Ельцина.
За коммунистами стояла огромная сила. И прежде всего — организационная. После восстановления партии они воссоздали 20 тысяч первичных ячеек. Число платящих взносы достигало полумиллиона человек. А сколько же было «сочувствующих»? Все они, исходя из строгих принципов партийной дисциплины, превратились на период избирательной кампании в активных агитаторов. Каждый должен был обойти строго определенное количество квартир или частных домов.
Местная печать была, как правило, в руках коммунистов. Районная газета — порой единственно доступное средство массовой информации на селе. Четверть россиян, судя по опросам социологов, читали только местную печать. Зюгановцы отказывались покупать дорогое время на телевидении, имея такой информационный ресурс, и пользовались только бесплатным эфиром, который предоставлялся им по закону о выборах. Тем не менее все центральные каналы по своей инициативе десятки раз показывали репортажи с участием Зюганова.
Главным оружием его предвыборной кампании была апелляция к чувству национального унижения — а это была доминанта общественной атмосферы. О возрождении сверхдержавы, которая поставит на место Запад, грезило большинство населения. Именно эту тему поднимал Зюганов, при этом обещая возврат к равным стартовым возможностям, к справедливому социальному распределению. Беспроигрышная карта! Митинги в поддержку коммунистов становились все более многочисленными, активными, яростными, повсеместными.
За спиной Ельцина тем временем продолжалась острая борьба тех, кто верил и кто не верил в победу на выборах, то есть тех, кто искал варианты компромисса, сговора с коммунистами, поскольку «силовой» вариант в марте был окончательно похоронен.
Аргументация сторонников компромисса такова: предположим, Ельцин выходит во второй тур (в апреле и мае все независимые социологи уже уверенно говорили об этом) и голоса за президента и за его противника делятся примерно поровну. «Коммунисты выведут людей на улицы» — гражданский конфликт неизбежен.
Первым об этом заговорил, как ни странно, Сергей Филатов, председатель общественного движения в поддержку президента, бывший глава кремлевской администрации. Он попытался в своих публичных выступлениях смягчить антикоммунистический пафос Ельцина, настаивая на том, что «войны красных и белых быть не должно», надо учитывать интересы всех избирателей. Сейчас общество настолько накалено, сказал Филатов, что необходимо отказаться от «монополии антикоммунистической пропаганды». «Мы — единый народ, хотя у всех свои взгляды и политические пристрастия». Соответственно, по мнению Филатова, на выборах не должно быть победителей, «не должно быть подавления инакомыслия».
Этот миролюбивый призыв тогда же, в апреле, неожиданно поддержали «ведущие предприниматели».
Их обращение появилось 27 апреля. Называлось оно «Выйти из тупика!». Текст подписали президент ЛогоВАЗа Борис Березовский, председатель правления Сибирской нефтяной компании Виктор Городилов, председатель совета директоров группы «Мост» Владимир Гусинский, президент КБ имени Яковлева Александр Дундуков, президент Межгосударственной акционерной компании «Вымпел» Николай Михайлов, президент нефтяной компании «ЮКОС» Сергей Муравленко, президент компании «Роспром» Леонид Невзлин, гендиректор АвтоВАЗа Алексей Николаев, председатель правления банка «Возрождение» Дмитрий Орлов, президент ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин, президент «Столичного банка сбережений» Александр Смоленский, председатель совета директоров консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров банка «Менатеп» Михаил Ходорковский.
«Общество расколото, — говорилось в тексте обращения. — Этот раскол катастрофически нарастает с каждым днем. И трещина, разделяющая нас на красных и белых, своих и чужих, проходит через сердце России. Накаленность предвыборной борьбы побуждает противоборствующих политиков к тому, чтобы одним ударом разрубить узел проблем. Силы, стоящие за спиной политиков, ждут своего часа. Они выйдут на следующий день после победы любой из сторон. Это произойдет с роковой неизбежностью вопреки воле отдельных личностей. Ибо после июньского голосования фактически от лица меньшинства, каким бы оно ни было — красным или белым, — будет получен мандат на реализацию правил жизни, категорически отвергаемых огромной частью общества. В итоге победит не чья-то правда, а дух насилия и смуты. Взаимное отторжение политических сил столь велико, что утвердиться одна из них может только путем, ведущим к гражданской войне и распаду России».
Интересно, что те же самые люди (Березовский, Гусинский и др.), которые в марте пришли к Ельцину в Кремль чуть ли не с требованием немедленно активизировать свою предвыборную кампанию, уже месяц спустя стали говорить совсем другое — о тупиковости ситуации, о необходимости компромисса. Что же они предлагали?
«В этот ответственный час мы, предприниматели России, предлагаем интеллектуалам, военным, представителям исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов и средств массовой информации, всем тем, в чьих руках сегодня сосредоточена реальная власть и от кого зависит судьба России, объединить усилия для поиска политического компромисса, способного предотвратить острые конфликты, угрожающие основным интересам России, самой ее государственности… Российских политиков необходимо побудить к весьма серьезным взаимным уступкам, к стратегическим политическим договоренностям и их правовому закреплению. Иного выхода просто не существует. Понятна правда каждой из политических сил. Но ни одна из сил не имеет права навязывать насильственно свою правду всему обществу».
Однако ни попытка подключить к идее «компромисса» Черномырдина, ни открытое выступление «ведущих предпринимателей» не могли прервать нарастающий темп и ажиотаж избирательной кампании. Тем не менее Зюганов встретился с авторами «письма 13». Это была странная встреча, на которой обсуждались некие «три варианта компромисса» между Ельциным и коммунистами, ни один из которых не устраивал ни президента, ни коммунистов. Все это были отчаянные жесты вдогонку уже уходящему поезду. Зюганов считал, что выборы практически выиграны, не видел смысла в компромиссе, хотел получить всё и сразу. Инициатива умерла, практически не родившись.
В ночь с 19 на 20 июня были объявлены окончательные итоги первого тура голосования. Вот они. У Ельцина — 35,28 процента, у Зюганова — 32,03 процента. Три следующих места распределились так: Лебедь — 14,52 процента, Явлинский — 7,34 процента, Жириновский — 5,7 процента. Из прочих кандидатов — Святослав Федоров, Горбачев, Шаккум, Власов, Брынцалов — ни один не набрал более одного процента. Явка избирателей была достаточно высокой — около 70 процентов имеющих право голосовать пришли 16 июня к избирательным урнам.
Ночью россияне припали к телевизорам. Простые люди, многие из которых сами голосовали за Ельцина, не могли поверить в то, что он может победить. Еще несколько месяцев назад Ельцин был главной мишенью для критики со всех сторон, и справа, и слева. Не было фигуры, которая вызывала бы столь обостренное, сложное чувство к себе.
Самым важным для Ельцина был именно первый тур. Здесь голоса демократически настроенных избирателей могли разделиться: Явлинский, Лебедь, Федоров, все они потенциально отнимали голоса ельцинских избирателей.
«Президент настраивал свою аналитическую группу на необходимость достижения победы уже в первом туре, — пишет социолог А. Ослон, член Аналитической группы, — одновременно понимая неосуществимость этого. Выход во второй тур даже с минимальным перевесом был бы уже просто чудом». Чудо состоялось. «Некоторые робкие надежды на победу во втором туре, если он будет проводиться и в нем будут участвовать Б. Ельцин и Г. Зюганов, появились еще в середине мая, примерно за месяц до первого голосования. Уже тогда четыре россиянина из десяти (41 процент) сказали, что в такой ситуации проголосуют за Б. Ельцина… На рубеже апреля — мая уже половина (51 процент) граждан готова была во втором туре отдать свои голоса Б. Ельцину и несколько более четверти (29 процентов) — Г. Зюганову».
Георгий Сатаров, член Аналитической группы и помощник президента, заявлял, что соотношение в первом туре будет, скорее всего, таким — 34 на 30 процентов. Он оказался ближе к истине, чем другие социологи, прочившие победу Ельцину с соотношением — 40 на 30. Отрыв Ельцина от Зюганова в первом туре составлял 2–3 процента.
Отрыв небольшой. Очень небольшой.
Однако и за исход второго тура, который должен был состояться 2 июля, начинали беспокоиться и аналитики, и журналисты, и самые обычные люди, которые понимали, что ожидает страну после победы Зюганова: 2 июля — это уже середина лета, отпуска, студенческие каникулы, летние сельскохозяйственные работы, на которые выезжает значительный процент городских жителей. То есть — явка будет меньшей. А при меньшей явке шансы Зюганова значительно увеличивались! Его электорат, состоявший во многом из пожилых людей, сельских жителей, не зависел от сезонного фактора.
С одной стороны, «к Ельцину могла перетечь половина голосов электоратов Г. Явлинского и С. Федорова; за него могла проголосовать почти треть избирателей А. Лебедя». С другой стороны, «стало ясно, что итог второго тура будет определяться активностью участия в нем молодежи и людей среднего возраста» (Александр Ослон).
Шансы по-прежнему были равными.
Первый тур, против всех ожиданий, не принес никаких эксцессов, связанных с подсчетом голосов, давлением на избирательные комиссии, митингами и демонстрациями. Огромное количество иностранных наблюдателей, наших журналистов, которые следили за ходом выборов, обеспечили «чистые выборы». Коммунисты тоже вели себя цивилизованно. После первого тура они не имели практически никаких претензий по подсчету голосов.
Ельцин, тоже против ожиданий, был крайне недоволен исходом голосования. Или делал вид, что недоволен. На заседании предвыборного штаба он жестко отругал своих помощников, заявив, что для него была принципиальна победа в первом туре. Он хотел набрать более 50 процентов голосов…
Может быть, Б. Н. потерял чувство реальности?
Но нет, чувства реальности он не потерял. Об этом свидетельствуют его шаги, сделанные сразу же после первого тура: он обращается к избирателям Лебедя, Явлинского, Федорова, которых считает приверженцами демократии, — отдать свои голоса «единому демократическому кандидату», то есть президенту. Но он вычеркивает из этого списка всех остальных, в том числе Жириновского, который перед первым туром пытается заигрывать с Ельциным, торговаться, пробует влезть в правительство на предвыборной волне.
Трудные переговоры идут с Александром Лебедем. Подсчет голосов — и анализ, какой может быть цена за голоса его избирателей? Ельцин назначает Лебедя секретарем Совета безопасности, отправляет в отставку министра обороны Павла Грачева, отбирает координацию «силового блока» у своего помощника Юрия Батурина и передает новому секретарю Совбеза (таковы условия, которые поставил Лебедь).
Ельцин, как мы помним, пытается сделать своим союзником и Явлинского, предлагает ему пост в правительстве, но — безуспешно.
Словом, ельцинский сценарий победы — пусть и не нокаутом, а в тяжелом бою «по очкам» — реализуется шаг за шагом.
Однако именно в эту ночь, с 19 на 20 июня, когда еще подсчитывались голоса, произошло событие, которого никто не ждал.
Вечером 19 июня на проходной Белого дома были задержаны два человека — Аркадий Евстафьев и Сергей Лисовский. Их задержали сотрудники Службы безопасности президента и люди из охраны Белого дома. В руках у Лисовского коробка — но не коробка «из-под ксерокса», как написали потом, а коробка из-под
В этой небольшой коробке, как явствует из протокола допроса, находились «плотные пачки денег в иностранной валюте». Всего, как выяснилось, в ней лежало около полумиллиона долларов.
Евстафьев входил в финансовый блок кампании президентского избирательного штаба и напрямую подчинялся Чубайсу. Лисовский, музыкальный продюсер и рекламщик, отвечал за проведение акции «Голосуй или проиграешь» и «Ельцин — наш президент» с участием крупнейших звезд эстрады и рок-музыки. Оба — крупные фигуры, связанные с выборами.
Их продержали в комнате для охраны около десяти часов (задержание произошло в 17.00) и выпустили только под утро. Экстренный выпуск новостей на канале «НТВ» вышел в эфир около двух часов ночи. Телеведущий Евгений Киселев дрожащим от волнения голосом сообщил о готовящемся перевороте, цель которого — сорвать второй тур выборов. «Только что, — сказал он, — уже когда начался этот специальный выпуск, мне передали, что директор ФСБ генерал Барсуков в телефонном разговоре с одним из руководителей предвыборного штаба Бориса Ельцина подтвердил факт задержания Лисовского и Евстафьева. Совершенно очевидно, что данный шаг носит провокационный характер и логически вытекает из известной позиции руководителей силовых ведомств, выступающих за свертывание демократии и отмену президентских выборов, — позиции, которая была публично сформулирована генералом Коржаковым в его известных интервью, которые получили широчайшую огласку у нас в России и за рубежом в начале мая. Похоже, страна находится на грани политической катастрофы».
Насколько далек был Киселев от истины? О каких интервью он говорит?
В интервью лондонской газете «Обсервер», которое Коржаков дал сразу же после первомайского митинга коммунистов, он открыто заявил о том, что президентские выборы в России следует отложить, чтобы избежать беспорядков, которые неминуемо последуют при любом их исходе. По словам Коржакова, в случае победы Бориса Ельцина радикальная оппозиция не признает результаты выборов, заявит, что они фальсифицированы, и выйдет на улицу; если же победит Зюганов, те же самые люди не позволят ему проводить умеренную политику, а это будет опять-таки чревато драматическими конфликтами.
В своем интервью Коржаков утверждал, что его точку зрения разделяют «многие влиятельные люди».
Несколько позже Коржаков разъяснил свою позицию в интервью «Интерфаксу». «Сегодня, — сказал он, — нельзя всерьез надеяться на то, что везде в России выборы президента пройдут на цивилизованном уровне» — есть «целые регионы, где цивилизованное волеизъявление людей пока невозможно».
По мнению Коржакова, этот вопрос можно было бы обсудить «и прийти к единому мнению, потому что все разумные люди не хотят для России новой крови». «Общество раскалывается, раскалываются даже семьи: одни — за Ельцина, другие — за Зюганова… такое расслоение душ опасно».
6 мая Ельцин прокомментировал заявление Коржакова. «И все же я верю, — сказал президент, — в мудрость российских избирателей, поэтому выборы состоятся в конституционные сроки». И добавил: «Я сказал Коржакову, чтобы тот в политику не лез и таких заявлений больше не делал». Предупреждение Ельцина не подействовало.
То, что произошло дальше, вошло в российскую историю как первая попытка организации политического скандала на почве выборов. Некий вариант российского Уотергейта. Но, как и многое, что в России кажется внешне похожим на западные прецеденты, этот скандал был, с одной стороны, мельче, а с другой — запутаннее и сложнее американских аналогов.
И президентская сторона (после событий 17–18 марта), и коммунисты обошлись без попыток сорвать выборы, выйти за конституционные рамки, обошлись без прямого нарушения законодательства (как это было на американских выборах 1972 года) — то есть подслушивания, шантажа, угроз, покушений и иных уголовных деяний.
Между тем именно скандал — крупномасштабный, полновесный, уголовный — оставался последним резервным вариантом для команды Коржакова. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация — выборы решила сорвать не одна, не вторая, а третья сторона! Сторона, которая внешне до поры до времени держалась в тени, сохраняла солидный вид и приличные манеры. Это было наше, российское, ноу-хау — вмешательство закулисной третьей силы, поскольку в срыве выборов не были заинтересованы команды обоих кандидатов, напротив, и тот и другой кандидат упрямо верили в свою победу…
Результаты большинства социологических опросов показывали: сценарий Коржакова неверный. Доказали это и итоги первого тура: Зюганов оказался вторым, а не первым.
Пожалуй, тут стоит вникнуть в некоторые детали. Допрашивающих (а это, напомню, были в ту ночь не следователи, не сотрудники прокуратуры, а сотрудники ФСБ и Службы безопасности президента) в меньшей степени интересовала судьба денег — что за деньги, откуда, для чего? Лисовского и Евстафьева пытались запугать и, по их утверждению, добыть у них компрометирующие сведения относительно других лиц. Каких же именно? Прежде всего — Чубайса и Черномырдина. Как «давят» на допросе? Ваша преступная группа разоблачена, все вы у нас на крючке, отпираться бессмысленно! — любой следователь и любой зэк эту кухню допроса хорошо знает.
Фразу, которую запомнил Евстафьев, стоит процитировать целиком: ему было сказано, что «президент-то все равно победит, но победит не благодаря тем, кто к нему примазался, а благодаря “истинным патриотам”».
Еще деталь.
Незадолго до первого тура выборов Коржаков пишет докладную записку на имя Ельцина. В ней он предупреждает шефа о возможности «вскрытия отдельных источников финансирования (предвыборной кампании. — Б. М.) и направлений использования финансовых средств»; «существует опасность попадания отдельных документов в виде подлинников или копий в руки конкурентов или недружественных средств массовой информации». Коржаков просит президента, чтобы тот дал указание передать в СБП «на хранение всю финансовую документацию и электронные носители соответствующей информации». «Тяжело вздохнув, — пишет Коржаков, — Ельцин поручил мне лично контролировать финансовую деятельность выборной кампании». И это правда. Ельцин начертал на докладной: «Передать все».
Помощники Ельцина в своей книге отмечают:
«Пикантность ситуации состояла в том, что именно Коржаков осуществлял контроль за перемещением всех средств и отвечал за безопасность этого процесса. В штабе за этим непосредственно следил его заместитель Г. Рогозин. Стало быть, служба безопасности знала обо всем, и если переход наличных денег из одних рук в другие рассматривался ими как нарушение, то пресечь это можно было гораздо раньше».
Что уж тут пикантного? Итак, в течение всей предвыборной кампании Коржаков контролировал перемещение финансовых потоков. Почему же для проведения «спецоперации» был выбран именно этот момент?
Всё обдумал. Всех выследил. Наметил жертвы. Задержание Евстафьева и Лисовского было запланированной акцией.
К счастью, сам Коржаков бережно сохранил и обнародовал документ, в котором об этом
Уже после своего скандального поражения и позорной отставки, через два дня, не остыв еще как следует после драки, он пишет Ельцину письмо. И вот что, в частности, там говорится:
«…Надеюсь, вы понимаете, насколько гибельно и опасно для Вас приближение к себе человека, которого ненавидит вся страна — А. Чубайса.
Не зная тонкостей рыночной экономики, люди прекрасно понимают, что именно Чубайс разорил их, обменяв деньги на ничего не стоящие ваучеры, именно Чубайс обещал им квартиры к 2000 году и автомашины “Волга” за каждый купленный ваучер, именно Чубайс уверял в наступлении экономической стабилизации в то время, как в стране более 40 миллионов находились за чертой бедности. Все знают, что именно этот человек несет главную ответственность за то, что в руках иностранцев теперь находятся российские заводы и фабрики, что были распроданы за бесценок российские недра и сырье, были подписаны невыгодные контракты на кабальных условиях, что страна оказалась полностью зависимой от Международного валютного фонда…
Вместе с Чубайсом к власти в России рвутся транснациональные компании, уже опутавшие страну в экономическом плане, но не имеющие пока реальной политической власти. Эти силы ставят не на Вас, а на людей послушных и управляемых. Об этом свидетельствует содержание многих докладов, написанных в администрации Белого дома в Вашингтоне.
Основной целью транснациональной стратегии является сделать Вас недееспособным и подтолкнуть к; отречению от власти, не брезгуя для этого никакими средствами, втираясь в доверие даже к Вашей семье. Первый шаг уже сделан — в результате специально инсценированной провокации оказались деморализованными основные спецслужбы России и нависла угроза ее безопасности.
Он заставил Вас отказаться от тех, кто был рядом с Вами и защищал Вас от подлецов, торгующих Родиной… Кроме того, Чубайс уже пытается заставить Вас заявить о своем преемнике и не остановится до тех пор, пока Вы не отдадите власть тому, кого выберут для России транснациональные корпорации…»
И, наконец, самое главное:
«Я готов помочь Вам в эту трудную минуту. У нас есть возможности, профессиональные аналитики и эксперты для того, чтобы выиграть кампанию и обеспечить Вам победу во втором туре… “Один в поле не воин” — поймите это и разрешите помочь Вам.
Мы готовы в самое короткое время представить Вам план незамедлительных действий для отстранения Чубайса от деятельности в штабе избирательной кампании и возбуждения против него и его приспешников
Вот это, собственно, и есть план Коржакова.
«Коробка из-под ксерокса» — лишь первый шаг, инструмент, начало этого плана. И «целый ряд» инспирированных им уголовных дел возник бы незамедлительно. Список фигур, взятых в «разработку», вне всякого сомнения, давно был готов у начальника СБП (в него входили главным образом члены Аналитической группы).
Понимал ли он сам, что делает?
Мне кажется, да. Коржаков не сомневался в победе Ельцина. Важно было, кто принесет эту победу — «настоящие патриоты» или «предатели Родины». Он готовился к этому моменту — и люди, реально помогавшие Ельцину выиграть выборы, должны были в мгновение ока превратиться в «расхитителей», «вредителей», «агентов транснациональных сил», «мировой закулисы» и т. д. (тут он почти не расходится с Зюгановым в терминах). Коржаков знал характер своего шефа, который никогда не вмешивался в уголовные дела, в судопроизводство, в работу правоохранительных органов (пример — случай с амнистией в 1994 году, когда Ельцин хотел вмешаться, но вовремя остановил себя). Достаточно лишь покатить шарик — и он в мгновение ока превратился бы в снежный ком.
Знал ли при этом Коржаков, что заложником такой ситуации станет сам Ельцин? Понятно, что, возбуждая уголовные дела на членов предвыборного штаба (включая Черномырдина, Илюшина и др.), он метит и в самого Ельцина, превращая его в контролируемую фигуру.
Но у таких рискованных действий должна быть сильная мотивация. Хоть какое-то внутреннее оправдание.
В своей книге о выборах 96-го года журналист Олег Мороз приводит фрагмент из своей беседы с Анатолием Чубайсом:
«— Нет, я не думаю, что он хотел сорвать второй тур, — говорит Анатолий Борисович. — Этого не было. Но было понятно, что политически он идет к своему проигрышу и что мы находимся в ситуации просто лобового противостояния. Задерживая Евстафьева и Лисовского, он рассчитывал выправить ситуацию в свою пользу — продемонстрировать президенту, что только на него и его команду Борис Николаевич может опереться, а все другие, кто работает в штабе, — жулики и воры.
— А какой проигрыш грозил Коржакову, если бы он не предпринял этот шаг, ставший для него роковым? Ельцин остается президентом, он, Коржаков, остается главным президентским охранником… Где тут проигрыш?
— А он не собирался оставаться охранником. В том-то и дело, что в это время он не считал себя охранником. Он считал себя вторым лицом в государстве, управляющим матушкой-Русью. В том-то и была для него беда, что после своей победы Ельцин мог сделать его именно охранником, больше никем. Это означало бы для него абсолютную катастрофу…»
Ставка слишком высока. Вот в чем дело.
Идея Коржакова («аппаратный переворот») достаточно проста: тихо арестовав Евстафьева и Лисовского, убедить Ельцина в том, что необходимо убрать Чубайса. И никто не захочет выносить «сор из избы», никто не захочет посвящать общество в «дрязги» между членами штаба. Затем — расправиться с членами Аналитической группы по одному. Коржаков рассчитывал, что «враги» не станут поднимать шум.
Но у другой стороны была своя логика: гласность и открытость для Аналитической группы были единственным вариантом действий.
«Дворцовый переворот» Коржакова сорвался именно благодаря «шуму», благодаря публичной огласке. Именно этот «шум» не позволил ситуации развернуться в нужную для Коржакова сторону.
Вот как развивались события той ночью. В доме приемов ЛогоВАЗа собрались члены Аналитической группы и еще несколько человек. Там были Березовский, Гусинский, дочь Ельцина Татьяна, Чубайс, Немцов…
Было опасение, что за первым арестом последует сразу и второй, и третий, и десятый. К счастью, оно не подтвердилось. Напуганные экстренным выпуском НТВ сотрудники ФСБ и Службы безопасности президента стали разговаривать с Лисовским и Евстафьевым совсем иначе. Предложили чаю и кофе. Наконец отпустили.
Таня сидела в офисе до пяти утра. Всем, наверное, казалось, что ее присутствие является гарантией безопасности. Вполне возможно, что так оно и было и что расходиться по домам в эту ночь им не следовало.
Наина Иосифовна сама попыталась выяснить, в чем дело, начала звонить Барсукову и Коржакову.
«Сначала Барсуков пытался разговаривать со мной вежливо, успокаивал. Коржаков вообще не подошел к телефону. С Барсуковым я говорила дважды, голос, как мне показалось, был нетрезвым, я была удивлена. Но он продолжал утверждать, что не в курсе событий. Я подумала, что, возможно, у них там какое-то мероприятие… Перезвонила в третий раз, пытаясь связаться с Коржаковым. И снова он не подошел к телефону. Тогда я сказала: что вы делаете, вы, руководитель такой спецслужбы, в самый ответственный момент избирательной кампании. Что значит — не в курсе? И в этот момент он начал хамить. “Вы мешаете работать!” — грубо сказал Барсуков и повесил трубку».
Кстати говоря, это важный момент: очень многое в ту ночь зависело от позиции Наины Иосифовны. Она оказалась внутренне готова к ситуации. И вот почему.
«Незадолго до первого тура, — рассказывает Наина Иосифовна, — Борис Николаевич полетел в Хабаровск, на встречу с избирателями, я вместе с ним. Пока Борис Николаевич где-то выступал, Коржаков попросил у меня время для “доверительного разговора”. Совершенно неожиданно для меня он заговорил о том, что надо отправить в отставку Черномырдина, причем как можно скорее, и что надо убедить в этом Бориса Николаевича.
— Какие же он предъявлял аргументы?
— Он обвинял его в различных злоупотреблениях, в том, что он ведет свою игру (это был далеко не первый разговор, раньше он приносил какие-то бумаги, целое досье Борису Николаевичу). Наконец, я спросила: а кто же вместо него? И тут он сказал вещь, от которой я внутренне похолодела: “ Надо предлагать Сосковца”. Он стал горячо убеждать меня в достоинствах Олега Николаевича, и тогда я всё поняла. Весь их план. Конечной целью “операции” было физическое устранение Бориса Николаевича. Первая ступень — сделать Сосковца премьером. Вторая — Борис Николаевич уже не нужен, ведь в случае его смерти Сосковец становится первым лицом.
— Смерти?
— Смерти, заболевания, тяжелого сердечного приступа — ведь у Коржакова всё было под контролем. Зная привычки Бориса Николаевича, находясь с ним все время рядом, контролируя его состояние, он мог спровоцировать этот приступ на теннисе, в бане, не знаю где еще. Ведь Коржаков спрятал от нас заключение врачей о катастрофическом положении дел с сердцем Бориса Николаевича, он знал, насколько всё плохо, и не говорил нам, не показывал это заключение. Почему? Словом, вот такой у нас был разговор в Хабаровске. Поэтому к этой ситуации в июне я была совершенно готова, я знала, что это за люди».
В третьем часу ночи Наина Иосифовна разбудила Б. Н. Он говорил с ней и с Татьяной.
— Что там у вас стряслось? — недовольно спросил он дочь.
Таня пересказала ему ситуацию.
Примерно такой же вопрос: «Что там у вас стряслось? Что за шум?» — он задал и Коржакову, позвонив ему.
И назначил ему аудиенцию на утро.
В этот момент судьба властной корпорации Александра Васильевича была окончательно решена.
Утром в Кремле, у Ельцина, состоялось несколько встреч: с Коржаковым, затем с Черномырдиным, потом с Чубайсом. Он позвонил первому помощнику Илюшину и попросил подготовить указы на увольнение.
Ельцин объявил об отставке Коржакова, Барсукова и вице-премьера Олега Сосковца с их постов и об увольнении обоих генералов из армии.
Причину обозначил в своей манере, крайне лапидарно, скупо и резко: «Они много брали и мало отдавали». (Произносил эти слова Б. Н., как выдохнув, с облегчением.) Много брали власти, ответственности? Мало отдавали — чего?
Тем, кто видел ту трансляцию по телевизору, запомнилась еще одна совершенно нечеткая грамматически, но очень ясная по смыслу фраза Ельцина. «И те генералы, понимаешь, и эти…» — сказал он и раздраженно махнул рукой. Указы подписаны им утром 20 июня.
Ельцин никогда не боялся военных. Так называемых «силовиков». Даже в самые трудные моменты, когда ситуация в стране раскачивалась до опасного предела, казалась шаткой и неустойчивой, он не заискивал перед ними, не опасался заговора, вел себя твердо. Только эта линия поведения — его непоколебимая уверенность в себе — на мой взгляд, и удержала Россию от нескольких попыток военного переворота. А это была, по сути, одна из них.
На своей пресс-конференции (она прошла очень нервно, руководителя Аналитической группы буквально трясло) Анатолий Чубайс сказал фразу, довольно парадоксально прозвучавшую в этом скандальном контексте: «Сегодня забит последний гвоздь в крышку гроба коммунизма…»
При чем тут, казалось бы, коммунизм? Еще не выигран второй тур, да и Коржакова с Барсуковым ярыми коммунистами назвать сложновато… Тем не менее в чем-то Анатолий Борисович был прав. План Коржакова, в котором он сам признался Ельцину в горячке откровенности, «целый ряд уголовных дел», что грезился ему в сладких снах, вполне мог повернуть историю вспять.
Однако все эти высокие материи не позволяют нам пройти мимо одного вопроса, который настоятельно требует ответа. Что же это были за деньги, зачем их выносили из Белого дома, что с ними случилось потом и почему, собственно, в этой коробке их было так много?
Ответ тривиален.
Выборы — это деньги. Большие выборы — большие деньги.
Так везде, во всех странах. Даже с давней демократической историей, даже с подробно разработанным выборным законодательством. Вот что пишут об этом в своей книге помощники Ельцина:
«Несоответствие между требованием Закона о выборах, задававшим верхнюю планку расходов на избирательную кампанию, и реальными расходами всегда приводило к тому, что расчеты за проведение кампании в существенной части проводились “черным налом”. Это практиковали все, именно поэтому противоборствующие стороны никогда не обвиняли в этом друг друга. Понятно, что то же самое делалось и в избирательном штабе Ельцина».
Из газетной хроники тех дней:
«Депутат-коммунист Илюхин продемонстрировал журналистам видеозапись, на которой… Борис Лавров (сотрудник Национального резервного банка, привлеченный Минфином к работе в президентской избирательной кампании) отвечает на вопросы следователя УФСБ. Из видеозаписи следовало, что 19 июня Лавров взял в Министерстве финансов 530 850 долларов наличными и перевез эти деньги в Белый дом. В 17 часов в кабинет, где Лавров находился, зашли Евстафьев (с которым Лавров был знаком) и “молодой человек”, которого Евстафьев представил ему как Лисовского. Лавров передал последнему 500 тысяч долларов в картонной коробке и “проштамповал” ему пропуск. Лисовский оставил Лаврову лапидарную расписку: “500 000 у. е.”, подпись и дата. После этого оба ушли, причем Евстафьев пообещал вскорости вернуться, после того как “проводит посетителя”. Но не вернулся, его остановили люди, представившиеся как сотрудники Службы безопасности президента».
Рассказывает Аркадий Евстафьев:
— Даже технически использовать бюджетные деньги для нужд предвыборной кампании было невозможно. Другое дело, что коммерческие банки, которые нас финансировали, могли хранить деньги в Минфине, одолжить деньги под гарантии. Перед первым туром сложилась именно такая ситуация: выяснилось, что денег катастрофически не хватает. Чубайс поднял страшный скандал, потребовал мобилизовать все ресурсы. Поэтому возникла такая спешка. Следователи прокуратуры, которые разбирали это дело, не нашли состава преступления в наших действиях, поскольку не было, собственно говоря, потерпевшей стороны.
…Тем временем приближался второй тур голосования.
И в этот момент случилось то, что можно было предугадать. Но случилось в момент самый неожиданный, когда самое тяжелое для Ельцина, казалось, уже осталось позади, 26 июня — за несколько дней до второго тура.
Вот как он сам описывает эти события в своей книге:
«Приехал с работы на дачу около 17 часов. День был напряженный, тяжелый. Я прошел по холлу несколько шагов. Сел в кресло. Решил, что отдохну немного прямо здесь, а потом уже поднимусь на второй этаж, переоденусь.
И вдруг — странное очень чувство — как будто тебя взяли под мышки и понесли. Кто-то большой, сильный. Боли еще не было, был вот этот потусторонний страх. Только что я был здесь, а теперь уже там…
И тут же врезала боль (это был очередной инфаркт. — Б. М.). Огромная, сильнейшая боль. Слава Богу, совсем рядом оказался дежурный врач Анатолий Григорьев. Он мгновенно понял, что со мной произошло. И начал вводить именно те медикаменты, которые необходимы при сердечном приступе. Практически через несколько минут. Положили меня прямо тут, в этой же комнате. Перенесли кровать, подключили необходимую аппаратуру. На моих женщин было страшно смотреть, так они перепугались. Наверное, вид у меня был… хуже не придумаешь.
А я думал: “Господи, почему мне так не везет! Ведь уже второй тур, остались считаные дни!” На следующий день огромным усилием воли заставил себя сесть. И опять говорил только об одном: “Почему, почему именно сейчас?”…»
…Положение складывалось поистине катастрофическое.
По идее, Ельцин должен был находиться на строжайшем постельном режиме, как и положено при инфаркте, должен быть госпитализирован, быть постоянно под контролем медиков. Но практически сделать это было невозможно. Если бы кандидат в президенты вдруг исчез с телеэкранов перед самым вторым туром, это перечеркнуло бы все предыдущие усилия.
27 июня те, кто в силу обстоятельств должен был срочно принимать решения, встретились в предвыборном штабе, чтобы обсудить ситуацию. Это Анатолий Чубайс, Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев и Виктор Илюшин. Было решено приложить максимальные усилия, чтобы не дать слухам о болезни Ельцина выплеснуться на страницы печатных изданий и на телеэкраны. Но как это сделать?!
Уже на
«…Из обычной гостиной, куда теперь перенесли мою кровать, устроили что-то вроде рабочего кабинета. Оператор (наш, кремлевский) долго мудрил, чтобы ничего лишнего в кадре не было, особенно рояля, который, по традиции, всегда тут стоял, и, само собой, кровати. Медицинскую аппаратуру чем-то накрыли. Наина умоляла об одном: “Боря! Только не вставай! Сиди в кресле! Тебе нельзя вставать!” Но я не выдержал и заставил усилием воли себя встать, здороваясь с гостем» («Президентский марафон»).
Поскольку дальше скрывать реальную картину от других членов Аналитической группы, предвыборного штаба было неправильно — круг тех, кто знал об инфаркте Ельцина, неминуемо расширился.
И Черномырдин, и Сатаров, и Филатов в эти дни вовсю комментировали отсутствие Ельцина, объясняя его «обычной простудой». Но каждый день, по свидетельству Анатолия Чубайса, приносил «минус полтора-два процента рейтинга». Счет шел на сутки. К счастью, оставалось не так много времени до второго тура.
Как верно замечает сам Б. Н. в своей книге, было бы гораздо хуже, если бы инфаркт схватил его месяцем раньше, в разгар предвыборной кампании. Да, организм выдержал почти столько, сколько велела ему воля Ельцина. Однако этот организм никто тем не менее не собирался оставлять в покое.
Помимо встречи с Лебедем обязательными были еще два его появления на телеэкранах — во время встречи с Черномырдиным и во время самого голосования 3 июля. Целый ряд других мероприятий пришлось отменить.
30 июня было запланировано Всероссийское совещание работников сельского хозяйства. Туда Ельцин прийти не смог. Политический эффект совещания получился отрицательным. Но выхода не было.
Вот как, по воспоминаниям помощников президента, происходила запись телеобращения президента перед вторым туром:
«Текст был максимально сокращен и упрощен. Но главное даже не в этом. Существенно была изменена, если так можно сказать, и сама процедура записи. Обычно перед началом съемки Президент просто приходил в комнату, где все это происходило, несколько минут шли необходимые приготовления… Если Ельцин был в хорошем расположении духа, отпускал шутки, беседовал с телевизионщиками, а затем начиналась съемка. После нее, немного поговорив, а часто и сфотографировавшись на память, он уходил.
Запись Обращения накануне второго тура была иной… Какая-то напряженность буквально висела в воздухе. В определенный момент последовало распоряжение, чтобы все, кто готовил запись, вышли из комнаты. Через какое-то время их пригласили обратно. В кресле перед телекамерой недвижимо сидел мертвенно-бледный Ельцин. Дали команду записывать. Из последних сил Президент зачитал короткое Обращение к гражданам страны, призвав прийти на избирательные участки. Затем в комнату вошел Черномырдин, подсел к Ельцину, телекамера на минуту взяла новый план и запечатлела беседу Президента с премьер-министром. После записи всех присутствующих вновь попросили выйти. Подавленным от всего увиденного телевизионщикам сказали, что можно собирать аппаратуру».
И последнее испытание — само голосование. В этот день, по традиции, телекамеры всей страны обращены к избирательным участкам. И главный сюжет — как голосуют сами кандидаты.
Снова цитата из книги Ельцина.
«Наина настаивала, — вспоминает он, — чтобы мне, как “порядочному больному”, избирательную урну привезли прямо домой. “Это же по закону!” — чуть не плача, говорила она. “Да, по закону, но я хочу голосовать вместе со всеми”. — “И что ты предлагаешь?” Я позвал Таню, и мы обсудили все варианты. Первый — голосовать по нашему московскому адресу, на Осенней. Его отвергли почти сразу: длинный коридор, лестница, долго идти по улице. Даже я, со своим упрямством, и то понял, что это невозможно. Второй вариант: санаторий в Барвихе, недалеко от дачи. В санатории всегда голосуют, там есть избирательный участок, и всё будет по закону, всё правильно. Туда же можно пригласить и корреспондентов.
Я продолжал сомневаться: “Ну что это за голосование, среди больных?”
“Папа, журналистов будет чуть-чуть меньше, но поверь, их будет совсем не мало: основные каналы телевидения, информационные агентства, всё как обычно”, — успокоила Таня».
…Да, пожалуй, это был единственный вариант.
Голосование в санатории, не на обычном избирательном участке, конечно, было уже почти открытым признанием — Ельцин нездоров.
Однако он отвечал на вопросы, улыбался.
Сегодня, когда всё уже позади, кто-то может предъявлять Ельцину претензии: а имел ли он право скрывать от страны правду, право рисковать политической стабильностью в стране, зная, что сердце его на пределе? Не лучше ли было выборы перенести, отменить? Но спросите себя сами: а как бы вы поступили на его месте? Можно ли было в этот момент остановиться? Лично я себе этого не представляю.
В ночь с 3 на 4 июля Центризбирком подводил итоги выборов.
Прежде чем мы с вами тоже их подведем, а значит, подведем и итоги этой главы, стоит ответить на один вопрос: почему страна в этот день выбрала его?
Его, больного, подвергавшегося жестокой критике, автора самой непопулярной, может быть, за весь XX век реформы, его, прославившегося своими чудачествами и эскападами, его, чье имя с ненавистью произносили и тогда, и даже сейчас многие, очень многие люди?
Что за глухая, внутренняя сила заставила Россию проголосовать в тот день не за бодрого, здорового Зюганова? А двумя неделями раньше — не за брутального Лебедя, не за «умницу» Явлинского, не за артиста Жириновского, не за «честного, порядочного Горбачева», который набрал один процент голосов?
Ответ прост — с ним не страшно.
Он предсказуем (вопреки мифу о своей непредсказуемости), он понятен (вопреки мифу о том, что его политику «не понимало» и «не разделяло» большинство населения). Он вел Россию в прежнем направлении, не сворачивая, не оглядываясь назад, не уступая ни в чем принципиальном.
И Россия, ясно понимая, что никакого другого пути ей не предлагают, — согласилась в этот день идти дальше с ним.
Вот официальные итоги голосования.
Данные на 11 вечера: у Ельцина — 52 процента, у Зюганова — 41. В полночь у Ельцина было 52,3 процента, у Зюганова — 41,1. Соотношение голосов на час ночи — 53,9 против 39,7…
Однако Зюганов лидирует в «красном поясе»: Липецк, Курган, Ставрополь…
И все же в целом страна голосует за Ельцина. На 5.30 утра у него 53,9 процента голосов, у Зюганова — 40,2, в восемь утра: соотношение голосов — 53,55: 40,55 в пользу президента.
Официальные итоги второго тура объявлены 9 июля. Ельцин получил 53,82 процента голосов, более чем на десять миллионов больше своего соперника; у того — 40,31 процента.
Несколько комментариев к этим цифрам, глядя, так сказать, из XXI века.
Первое. Коммунисты, как ни странно, были в целом удовлетворены итогами выборов. Сорок процентов от числа избирателей, пришедших к урнам, — такой результат был для них престижен, почетен, весом. Никаких серьезных претензий к подсчету голосов они не предъявляли — хотя их наблюдатели были практически на всех избирательных участках.
«Выборы 3 июля в целом прошли достаточно организованно и с точки зрения работы комиссий, и с точки зрения обеспечения необходимой документации… — заявил в день выборов (когда голосование закончилось) Валентин Купцов, один из крупнейших деятелей КПРФ, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. — Были единичные нарушения, которые не могут носить серьезных последствий».
Да и сам Зюганов не выглядел подавленным. В те дни он лучился солидностью и глубокомыслием истинного философа:
«Более 40 процентов избирателей проголосовали за Народно-патриотический блок, тем самым подтвердивший свою высокую общественную значимость… В стране сформировалась двухпартийная система: это Народно-патриотический блок, который выдвигает идеалы законности и справедливости, и партия власти, которая не имеет четкой политической структуры».
Второе. Выборы высоко оценили международные наблюдатели, которых приехало в Россию немало. По их оценкам, выборы были «свободными, беспристрастными и справедливыми». В ходе второго тура «наблюдатели не обнаружили каких-либо манипуляций и фальсификаций».
Третье. Итоги выборов полностью совпали с прогнозами независимых социологов. Точнее других результат Ельцина предсказали: Институт сравнительных социологических исследований (ожидавший, что президент получит 55 процентов), а также ВЦИОМ: Ельцин — 52 процента, Зюганов — 43…
Четвертое. Всем наблюдателям, аналитикам, журналистам, как у нас, так и за рубежом, было понятно, что Ельцин получил свое преимущество во втором туре за счет голосов сторонников Лебедя и Явлинского, другого просто и быть не могло. А это — несколько миллионов человек.
И, наконец, самое главное. Отрыв Ельцина внушителен. Если считать не в процентах, а в голосах — это около десяти миллионов избирателей. Такой отрыв невозможно обеспечить никакими фальсификациями на избирательных участках (таковых было замечено всего несколько, в отдаленных регионах России, и далеко не всегда — в пользу Ельцина). Такой отрыв невозможно обеспечить никаким «нажатием кнопок».
Но почему тогда миф о том, что Ельцину «накачали голоса», так живуч?
Во-первых, потому, что миф до сих пор активно развивают и дополняют «страшными подробностями» политики, которым это выгодно. Им выгодно пинать мертвого льва. Это, вообще-то говоря, приятное и безопасное занятие для натур определенного сорта.
И, во-вторых, многие из нас попросту
Вопрос о «нечестных выборах» 1996 года еще раз всплыл уже во время избирательной кампании 1999 года, когда новые оппоненты Ельцина попытались припомнить президенту и его команде все возможные грехи. Тут же всплыли и финансовые документы, и несколько судебных исков по результатам выборов. Так и родился миф.
Интересно, что Геннадий Зюганов как главный аргумент своего «неверия» в результаты выборов называет такую причину: он, мол, не встречал ни одного человека, который бы голосовал за Ельцина. Просто вот ходил, спрашивал, и, оказывается, никто не голосовал.
Всё верно. У Зюганова «другая Россия». Другая страна.
Та страна, которая 3 июля проголосовала за Ельцина, действительно совсем иная. Сведения о ней до сих пор крайне противоречивы. Да и что расскажешь: люди в ней пытаются жить нормальной жизнью, надеются на собственные силы, не очень рассчитывают на государство. Они хотят жить спокойно и счастливо, и у них это, вопреки всем прогнозам, получается. 3 июля эта страна оказалась больше на десять миллионов человек.
Почему? Эта обыденная, даже «скучная», скрытая, спрятанная реальность средней России — России, которая не любит говорить о своих доходах, предпочтениях, вкусах, социальных стандартах и духовных приоритетах, не любит высовываться, не имеет своих глашатаев, — она и есть та настоящая реальность, в которой мы живем ДО СИХ ПОР. И это нормально. Настоящая, подлинная, массовая реальность не кричит о себе, не просит помощи.
Она проявляет себя иначе. Просит не обращать на нее внимания. И сама обращает на кого-то внимание только вот в такие решающие дни. Когда прятаться дальше просто невозможно.
Ельцин принимал поздравления, находясь в постели.
Лежал на больничной койке, смотрел в белый потолок, и чудовищное, бесконечное, смертельное напряжение постепенно отпускало его…
Но впереди еще трудные минуты инаугурации, когда он произносил клятву президента, стоя на подкашивающихся ногах.
Впереди были дни, когда он задавал себе вопрос — а что же дальше? Сможет ли он продержаться еще и второй срок?
Впереди дни, наполненные обычной, напряженной работой.
Начиная с 3 июля 1996 года врачи заговорили с ним о необходимости операции.
«Аортокоронарное шунтирование сердечной мышцы» — вот как она называлась. Информацию о том, что операция (в его случае) далеко не простая и что риск есть, от него не скрывали. Определенный процент больных не переносит шунтирования. Умирает. С другой стороны, операция настолько отработана технологически и проводилась во всем мире так часто, что риск достаточно «минимизирован».
Немного подумав, он решился.
Правду о своем здоровье скрывать больше не было смысла. Бой выигран. 5 сентября он обратился к нации с обращением, в котором, в частности, сказал: он хочет, чтобы ему сделали операцию, потому что она может дать ему
Он верил, что это возможно.
Врачи обещали ему это…
Первый решительный разговор с врачами состоялся уже после 3 июля 1996-го.
Они объяснили: операция по аортокоронарному шунтированию делается сердечникам во всем мире. Технология отработана. Бояться, в общем-то, нечего.
«А если я не пойду на операцию?» — все же спросил Б. Н. Как бы уточнил. Проверил.
Вот что ответили Ельцину медики: «Ваше состояние будет плавно ухудшаться (удивительная по своей дипломатичности формулировка. — Б. М.). Работоспособность будет неуклонно падать. Сколько именно вы проживете — год, два, три, может быть, меньше — мы точно сказать не можем».
Приговор.
9 августа 1996-го он принимает присягу в Кремлевском дворце. Произносит торжественную клятву президента, держа руку на Конституции. Большая речь, торжественный парад…
Церемонию сократили до двадцати пяти минут. И тем не менее выдержал ее Ельцин с большим трудом. Это видели все, кто был в зале. Ну а те, кто наблюдал за инаугурацией по телевизору, о многом в тот день догадались.
После инаугурации он уезжает в Завидово — готовиться к операции.
Но отдых не принес желаемого результата. Наоборот, у Ельцина сильно упал гемоглобин. Вот как он описывает свое состояние: «Слабею с каждым днем, есть не хочу, пить не хочу, только лежать… Позвал врачей. Это что, конец? Да нет, говорят, Борис Николаевич, не должно быть. Всё идет по плану… Таня, Лена, Наина — все в шоке. За несколько дней я сильно осунулся».
Осунувшегося Ельцина интенсивно готовили к операции. Ее перенесли на начало ноября, хотя первоначально предполагалось — в сентябре. Необходимо было восстановить ресурсы организма, поднять гемоглобин.
Вообще решение делать операцию в России тоже было неочевидным, многие российские кардиологи честно предупреждали его: аортокоронарное шунтирование — технология, отработанная именно в западных клиниках, и будет даже спокойнее, если он решит делать эту операцию где-то на Западе.
Нет, он будет делать операцию только в России. (Кстати, позднее российские медики привлекли легендарного американского кардиохирурга Майкла Дебейки, он прилетел в Москву и консультировал наших специалистов.)
Ему назначили коронарографию — болезненное исследование, когда в сердце через катетер вводят йодсодержащую жидкость и проверяют работу клапанов. Исследование показало: затруднен кровоток, закупорены сосуды. Если до исследования предполагаемой целью операции было восстановление нормальной работы сердца, то после него стало ясно — операция нужна по «жизненным показаниям». Оказалось, что все еще хуже, чем предполагалось вначале.
Тем не менее он продолжал активно работать, Встречался с премьером Черномырдиным, обсуждая новый состав кабинета, назначил нового главу администрации (Анатолия Чубайса).
Постепенно, шаг за шагом он приближался к назначенному сроку. На сутки, на двое он ложился в ЦКБ, еще одно обследование, еще один разговор с врачами, и все-таки часы неумолимо приближали его к этому дню. Рано или поздно эту главную государственную тайну предстояло сделать достоянием гласности.
Для президента Ельцина вердикт врачей ставил ряд не просто психологических, скажем так, личностных, но и политических проблем. Он снова должен уйти из рабочего кабинета. Должен исчезнуть из Кремля (и с экранов телевизоров) на довольно длительный срок — на месяц, два, три… Врачи уходят от ответа на вопрос, когда окончательно будет восстановлена работоспособность, напускают тумана.
Убедить президента, что хранить операцию в тайне — нельзя, опасно, рискованно, — было непросто. Ему написал письмо новый пресс-секретарь Сергей Ястржембский. «Это не личное дело Ельцина и его семьи», — говорилось в нем. Ястржембский выражал позицию новой кремлевской администрации: об операции нужно говорить.
И все же я почти уверен — если бы шунтирование пришлось делать до выборов 96-го года, Ельцин исходил бы из своей прежней логики: его здоровье — его личное дело. Ни к чему лишние разговоры, ни к чему очередной вал публикаций и слухов вокруг этой темы. Но, пройдя эти выборы, он стал другим. Изменился менталитет — если раньше он относился к этому, исходя из советских стереотипов («чем меньше люди знают, тем лучше»), то сейчас, после выборов, приблизился к мысли прямо противоположной — чем
И вот, наконец, он дает интервью РТР в своей резиденции в Завидове. Сидит в зимнем саду, одетый по-домашнему, говорит совершенно по-другому, чем обычно перед телекамерами…
Обращается к стране, объясняя очень простыми словами то, что должно произойти. Он не хотел говорить об этом, но россияне должны знать правду — он хочет повысить свою работоспособность, он хочет нормально
Осень 96-го года. Снова ожидание, но уже другое — не возбужденное, нервное, в ажиотаже и прогнозах, а спокойное, фатальное, тихое. Как листва, медленно летящая вниз.
5 ноября.
Несколько черных джипов сквозь дождь и снег ранним утром, еще в рассветной полумгле, разворачиваются при въезде в кардиологический центр. К 12 часам дня журналистов пригласили, чтобы объявить результаты операции… Что же было до этого?
Рано утром Ельцин входит в приемный покой вместе с Наиной Иосифовной. Его встречает толпа людей в зеленых хирургических халатах.
Лица их напряжены, даже бледны.
Он пытается разрядить обстановку шуткой. Шутка звучит, прямо скажем, мрачновато: «Ножи уже при вас?»
Первые слова выдают обычную, типовую реакцию предоперационного больного — волнение перед тем, как сознание покинет тебя и вмешательство врачей в твой организм станет неизбежным.
Но на врачей ординарная шутка действует ободряюще. Они тоже начинают улыбаться.
«Началась операция в восемь утра, — пишет Ельцин в «Президентском марафоне». — Кончилась в четырнадцать. Шунтов (новых, вшитых в сердце кровеносных сосудов, которые вырезали из моих же ног) потребовалось не четыре, а пять. Сердце заработало сразу, как только меня отключили от аппарата». Российские хирурги не очень любят распространяться о ходе операции. Но из того, что говорит сам Ельцин, можно понять — она была далеко не простой.
Заранее было подготовлено два указа — о передаче всех президентских полномочий Виктору Черномырдину (в том числе, разумеется, так называемой «ядерной кнопки») и их возвращении президенту.
Как только Ельцин очнулся, он немедленно подписал второй указ.
Это была символическая процедура, но очень важная для него. Страна должна была узнать, что президентом России по-прежнему остается он.
Политический аспект операции можно было подготовить заранее. Медицинский — нет. Как будет пациент чувствовать себя в послеоперационный период? Этот вопрос волновал всех, не только россиян, за судьбой Ельцина, за его пульсом, за ритмом его сердечной мышцы пристально следит весь мир.
«Что было по-настоящему неприятно и болезненно — огромный шов на груди. Он напоминал о том, как именно проходила операция.
…Уже 7 ноября меня посадили в кресло. А 8-го я уже начал ходить с помощью медсестер и врачей. Ходил минут по пять вокруг кровати. Дико болела грудная клетка: во время операции ее распилили, а затем стянули железными скобками. Болели разрезанные ноги. Невероятная слабость. И, несмотря на это, — чувство огромной свободы, легкости, радости: я дышу! Сердце не болит!..
8 ноября я, несмотря на все уговоры врачей, уже уехал в ЦКБ, минуя специальную послеоперационную палату.
20 ноября сняли послеоперационные швы. В первый раз вышел в парк.
22 ноября я переехал в Барвиху. Торопил врачей, теребил их: когда? когда? когда? Врачи считали, что после Нового года, в начале января, я смогу вернуться в Кремль… Доктор Беленков, очень тонко улавливающий мое состояние, попросил: “Борис Николаевич, не форсируйте. Это добром не кончится. Не рвитесь никуда”.
4 декабря я переехал из санатория на дачу в Горки, можно сказать, домой. Родные заметили, что я сильно изменился. “Как изменился-то?” — спрашиваю. “Ты какой-то стал добрый, дедушка”, — смеется внучка Маша. “А что, был злой?” — “Да нет, просто ты стал всех вокруг замечать. Смотришь по-другому, реагируешь на все как-то по-новому”.
Да я и сам чувствовал, как изменился внутренне после операции…
9 декабря я перелетел на вертолете в Завидово, где должен был восстановиться окончательно. Туда, в Завидово, ко мне прилетел Гельмут Коль. В сущности, это не был дипломатический визит. Гельмут просто хотел меня проведать. Увидеть после операции…
23 декабря я вернулся в Кремль — на две недели опередив самый “ускоренный” график, составленный врачами. Все окружающие обратили внимание на то, как я похудел и как легко стал двигаться. Действительно, не ходил, а бегал. Стал гораздо быстрее говорить. Сам себя не узнавал в зеркале. Другой вес, другое ощущение тела, другое лицо…
За всеми делами незаметно приблизился Новый год.
Хотелось видеть не только привычную кремлевскую обстановку, а просто людей на улице: что они делают, как готовятся к празднику…
“Заеду в магазин, куплю внукам игрушки”, — подумал я.
По дороге с работы заехал в магазин “Аист” на Кутузовском проспекте. Меня окружили продавцы… В игрушечном магазине я не был сто лет.
Купил огромную детскую машину для Глеба — очень люблю большие подарки…
31 декабря поехал на “елку”. Так мы между собой называем торжественный прием в Кремле, который устраивает обычно Юрий Михайлович Лужков.
…С первых секунд в Большом Кремлевском дворце испытал какие-то новые, для себя необычные чувства. После долгого отсутствия я почти физически ощутил на себе тысячи внимательных взглядов. Чувствительность, оказывается, после операции совсем другая. Как будто кожа стала тоньше. Этого я не предполагал.
…А через несколько дней после Нового года я пошел в баню.
Пытался убедить себя: всё, хватит лазарета, я нормальный человек. Езжу на работу, пью шампанское, хожу в баню. Пришел, разделся. А баня еще не нагрелась.
7 января меня с подозрением на пневмонию госпитализировали в ЦКБ» («Президентский марафон»).
Еще раз перечитываю этот отрывок.
«Пришел, разделся…» Нетерпение снова почувствовать свою силу, свое здоровье. Нетерпение — то, что так часто двигало им на всем протяжении жизни.
После 7 января 1997 года хроническая пневмония станет постоянным его спутником. Приступы будут повторяться.
…Однако вернемся на несколько месяцев назад.
Между первым туром выборов и операцией на сердце уместился такой серьезный эпизод в российской политике, как быстрый взлет и такое же быстрое падение генерала Александра Лебедя.
Перемирие, подписанное в мае в Кремле, как всегда, в условиях реальной войны, быстро оказалось свернуто. Российские генералы не собирались признавать свое поражение, чеченцы — тоже.
В августе в Грозный снова скрытно проникли боевики, собираясь окружить и уничтожить российскую группировку в городе. Лебедь вылетел в Чечню, где провел несколько встреч с Асланом Масхадовым, лидером чеченских сепаратистов.
Помощники Ельцина цитируют в своей книге стенограмму этих переговоров:
«
Выполняя договоренности, достигнутые между первым и вторым туром выборов, Ельцин дает Лебедю (новому секретарю Совета безопасности) особые полномочия для ведения мирных переговоров.
14 августа Лебедь встретился в Кремле с Ельциным, который подписал Указ «О дополнительных мерах по урегулированию кризиса в Чеченской республике». Руководство процессом целиком перешло к нему.
16 августа Лебедь говорит на пресс-конференции о том, что российские войска несут в Чечне неоправданно высокие потери, называет цифры — с 6 по 15 августа погибли 247 человек, ранено 1020, без вести пропавшие — 120.
Цифры действительно страшные. Далее следует пассаж:
«Государство, если оно таковым является, не может позволить себе симулировать кипучую деятельность».
Условием союза Ельцина и Лебедя перед вторым туром выборов были отставка министра обороны Павла Грачева и назначение на этот пост генерала Игоря Родионова. Однако Лебедь пошел еще дальше. Он отправляет в отставку нескольких заместителей министра обороны, заявляя о том, что в министерстве готовилась попытка «военного переворота». Его очевидная цель — полный контроль силовых структур. Генерал Родионов, который был известен по событиям в Тбилиси 1989 года, воспринял приход Лебедя во власть как полный карт-бланш. Первое, что сделал новый министр обороны — снял со стены своего кабинета портрет президента и повесил вместо него герб России. Жест глубоко символический: «Ельцин мне не указ…»
Следующей мишенью Лебедя, после Грачева, стал другой ельцинский «силовик» — министр МВД Куликов. Их противостояние было настолько жестким, а публичные выпады друг против друга настолько откровенными, что стало ясно — либо один, либо другой должен уйти.
Было ясно, что, если все силовые ведомства будут контролироваться Лебедем (особенно после того, как Ельцину сделают операцию), ситуация станет и вовсе не предсказуемой.
«Оставлять его в Кремле… было опасно», — скупо напишет позднее Ельцин.
События развивались стремительно: 17 августа генерал Пуликовский (командующий группировкой в Чечне) подписал приказ о прекращении боевых действий, а 19 августа он же обнародовал свой ультиматум, потребовав от боевиков покинуть Грозный. Из города начали уходить мирные жители. Огромная армия чеченцев была, по сути, блокирована. Российские военные снова могли бы одержать победу. Но какой ценой?
В том, что говорит Лебедь о государстве, которое «симулирует кипучую деятельность», есть своя логика. Для того чтобы одержать полную военную победу в Чечне, чтобы продолжать войну, у страны в 1996 году просто нет ресурсов, нет прежде всего моральной правоты и силы.
22 августа Лебедь вынудил Пуликовского подписать документ о разведении противоборствующих сторон, а 30-го подписал так называемый Хасавюртовский мир (официально этот документ назывался «Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской республикой»).
Это было событие, которое до сих пор вызывает крайне противоречивые оценки. С одной стороны, этот «мир» не создал мира, он дал лишь передышку между первой и второй войной в Чечне. Не решил проблемы, не создал основы для длительного переговорного процесса, для поэтапного, как предполагалось вначале, вывода войск и разделения полномочий. И хотя Москва позднее признала выборы нового чеченского президента, поддерживала с республикой официальные отношения и Масхадов в папахе даже еще раз официально посетил Кремль уже в новом, 1997 году — все это была лишь отсрочка. Мир был слишком быстрым, слишком политизированным, слишком неподготовленным.
С другой стороны, российское общество к этому моменту настолько устало от непопулярной войны, что никаких серьезных протестов Хасавюртовский мир в обществе не вызвал, войска выводили из Чечни молча, тихо, что называется, «без комментариев».
Но вот интересная деталь.
Журналист Леонид Млечин, ссылаясь на высокопоставленного чиновника кремлевской администрации, пишет, как Александр Лебедь вернулся, разгоряченный, после подписания документов с чеченцами. Чиновник администрации стал расспрашивать его, что будет потом. «Он, среди прочего, говорит: “Надо готовить киллеров”. — “Для чего?” — “Да с этими людьми — Яндарбиевым, Масхадовым — дело же иметь нельзя. Придется решать вопрос”. Я (чиновник администрации. — Б. М.) человек не наивный в политике, но внутренне содрогнулся».
Значит, Лебедь прекрасно понимал, с кем он подписывает мир. Тогда почему же он сломал хребет российской военной верхушке в Чечне, заставил генералов пойти на свои условия?
Мир в Чечне был для Лебедя важной политической победой. Лебедь набирал очки — мир был настолько желанен, что подписание Хасавюртовских соглашений, без преувеличения, было встречено всеми с огромным облегчением. С другой стороны, генерал искренне считал, что президент Ельцин настолько серьезно болен, что досрочный приход к власти — дело если не нескольких недель, то месяцев. Работать с Ельциным долго он, в общем-то, не собирался. И это была его главная ошибка.
В нашей новейшей истории генерал Лебедь — фигура одновременно и по-настоящему трагическая, и карикатурная. Целый ряд политических консультантов (и в их числе Борис Березовский) всерьез видели в нем будущего президента России. Между тем уже первые недели его пребывания в Кремле показали, что Лебедь не просто ничего не понимает в функционировании власти, в сложной системе отношений между властью законодательной и исполнительной, между администрацией и правительством, но даже и не собирается в это вникать, этому учиться. Лебедь не верил никому и ничему. Неслучайно он сразу отверг положенную ему по должности охрану и ввел в Кремль свою — так называемых «десантников Лебедя», то есть отборный армейский спецназ, который подчинялся только ему. Не случайно Лебедь комментировал любые действия правительства и президента, ничуть не стесняясь в выражениях. Более популистских высказываний я на российском телевидении, честно говоря, не припомню, тут Лебедь перещеголял даже раннего Жириновского. Когда Лебедь почувствовал, что за ним следят (это была акция со стороны министра МВД Куликова, который также опасался прямых угроз Лебедя), — он отдал приказ положить милиционеров в штатском «лицом на асфальт». В центре Москвы едва не разгорелась перестрелка.
И все же, повторяю, было в его фигуре что-то трагическое.
Вот что говорит о нем Ельцин: «Я чувствовал, как мечется этот неординарный человек, как ему хочется былой определенности, четкости, ясности — и как ему плохо от того, что он ее не находит в своей новой жизни. Не только чувствовал, но и сочувствовал. Журналисты уловили эту мою симпатию, поспешили назначить Лебедя моим преемником» («Президентский марафон»).
И затем короткая ясная фраза: «Никаким преемником он, конечно, не мог быть».
Лебедь — ярчайший пример политической «кессонной болезни», когда внезапно взлетевший во власть человек теряет чувство реальности, становится заложником своего успеха.
Понимая, в чем логика действий нового секретаря Совбеза, Ельцин ограничивает его активность сухо и спокойно: сначала он перестает принимать генерала, отвечать на его звонки. Лебедь попытался даже приехать к президенту в Горки, но Ельцин не принял его. Лебедь лез напролом, нарушая все правила («Такого не было никогда, чтобы к президенту кто-то пытался ворваться без предупреждения, папа, естественно, не собирался менять свои привычки и не пустил его», — вспоминает Татьяна, дочь Ельцина).
Президент создает новый государственный орган — Совет обороны, лишая Лебедя части важнейших полномочий. И уже затем, когда публичные нападки Лебедя достигают наивысшей точки, просто отправляет его в отставку.
Ельцин прекрасно знает: никакой серьезной угрозы генерал Лебедь на самом деле не представляет.
Но не случайно он так подробно пытается описать менталитет бывшего военного, ринувшегося в политику, как в атаку. Он присматривается к этому менталитету. Он изучает его.
Он уже задумывается о характере того человека, который должен прийти ему на смену. И приходит к выводу: этот — не подходит.
6 марта 1997 года Ельцин поднялся на подиум в Мраморном зале Кремля, чтобы зачитать ежегодное послание «О положении в России на совместном заседании Думы и Совета Федерации». Послание имеет красноречивое название — «Порядок во власти — порядок в стране».
Двадцать пять минут, которые он попросил отвести себе по регламенту, были наполнены его четким, суховатым голосом, в котором ощущались прежнее волнение и напряжение.
Вот что говорил Ельцин в тот день:
«Абсолютное большинство возникших проблем в России порождено, с одной стороны, пренебрежительным отношением к правовым нормам, а с другой — неумелыми действиями власти или ее пассивностью.
В этих условиях порядок в стране начнется только с наведения порядка в самом государственном организме. Не повысив качество управления, не решить другие проблемы, главная из которых — улучшение жизни россиян.
Итак, сегодня именно управленческую сферу я объявляю “зоной особого внимания”, приоритетом номер один среди всех направлений текущей политики.
У этого приоритета есть простое короткое имя — Правовой Порядок».
Существует много стереотипов о Ельцине, мифов о нем.
Один из таких устойчивых стереотипов — ухудшившееся здоровье Бориса Николаевича во время его второго президентского срока стало главным фактором российской политики. Периоды огромного подъема, когда похудевший и посветлевший Ельцин начнет второй этап своей экономической революции, сменятся тяжелыми телевизионными кадрами 1998–1999 годов — одутловатость, замедленность реакций, осторожная стариковская походка.
Однако вовсе не плохое здоровье было его главным противником во время второго президентского срока. Воля Ельцина, и мы это увидим, по-прежнему оставалась несокрушимой.
…Тогда что же?
Новое государство, Россия, начинавшееся с чистого листа, теперь, в 1997 году, в начале его второго срока, уже не выглядит фикцией, голой мыслительной конструкцией, пустым каркасом. Оно наполнилось жизнью, обрело законы, мировой статус, политические институты и даже короткую, но драматическую историю.
Вслед за кризисом государственности удалось победить кризис двоевластия, почти неизбежно возникающий в пост-революционную эпоху. Остались позади экономическая яма начала 90-х, пустые полки магазинов, полное отсутствие банковской системы, падение добычи нефти, исчезновение золотовалютного запаса, позади гиперинфляция, резкий спад производства — страна медленно, потихоньку, но выбиралась из тупика. Удалось снять остроту в чеченском кризисе, хотя бы на время. Выиграть выборы — с трудом, но удалось. Все его главные враги были побеждены надежно, основательно, вчистую.
Казалось бы, теперь можно завершить экономическую реформу, социальную, военную, правовую.
Дать стране выбрать нового президента, как писал в 1994 году его бывший соратник Бурбулис, «из целой плеяды лидеров». Воспитать, вывести на арену этих новых политиков.
Сделать страну воистину демократической, без оговорок и кавычек, экономику — рыночной, общество — открытым.
Но у него оставался один, главный противник, которого нельзя было победить никакими политическими усилиями.
Имя ему — российский менталитет. Слово «русский» здесь, пожалуй, не очень уместно, Россия многонациональная страна, впрочем, русскими нас называют везде в мире, независимо от национальности. Это, скажем так, менталитет граждан нашей страны. Наш менталитет. Свойственный и чиновнику, и милиционеру, и крестьянину, и строителю, и интеллектуалу, всем нам.
Менталитет складывается из разных сложных чувств.
Из национальной гордости — она есть во всех странах, и больших, и малых. Из национальных комплексов, из национальных обид, из темперамента и привычек, из подозрений и даже вражды к соседям, к соперникам, к иностранцам или мигрантам, словом, к
Но есть вещи, которые можем точно сформулировать лишь мы сами, люди, живущие в своей стране. Это скрытые, но может быть, самые сильные, даже определяющие стороны менталитета. В России, например, до сих пор многие боготворят Сталина, считают его образ правления «самым подходящим», и это понятно — жесткая конструкция государства была почти неизменной в течение столетий. Но внутри этой жесткой конструкции как неосознанный ответ, скрытно и глубоко, живет анархичность русского сознания. Государство, которое взяло на себя функции Церкви, определяло долгие годы, что морально, а что нет, — само породило эту анархическую спутанность понятий, ценностей,
Органическая невозможность подчиняться любым запретам.
Неумение выполнять правила.
Незнание законов.
Нелюбовь и неуважение к своему государству — ровно до того момента, пока государство в ответ не применит механизм самозащиты, то есть репрессии.
Неуважение к чужой собственности и к чужому праву на свой голос, свою позицию.
Неумение решать споры цивилизованным путем.
Началось, как мы помним, с экономики, которая продолжала жить по нормативам, установленным постановлениями Совнаркома от тридцать такого-то года. Первой рассыпалась она. Затем настала очередь и всего остального, например социальной морали.
Страна отнюдь не возражала жить в этой анархии, хотя большинство политической элиты с жаром отстаивало идею «сильного государства». Ельцин столкнулся с огромной задачей: выстроить новую систему ценностей и правил, и не только экономических. А их не было в бизнесе, их не было в управлении, их не было в прессе.
Вот с чем столкнулся Ельцин, с какой корневой чертой российского менталитета. А вернее, споткнулся об нее. Споткнулся сразу, с первых же шагов, и особенно — с началом своего второго срока. Который должен был воплотить все его мечты, все его замыслы. Сделать его проект реальностью.
Однако что же является альтернативой закону и порядку, если они не соблюдаются по тем или иным причинам? Каков в таком случае механизм общественного согласия? И в чем оно, это согласие?
В таком случае в дело вступают молчаливые договоренности. Некие стихийно складывающиеся правила игры, порой прямо противоположные формальным, гласным, легальным.
Это тоже порядок, но теневой.
Заключенный, бывший зэк, работавший у Ельцина на стройке и пришедший к нему в конторку с топором, требовал именно этого — соблюдения неписаных, негласных договоренностей. Выписывать наряды не по факту, а по традиции, «как положено», потому что для зэков должна быть поблажка.
Когда молодой Ельцин стал большим начальником и требовал от своих подчиненных жесточайшей пунктуальности, сухих деловых отчетов, исключал опоздания, боролся с малейшим нарушением иерархии (за что его не раз называли жестким, властным) — он требовал на самом деле того же: соблюдения писаных, формальных правил игры. Не хотел подчиняться законам двойной трудовой морали.
При этом не был сухарем, прагматиком, человеком, лишенным страстей, эмоций, слабостей. Напротив, он до краев был начинен страстями и эмоциями, они переполняли его. Он никогда не стремился и не мог их подавить. И вот почему: эти эмоции никогда не мешали проявлению его воли.
Напротив, делали эту волю еще более неукротимой.
Именно воля заставляла его отвергать «неписаный порядок», который безропотно или осознанно принимался большинством. Эта темная сила народной привычки, негласных общественных устоев,
Неслучайно, если внимательно вчитаться в тексты его речей советского и раннего перестроечного периода — в них поражает обилие сухих фактов, цифр, формулировок, бесконечный перечень проблем, неразрешенных вопросов. И главное, суровый, подчас даже неоправданно суровый и страстный поиск виновных, ответственных, поиск того
Отсутствие таких привычных для советского стиля общих, успокаивающих, гуманных, духоподъемных формул — отзвук его необычной ментальности, хотя и спрятанный в сухую бюрократическую упаковку.
…Когда Ельцин в Свердловске или в Москве боролся с неэффективным использованием рабочей силы, с воровством в торговле, с барством своих чиновников — он боролся против косных обычаев и косной народной привычки.
Кстати, сегодня его деловой стиль советского периода (строительный трест, обком, Московский горком) воспринимался бы совершенно естественно, органично. Он легко бы нашел язык с сегодняшними менеджерами, жесткими, точными, не прощающими ошибок и превыше всего ставящими результат, а не процесс. Ельцин был одним из первых таких «эффективных менеджеров» западного типа в нашей стране, но его личная идеология простиралась, конечно, далеко за пределы конкретных задач. Эти конкретные задачи — выселить людей из бараков, построить метро, обеспечить жителей индустриального Свердловска мясом и овощами, повысить производительность труда, заставить чиновников вести себя скромнее, ограничить их — все время менялись, а
…Никто, например, не мог объяснить первому секретарю обкома Ельцину, почему шахтерам не дают чистых наволочек. Этот факт — невозможность пришедшему из угольного ада человеку лечь на чистое белье — требовалось принять на веру. Уговорить шахтеров, успокоить их обещанием, приструнить грозным словом, снова восстановить пошатнувшееся равновесие в трудовых коллективах — вот была его прямая задача как партийного руководителя. Но Ельцин приходит в ярость, потому что не понимает: а почему? Напролом пытается решить «проблему», за которой открывается бездна русской жизни. Что за непонятная сила мешает такой простой, понятной вещи, как чистота наволочек? Почему никто не может ему объяснить, куда они деваются? Он требует ясности, борется за прозрачность, целесообразность, логичность,
Когда он, страстно поверив в перестройку, говорил и писал Горбачеву о том, что вокруг него сидят люди, лишь имитирующие преданность новым идеям, он не хотел принимать данность и неизбежность традиций, обычаев, существовавших в политбюро и в партии в целом.
Для него этой данности и этой неизбежности не существовало.
Поэтому все свои крупнейшие радикальные реформы — политического строя, государственности, экономики — он проводил с фанатичной убежденностью в том, что изменения к лучшему возможны, главное — ввести новые правила, новый порядок, новые основы и им строго подчиняться, строго выполнять
Весной 1997 года в правительстве появились сразу два новых первых вице-премьера.
Один из них, Анатолий Чубайс, пришел в правительство уже не в первый раз.
Другим «первым» вице-премьером стал нижегородский губернатор Борис Немцов.
Известно, что Немцов категорически отказывался переезжать в Москву. Он был популярным губернатором и в то же время — искренним демократом. Молодым, умным, перспективным политиком. Немцов не без оснований считал, что его время для «большого старта» еще не пришло, что ему нужно набрать дополнительный политический вес и главное — дождаться нужного момента. Вполне вероятно, что в таком случае он смог бы стать серьезным кандидатом на президентских выборах 2000 года.
В начале 96-го к нему в Нижний приехал, как мы помним, Егор Гайдар — уговаривать стать «единым кандидатом от демократических сил» на президентских выборах. Это было достаточно жесткое давление, но тогда Немцов благоразумно отказался.
Решение, как считали ближайшие помощники Ельцина — Анатолий Чубайс, Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, — нужно принимать немедленно. Поджимали сроки: указ президента о формировании нового состава правительства уже подготовлен, на нем уже стояла дата, а согласия Немцова так и не было. Немцов и в этот раз упрямо отказывался. Он ни за что не хотел ехать в Москву, покидать пост губернатора. Поэтому Таня ночью села в машину и рано утром была в кабинете Немцова в Нижегородском кремле. Из этого следовало, насколько я понимаю логику тех событий, что предложение войти в правительство Немцов получил от самого Ельцина — в данном случае отказаться уже трудно.
В Москве Немцов, который и раньше поддерживал с президентом особые, доверительные и теплые отношения, слегка сдобренные иронией и ельцинскими «подначками», почувствовал себя не просто новым вице-премьером, а человеком, которому, возможно, уготована особая роль.
Вот как он сам описывает эту ситуацию:
«В 1997 году президент Ельцин предложил мне стать первым вице-премьером. Я приехал в Москву и поселился на даче в Архангельском. Постоянного собственного жилья не предвиделось, и чувствовал я себя в Москве, как в долгосрочной командировке…
Борис Николаевич несколько раз интересовался моими бытовыми условиями и социальным статусом. Он настаивал, что вице-премьер не может быть бомжом. Своим указом (распоряжением, если говорить точно. — Б. М.) президент выделил мне квартиру по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 19.
…С московской пропиской произошла еще более фантастическая история. Ельцин примерно через месяц после моего назначения в правительство поинтересовался, прописался ли я. Удивительно, но моими бытовыми вопросами действительно занимался президент России. Только представьте на секундочку уровень внимания президента к своему ближайшему окружению. Например, Борис Николаевич поручил своей дочери подыскать школу для Жанны (дочери Немцова. — Б. М.), и Татьяна Дьяченко действительно помогла найти школу № 20 на Патриарших прудах.
Ельцин интересовался каждой мелочью в моей жизни. Что ж, я приехал в Москву в 37 лет — ни коня, ни воза…»
Здесь, наверное, надо сделать маленькое уточнение. В Москве у Немцова, увы, семейная жизнь не сложилась. Как он сам пишет в своих мемуарах, «оставил квартиру жене Рае и дочери Жанне». И уточняет: «Но это детали». Да, детали, но важные.
«И все-таки о прописке, — продолжает Немцов. — Ельцин как-то мне говорит: “Понимаете, пока вы не прописаны, у вас нет страховки, ребенок не может ходить в поликлинику, жена тоже, милиционеры проверят документы — еще из города выдворят, в обезьянник посадят. Это жизнь, поэтому прописаться обязательно надо”.
Я написал письмо Лужкову с просьбой предоставить московскую прописку. Ответа от Юрия Михайловича нет месяц, два, три… Самому звонить мэру и просить как-то неловко…
По какому-то вопросу прихожу на доклад к президенту. Поговорили, всё нормально — пьем чай, разговариваем за жизнь. Вдруг он спрашивает: “Вас прописали?” Я отвечаю: “Нет”. Он сразу: “Да это беспредел! Что за страна, где первый вице-премьер — бомж!” Тут же при мне снимает трубку и просит соединить с Лужковым.
Буквально через несколько секунд… прозвучал текст, который я никогда не забуду: “Юрий Михайлович, мелковато вы себя ведете”. И повесил трубку. Утром следующего дня в девять часов утра на моем рабочем столе лежало распоряжение мэра Москвы Лужкова о прописке гражданина Немцова в российской столице».
Узнав, кто сидит в кабинете Ельцина, Лужков всё понял.
История с пропиской — лишь маленькая деталь, которая подчеркивает, что Ельцин действительно собирал новую команду, это было
Вместе они должны были сдвинуть не только ситуацию в экономике. Задача ставилась Ельциным куда крупнее. Укрепить, усилить роль государства — вот к чему он так настойчиво стремился в эти первые месяцы 1997 года, когда казалось, что цель близка.
Дело в том, что в целом в экономической ситуации к 1997 году произошли реальные сдвиги. Прекратился спад производства, стабилизировалась национальная валюта. И самое главное — в стране медленно, но верно начал расти средний класс: и своя машина, и новая квартира, и частная школа, и поездки за границу перестали быть привилегией только «новых русских». Это были уже новые «новые русские»: мелкие бизнесмены, менеджеры, служащие, «белые воротнички», то есть люди, скромные доходы которых начали неуклонно расти. Однако структура этих доходов не вписывалась ни в какие общемировые стандарты.
«Используя данные по расходам населения, — пишет, например, Леон Арон, — которые более надежны, чем предоставляемые сведения о доходах, специалисты подсчитали, что доход на душу населения и уровень жизни в полтора-два раза выше сообщаемых налоговым властям… В 1997 году число семей, имеющих в собственности автомобиль (вот очень важная цифра. — Б. М.), выросло до 31 на сто семей — гигантский скачок для страны, в которой семь лет назад (то есть в 1990-м. — Б. М.) автомобиль имели только 18 из ста семей…»
Отвлечемся от перечислений. Вдумаемся. Сколько стоил в 1997 году подержанный автомобиль, как правило, иностранный? Ну, предположим, в среднем — от двух до десяти тысяч долларов. Так вот, треть российских семей в 1997 году имела свое авто! И не только старые «москвичи» и «жигули», но и «вольво», «тойоты», «пежо» и т. д.
При этом практически все эти люди собрали на машину вовсе не путем длительного накопления (какое, к черту, длительное накопление в эти годы), а потому, что стали больше зарабатывать в последние два-три года. Но те же самые люди в официальных ведомостях и декларациях обозначали свой доход практически на пороге бедности (112 долларов в месяц — среднегодовой официальный доход на душу населения в 1997 году). Деньги, получаемые в конвертах, «серая экономика», ускользающая от налогообложения, кормила, одевала, строила Россию.
Особенно ярко эта картина прослеживалась в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах.
С 1989 по 1997 год количество личных автомобилей, например, в Москве увеличилось в три раза!
У роста потребления есть не только цифровое выражение. Он заметен и невооруженным, что называется, глазом. «В городах, где был рост, жизнь возрождалась прямо-таки на глазах, что мог подтвердить любой приезжий, у которого еще остались воспоминания о советских временах. Не стало очередей, не видно больше потоков бедно одетых людей, понуро бредущих по растрескавшимся тротуарам с сумками, портфелями и авоськами от одного грязного магазина к другому в поисках фруктов, колбасы или творога. Теперь все это уступило место чистым и красочным витринам… ярко одетым спокойным прохожим, часто жующим пирожок или бутерброд, купленный здесь же на улице». Так, несколько наивно (с нашей точки зрения), пишет американский биограф Ельцина, вновь пытаясь сопоставить наш быт с общемировыми стандартами.
Да, и пирожок, и бутерброд, «купленный здесь же на улице», и принципиально иная система торговли, и рынок жилья, и массовое приобретение в собственность дачных участков, и изменившаяся структура развлечений, и поголовная компьютеризация, и многое, многое другое свидетельствовало, что цифры государственной статистики не показывают какую-то важную, очень важную правду!
Ну не может человек, официально перебивающийся с хлеба на воду (а именно — со ста до трехсот официальных долларов), ни свозить семью за границу (каждый девятый россиянин, от шестнадцати до двадцати миллионов человек, выезжал в 1997 году за рубеж по делам или на отдых), ни купить себе компьютер, ни тем более машину, ни построить домик на своих сотках, ни даже обновить гардероб, чтобы спокойно идти по улице в яркой одежде, жуя пирожок. Это, извините, какой-то экономический бред.
Надеюсь, что читатель, которому в 90-е годы было 30–40 лет, сейчас задумается и честно вспомнит, когда именно он совершил свои первые жизненно важные приобретения: купил нормальный японский телевизор, другую интересную бытовую технику, сделал ремонт, обмен квартиры, накопил на машину, турпоездку и т. д…. Примерно к 1997 году все эти новые возможности, наконец, перестают быть новыми и недоступными.
Как же все это получилось?
«На долю официального заработка приходилось только 40 процентов. Зарплата в частных фирмах и магазинах была в 2,5 и 3 раза выше той, что указывалась собственниками в налоговых декларациях в 1997 году. По оценке российских властей, неучтенные заработки за 1996 год составили сумму в 250 триллионов рублей (46 миллиардов долларов), или одну десятую ВВП страны» (Леон Арон).
И еще одна цифра. Самая скромная и, наверное, самая важная. Летом 1997 года в Москве произошел всплеск рождаемости. Количество новорожденных подскочило на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом — первое увеличение после 1991 года.
Корень новой жизни начал медленно врастать в почву.
И тем не менее эта новая жизнь несла в себе одну роковую черту — люди продолжали скрывать от государства свои реальные доходы, если таковые имелись. Но не по собственной воле: «серые доходы» были лишь проявлением «серой экономики».
«От 50 до 70 торговых операций (в стране. — Б. М.) осуществлялось с использованием наличности, чтобы избежать учета… 90 процентов производства всего частного сектора, продаж и прибыли скрывалось от властей. Было подсчитано, что российские семьи занижали свои доходы в среднем на 40 процентов… В целом экономика страны превышала официальные статистические данные на 50—100 процентов».
Печально было не то, что утаиваются доходы мелких игроков экономики, как их раньше называли, «частников», то есть доходы более или менее социально успешной части населения.
Печальны причины, по которым все это происходило. Сама мысль о добровольной налоговой дисциплине казалась гражданам дикой. Никогда за 70 лет этого не было, налоги всегда принудительно собирало государство.
Естественно, российские граждане не желали открывать государству свой личный бюджет, чтобы не попасть под удар коррумпированных чиновников, бандитского рэкета, налоговиков, которые могли насмерть замучить юридическое или частное лицо, нарушающее общепринятые правила игры. Это было длительное сопротивление, продолжается оно и сейчас, неслучайно в России установлен один из самых низких уровней подоходного налога — 13 процентов, чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки. Но и сейчас, через десять лет, при благоприятной экономической погоде, при ужесточении давления правоохранительных органов, треть зарплат в России, по данным некоторых исследователей, выдается в конвертах.
Таковы были правила игры в том 97-м году. Но не только на нижнем, а и на среднем и на верхнем экономических этажах эти правила также были в силе.
«Средний этаж» составлял класс так называемых «красных директоров» — бывших советских управленцев, получивших в собственность заводы, фабрики, строительные тресты и т. д., в результате чековой приватизации скупившие акции у своих же работников и приобретших первый, порой крайне криминальный опыт в условиях новой российской экономики.
«Вынужденные действовать на свой страх и риск, большинство управляющих искали доходы от “арендной платы” с недвижимости и от политических связей, а не прибыль от производства и нововведений. Их реакцией на постепенное сокращение субсидий и отмену государственных заказов были не реструктуризация, разработка новой продукции или поиск новых рынков сбыта, а сокращение объема производства, демонтаж и продажа оборудования, расточительное и безрассудное заимствование, задержка с выплатой налогов и накопление огромного долга», — пишет Леон Арон. Можно сказать и резче — новые собственники, родившиеся из старых советских управленцев, превратились в «жирных котов», которые направляли все свои усилия на поддержание статус-кво, приносившего им сверхдоходы и отнимавшего достаток и у государства, и у работников. Были, конечно, и честные люди или люди, балансировавшие на грани разумного, но в целом такая «серая» промышленность не могла вписаться ни в какой нормальный экономический план возрождения.
В 1995 году, напомню, начался второй этап приватизации: продажа крупнейших государственных сырьевых компаний (нефтяные и металлургические гиганты) в частные руки. Цель простая — привлечь инвестиции в определяющий экономическую погоду сектор, укрепить становой хребет российской промышленности.
Без инвестиций остановить спад производства в этих отраслях невозможно. Кроме того, после падения советского планового производства и всей системы хозяйствования эти гиганты срочно нуждались в новом, современном менеджменте. Так появились на свет ЛУКОЙЛ, Сибнефть, «Сиданко», Томскнефть, Новолипецкий МК, Нижнетагильский МК, «Норникель» и многие другие, более мелкие компании.
Это была осмысленная государственная политика. Наполнить бюджет, заставить предприятия работать эффективнее. Но продать компании за их настоящую цену в 1995 году было практически невозможно. Я уже приводил пример с «Норильским никелем»: компания Потанина, заплатившая больше 200 миллионов долларов за контрольный пакет акций этого промышленного гиганта, столкнулась с такими проблемами — социальными, финансовыми, производственными, — что просто не верила, что комбинат можно спасти, и даже пыталась вернуть его назад государству.
Сибнефть вела переговоры о продаже крупного пакета акций французской нефтяной компании за 650 миллионов долларов, однако после долгих переговоров, уже после выборов, в 1997 году, французы наотрез отказались от сделки — слишком велик инвестиционный риск. Все забывают про эти истории, когда рассказывают о продаже наших предприятий за бесценок. Это сейчас они стоят десятки миллиардов, в середине 90-х их рыночная цена была совершенно иной. Да и разразившийся мировой кризис в очередной раз на порядок понизил их рыночную цену.
Когда Ельцин в конце 1995 года увольнял из правительства Чубайса, критиками правительства ему вменялась в вину и практика этих залоговых торгов.
Но вот что говорил об этом известный российский экономист Михаил Делягин: «Нелишне напомнить, что Чубайс был и по сей день остается единственным политиком, на деле, а не на словах активно пытавшимся реализовать права государства как собственника этих акций, добиться того, чтобы принадлежащие государству предприятия хотя бы платили ему налоги и не занимались прямым саботажем его политики. Именно управление Чубайсом федеральным пакетом акций в конце 1995 года в ходе залоговой приватизации фактически спасло государство от банкротства, позволило хоть как-то рассчитаться с долгами».
Как раз ущемление интересов отдельных коммерческих структур (а вовсе не потворствование их интересам) в ходе залоговой приватизации считал Михаил Делягин одной из причин отставки Чубайса.
И тем не менее именно «продажа за бесценок» позволила нефтяной и металлургической отраслям выбраться из кризиса. Единственное, что могли делать новые собственники, — первые годы «работать на нули», вкладывая огромные деньги в переоборудование, модернизацию производства, на пределе рентабельности и даже в убыток. Цена на металл, уголь, наконец, на нефть оставалась низкой в течение всех 90-х. Вот, например, цена на нефть (просто напомню): 19 долларов в 1993-м, 13,6 доллара за баррель в 1998-м. Но постепенно благодаря инвестициям частных компаний падение добычи удалось прекратить. Начался рост: 40, 60 миллионов тонн нефти в год. Отрасль снова начала давать прибыль, поступления в бюджет, валюту.
И все же появление в России по-настоящему крупных собственников не решило главных проблем — экономика оставалась «серой». Что этому способствовало? Дума не принимала необходимого законодательства. (Налоговый кодекс в окончательном виде был принят уже при Путине.) Указы президента, по которым строились экономические отношения, изначально слабее законов. Возникла правовая «дыра», которой с удовольствием пользовались все.
Это привносило неприятное качество в российскую экономику — ощущение закрытости и в конечном итоге ее коррумпированности. Коррупция в России — универсальная норма поведения: «она больше не является нарушением нормы, она стала изменением самой нормы, даже альтернативной (теневой) нормой общественного поведения».
Движение страны к относительной финансовой стабилизации (после череды финансовых кризисов 1993–1994 годов), как вспоминает Анатолий Чубайс, началось еще во второй половине 1995-го. И хотя в начале того мрачного для России года (началась чеченская война) все еще висело на волоске, к концу его правительству удалось добиться определенного «сжатия денежной массы», то есть остановить печатный станок и свести инфляцию к приемлемому уровню… Цена этой стабилизации была высока: расходные статьи бюджета сокращались, наличных денег не хватало, продолжалось падение промышленного производства. Затем в экономике наступил так называемый «предвыборный цикл» (термин ввели еще американские экономисты в 60-е годы), когда государство начинает щедро тратить деньги, а соответственно и печатать новые, поскольку того требует политическая конъюнктура.
После победы на выборах, утвердив новый состав правительства, Ельцин на несколько месяцев отошел от решения главных задач — подготовка к операции на сердце, сама операция, реабилитационный период — и лишь в декабре, как уже было сказано выше, президент вернулся в Кремль.
Вот тут-то и выяснилось, что новый состав правительства Черномырдина, появившийся летом 1996-го, оказался слабым и компромиссным и во многом был определен теми договоренностями, которые сложились в ходе предвыборной борьбы.
Именно тогда, в декабре 1996-го, Ельцин, оставив на своем посту опытного премьера, прошедшего с ним «огонь, воду и медные трубы», решил радикально поменять состав правительства.
В литературе того времени (особенно экономической) много сказано о том, чего добивались «младореформаторы»[30], что они смогли сделать и чего не смогли. Остановлюсь только на самом важном.
Перед новым кабинетом стояла очевидная задача: сделать экономические отношения в стране ясными и прозрачными. Без этого, как они считали, причем вполне справедливо, рыночные механизмы никогда не заработают. Экономический рост так и не начнется, если кто-то будет постоянно «греть руки» на несовершенстве законов и бюджетов, на различных государственных преференциях и льготах.
Первый их лозунг был необычайно прост и понятен: если должен — верни деньги. Ельцин поставил перед «старым-новым» правительством два временных рубежа: вернуть населению все долги по пенсиям к 31 июня, а по зарплатам — к 31 декабря 1997 года. Но то, что кажется нам совершенно элементарной, с привкусом школьной арифметики, задачей сегодня, — тогда, в эпоху неплатежей, запутанных «взаимозачетов» и «отложенных» долгов, в окутанной «серым» туманом экономике было сделать невероятно трудно. От молодых вице-премьеров возврат долгов государства потребовал огромного напряжения всех ресурсов. Однако с этой (первой) задачей они успешно справились.
Труднее было со структурными реформами в экономике. Тогда, вспоминает Чубайс, впервые после 1991 года, оба ключевых вице-премьерских поста достались реформаторам (по традиции, один первый вице-премьер отвечал за финансовую политику, то есть за макроэкономику, а второй — за «реальный сектор», то есть за промышленность, и до середины 1996 года эту роль играл в правительстве Олег Сосковец). Борис Немцов курировал в правительстве именно этот, «реальный» сектор, в том числе так называемых «госмонополистов» (и не только сырьевых). Именно в 1997 году был подготовлен указ президента, посвященный структурной реформе в «естественных монополиях». За основу взяли реформу угольной отрасли, проведенную ранее (как вспоминает Чубайс, в результате реформы удалось закрыть многие убыточные и опасные шахты, что в разы сократило ужасающие цифры смертности шахтеров при авариях). Смысл реформы — разделить отрасль (например, российские железные дороги или энергетику) на компании производящие и продающие, с тем чтобы в конечном итоге снизить тарифы, повысить эффективность, сделать цену на услуги таких монополистов гибкой и обоснованной, а главное — создать среди компаний, продающих железнодорожные перевозки, газ или электроэнергию, нормальную конкуренцию. И если в энергетике, как не без гордости в разговоре с автором этих строк заметил Чубайс, реформа была доведена до конца, то в РЖД и Газпроме — только начата или «проведена наполовину».
Замечу, что практически все наработки «младореформаторов», все их революционные указы или проекты законов, например, по той же реформе естественных монополий, ЖКХ или пенсионной реформе, по борьбе с коррупцией, то есть всё то, что тогда казалось чересчур либеральным и смелым, — всё было тихо, без лишнего политического шума принято Госдумой после президентских выборов 2000 года, под флагами патриотизма и «сильного государства», при президентах Путине и Медведеве, в 2001–2008 годах. Вся их программа, за редкими исключениями!
Однако вовсе не выплата зарплат и пенсий, не структурные реформы в экономике стали основным камнем преткновения для нового состава правительства. Расширить доходную базу бюджета, добиться от крупнейших компаний своевременной уплаты налогов, ввести в стране жесткую финансовую дисциплину, одновременно сокращая ненужные расходы, урезая неоправданные льготы, наконец, приступить к прозрачной денежной приватизации — именно эту задачу, казалось бы, очень простую, решал новый кабинет. Но тогда, в 1997-м, без нее нельзя было приступить и к стратегическим целям, стоявшим перед страной, — добиться роста промышленного производства, создать условия для инвестиций в российскую экономику, вспоминает Егор Гайдар.
Тогда, в 1997 году, новый состав правительства пытался расшатать эту неподвижную конструкцию. Были сделаны первые шаги в другую сторону: начались открытые аукционы, государственные деньги были выведены из так называемых «уполномоченных» банков (еще одна почва для коррупции и злоупотреблений), наконец, создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по налогам и сборам.
Итак, попыткой претворения в жизнь новой экономической программы был ознаменован второй срок президента Ельцина. Вот что он пишет об этом в своей книге:
«Чубайсовская команда очень четко формулировала свои цели: это были так называемые
Что же это были за «семь главных дел правительства» 1997 года? Наберемся терпения и постараемся разобраться…
«Реальное состояние страны — тяжелое. Люди страдают от задержек зарплат, пенсий, стипендий, от простоев на производстве. Финансовая удавка сковала промышленность города и села, душит частную и коллективную инициативу. Капиталы российской глубинки перетекают на столичные счета. Зарплаты военнослужащих, учителей и врачей сжигаются в топках “жэковских” котельных. Устаревшее законодательство содержит богатых за счет бедных, поощряя лоббистов всех мастей изобретать неисполнимые льготы.
Своими главными делами на ближайшее время Правительство считает:
Чтобы выплатить зарплаты, не включая печатный станок, Правительство пойдет на чрезвычайные меры для повышения доходов в бюджеты всех уровней. В ближайшее время предстоит:
— погасить задолженность перед бюджетом РАО “Газпром”, РАО “ЕЭС России” и других крупнейших предприятий-неплательщиков;
— перекрыть каналы контрабанды, обеспечив поступление таможенных платежей в бюджет;
— реализовать в полном масштабе государственную монополию на производство и продажу алкоголя.
Ввести систему директив и жесткую отчетность представителей государства в органах управления предприятиями с изъятием дивидендов по принадлежащим государству акциям в бюджет.
К 31 декабря сего года задолженность по заработной плате работникам всей бюджетной сферы будет сокращена вдвое, к 30 июня следующего — полностью ликвидирована.
Сосредотачивая средства в поддержку нуждающимся, Правительство намерено упорядочить социальное Законодательство. Социальная помощь станет адресной, ее объемы будут приведены в соответствие с имеющимися у государства ресурсами.
Задолженность федерального Пенсионного фонда по пенсиям будет погашена к 30 июня с. г.
Для этого Правительство снизит тарифы на железнодорожные перевозки, газ и электроэнергию для промышленных потребителей.
С принятием Налогового кодекса бремя налогов по стране снизится в среднем на 15 процентов.
Заставить предприятия платить налоги по месту их деятельности, чтобы деньги регионов не перетекали в столичные банки. Закрепить с 1998 года за местными бюджетами подоходный налог с физических лиц, налог с продаж и все виды налога на недвижимость. Экономическое развитие, рост занятости нужны не только столице, но и всем землям России.
Введено обязательное декларирование доходов и имущества всех федеральных и местных государственных служащих; уклонение от подачи деклараций будет пресекаться.
Правительство проследит за соответствием доходов состоятельных граждан и выплаченными ими налогами; будет принят закон о соответствии расходов граждан декларируемым ими доходам.
Жестко внедряется практика открытых конкурсов на государственные закупки и размещение бюджетных средств.
Сокращение государственного бюджета 1997 года не затронет его зарплатные статьи и будет проведено под строжайшим контролем Правительства. Обслуживание бюджета из коммерческих банков будет передано в органы федерального казначейства, институт уполномоченных банков ликвидируется.
Правительство сократит штатную численность работников федеральных органов власти. Аппарат федеральной власти и государство в целом станут обходиться дешевле для всех, кто платит налоги.
Необходимо постоянно разъяснять позицию власти. Каждый гражданин имеет право знать, что и для чего делает Правительство. И Правительство должно все время слышать голос страны.
Не все, что делает власть, может и должно нравиться.
Программе Правительства — жесткий, но необходимый для всех граждан России курс.
Многие пункты этой программы сегодня уже нуждаются в расшифровке.
Например, социальную поддержку в те годы получали все, без дифференциации по доходам семьи. Субсидии, которые для одних семей были далеко не лишними, для других являлись чистой формальностью. Сделать льготы и субсидии адресными, защитить тех, кто действительно нуждался в защите, и ужесточить налоговое бремя для тех, чьи доходы были гораздо выше среднего, — такую задачу ставило правительство. Еще одним ударом по «серой» экономике стало обязательное декларирование доходов всех чиновников как местного, так и федерального уровня.
«Именно тогда, в 1997 году, нам удалось принять этот Указ, как я считаю, единственное работающее средство в борьбе с коррупцией, — говорит Анатолий Чубайс. — Сейчас, когда Указ стал законом и декларирование доходов чиновников стало само собой разумеющейся формальностью, никто не ломает копья вокруг этой правовой нормы, а тогда это вызвало настоящую бурю. Когда Борис Николаевич опубликовал свои доходы в прессе, это стало шоком. Настолько это было непривычным в те времена. Регулярно публиковать в печати свои доходы министры, чиновники администрации президента начали при Путине. А при президенте Медведеве обязательным для чиновников стало и представление деклараций членов семьи. Но первый шаг сделали мы тогда».
«Реальным движением к подлинному федерализму стало и четкое, прозрачное разделение доходов федерального и местного бюджетов, — продолжает Чубайс. — Когда бюджет региона стал складываться из понятной всем налогооблагаемой базы, исчезло еще одно поле для злоупотреблений».
…Удивительно — многое им удалось сделать буквально за считаные месяцы. Удалось остановить инфляцию — она по итогам года была зафиксирована на вполне приемлемом уровне, около 13 процентов. Но что самое главное — начался приток инвестиций в экономику страны!
Об этом свидетельствует прежде всего активность фондового рынка. Как пишут финансовые аналитики, доходность ценных бумаг ведущих российских компаний, таких как РАО «ЕЭС России», АО «Мосэнерго», а также АО «ЛУКОЙЛ» и РАО «Норильский никель», за месяц достигала 500 процентов годовых. Индекс российской фондовой биржи вырос за первое полугодие в
Пополнялся бюджет и за счет приватизации. В III квартале 1997 года доходы консолидированного бюджета достигли беспрецедентной суммы в 7,8 триллиона рублей. И, наконец, самое главное: именно в 1997 году в стране начался рост российского ВВП. «Этот рост, — вспоминает Егор Гайдар, — который начался в 1997 году, прекратился на несколько месяцев в 1998-м, в связи с дефолтом, а потом продолжался, вплоть до 2008 года. Причина? Очень простая: заработали рыночные механизмы».
Анатолий Чубайс вспоминает еще одну деталь: «Когда тебе изо дня в день, из месяца в месяц твои идейные противники инкриминируют развал страны, падение промышленного производства, и все это подтверждается в цифрах — хотя ты умом понимаешь, что ты в этом не виноват, настроение все равно ужасное. Можете себе представить, что я испытал, когда статистики зафиксировали рост ВВП? Сначала цифры были скромные: 0,4 процента. Когда же их пересчитали, выяснилось, что рост по итогам 1997-го был вполне приличный: 1,6 процента».
…Однако и рост ВВП, и бурное повышение котировок на российской бирже, и стремительное увеличение доходной части бюджета, и ужесточение финансовой дисциплины, и разработка структурных реформ в самых трудно реформируемых отраслях экономики для них были лишь важными деталями процесса. Сам процесс зависел от решения главного вопроса: а он, по мнению «младореформаторов», состоял в том, будет ли правительство абсолютно независимым и самостоятельным в принятии решений, главным образом — от крупного российского капитала, который в ту пору уже успел сформироваться. Без этого, как считали Чубайс, Немцов и другие, не будет успеха реформ, не будет промышленного роста, не будет в дальнейшем и честной, прозрачной приватизации. «Кто в стране хозяин — мы или они?» — такой вопрос ставили перед собой «младореформаторы».
О том, чего они добивались, насколько серьезной была их борьба, свидетельствует и такой эпизод: молодой вице-премьер Немцов пошел в атаку на трастовый договор по Газпрому, в результате которого 40 процентов акций могло перейти к его руководителю Рему Вяхиреву по заниженной цене. Вот как описывает этот эпизод сам Немцов: «В Швецию… в составе делегации полетел руководитель “Газпрома” Рем Вяхирев. Это как раз был тот самый момент, когда правительство отказало в приватизации газового монополиста и не позволило Вяхиреву за бесценок купить акции компании через трастовый договор. Ельцин взял Вяхирева за руку, подвел ко мне и спокойно так сказал: “Немцов прав. Трастовый договор надо разорвать. Это грабеж России. Будут проблемы, если не выполните”».
В своей книге Немцов пишет, что пытался разработать и внести в Госдуму закон о коррупции. Стержнем этого закона являлось бы ограничение на предпринимательскую деятельность семей высокопоставленных чиновников. Он приводит в пример семью московского мэра Юрия Лужкова — миллиардное состояние жены Юрия Михайловича — Елены Батуриной. Это состояние могло возникнуть, конечно, только при отсутствии таких законов.
Однако планам этим тогда не суждено было сбыться[31].
Одно из главных политических усилий Ельцина во время второго срока президентства — реформа административного аппарата. Ельцин задумал основательно «перетряхнуть» новые российские элиты. И вот почему.
За короткий, но очень бурный период начала 90-х в стране сложилась новая структура государства, новые административные органы, которых раньше вообще не было. Многие из них дублировали друг друга, конкурировали между собой, жили своей отдельной, «параллельной» жизнью.
Во время второго ельцинского срока удалось решить одну из главных проблем новой российской власти — неопределенность, расплывчатость ее полномочий. При новых главах президентской администрации — А. Чубайсе, В. Юмашеве и А. Волошине — этот таинственный в начале 90-х для многих кремлевский «аппарат» перестал дублировать функции правительства, исчезла двойственность в самом механизме принятия государственных решений.
Вот как сам Ельцин сформулировал это в своей книге: «Я поставил задачу сделать из Администрации президента настоящий интеллектуальный штаб. Самые сильные аналитики в стране должны работать на президента, на власть, а значит, на будущее страны. Приглашать их на любые должности. Не хотят идти в чиновники — не страшно, пусть работают в качестве советников, просто участников постоянных совещаний. В любом качестве они должны быть востребованы». Интеллектуальный аппарат, которым стала администрация президента в те годы, прекрасно функционировал и был востребован и после Ельцина, многие, кого взял на работу Борис Николаевич, продолжили свою работу в администрации и после его ухода — в годы президентства Владимира Путина и даже Дмитрия Медведева.
Еще раз подчеркну свою мысль: это был особый для Ельцина год. Катастрофические события 98-го затушевали, девальвировали в наших глазах эти ельцинские начинания, но справедливость историка требует сказать о них правду.
Одним из важнейших начинаний правительства были так называемые «открытые» аукционы. Они должны были наполнить (и наполнили) бюджет страны реальными деньгами, резко повысить капитализацию российских предприятий.
Среди первых таких аукционов, которые готовило правительство, был аукцион по АО «Связьинвест», производителю телекоммуникационных услуг — непаханое поле в России 1997 года, огромный новый рынок и огромные возможности.
Что же представляло собой АО «Связьинвест»? Вот что писали Альфред Кох и Максим Бойко, готовившие в правительстве эту сделку начиная с 1995 года:
«Привлекательной была… структура “Связьинвеста”, собравшего контрольный пакет акций почти всех местных телефонных станций, так называемых региональных операторов связи». Первоначально сделка планировалась на конец 1995 года, чтобы закрыть ею огромную дыру в бюджете. В качестве покупателей рассматривались международный консорциум (американо-немецко-французский) и итальянская компания «STET». Победили итальянцы. Но вот интересная деталь — когда все препоны (а их было очень много) удалось успешно пройти, зарубежные партнеры выставили новое условие. «Сделка, — пишут Бойко и Кох, — прорабатывалась как раз в момент подготовки и проведения парламентских выборов. Когда же результаты этих выборов стали ясны, то иностранный инвестор, к своему глубочайшему разочарованию, обнаружил, что демократы потерпели поражение».
Одним словом, АО «Связьинвест» решили продать позже и дороже, уже в 1997 году. К этому времени акционерное общество удалось реструктурировать в мощную госмонополию, которая контролировала все виды связи, включая спутниковую, сотовую, междугородную и международную. На продажу выставлено 25 процентов. Будущая сделка рассматривалась как «своего рода показательная операция, которая могла стать хорошим прологом к масштабной денежной приватизации». В 1997 году ставки возросли — речь уже не о сотнях миллионов, а о миллиардах долларов. Открытый, прозрачный аукцион должен ознаменовать настоящий, подлинный переход к «денежной приватизации», которая могла наполнить бюджет страны.
Те, кто готовил аукцион, считали и считают его образцово-показательным.
Все обвинения по своему адресу категорически отвергают. «Ровно в 17.00 в присутствии представителей обеих сторон конверты были вскрыты. Выявили победителя, который предложил 1 миллиард 875 миллионов долларов (консорциум, собранный Владимиром Потаниным и его ОНЭКСИМбанком. — Б. М.) против 1 миллиарда 710 миллионов, заявленных проигравшим консорциумом (куда входили, помимо испанской «Телефоники», другие иностранные участники, собранные Владимиром Гусинским и Михаилом Фридманом. — Б. М.). Никаких претензий по процедуре проведения аукциона Михаил Фридман, представитель проигравшей стороны, в тот момент не предъявлял… А какие могли быть претензии? Фридман сам, находясь в трезвом уме и твердой памяти, написал цифру “1710”. А его конкурент — “1875”… Какой может быть шум? Шум подняли потом Гусинский с Березовским. И если Гусинский хотя бы “Телефонику” привел, то Березовский вообще никакого отношения к сделке не имел.
…С организационной точки зрения это была почти идеальная сделка».
Однако у проигравшей стороны иной взгляд на вещи. Владимир Гусинский, который намеревался купить АО «Связьинвест», шел к сделке два года. Провел огромную подготовительную работу с военными, с Федеральным агентством правительственной связи, которые владели «закрытыми» частотами, собрал финансовые ресурсы. Но правила были изменены в мгновение ока.
До сделки по АО «Связьинвест», то есть первого в стране открытого денежного аукциона, проводились так называемые залоговые аукционы, которые продавец и покупатель готовили сообща, сообща обсуждали детали и решали возникающие проблемы, включая предполагаемую цену промышленного объекта.
Чтобы ввести новые правила игры, их нужно объявить заранее. Дать крупному бизнесу их осмыслить, подготовиться. Но Чубайс, Немцов и Кох настаивали на том, что аукцион должен быть прозрачным. Что старые, плохие правила надо ломать сразу.
Это и привело к информационной войне.
Вот как описывает эти события Борис Немцов:
«Борис Ельцин сначала поддержал наш план борьбы с олигархами. Кстати, сам термин “олигарх” тогда еще не был в обиходе, он появился после конференции “Будущее России: олигархи и свобода”. На конференцию мы пригласили всех известных магнатов, но пришел только Владимир Гусинский. Телекамер было около 100…
Мы с Чубайсом объявили, что очистим Россию от олигархов. Березовский с Гусинским в ответ объявили нам информационную войну. Война против нас заключалась в том, что телекиллер Сергей Доренко еженедельно в программе “Время” обливал нас грязью, рассказывая кошмарные небылицы. Например, ловил за 200 долларов проституток на Тверской, и они рассказывали в эфире общенационального канала, как развлекались в пансионате “Лужки” с Немцовым. Анонимные рассказы анонимных проституток с закрытыми лицами…»
Ярлык «олигархи» (слово, означавшее совсем другое понятие, в частности, из латиноамериканской истории, когда крупные землевладельцы, аристократы, становились одновременно и политической, военной элитой страны) сыграл ключевую роль в российском политическом языке. Ярлык несмываемый, страшный и острый.
«Олигархи» повели атаку на правительство с помощью своих информационных ресурсов.
Чубайс и Немцов в ответ добились, чтобы Ельцин снял с поста заместителя секретаря Совета безопасности Березовского (к истории этого назначения я еще вернусь). Они принесли Б. Н. на подпись готовый указ. Ельцин прореагировал остро. «Кто такой Березовский? — сердито спросил он, если верить словам Немцова. — Вы правительство, вас я знаю, а он никто». Зачеркнул слово «указ» и написал «распоряжение».
Однако применять к Березовскому другие методы административного воздействия Ельцин не собирался. Это было против его правил. Не в его менталитете.
Борьба на информационном поле продолжалась. Но победителей в ней быть не могло. Ельцин раздраженно следил за участниками схватки. Хотел понять, насколько чистым выглядит само правительство, которое так яростно борется за чистоту бизнеса.
Изо дня в день страна слушала из уст телеобозревателей глубокомысленные рассуждения о том, что политика правительства некомпетентна, непродуманна, противоречива, непрофессиональна, неправильна, порочна, абсурдна. Доказательством служила не только последняя сделка по АО «Связьинвест», но и в целом вся политика приватизации последних лет, все действия правительства «младореформаторов».
Эти и другие пассажи настолько задавили информационное пространство, что, казалось, и впрямь происходит что-то катастрофическое.
Что же случилось в момент вскрытия конвертов с разными суммами? Почему это было так важно?
…В критический для президента Ельцина момент, в 1996 году, его поддержал «молодой российский бизнес».
Вначале — в ходе самой предвыборной кампании. Затем, после победы на выборах, начался процесс, который можно описать одной простой фразой: «Мы вместе строим новую страну». В правительство и администрацию начали приходить люди, еще недавно занимавшие разные посты в крупных компаниях. Это были специалисты в разных областях — экономисты, юристы, социологи, политологи, управленцы, которые включились в подготовку новых законов, выработку новых механизмов принятия решений.
Формация молодых и очень успешных людей, которые хотели, чтобы их дети жили в нормальной цивилизованной стране, активно начала помогать «своему» правительству.
Однако продолжалась эта идиллия недолго. В мае 1997-го, в момент аукциона по АО «Связьинвест», она разом закончилась.
«Я считаю, — говорил мне Валентин Юмашев, в то время глава кремлевской администрации, — что эпизод со “Связьинвестом” ключевой в истории России второй половины 90-х годов, как ни странно. Если бы не этот эпизод, всё могло бы пойти по-другому. Возможно, не было бы дефолта. Не было бы кризиса 1999 года. По-другому могло пойти всё развитие страны. Это была крупнейшая ошибка бизнеса и власти».
И здесь я хотел бы сделать отступление от основного сюжета книги. Потому что и в эпизоде с АО «Связьинвест», и в других эпизодах книги снова и снова возникает фигура Бориса Березовского.
Что это за человек? Какое отношение он имел к президенту Ельцину? Правда ли, что Березовский — «крестный отец Кремля», что он чуть ли не ногой открывал двери президентского кабинета?
— Конечно, это полная ерунда и вранье, — рассказывает Валентин Юмашев. — Борис Николаевич встречался в своем кабинете с Березовским в лучшем случае раза три. Он его не очень понимал, не чувствовал. Поэтому он ему и не нравился.
И тем не менее Березовский стал заметной фигурой в команде президента. Как же это произошло?
БАБ впервые появился в Кремле, когда готовился указ о поддержке АвтоВАЗа. В то время Березовский подружился с директором тольяттинского автозавода В. Каданниковым, предложил ему программу реформирования: например, разорвать отношения со старыми автодилерами, которые задолжали заводу десятки миллионов долларов. Настаивал, чтобы с новыми дилерами отношения строились уже на рыночной основе. Скорее всего, именно это и послужило причиной покушения на его жизнь в 94-м году. Затем он предложил заводу экономическую программу создания недорогого «народного» автомобиля.
…Отношения власти и российских предпринимателей тогда еще только начинали строиться. Гайдаровский этап в работе правительства закончился политическим столкновением, в результате которого первые реформаторы ушли в отставку. И, в общем, позиция нового российского бизнеса в тот момент была совершенно аполитичной: вы там занимайтесь своим делом, а мы будем тихо делать свое, пока дают. Но поскольку с уходом гайдаровской команды образовалась некоторая интеллектуальная пустота, рано или поздно кто-то эту пустоту должен был заполнить. Группа представителей российского бизнеса, в частности, М. Фридман и П. Авен («Альфа-групп»), В. Гусинский (группа «Мост»), Б. Березовский, представители банка «Менатеп» (Ходорковский, Невзлин, Шахновский), О. Бойко («Олби»), В. Виноградов («Инкомбанк») и некоторые другие активно включились в этот диалог, предлагали власти новые идеи.
Какие же это были идеи? Нужно было выстроить правовую базу для развития предпринимательства, экономики в целом. В частности, уже в этот момент они предложили ряд законопроектов, концептуальных разработок по налогообложению, по пенсионной реформе, реформе здравоохранения, по ЖКХ (реформа которого так и не завершена до сих пор), по многим другим важнейшим направлениям. Банковская система — ведь по сути она только зарождалась. Как она должна работать, в каких отношениях находиться с государством — никто не знал.
Одним из главных идеологов молодого российского бизнеса в какой-то момент стал Борис Березовский. Он и по возрасту был старше большинства тех, кто входил в эту новую формацию предпринимателей, и воспринимался ими как лидер. Березовский в то время вел непрерывный «мозговой штурм», он умел произвести впечатление яркостью своего интеллекта.
Березовский и стал одним из главных инициаторов диалога власти и бизнеса. При этом он всегда очень убежденно говорил: его цель не бизнес, не деньги, а правильное развитие страны. Бизнес «лишь инструмент» для этой цели. И ему верили.
Одной из первых идей, с которой группа бизнесменов пришла в Кремль в 1994 году, была идея нового,
Мог ли он иметь отношение к убийству?
Даже если исходить из простой логики — нет. Ведь главным инициатором сделать Листьева директором ОРТ был как раз Березовский. В тот момент он обивал пороги руководства администрации президента, убеждая согласиться с этой неординарной кандидатурой. Кремль активно возражал. Директор телевидения — это обычно уже умудренный опытом работы человек в возрасте, этакий медиазубр. А тут какой-то «мальчик» (в тот момент Листьеву был чуть больше тридцати). Но Березовский говорил: у нас молодая страна, ей нужно молодое телевидение, молодому телевидению нужен молодой директор. В конце концов Березовский «пробил» кандидатуру Листьева. И когда Влада не стало, вся концепция Березовского рухнула, ему срочно пришлось искать нового генерального директора.
Им стал человек опытный, умудренный, со званиями — доктор экономических наук, профессор, директор Института мировой экономики и международных отношений Сергей Благоволин. ОРТ начало свою работу и действительно скоро стало одним из самых любимых и популярных телевизионных каналов России. Кстати, и кандидатуру сегодняшнего генерального директора Константина Эрнста, также в непростой борьбе с кремлевскими руководителями, Березовскому удалось отстоять позже, уже в 96-м году.
Первая личная встреча Ельцина и Березовского состоялась в 94-м году.
Рассказывает один из участников встречи, в тот момент главный редактор журнала «Огонек», Лев Гущин:
— У нас уже была договоренность с Борисом Николаевичем, что мы будем печатать отрывки из его новой книги. А Березовский в тот момент был одним из трех основных акционеров «Огонька», вместе с банком «Столичный» и компанией Олега Бойко «Олби». Валентин Юмашев (мой коллега по «Огоньку») сказал, что хочет, чтобы права на русское издание были официально приобретены у автора, то есть у Бориса Николаевича, и автору выплачен за это гонорар. Дело в том, что с первой книгой будущего президента «Исповедь на заданную тему», которая вышла в 89-м году, история была прямо противоположная. Это была чистой воды вольница. Мы стали первыми, кто издал рукопись книги тиражом в сотни тысяч экземпляров. Бесплатно передавали права на издание всем издательствам, которые были готовы печатать книгу опального политика, и, конечно, никто никаких гонораров ни нам, «Огоньку», ни автору не платил. Это была в большей степени политическая акция в поддержку Ельцина. В этот раз решили всё сделать правильно. Валентин переговорил с президентом, Борис Николаевич согласился, однако сказал, что все деньги, которые он получит за русское издание, потратит на благотворительные нужды. После этого Юмашев переговорил с Березовским, который решил финансировать проект. И в торжественной обстановке, в кабинете в Кремле был подписан договор между президентом и журналом «Огонек». Журнал получал эксклюзивные права на русское издание «Записок президента» на территории России. Борис Николаевич пожал руку мне, Борису Абрамовичу, поблагодарил за участие, спросил, понравилась ли рукопись. После этого аудиенция в Кремле закончилась, а через месяц «Огонек» начал публикацию.
Вернемся к истории создания ОРТ. Финансирование канала шло очень туго, участники пула, владевшие равными долями акций, не подозревали, что современное телевидение стоит так дорого, акционеры платили неохотно или не платили совсем, кто-то из них разорялся (как, например, Олег Бойко, владелец компании «Олби», лопнувшей в результате «черного вторника» 1994 года), кто-то терял интерес к проекту. Поступления от рекламы не покрывали и малой толики расходов. Новое телевидение новой страны жило в долг. С каждым месяцем долг рос: перед производителями, перед связистами, перед сотрудниками канала. Что, кстати, не помешало Березовскому и команде, пришедшей на канал, сделать из ОРТ качественное телевидение, пригласить лучших телеведущих, начать делать рейтинговые передачи. ОРТ было единственным каналом, который в тот момент смог конкурировать с первым частным телевизионным каналом НТВ, принадлежащим Владимиру Гусинскому. В силу финансовых обстоятельств и других причин владельцы пакета акций ОРТ начали продавать или передавать в управление свои доли Березовскому. Долг ОРТ продолжал расти, Березовский ходил в Кремль с одной и той же просьбой: решить проблему, придумать, как закрыть долги Первого общественного телеканала. О том, что при своем создании новое общественное телевидение обещало «не брать ни копейки денег» у казны, БАБ старался никому не напоминать.
…И тогда Борис Абрамович предлагает решить вопрос с финансированием ОРТ раз и навсегда. Создается Сибнефть: Березовский выигрывает залоговый аукцион, платит 100 с лишним миллионов долларов государству и вместе с Романом Абрамовичем становится владельцем этой нефтяной компании. Предполагалось, что Сибнефть поможет закрыть долги ОРТ.
Поскольку в план залоговых аукционов эта нефтяная компания попала в последнюю очередь, лучшие и бóльшие по объемам добычи нефти компании уже были приватизированы и достались совсем другим владельцам. ЛУКОЙЛ, «Сиданко», ТНК, Сургутнефтегаз — все эти компании имели бóльшую добычу нефти. Для сравнения, ЛУКОЙЛ давал 40 миллионов тонн нефти в год, Сибнефть в момент создания — только 15.
И все-таки почему Березовский получил доступ к залоговым аукционам, кто ему в этом помог? Ельцин? Но он встречался с ним только официально, к тому моменту всего один раз, никаких личных контактов между ними не было и быть не могло. Обратимся к позднейшей мифологии: Березовскому, мол, помогла могущественная «семья»: Дьяченко, Юмашев, Волошин.
Нет, и тут что-то не сходится. В 95-м Юмашев трудится в «Огоньке», Волошин работает в частной компании, которая называется «Федеральная фондовая корпорация», и Кремль видит только по телевизору, Татьяна Дьяченко ушла с работы из конструкторского бюро, ждет ребенка.
Приватизацией и залоговыми аукционами в правительстве и администрации занимаются совсем другие люди (руководителем Госкомимущества стал в ноябре 1994 года Владимир Полеванов, экономическим блоком в администрации президента занимался в ту пору Александр Лившиц). Сам Березовский — лишь один из игроков финансового рынка, причем не самый крупный.
Кстати, несколько слов о залоговых аукционах, о приватизации нефтяной отрасли. Насколько они оправданы вообще? Если судить по экономическим показателям, это была очень успешная политика: все частные компании за несколько лет резко повысили добычу нефти, инвестировав в них огромные средства, сделав бизнес эффективным. Значительно возросли налоговые поступления, государству в финансовом смысле стало легче дышать, в 1997 году инфляция опустилась до рекордных 13 процентов.
И все же (автора гложут серьезные сомнения) — почему я так подробно описываю судьбу Березовского в книге о Ельцине? Нет ли тут явного противоречия? Думаю, нет — слишком много мифологии, выдумок, полуправды наслоилось на эту тему позднее. Итак…
В 1996 году Борис Абрамович в качестве аналитика, эксперта, советника принимал участие в предвыборной кампании Ельцина, хотя формально и не входил в Аналитическую группу Чубайса. («На заседаниях группы он практически не появлялся, я помню, присутствовал буквально пару раз», — вспоминает дочь Ельцина Татьяна.) В тот момент, понятное дело, идеями бурлили все, кто занимался выборами. И невозможно сейчас определить авторство каждого из реализованных и нереализованных проектов.
Однако все, с кем я говорил, сходятся на том, что привлечение Лебедя после первого тура выборов в качестве союзника Ельцина, назначение его на пост секретаря Совбеза — идея Березовского.
После выборов политическая активность Березовского достигла апогея. Он увидел в Лебеде яркого политического игрока, ездил с ним в Чечню в 1996-м. Лебедь, как человек прагматичный, также захотел использовать его.
Но справедливости ради надо сказать, что когда осенью 1996 года генерал посчитал, что дни президента Ельцина сочтены (это случилось в момент подготовки Б. Н. к операции на сердце), и он решил, что настала пора перехватывать инициативу в свои руки, — Березовский был одним из тех, кто активно боролся с Лебедем. В частности, для этой цели он объединил усилия с министром внутренних дел Куликовым.
…Вообще Борис Абрамович довольно легко перебегал от одного политического игрока, от одного «тяжеловеса» к другому, если считал это целесообразным. Скажем, до 1996 года он активно взаимодействовал с Коржаковым, а потом они стали злейшими врагами; был единомышленником Чубайса, потом стал уничтожать его на телеканале ОРТ; или, например, долгие годы дружил с ближайшим партнером Абрамовичем, а после не просто разошелся с ним, а стал судиться в английских судах. Это тоже была черта его характера.
После отставки генерала Лебедя с поста секретаря Совбеза, которой он активно (вместе с Куликовым) способствовал, Березовский сам пришел к Лебедю с новым проектом. Предложил баллотироваться на выборах красноярского губернатора. Березовский считал, что Лебедь крупный политический игрок, которым нельзя разбрасываться, «тяжеловес», его на всякий случай надо сохранять в политическом поле: он может пригодиться для каких-то будущих раскладов в качестве некоего противовеса.
— Я был активно против этого проекта. Мы задействовали все наши административные и политические ресурсы, СМИ, телевидение, — вспоминает Валентин Юмашев, в то время глава президентской администрации. — Но образ несправедливо обиженного властью доблестного генерала, который удачно раскручивали политтехнологи Березовского, да и сам по себе харизматический облик Лебедя сделали свое дело. Красноярцы на выборах «прокатили» действующего губернатора и выбрали Лебедя.
Очень интересную деталь о своих взаимоотношениях с Березовским поведала в своем блоге Татьяна Юмашева, дочь президента Ельцина (речь идет о событиях 96-го года):
«В тот момент борьба между Коржаковым и Чубайсом дошла до точки. А я по-прежнему к Александру Васильевичу относилась хорошо. Считала, да, он многие вещи мало понимает, но даже если и делает глупости, то не со зла. И пыталась как-то примирить две враждующие команды. И однажды мне в “Президент-отель” звонит Березовский и просит приехать к нему в офис в “ЛогоВАЗ”. Я говорю, мне некогда, приезжайте сюда. Он, что это очень важно, со мной хочет встретиться Борис Федоров, и он может встретиться только здесь. Я думала это бывший министр финансов, не понимаю, почему он не может встретиться в штабе, еду в “ЛогоВАЗ”. Только прошу Валентина Юмашева составить мне компанию. Приезжаем. Выясняется, что со мной хочет поговорить совсем другой Борис Федоров, президент НФС — Национального фонда спорта. Бориса я знаю, он друг Шамиля Тарпищева. Мы садимся, и дальше — часовой разговор о том, какой ужасный Коржаков, как он пытается выколотить деньги из бизнеса, как он подставляет президента и т. д. и т. п. Я прощаюсь со всеми. По дороге разговариваю с Валей, решаем никому ничего про это не говорить, нам конфликта между Коржаковым и Сосковцом, с одной стороны, Илюшиным, Чубайсом и аналитической группой — с другой, вполне достаточно. И вдруг через пару дней в “Московском комсомольце” появляется запись этого разговора. Большая статья, автор — Александр Минкин комментирует запись. Меня, правда, в статье он не называет, мои реплики идут под именем “женщина”. Но только дураку было не ясно, кому могут рассказывать про Коржакова и про то, что Ельцина подставляют. После этого я для себя поняла, что Березовскому я больше никогда верить не смогу».
…Еще одной шумной историей, связанной с Березовским в 96-м году, стало назначение его заместителем секретаря Совета безопасности. Борис Абрамович сумел убедить председателя правительства Виктора Черномырдина (а тот, в свою очередь, главу президентской администрации Анатолия Чубайса) в том, что и так занимается сложными политическими проблемами, в частности Чечней, поддерживает миссию Лебедя, а после его отставки — продолжает ее, ведет переговоры с чеченцами, не обладая никакими серьезными полномочиями. В результате Черномырдин согласился. И убедил в необходимости такого назначения Бориса Николаевича. Сам Б. Н. объяснил это в своей книге просто: решил, что лучше иметь Березовского в своей команде, чем в чужой. Это назначение Березовского на официальный пост вызвало острый конфликт в кремлевской администрации.
— Я сказал Анатолию Борисовичу, что это недопустимая ошибка, — рассказывает Максим Бойко, в тот момент заместитель главы администрации. — Это было вечером. Указ уже подписан президентом, но еще не вышел, то есть не получил свой номер и официальную дату выхода. Меня активно поддержала Татьяна, дочь Бориса Николаевича. У нас были аргументы, с которыми Чубайс, наверное, и сам был согласен: Березовского невозможно представить работающим в команде. Он не будет подчиняться общим правилам. Это ударит по власти, по президенту. Чубайс посмотрел на нас красными от недосыпания глазами (это были его первые недели в должности главы администрации, он практически ночевал в Кремле). Устало сказал: вы что думаете, я этого сам не понимаю? А потом жестко добавил: решение принято, оно не обсуждается.
Березовский активно начал работу на новом посту. Хотя шум поднялся и в прессе, и особенно в Думе, Борис Абрамович на это внимания не обращал. Ездил в Чечню, занимался освобождением заложников. Его главная идея в тот момент состояла в следующем: несмотря на то, что статус Чечни не оговорен, Россия обязана привязать республику к себе экономически. Нужно выделять деньги на восстановление разрушенной инфраструктуры, создавать рабочие места, платить пенсии… С этим обивал пороги правительства, администрации, министерств. Именно тогда канал ОРТ впервые начал показывать его как заместителя секретаря Совбеза. Березовский стал публичной фигурой, каждая его командировка в Чечню освещалась каналом, до этого его никто в лицо не знал. БАБ активно занимается организацией президентских выборов в Чечне, благодаря которым президентом республики становится Аслан Масхадов.
А потом начался конфликт тех, кто совсем недавно еще был вместе. После знаменитой истории с АО «Связьинвест» ОРТ организовало мощную атаку на команду, как тогда говорили, молодых реформаторов. И Березовский — главный идеолог этой войны.
— Что же произошло? — спрашиваю я у Валентина Юмашева.
— В тот момент российский бизнес уже прочно встал на ноги, у каждой группы свои мощные медиаресурсы. А плюс к этому у каждого свои связи во власти, в правоохранительной системе. Все это и было задействовано для уничтожения противника. Гусинский и Березовский каждый день на своих каналах лепили образ врага, рассказывали, какое зло для России несут эти ужасные бизнесмены: Потанин и Прохоров, и еще хуже те, кто им помогает — Чубайс, Немцов, Кох. В свою очередь, «Известия», «Комсомолка», Российский телеканал с утра до вечера то же самое говорили и писали о Гусинском, Березовском. Немцов с Чубайсом решили, что остановить эту вакханалию можно только одним способом: уволить Березовского с поста замсекретаря Совбеза. Это было наивно. Я убеждал их, что, уволив Березовского, они только развязывают ему руки. Естественно, так и произошло. Немедленно после увольнения он вбросил в СМИ материалы уголовного дела, организованного министром внутренних дел Куликовым. Куликов терпеть не мог Чубайса и его команду в правительстве. Березовский это хорошо знал. Так родилось знаменитое дело о гонорарах, «книжное дело», закончившееся отставкой большей части чубайсовской команды.
Быстро придя в себя после отставки, Березовский, используя весь свой талант и дар убеждения, смог добиться получения еще одной высокой должности.
За несколько недель до заседания глав СНГ в Москве он объехал столицы бывших республик СССР, встретился с их президентами и убедил их в необходимости поддержать именно его кандидатуру на пост исполнительного секретаря СНГ.
Вот как сам Ельцин описывает этот эпизод в своей книге:
«Когда мы собрались в Москве, в Екатерининском зале Кремля, совершенно неожиданно для меня президент Украины Леонид Кучма предложил на должность исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского. Он пояснил, что именно такая яркая фигура, как Березовский, может дать мощный импульс работе этого важнейшего органа Содружества. Честно говоря, я был неприятно удивлен. Но это было только начало. Затем стали брать слово президенты государств и один за другим всячески поддерживать эту кандидатуру. В адрес Бориса Абрамовича лились дифирамбы, я успевал только головой крутить, слушая то одного президента, то другого. Наконец, я попросил слово и сказал: “Уважаемые коллеги, вы знаете, какое непростое отношение к Березовскому у нас в стране, особенно среди политической элиты. Давайте подумаем над другой кандидатурой”. И на это услышал: “Борис Николаевич, ну это даже странно, мы тоже знаем Березовского, знаем его плюсы и минусы, но мы предлагаем российского гражданина, а вы отказываюсь. Тогда я попросил время подумать, объявил перерыв и вышел».
Дальше президент вызвал в комнату отдыха председателя правительства С. Кириенко и главу своей администрации В. Юмашева. Оба были резко против этого назначения. В это время шеф президентского протокола срочно разыскивал Березовского. Березовский, конечно, прекрасно понимал, что в этот момент происходило в Кремле.
Вспоминает Татьяна, дочь президента Ельцина:
— Когда я узнала об этом, пришла в ужас. Я была категорически против, пришла к папе и стала буквально умолять его этого не делать. Но он сказал, что Березовского предложили сами президенты стран СНГ, отказать он им не может. Говорил он со мной достаточно раздраженно. К позиции лидеров СНГ папа всегда относился очень внимательно. Как раз в этот момент вошел Шевченко, завел в кабинет Березовского, я уже в его присутствии упрямо продолжала настаивать, что Бориса Абрамовича нельзя назначать ни в коем случае, у нас в стране этого не поймут. Папа жестко сказал: «Можешь идти».
Переговорив с Березовским, Ельцин принял решение. Через полчаса единогласным голосованием Борис Березовский был назначен исполнительным секретарем СНГ.
— Таня, вы часто общались с Березовским? — спрашиваю я.
— Мы много общались в период президентских выборов 1996 года. Несколько меньше в 1997 году. Потом, в примаковский период, практически не виделись.
Еще одна устойчивая версия о влиянии Березовского на политику: он привел на должность главы администрации своего человека, Александра Волошина. Здесь сразу два искажения: никогда Волошин не работал на Березовского, и никогда Березовский не мог бы повлиять на столь высокое назначение.
В 1998-м между Чубайсом и Березовским шла открытая война. Понятно, как Чубайс относился ко всем кадровым инициативам Бориса Абрамовича. Но именно он был тем человеком, с которым Борис Николаевич решил обсудить кандидатуру Волошина на должность главы своей администрации. Об этом Ельцин сам пишет в своей книге. Понятно, почему Ельцину интересно его мнение: Чубайс был главой администрации, наверное, в самое тяжелое для президента время — в момент его болезни, подготовки к операции, выхода из нее. И только после того, как Б. Н. выслушал Чубайса, он подписал указ о назначении.
Но как президент пришел к кандидатуре Волошина?
Александр Стальевич пришел в Кремль на скромную роль помощника главы администрации президента по экономическим вопросам, затем, после августовского кризиса 98-го года, Александр Лившиц, отвечавший за экономический блок вопросов, написал заявление об уходе. И Волошин занял его место. С тех пор они стали общаться все чаще и чаще. Очень плотной была их работа во время подготовки президентского послания Федеральному собранию в 1999 году. Борис Николаевич работал своеобразно, начиная с шести утра, иногда с пяти, и Волошин должен был отвечать на его вопросы практически круглые сутки. В то же время с Примаковым, который как глава правительства тоже работал над президентским посланием, у Волошина постоянно были конфликты по поводу концептуальных экономических вопросов. И когда предыдущий глава администрации, который проработал всего несколько месяцев, Николай Бордюжа, ушел, Борис Николаевич с большим удовольствием вернулся к кандидатуре Волошина.
Березовский сильно постарался, чтобы убедить окружающих в том, что назначение Путина — это его проект. Например, за три дня до голосования на президентских выборах в марте 2000 года он дал большое интервью газете «Ведомости», в котором подробно описывал, какие близкие у него отношения с кандидатом в президенты.
Но Путин никогда не был «проектом Березовского». Более того, Березовский одним из последних узнал о том, что такой вариант вообще возможен. Тем не менее в августе 99-го к Путину, который в тот момент находился в отпуске, с радостным известием приезжает именно Березовский. Ни Волошин, ни Юмашев, ни дочь президента Татьяна ничего не знали об этой «секретной миссии». Разумеется, ничего не знал об этом и Ельцин. Березовский всюду хотел быть первым. Путин ответил ему сдержанно: когда мне об этом сообщит президент, тогда я буду готов эту тему обсуждать.
А Березовский продолжал бурлить идеями. Осенью того же года пришел в администрацию с проектом создания «партии регионов», считая, что в этой аморфной политической ситуации вполне реально создать новую политическую силу за считаные месяцы. Лично объездил нескольких губернаторов. Но затем, когда дело дошло до кропотливой организационной работы, Березовский охладел и к этому проекту. И реальным созданием партии занимались в первую очередь сам Волошин, его первый заместитель Игорь Шабдурасулов, Владислав Сурков, руководитель аппарата Белого дома Дмитрий Козак, администрация президента Ельцина, предвыборный штаб Путина. Но в этот момент (немаловажный штрих) Березовский мог включить в предвыборный список «Единства» кого угодно: своих родственников, друзей, сотрудников. Ведь партия создавалась практически «с колес». Однако в списке нет ни одной его креатуры. В каком-то смысле это подтверждает, что работал Березовский действительно «за идею».
…Но вернемся к сюжету 1997 года.
«Однажды, — пишет Борис Немцов, — в разгар скандала вокруг “Связьинвеста” президент Ельцин пригласил меня в Шуйскую Чупу (резиденцию в Карелии). В девять часов вечера сели пить чай и включили информационную программу “Время”. С первой же секунды в программе начали чихвостить Ельцина… с таким издевательством и презрением рассказывали о президенте, что я вжался в кресло. Мне настолько было неловко и неудобно находиться с ним в этот момент, что готов был просто провалиться сквозь землю. Я следил за Ельциным и ждал его реакции. Ожидал всего… Вот он досмотрит программу и прикажет разыскать Березовского и наказать его или вообще разгонит Первый канал… А он посмотрел минут десять и говорит: “Выключите телевизор!”
Потом полчаса возмущался, каким подлым способом его критиковали. Я сидел и думал: почему он попросил выключить телевизор, а не выключил того же Березовского из бизнеса или политики, — он же советский партийный начальник, который не привык к сопротивлению. Но Ельцин не мог позволить себе показаться слабым и уязвимым».
Навести в стране порядок, победить теневую экономику, коррупцию, силу обычаев и привычки можно было путем полувоенным, жестким, диктаторским. Закрывать телеканалы, высылать за границу диссидентов, устраивать «открытые процессы» и «чистку рядов», отнимать бизнес у нелояльных собственников, сажать в тюрьму тех, кто выступает против его политики, устанавливать в стране чрезвычайное положение.
Ельцин не пошел по этому пути.
Он по-прежнему упрямо верит, что демократия и свобода слова — неустранимая, основополагающая ценность. Что решить проблему модернизации страны можно только путем экономической свободы. Путем реформирования политической и экономической системы.
Он был публичным политиком, его история, весь его образ, его поведение строились на других принципах — он всегда зависел от общественного мнения, от воли народа. Отказаться от этого значило для него отказаться от своей личности. «Позволить себе показаться слабым и уязвимым», как правильно замечает Немцов, он просто не мог.
Итак, Березовский в 1997 году после своей отставки сделал ответный ход. Разразился скандал по поводу гонораров Анатолия Чубайса и его соавторов за книгу о приватизации.
Группа молодых членов правительства во главе с Чубайсом считала принципиально важным сказать правду об этом, оставить свое документальное свидетельство для истории. Авторов у книги пятеро. На пятерых они получили 450 тысяч долларов. Аванс за книгу. Деньги были получены чистым, легальным путем. К слову, двумя годами ранее Чубайс заплатил в казну налоги на такую же сумму. Тогда скандала по поводу гонораров, которые он заработал как консультант и лектор в западных университетах, не было.
Но то в «мирное время». В условиях войны, которую объявили друг другу «младореформаторы» и Березовский с Гусинским, Ельцин действовал уже по-другому. Войну следовало погасить немедленно, «книжное дело» стало для этого лишь формальным поводом: находясь под следствием, авторы книги о приватизации уже не могли оставаться в правительстве.
Справедливости ради следует отметить, что «книжное дело», или, как его еще называли тогда, «дело писателей», было буквально высосано из пальца. Практика получения авторами гонорара за еще не сданную в издательство рукопись является общепринятой, мировой, в ней нет абсолютно ничего криминального (небольшой аванс от издательства «Молодая гвардия», когда рукопись еще даже не была начата, получил и автор этих строк, например). Список людей, получавших подобные авансы, среди политиков и публичных персон — займет не одну страницу. Но в данном случае следствие и прокуратура проявили особую пристрастность, посчитав обычный издательский аванс «взяткой». В недавнем прошлом вице-премьера российского правительства Альфреда Коха, например, вызывали на регулярные допросы, устраивали в его доме десятичасовые обыски, брали с него подписку о невыезде. Все это сопровождалось валом статей в прессе (особенно постарались тут журналисты «МК» Александр Хинштейн и Александр Минкин), травлей в подконтрольных Березовскому и Гусинскому ОРТ и НТВ. Не каждый нормальный человек сможет выдержать такое.
15 сентября 1997 года в Кремле собрались представители бизнес-сообщества. Ельцин попросил их «жить дружно». Воцарилось молчание. Михаил Фридман, присутствовавший на этой встрече, позднее скажет в интервью Т. Колтону, биографу Ельцина: «Никто ничего не понял. Мы ушли с этой встречи растерянные». Ельцин не хотел устанавливать правила. Он считал, что у этих людей должно хватить ответственности самим отвечать за свои действия. Не хватило. Информационная война продолжалась.
Еще через некоторое время Ельцин скажет Немцову: «Я устал вас защищать».
…Однако сводить всё значение 1997 года к эпизоду с АО «Связьинвест», конфликту олигархов с правительством было бы непростительной ошибкой.
Важность этого года — прежде всего в энергии Ельцина, вновь проснувшейся в нем после операции на сердце. Энергии, которая поражала тогда многих. Это был год его надежд, замыслов и год знаковых, символических шагов. Логика этих шагов настолько интересна, что стоит внимательнее вчитаться в официальную хронику.
Ельцин предлагает провести всенародный референдум по вопросу о захоронении тела Ленина. Результаты социологических опросов: общество по этому вопросу расколото, половина «за», половина «против». Администрация вновь убедила его «не разжигать страсти», тем более что данные социологов подтверждали: практически половина населения не возражает оставить мумифицированного Ленина в мавзолее, сохранить главную советскую святыню, тело «основателя государства». Тем не менее сам Ельцин настаивал, что Ленин как раз не основатель, а разрушитель государства.
В мае — июле Ельцин подписал несколько документов, которые, как казалось ему, должны поставить точку во многих кровоточащих, неразрешимых проблемах постсоветского пространства.
12 мая он подписал формальный мирный договор с вновь избранным президентом Чечни Асланом Масхадовым. Москва, как я уже сказал, признала легитимность свободных выборов в Чечне, Масхадов на первых порах устраивал Москву — казалось, что это наиболее «умеренный» из всех чеченских лидеров. Однако вскоре с этой «умеренностью» было покончено, Масхадов начал терять влияние, перестал контролировать ситуацию в республике, и реальная власть начала переходить к радикальному Басаеву. Тем не менее Ельцин был уверен, убежден, что мирный путь решения чеченской проблемы — необратим. Что назад, к войне, дорога закрыта.
Затем был подписан мирный договор между Осетией и Ингушетией, снявший остроту в кровавом конфликте вокруг Пригородного района, разгоревшемся осенью 1992 года. Президент Молдовы Лучинский и президент республики Приднестровье Смирнов подписали в Москве меморандум, который провозглашал суверенитет Молдовы над спорным районом. В августе, после двухнедельных консультаций в Кремле, президент Абхазии В. Ардзинба впервые после грузино-абхазской войны 1992–1994 годов посетил Тбилиси и встретился с Эдуардом Шеварднадзе. В июле, опять-таки в Кремле, подписали мирный протокол представители Таджикистана и исламской оппозиции. Так была прекращена многолетняя широкомасштабная гражданская война в Таджикистане.
Наверное, самым трудным документом и вместе с тем — самым важным был договор о мире и сотрудничестве с Украиной, подписанный 31 мая в Киеве Ельциным и Кучмой. Переговоры о разделе Черноморского флота велись несколько лет, Украина занимала жесткую позицию, не хотела видеть российские военно-морские базы на своей территории. Тем не менее наши базы удалось отстоять. То же самое произошло и с нашими военными базами в других республиках СНГ — в Казахстане, Белоруссии, Грузии. В то время раздавались голоса о том, что с Украиной надо разговаривать языком силы. Но что было альтернативой позиции Ельцина? Война за Крым?..
«…Да, трудновато будет найти в мировой истории, — пишет Ельцин в своих мемуарах, — еще один пример такого государственного образования, каким является СНГ. Еще совсем недавно люди из наших стран жили по одним и тем же правилам, работали в одной экономике, у них был похожий быт, одна система образования, наконец, единое государство. Мы легко, с полуслова, понимали друг друга. Ведь все мы ездили на одних и тех же автобусах и троллейбусах советского образца, одинаково платили профсоюзные взносы, смотрели одни и те же фильмы, рассказывали одни и те же анекдоты. Короче говоря, мы люди из одного исторического пространства.
При всем этом в едином политическом пространстве бывшего Союза оказались страны, чрезвычайно своеобразные и не похожие друг на друга — ни по климату, ни по географии, ни по национальному менталитету.
Это абсолютно парадоксальное сочетание единства и противоположностей сегодня и называется аббревиатурой СНГ».
Попытка реформировать СНГ, придать ему черты цивилизованного международного союза — это одна из главных задач Ельцина во время второго срока.
На саммите стран Содружества в марте 1997 года Ельцин впервые жестко поставил вопрос перед лидерами всех бывших союзных республик, которые на тот момент входили в СНГ: Содружество, говорил тогда Б. Н., нужно не одной России, и она не собирается никого в него тянуть, и уж тем более жертвовать своими национальными интересами.
Ельцин на этом саммите обозначил новый этап в отношениях России и СНГ, призвал к установлению понятных рамок и правил игры.
Далеко не всем этот новый тон российского лидера пришелся по душе. И вот почему. В самый острый момент распада Союза, распада советской экономики Ельцин делал всё, чтобы облегчить этот процесс для граждан бывшего СССР. До 1993 года на всем бывшем союзном пространстве по-прежнему ходил советский рубль — единая валюта, что означало жесточайшее инфляционное бремя для российской экономики, и без того переживавшей небывалый кризис. Выделялись огромные целевые кредиты для развития экономик стран СНГ. Энергоносители — по «внутренним», то есть льготным ценам. Таможенные льготы. Россия свободно открыла для наемных рабочих рук из стран СНГ свой рынок труда, максимально упростив въезд и выезд жителей бывших союзных республик. Все это была общая политика, нацеленная на то, чтобы, во-первых, удерживать страны СНГ в своей сфере влияния и, во-вторых, не допустить разрастания политических конфликтов, возникновения гражданских войн.
Однако во время второго срока президента Ельцина эта задача приобрела иные очертания. СНГ к тому времени существовало уже пять лет. Необходимо было двигаться дальше. У стран, обладающих разным уровнем жизни, разным менталитетом, разным представлением о своем месте в окружающем мире, были и разные задачи внутри СНГ. Ельцин предоставил лидерам стран, их элитам и парламентам возможность выбрать степень взаимодействия. Был образован Таможенный союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), союз военный (договор о коллективной обороне), который включал, помимо вышеупомянутых государств, еще и Армению. А также региональная организация, также входившая в СНГ, но с меньшей долей экономического и военного взаимодействия — ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия).
Двусторонние контакты Ельцина с лидерами стран СНГ — отдельная страница новейшей российской истории. Для Б.Н. личное общение всегда значило очень много. Дружба с Кучмой, Назарбаевым, Алиевым, Каримовым, Акаевым была тем невидимым «клеем», который скреплял СНГ и во время второго срока Ельцина, порой вопреки всем объективным экономическим и политическим трудностям.
Тем не менее Ельцин никогда не дружил с теми президентами СНГ, которых не считал демократическими лидерами. Как пишут помощники Ельцина в своей книге, Туркмения во главе со знаменитым Туркмен-баши всегда была «равноудаленной» от всех без исключения структур Содружества.
Весьма противоречивые отношения связывали Ельцина с Александром Лукашенко, лидером Белоруссии. И Россия, и Белоруссия всегда были заинтересованы в создании союзного государства — каждая по своим причинам, Россия, скорее, по военно-политическим, Белоруссия — по экономическим.
В начале 1997 года готовилась очередная попытка формализовать эти отношения и заключить союзный договор. Вот как описывает Ельцин эти события в своих мемуарах:
«То, что придумали разработчики (нового союзного договора. — Б. М.), по сути, означало одно — Россия теряет свой суверенитет. В результате появляется новое государство, с новым парламентом, новой высшей исполнительной властью, так называемым Высшим Советом Союза. И решения этого органа обязательны для российского президента, правительства, всех исполнительных органов власти России.
Вот как это выглядело в подготовленном уставе: “Решения Высшего Совета Союза обязательны для органов Союза и для органов исполнительной власти государств-участников”.
В уставе говорилось, что главой Высшего Совета новой федерации по очереди должны были быть белорусский президент и российский. Два года один, два года другой. Так что два года Российской Федерацией должен был управлять белорусский президент Александр Лукашенко… Положение о равном представительстве в федеративном парламенте тоже вызывало смущение — по тридцать пять человек с той и с другой стороны. В России проживает 150 миллионов человек, в Белоруссии — 10.
…Я написал письмо Александру Григорьевичу, в котором просил отложить подписание договора с целью всенародного обсуждения его положений».
В этой дипломатической формулировке, которую приводит здесь Б. Н, содержится приговор: тому союзу, на который рассчитывал Лукашенко, российский президент вынес недвусмысленный вердикт. Это было ударом для Лукашенко. Дальше Ельцин описывает сложную дипломатическую миссию, которую он возложил на свою команду с целью не допустить скандала.
Еще раз подчеркну: уже тогда к союзным отношениям стремились обе стороны. Интенсивность личных контактов Ельцина и Лукашенко — лучшее тому подтверждение. При этом Б. Н. не мог допустить ущемления российских интересов и тем более — появления на поле внутренней российской политики такой фигуры, как Лукашенко.
То, что делала Россия в 1991–1999 годах по отношению к бывшим республикам СССР — отдельная и трудная тема. Безвизовое пространство, существовавшее при Ельцине, конечно, провоцировало незаконную миграцию. Миллионы людей в эти годы переехали в Россию из закавказских и среднеазиатских республик, усугубив и без того сложную социальную обстановку. Сама находясь на грани перманентного экономического кризиса, Россия постоянно продавала им энергоносители по внутренним ценам, а то и отдавала бесплатно (по сути, дотируя экономики стран СНГ), покупала их продукцию, позволяла вывозить сезонным рабочим миллиарды российских рублей, не облагаемые налогами. Последнее и сегодня в порядке вещей.
Это была политика, которую нынче принято считать проявлением слабости. Однако отмечу, что в те годы, несмотря на всю националистическую риторику, Россия была окружена поясом стран, которые были зависимы от нее и входили в зону ее непосредственного влияния. Ельцин пытался сохранить единое экономическое пространство со странами СНГ по типу Европейского союза — с общей системой безопасности, с общим таможенным пространством, со свободным рынком рабочей силы.
Все эти шаги, которые были логичным завершением политики Ельцина по отношению к странам СНГ (и к их руководителям, с которыми он долгие годы поддерживал постоянные личные отношения), — это еще и шаги, направленные на изменение российского менталитета. Отказаться от имперской позиции. Перестать презирать и ненавидеть новые страны вокруг СССР за их желание жить своим умом. Сохранить содружество в полном смысле этого слова. Некоторые политики пытаются поставить в вину Ельцину эту линию, считая ее «слабой». Однако именно доминирование России в экономическом пространстве, ее влияние помогли к 2000 году погасить все острые межнациональные конфликты на территории СНГ.
То, что сделали российские миротворческие силы для предотвращения гражданских войн в Таджикистане, Абхазии, Осетии, Ингушетии, Приднестровье — это тоже политика Ельцина.
И он никогда от нее не отступал, даже ценой экономических и политических жертв. Выигрыш, на мой взгляд, был очевиден. Однако теперь, в новую эпоху, спорить о том, какая политика лучше — новая или старая, — уже бессмысленно. Мы живем в эпоху новой политики.
В свое время (в 1991–1992 годах) Ельцин отказался от идеи открытого гражданского суда над преступлениями коммунистического режима, своеобразного варианта «нюрнбергского процесса», к которому его призывали демократы. И на это были свои важнейшие причины — обстановка в стране была настолько острой, «уличная война» с коммунистическими демонстрациями и борьба в Верховном Совете против гайдаровской реформы достигала такого накала, что процесс над компартией мог бы иметь разрушительные последствия. В отличие, например, от Польши, которая копировала немецкий опыт «денацификации», в России огромная по численности компартия, страна была все еще пронизана коммунистической идеологией.
Однако Россия с исторической точки зрения нуждалась именно в официальном, первом после XX съезда партии, признании страшных преступлений против своего народа в 1930—1950-е годы. Причем эти преступления отнюдь не перечеркивают великих побед той же эпохи. Они лишь подчеркивают их величие. Разделить роль Сталина и роль народа в эпоху зарождения сверхдержавы было крайне необходимо. Наш российский менталитет остро нуждался в этом покаянии. Он стал бы намного сильнее… Взрослее. За примером далеко ходить не надо — реваншистский менталитет при Гитлере привел к войне и крушению страны, покаянный менталитет послевоенного немецкого возрождения — к созданию мощной державы. Пусть это и не прямая аналогия, но поучительная.
Это была бы нравственная точка отсчета, государственная и национальная доктрина, которая позволила бы на многие вещи смотреть по-другому.
Поэтому Ельцин, несмотря на то, что общественный суд над компартией все-таки не состоялся, по-прежнему пытался найти болевую точку, тему, благодаря которой общество само ощутило бы необходимость покаяния за грехи коммунизма.
…Одним из самых важных символических шагов Ельцина в 1997 году было захоронение в Петербурге останков царской семьи, расстрелянной в 1918 году.
Найденные в шахте под Екатеринбургом останки несколько месяцев подвергались тщательной экспертизе. Наконец ученые-криминалисты выдали свой вердикт: да, это они. Государственную комиссию возглавлял вице-премьер Борис Немцов.
Ельцин и Наина Иосифовна приехали в Петербург в годовщину расстрела.
Вот как сам Ельцин описывает это событие:
«17 июля в 11.15 самолет приземлился в аэропорту “Пулково”…
Было довольно жарко, но люди стояли на солнцепеке вдоль всей Кронверкской протоки, опоясывающей крепость, толпились на пятачке у ее восточных ворот со стороны Троицкой площади, заняли места даже на Троицком мосту через Неву, движение по которому было перекрыто.
Я появился в соборе ровно в тот момент, когда колокола Петропавловской крепости отбивали полдень.
В церкви было светло, солнечно.
Расшитые белые ризы священников. Имен усопших не произносят. Но эти имена знают здесь все. Эти имена в нашей душе.
…Короткий скорбный обряд. Здесь были семейные, а не государственные похороны. Потомки Романовых бросали по горсти земли. Этот сухой стук, солнечные лучи, толпы людей — тяжкое, острое… разрывающее душу впечатление».
Далее Ельцин пишет, осмысливая это событие:
«…И мне кажется, что согласие и примирение действительно у нас когда-нибудь наступят.
Как жаль, в сущности, что мы потеряли ощущение целостности, непрерывности нашей истории. И как хочется, чтобы скорее это в нас восстановилось.
…Вся Россия наблюдала по телевидению за этой траурной церемонией.
Похороны в Петербурге были для меня не только публичным, но и личным событием. И событие это прозвучало на всю страну».
Здесь необходимо сделать несколько важных комментариев.
Русская православная церковь не признала выводов госкомиссии — и обряд погребения останков был стыдливо усечен, имена усопших, как правильно пишет Б. Н., не произносились. Именно поэтому захоронению останков царской семьи, несмотря на то, что в Петербурге собрались 52 потомка дома Романовых, не был придан статус государственного события (даже сам Ельцин лишь в последний момент принял решение о своем участии в церемонии).
Тем не менее для самого Бориса Николаевича, конечно, это был особый день. Снесенный по его приказу Ипатьевский дом, скорбный памятник в Екатеринбурге, долгие годы не дает ему покоя. Да и пресса не устает напоминать ему об этом прегрешении. Пусть и подневольном.
Он понимает: время еще не пришло. Для каждого эти похороны — свой личный вопрос и свой личный ответ. Страна не готова выразить покаянные и скорбные чувства широко, открыто, «соборно», хотя повод для этого подходящий. Последнего царя до сих пор считают не жертвой, а виновником. Наш взгляд на историю по-прежнему во многом советский, революционный.
Это — еще один штрих к портрету российского менталитета.
В том 1997 году этот менталитет будет вынужден реагировать еще на один важнейший тест.
После нескольких лет упорных переговоров Ельцин подписывает важнейший документ: «Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности» между Россией и НАТО.
Вот что сам Ельцин сказал по этому поводу, выступая по российскому телевидению:
«Натовские планы расширения на восток… стали угрозой для безопасности России. Как мы должны были реагировать на это? Любой раскол (между Россией и Западом) представляет собой угрозу для всех, и поэтому мы выбрали переговоры с НАТО. Задача состояла в том, чтобы минимизировать отрицательные последствия расширения Североатлантического альянса и предотвратить новый раскол в Европе.
Дорогие граждане России! За последние годы в Европе произошло много изменений. Барьеры, которые разделяли народы на четырех континентах, рухнули. Страх уходит и теперь должен уйти полностью… Создание большой мирной Европы означает создание Европы, в которой каждая нация чувствует себя спокойно.
Фактом подписания документа Россия — НАТО лидеры семнадцати стран подтвердили, что будет новая мирная Европа, не разделенная на блоки. Это нужно каждому из нас и России тоже».
Уступки Ельцина по расширению НАТО на восток — сегодня «притча во языцех» российской дипломатии. Мол, всё сделано неправильно, всё не так. Надо было торговаться дальше. Не уступать без боя. Хотя, по сути дела, «расширение НАТО» — лишь продолжение распада военного блока стран Варшавского договора, распада всей социалистической системы.
Ну а какую цену, в самом деле, могла бы запросить за это Россия? Действительно, «как мы должны были реагировать на это», говоря словами Ельцина?
Военной угрозой? Сокращением экспорта нефти?
Восстановлением СССР?
Российская экономика в эти годы была очень слаба. Новая демократическая Россия только начинала выстраивать свои отношения с мировым сообществом. Но самое главное — конфликт с Западом не отвечал интересам страны. И в этом Ельцин стопроцентно прав. На каком юридическом основании мы могли запретить другим суверенным государствам по своей собственной воле вступать в альянс? Извечный вопрос российской политики — война или мир, жесткий или мягкий подход, холодная война или оттепель — в 1997 году имел для российских граждан вполне реальную подоплеку.
Потеря статуса военного жандарма Европы произошла задолго до 1997 года. Когда Ельцин «принимал парад» в Берлине в 1994 году, он прекрасно понимал, что произойдет дальше.
Большое заблуждение считать Ельцина политиком, который просто уступил чужому давлению. Стремление изменить менталитет России в качестве
Демократическая Россия, как он правильно считал, не может находиться в военном конфликте со всем цивилизованным миром. Эта возможность должна быть попросту исключена.
Был ли он прав в этом своем убеждении? Ответ опять-таки кроется не в сиюминутных выгодах или в неких прагматических целях нашей дипломатии. Ответ — в той вечной глубине российского менталитета, частью которого по-прежнему является перманентный конфликт с внешним врагом. И эта проблема до сих пор непреодолима.
В том же 1997 году Ельцин едет на саммит «Большой восьмерки» в Денвере. Россия впервые признана полноправным членом клуба ведущих мировых держав. Ельцин принимает участие во всех без исключения встречах «восьмерки», в том числе впервые в самых закрытых — по вопросам финансового регулирования.
Роль Ельцина в международных отношениях той эпохи, эпохи 90-х, довольно высоко оценивается западными политиками. Почему? Прежде всего потому, что Ельцин предотвратил дальнейший распад страны, удержал общество от открытой гражданской войны. Но были, конечно, и личные причины: многих западных политиков изумлял, поражал, иногда приводил в тупик масштаб его личности.
Ельцин вел себя ярко, необычно, раскованно.
Он нарушал протокол, он восхищал, а иногда и шокировал своей внутренней свободой и отсутствием всяческих комплексов. Он грозно наступал, иронизировал, разыгрывал своих визави, предлагая меняться галстуками или часами, заставляя их вылезать из официальной схемы общения. При нем вернулся в политику формат «встреч без галстуков». Формат остался, но доверительная, особая интонация, которую внесли эти «могучие старики» 90-х, наверное, ушла вместе с ними. Возвращается дипломатия галстуков, с сухими лицами и официальными речами. Дипломатия эффективная и прагматичная. Но ощущение «новой холодной войны» заставляет иногда цепенеть, когда мы смотрим новости по телевизору.
И в области международной политики Ельцин тоже мыслил «проектами», то есть крупными идеями.
Понимая слабость современной России в экономике и военной сфере, он пытался заставить мир отказаться от языка давления и угроз, от чистой прагматики, в конечном счете от эгоизма. И пытался ввести в международные отношения искренность, законы доверия, русского «честного слова». В закрытую область официальной дипломатии — так хорошо знакомые ему элементы публичности. Своего харизматического обаяния.
Наивной, быть может, выглядела та попытка с точки зрения сегодняшней мировой практики. Но не оценить ее было невозможно. И наивность эта, конечно, далеко не так наивна, как кажется на первый взгляд.
Сама интенсивность встреч Ельцина с западными лидерами, конечно, беспрецедентна. В его эпоху Россия перестала быть для них чужой страной, которую неизбежно надо опасаться.
Но, пожалуй, самое главное достижение в области международных отношений — Россия в эпоху Ельцина перестала быть закрытой для своих же граждан. Миллионы людей выезжали за границу, оформляя простейшие визовые процедуры, без унизительного идеологического контроля и слежки. Обычно говорят в этой связи об огромной миграции из России. Но ведь есть и другая сторона — миграция в Россию, из Европы, США, Израиля; многие западные люди, приезжая «по делу», оставались у нас надолго, на годы и десятилетия. Изменилась ситуация в стране, в ней появилась возможность не только жить, но и зарабатывать, и люди стали возвращаться сюда. Да, в конце 80-х — начале 90-х открытие границ привело к резкому всплеску эмиграции из России и стран СНГ — уезжали люди, которые боялись голода, разрухи, вообще боялись резких перемен. Но к 1997 году большое количество эмигрантов уже вернулось на родину. Резко возросло количество браков с иностранцами.
«Где вы отдыхаете этим летом?» — «На море». Для многих россиян в 90-е это автоматически означало: в Турции, в Тунисе, в Египте, в Греции. И такая тенденция — смотреть мир, отдыхать за границей — продержалась долго, целое десятилетие. Вновь, как и до 17-го года, возникло понятие учебы и работы за границей, не под колпаком спецслужб, а в частном порядке. Такого явления Россия не знала с дореволюционных времен. Именно эти, чисто человеческие, связи в конечном итоге сделали ее полноправной частью мирового сообщества.
С чем же подошел Ельцин к концу 1997 года?
Он был убежден, что «вторую экономическую атаку» надо доводить до конца. Однако ситуация вокруг правительства и внутри него продолжала накаляться. «Информационная война», начатая ОРТ и НТВ, телеканалами Березовского и Гусинского, не стихала. Осада «младореформаторов» началась и внутри самого правительства. Против политики приватизации активизировался вице-премьер, министр МВД Анатолий Куликов. Он повел резкую атаку на «команду Чубайса».
Буксовал и сам план первоочередных задач Чубайса — Немцова («семь главных дел правительства»). Не был принят Земельный кодекс: Дума исключила из него пункты о продаже земли в частную собственность. Отклонен Налоговый кодекс. Откладывалась на неопределенное время жилищно-коммунальная реформа. Ельцин по существу поставил перед правительством ультиматум: закрыть все долги по бюджетникам к 31 декабря 1997 года. В сегодняшней, относительно спокойной России такая постановка вопроса кажется странной. Однако в том, далеко не спокойном 1997-м выплата долгов бюджетникам напоминала войсковую операцию. Для этой цели работала Чрезвычайная комиссия по налогам и сборам, велись переговоры с МВФ, Ельцин был готов посягнуть и на золотой запас страны… Он сам напрямую связывался с губернаторами, контролируя финансовые потоки. Здесь уже не шла речь о выборах, о привлечении новых голосов избирателей. Ельцин считал положение с невыплатой зарплат недопустимым. И к 31 декабря 97-го года действительно все долги были розданы.
Пытаясь защитить правительство от нападок, от давления со стороны депутатского корпуса, Ельцин предлагает формат «четверки» — регулярных встреч президента, премьера и спикеров обеих палат парламента. Издает указ о создании «Парламентской газеты», на Российском телевидении появляется передача «Парламентский час», который тут же превратился в трибуну оппозиции (в шутку его называли «час ненависти»). Делает другие шаги навстречу оппозиционной Думе.
Своим собственным весом и авторитетом пытается «продавить» основные идеи Чубайса и Немцова.
Однако бюджет так и не принят, главные законы тормозятся. Как я уже говорил, после 2000 года многие из этих «заготовок» правительства Черномырдина и его молодой команды тихо, без шума приняты парламентом и реализованы.
Но самое главное — и Ельцин понимает это — трещина пролегает в самом правительстве.
Красивая конструкция — опытный премьер Черномырдин и два первых вице-премьера, наделенные особыми полномочиями, явно не срабатывает. Стартовать нужно было гораздо решительнее.
Но ведь еще не поздно. Экономическая реформа не должна захлебнуться из-за сиюминутных политических дрязг. В какой-то момент становится ясно: все ресурсы, чтобы помочь правительству, исчерпаны. В начале февраля он дает задание администрации — подготовить «личные дела» новых кандидатов в премьеры.
Из всех предложенных ему кандидатур — бывшего министра финансов Бориса Федорова, председателя Центробанка Дубинина, вице-премьеров Аксененко и Булгака, возглавляющих, соответственно, железные дороги и связь, он выбирает самую неожиданную — Сергея Кириенко.
Это — человек из команды Немцова…
23 марта Ельцин встречается с Виктором Черномырдиным и объявляет ему об отставке правительства. Шок для премьера, для Думы, для всей страны.
Тридцатипятилетний Кириенко, возглавлявший в Нижнем Новгороде коммерческий банк, при Немцове ставший заместителем министра, а потом министром топливно-энергетического комплекса, — в Москве человек новый, не связанный ни с каким крупным банком, ни с какой финансово-промышленной группой. Это для Ельцина очень важно.
И еще раз подчеркну — да, это был человек из команды Немцова. Но в таком случае возникает вопрос: а почему не сам Немцов?
В течение всего 1997 года Борис Ефимович постоянно находился рядом с Ельциным, на всех важнейших государственных мероприятиях. Ельцин испытывал к нему личную симпатию, доверял ему. В момент ухода Черномырдина Ельцин делает важный выбор — Чубайс (вместе со своим яростным оппонентом Анатолием Куликовым) отправляется в отставку, Немцов же остается в правительстве.
Так почему же на пост премьера назначен этот молодой человек, скромный, корректный, выдержанный, примерный, как выпускник вуза с красным дипломом?
План Ельцина, связанный с фигурой Кириенко, предельно прост: это будет прямой, быстрый экономический рывок. Правительство станет без оглядки на кого бы то ни было претворять в жизнь планы, намеченные в 1997-м, — непопулярная жилищно-коммунальная реформа, налоговая реформа, предельно жесткая финансовая политика. Самый болезненный этап пройден, осталось лишь завершить начатое. Это «техническое правительство» за оставшееся до президентских выборов время продолжит наводить в экономике порядок, сделает все, что возможно, чтобы победить коррупцию.
В этом смысле сухой, лишенный политических амбиций Сергей Владиленович Кириенко кажется ему подходящей кандидатурой. Второе важнейшее качество Кириенко — он напоминает Ельцину прежнего Гайдара. «Профессорской» интонацией, ясной и строгой экономической логикой, в которой нет ни тени политиканства, нарочитым отсутствием эмоций.
По сути дела, назначение Кириенко — попытка возродить в новых условиях гайдаровскую реформу, то есть довести ее до конца. Только на этом пути — начатом в 1992 году — Ельцин видит конечный результат преобразований. Надо сделать экономику открытой, эффективной — без монополистов, без государственного вмешательства и без бюрократически-военных методов.
И, наконец, третье. Успех реформы развяжет ему руки в главном политическом вопросе — в поиске «преемника», молодого политического лидера, который возглавит страну в 2000 году. Каждый месяц премьерства Черномырдина, каждая его поездка по стране или за рубеж, каждое публичное выступление, начиная с января 1998 года, — уже часть предвыборной кампании 2000 года. Это Ельцина не устраивает.
Черномырдина на посту президента он «не видит», о чем позднее откровенно признается в своей книге. Хотя тут же, в том же абзаце, высоко отзовется о его человеческих качествах: порядочный человек, верный товарищ, опытный руководитель. Всё, как говорится, при нем.
Но все же почему Ельцин принял именно такое решение в начале 1998 года? Так неожиданно убрал с политической арены человека, который почти стопроцентно стал бы продолжателем его курса? Человека, верно и преданно прошедшего с ним самые трудные годы — с 1992-го по 1997-й? Опытного руководителя, крупного хозяйственника, яркую, в общем-то, личность, если продолжать ряд оценок, которые дает ему сам Ельцин…
Самое главное — психологическая причина, очень характерная для Ельцина. Черномырдин был из
Знаменитое ельцинское чутье подсказывало — в 2000 году ситуация будет совсем иной. Против преемника Ельцина соберется совсем новый, неожиданный конгломерат сил. Точно выстрелив, он сможет выиграть эти выборы. Но ресурсов не очень много. Если честно — совсем немного. Рост рейтинга в 96-м, быстрый и внезапный, он растрачивает каждый день, каждый час, поддерживая правительство реформ. Непопулярных реформ.
Выдвигать в преемники нужно совсем нового, неожиданного человека. И снова тот же вопрос: так почему же тогда не Борис Немцов, молодой, яркий, душевно близкий?
К началу 1998 года за Немцовым тянется огромный скандальный шлейф. Особенно усилилось это ощущение после того, как во время теледебатов на Первом канале лидер ЛДПР Жириновский и Немцов вылили друг другу в лицо по стакану апельсинового сока. Человек, на глазах у всей страны облитый соком, поневоле превращается в фигуру несерьезную. Этим жестом Жириновский словно бы уравнял Немцова с самим собой.
Кроме того, Немцов в восприятии Ельцина — прежде всего политическая фигура. Во главе правительства в 1998 году Ельцин хочет видеть чистого экономиста, прагматика, который довершит начатое, сделает невозможное — и уйдет перед выборами, перед решающей схваткой. По крайней мере, так он объясняет это в своей книге.
И Ельцин представляет в конце марта Государственной думе нового премьер-министра, по сути дела, с чрезвычайными полномочиями.
Дума дважды проваливает кандидатуру Кириенко, которая кажется ей абсурдной. Ельцин грозно и недвусмысленно дает понять, что будет действовать по конституции, — и если Дума и в третий раз не утвердит предложенного им премьера, он не побоится ее распустить, пойти на досрочные выборы. Собственно, этот железный натиск и есть часть его стратегии 1998 года —
Помня о тех тяжелых ударах, которые нанесла по нему «красная» Дума (денонсация Беловежских соглашений, поставившая под сомнение легитимность государства, не говоря уже о непрерывной войне законов и бюджетов), Ельцин был совершенно не прочь ответить ей в рамках конституции. И еще раз назначить новые выборы.
С третьего раза Кириенко, хотя и с большим скрипом, прошел.
Однако у правительственного кризиса начала 1998 года есть и еще одна сторона, пока еще скрытая от глаз простого гражданина. О ней в общих чертах знают лишь немногие представители деловой элиты. Новому правительству Кириенко предстоит не просто продолжить начатые реформы. Первоочередная задача совсем другая — вывести страну из тупика внутреннего долга.
Финансовый кризис уже бушует на бирже…
Подробно описывать детали дефолта 1998 года — задача неблагодарная. Тем не менее экономический советник Ельцина, сопровождавший его на всех встречах «Большой восьмерки», в прошлом также министр финансов, Александр Лившиц, попытался это сделать на страницах книги «Эпоха Ельцина», коллективного труда помощников первого президента России.
Давайте попробуем вдуматься в ту цепочку причин и следствий, которую он выстраивает.
«“Черный понедельник” 1998 года имел ту же основу, что и “черный вторник” 1994 года — плохой бюджет в экономике, в которой реформы остановились на полпути», — пишет Лившиц.
«Годами плохо поступали налоги. Сокращать расходы боялись, и дефицит покрывали займами, преимущественно на внутреннем финансовом рынке. И до того дозанимались, что отдавать старые долги стало нечем.
Сказалось слишком большое присутствие иностранцев. Если в 1996 году их доля на рынке ГКО — ОФЗ составляла 16 процентов, то к началу 1998 года она поднялась до 28 процентов. А значит, усилилась зависимость от мировой финансовой системы. И как только обрушились азиатские финансовые рынки, инвесторы начали выводить капиталы отовсюду, где маячила угроза дефолта, в том числе из России».
…Итак, что же такое эти самые ГКО — ОФЗ (Государственные казначейские облигации — обязательства федерального займа), из-за которых произошел дефолт 1998 года?
Идея о вливании в государственный бюджет средств частных инвесторов, в том числе иностранных, — далеко не нова и не является изобретением российского правительства. Более того, так поступают финансовые системы практически всех стран с сильной экономикой, где используются любые способы привлечения инвестиций. Внутренний долг США (самим себе, грубо говоря, и своим собственным инвесторам) составляет астрономические суммы.
В нашей стране со слабой, не устоявшейся экономикой внутренний долг был единственным средством справиться с дефицитным бюджетом. Государство должно было тратить слишком много (на социальные программы, жилищно-коммунальный сектор, на оборону и т. д.), а получало очень мало. Страна, не привыкшая и потому не желавшая платить налоги, половина экономики которой находилась в «тени» и из которой выводились деньги в более привлекательные экономические регионы, — поневоле уперлась в необходимость внутреннего долга.
План наполнения бюджета за счет «внутреннего долга» был в целом неплох, он составлялся в расчете на то, что иностранные инвесторы начнут покупать акции российских компаний, войдут в наш рынок ценных бумаг, в расчете, наконец, на то, что инвестиции будут постоянно увеличиваться за счет других источников — продажи земли, крупных государственных компаний, наконец, за счет роста самой экономики. Но, увы, поначалу кроме игры на «коротких» ценных бумагах (проценты по которым погашались через три-четыре месяца, через полгода) — никакого другого инвестиционного вливания в Россию не было. И все это на фоне катастрофически низкой цены на нефть — 13 долларов за баррель.
Проценты краткосрочных государственных бумаг все время росли, в соответствии с ситуацией на рынке. К концу 1997-го — началу 1998 года эти проценты, наконец, превысили разумную планку, поскольку иностранцы, коих на рынке было, как верно пишет Лившиц, уже почти 30 процентов, начали «скидывать» свои ГКО, срочно требовать погашения долга.
«Но главным источником недоверия инвесторов было низкое качество бюджета на 1998 год, — пишет Лившиц. — Проект еще находился в Госдуме, но специалисты уже видели, что бюджет опять получился нереальным. Дело даже не в налоговых доходах, собрать которые было невозможно («невозможно», как данность, как абсолютный закон функционирования российской экономики. — Б. М.). В бюджет заложили среднюю доходность на рынке ГКО — ОФЗ в размере 15–18 процентов. Рынок с запасом одолел эту планку уже в декабре 1997 года. А ведь впереди еще целый год, притом нелегкий».
И последняя точка в анализе:
«Полетели планы по приватизации. Рассчитывать на иностранцев, готовых что-то купить в России, уже не приходилось, а значит, бюджет лишился запланированных доходов в объеме 5 триллионов “старых” рублей».
Знал ли президент Ельцин об этой ситуации, представлял ли себе общую картину? Безусловно.
Вот что пишет в своей книге журналист Леонид Млечин:
«Кириенко рассказывал мне, что 23 марта, в день назначения, разговор у них с Ельциным был такой:
— Вы понимаете, что происходит в стране? — спросил его президент.
— Понимаю, — ответил Кириенко. — Вкатываемся в долговой кризис. Если не принять срочные меры, последствия будут самые печальные.
— Вы считаете, что выйти из кризиса можно?
— Можно. Но для этого придется пойти на самые жесткие действия.
— Беритесь и делайте, Сергей Владиленович.
Кириенко счел нужным оговорить только одно условие:
— Борис Николаевич, я политикой не занимаюсь и заниматься ею желания не испытываю.
Ельцин одобрительно кивнул:
— Правильно, и не надо! Главная ошибка прежнего правительства — оно слишком лезло в политику. А дело правительства — это хозяйство, экономика. Займитесь экономической программой, а политику оставьте мне…»
Еще одно свидетельство из книги «Эпоха Ельцина»:
«С подачи “молодых реформаторов” Президент оценивал ситуацию весьма оптимистически. Если, мол, кризис уже позади, а впереди лишь подъем, то можно и ослабить зажим. И предоставил “молодым реформаторам” свободу действий. Тем более что правительство С. Кириенко сразу потребовало отмены президентского контроля. Б. Ельцин тогда особенно доверял “младореформаторам”, ради них был готов на многое и легко согласился… Так продолжалось вплоть до середины августа 1998 года».
Давайте здесь отвлечемся от деталей и сделаем один важный акцент. С особой едкостью профессионала пишет А. Лившиц об ошибках правительства Кириенко: «За самим премьером не было ни политического движения, ни фракции в Думе, ни отрасли или олигархической группировки. Таким образом, повторный эксперимент с Правительством, наподобие гайдаровского, оказался обреченным».
Но ведь именно это — оторванность правительства Кириенко от лоббируемых интересов, «олигархических» кланов, от крупнейших группировок, банков, политических сил — Ельцин считал основным достоинством! Именно то, что Кириенко заявил сразу — не хочу заниматься политикой, — вызвало его одобрение.
В чем была ошибка президента? Чего он не учел в данном случае?
Масштабов возникающего на глазах кризиса. Да, Кириенко постоянно советовался с лучшими в России экономистами, они давали ему «ценные советы». Но этого было мало. Нужны были очень решительные и в то же время осторожные действия. Ювелирная работа. Новое правительство попросту не успело набрать политический и организационный вес весной 1998-го. Ему не повезло — элементарно не хватило времени…
«Сыграл свою роль и валютный коридор (к моменту августа 1998 года курс доллара равнялся примерно шести-семи рублям. — Б. М.). Он дает положительный результат только тогда, когда подкреплен хорошим бюджетом. Если же бюджет плохой, эта комбинация взрывает финансовую систему. Так было в Мексике и Таиланде, где власти держались до последнего, истратили все валютные резервы, но свою валюту все равно не спасли. Из-за рубежа нам советовали: “Нормальный бюджет вы принять не в состоянии. А потому пока не поздно расширяйте коридор или отменяйте его вовсе. Иначе будет то же самое”. Не послушали», — продолжает Лившиц.
Да, теперь, задним числом, можно сказать — требовалось отменить «валютный коридор». Но это сразу привело бы к обнищанию миллионов, чьи доходы тотчас бы обесценились — как это и произошло в сентябре 1998 года. Вопрос — выстояло бы правительство Кириенко в этой ситуации? Скорее всего, нет.
Однако и понятие «рынок» весной 1998-го сузилось почти до размеров карточного стола. Игроки бросали все новые ставки, сгребали в кучу «быстрые» деньги и убегали.
Ельцин по-прежнему упрямо верил, что правительство, в котором он настолько заинтересован, сможет выдержать и этот финансовый кризис.
Между тем ко всем бедам добавилась еще одна. Россию охватили забастовки. Те весенние и летние выступления шахтеров, учителей, врачей, их пикеты у Белого дома стали знаковым событием 1998 года.
Телеканалы посвящали им большие сюжеты, к бастующим подъезжали грузовики с горячим питанием, перед ними выступали лидеры крупнейших думских фракций (Зюганов, Жириновский и др.), все это напоминало осаду правительства. Поддерживали забастовщиков не только коммунисты, но и фигуры из другого лагеря, скажем, московский мэр Юрий Лужков.
«При переходе от традиционных обществ к промышленному капитализму, — пишет Леон Арон в биографии Ельцина, — центральной политической проблемой была судьба избыточной рабочей силы, состоящей в основном из крестьян и независимых ремесленников, не способных конкурировать с более эффективными способами производства… В Великобритании в начале промышленной революции в период с 1780 по 1810 год восемь из десяти фермеров и сельскохозяйственных рабочих были вынуждены покинуть землю и вместе со своими семьями превратились в нищих бродяг. Вместе с городскими бедняками их морили голодом в богадельнях, клеймили, вешали или отправляли в колонии.
Поскольку западноевропейскому капитализму понадобилось более ста лет, чтобы перейти к демократической системе “один человек — один голос”, то выселенные люди не имели голоса в политических делах и, исключая периодические бунты и восстания, страдали молча…
Помимо других новшеств, посткоммунистическое общество уникальным образом распространяло демократические свободы на свою избыточную рабочую силу… Миллионы избыточных рабочих и взрослые члены их семей имели полные политические права, и самое важное, право голосовать на выборах. Представляющие их партии могли свободно участвовать в выборах и побеждать».
Это взгляд американца. А вот — взгляд из России.
«У нас очень “левая” страна, — говорил мне один из политических советников Ельцина. — Левая в смысле убеждений, по определению левая, красная, коммунистическая, называй, как хочешь. Это и наследие советской власти, и многое другое. Поэтому кризисная логика Путина, например, состояла в том, что в нашей стране пока невозможно осуществление полноценных демократических институтов — реальной многопартийности или реально независимой прессы. Левые партии всегда будут побеждать, пока частная собственность не войдет в плоть и кровь народного менталитета, в народное сознание».
Осенью 1998 года, когда в стране разразился правительственный кризис, в Москве начали поговаривать о том, что известный предприниматель Борис Березовский настойчиво предлагает поручить правительство Лебедю — «более слабый политик просто не справится». Лебедь, в то время уже красноярский губернатор, действительно неожиданно появился в Москве и «сразу на двух каналах телевидения предложил себя в спасители Отечества — по своей ли инициативе или по чьему-то совету» (Леонид Млечин).
Многие тогда считали, что политик именно такого типа, как он — генерал в отставке, «народный заступник», олицетворение силы, — нужен России в данный исторический период, после Ельцина.
Что только он сможет
Прошло время. Владимир Путин установил желаемый политический мир между «левым» электоратом и «правым», то есть рыночным, экономическим курсом. Это случилось уже на другом историческом фоне, в другую эпоху, в другой политической ситуации. Но остался вопрос, который я не успел тогда задать своему собеседнику: а что же дальше? Какой будет
…Еще раз вернусь к тому тексту из Немцова, где он описывает просмотр телевизора в резиденции Шуйская Чупа, в компании Ельцина:
«Потом мы ужинали, и Наина Иосифовна возмущалась: “Боря, ты смотрел программу ‘Время’? Это же был настоящий кошмар!” Но президент… помнил, что пришел к власти на волне гласности, защищая свободу слова, как фундаментальную ценность. Он из принципа не мог позволить себе затыкать рот журналистам, даже если откровенно лгали, выполняя указания своих хозяев. Он считал заказную ложь для страны меньшим злом, чем государственную цензуру».
Ельцина, в шутку и всерьез, порой едко, порой с затаенным восхищением, называли «царем Борисом». Да, это был человек, родившийся с каким-то «царским геном» и сумевший развить его в течение жизни. Но если продолжать метафору, это был странный для России «царь». Царь из другой, плохо известной нам исторической эпохи, когда существовало, еще до появления имперских институтов власти, некое народное право, «вече», стремление граждан, имеющих право голоса, упорядочить жизненный хаос неким «словом», общественным договором. А не одной царской волей.
Это стремление к общественному договору, к справедливому, то есть утвержденному не «свыше», а
Сам Ельцин, внутренняя логика его поступков — яркое тому подтверждение. В нашей «левой» стране, очень трудно воспринимающей и частную собственность, и новый политический строй, он опирался как раз на ту, другую сторону народного менталитета — демократическую, казалось бы, навечно спрятанную, давно забытую, превратившуюся в атавизм. Ельцин сумел разбудить в обществе гражданские инстинкты, причем на самом тяжелом переломе истории.
Все политические проблемы, которые Б. Н. решал в 1991–1999 годах, не имели рационального решения, которое устраивало бы абсолютно всех. Это глобальные, мучительные проблемы страны, катившейся в политическую, экономическую пропасть. И все эти проблемы, начиная от августовского путча и заканчивая передачей власти президенту Путину, Ельцин решал через голосование или референдум, путем прямого обращения к нации, выступая перед людьми со своей скупой, сухой, полной долгих пауз речью. Именно эти обращения решали исход любого голосования, даже в Думе и Верховном Совете, где тон задавали его враги. Ельцин не боялся левой части электората, огромной его части, не боялся «народного» менталитета, напротив, пытался вступать с ним в диалог, проводя при этом абсолютно непопулярные решения. И в этом, безусловно, один из его главных парадоксов.
Итак, лето 1998-го… Ельцин, превозмогая боли, усталость, ездит по стране и говорит при каждом удобном случае, при каждой встрече с журналистами: кризис преодолим, опасная точка пройдена, валютный коридор не будет разрушен…
Так продолжается июнь, июль. Он еще верит в своих «бояр» («молодых, умных, образованных»), в команду экономистов уже постчубайсовского и немцовского призыва. Однако финансовый ураган опрокидывает его идеологию и его планы.
«Очередной приступ финансового кризиса настиг экономику во второй половине мая. После ноября 1997-го и января 1998 года это был уже третий, причем самый тяжелый удар», — пишет А. Лившиц. И далее:
«Счет пошел на недели. Надо было принимать решения, способные остановить панику на финансовом рынке, переломить ожидания… Минфин прекратил размещение новых бумаг и, сжав зубы, принялся оплачивать старые из обычных доходов бюджета. Понятно, что сразу же поползла вверх задолженность по зарплатам бюджетников…
После драки всегда много любителей помахать кулаками. Сейчас многие упрекают тогдашнее руководство ЦБ: вместо подъема ставки рефинансирования на заоблачную высоту следовало, мол, прощаться с валютным коридором и переходить на политику плавающего курса. Но тогда никто не мог предугадать, удастся остановить инвесторов, бегущих с рынка, или нет…»
Черный от недосыпания Кириенко после нескольких дней, проведенных в своем кабинете с группой экспертов, лихорадочно ищущих пути выхода из кризиса, 17 августа 1998 года объявляет:
Интересно, кстати, что первый дефолт наша страна пережила еще до распада Советского Союза, в 1990 году. Тогда государство впервые пошло на этот шаг — оно на несколько месяцев прекратило выплаты по своим международным обязательствам.
Но поскольку в стране тогда еще не было свободного хождения валюты, открытой инфляции, не было и такого явления, как частные коммерческие банки с частными вкладчиками, то и на повседневной жизни людей этот дефолт 1990 года практически не сказался (хотя сам по себе он был, конечно, предвестием жесточайшего экономического кризиса).
Дефолт же 1998 года породил панику не только среди инвесторов, но и среди обычных граждан. Одновременно с рухнувшей национальной валютой рухнули все банковские операции, выплаты, а значит — вся деловая жизнь.
Казалось, что все двери в Москве закрылись одновременно — многочасовые, порой ночные очереди к дверям банков, закрытые для переоценки товаров магазины, биржа, в общем, всё, что так или иначе связано с деньгами.
Для большинства россиян таинственные «ценные бумаги» были явлением чисто теоретическим. Но в новой реальности всё взаимосвязано — банки, курс валюты, зарплата, цены, торговые сделки, платежи…
То, что творилось в стране в последние дни августа и весь сентябрь, трудно описать в терминах экономического языка. Это была паника, сравнимая с 1990–1991 годами. Готовясь к «голодной зиме», люди начали раскупать дешевые продукты, запасаться крупой, сахаром, картошкой, тушенкой.
Сельскохозяйственные рынки в Москве в эти солнечные, но холодные дни переполнены: никто не знал, сколько месяцев не будут выдавать зарплаты, на сколько месяцев заморожены вклады в коммерческих банках, мысль была одна — как прокормить детей?
Многие частные фирмы закрылись. Объявили о банкротстве и многие банки.
Газеты были полны мрачнейшими комментариями: страна жила не по средствам, только-только нарождавшееся благосостояние было лишь фикцией, теперь наступит настоящая великая депрессия.
Но депрессия не наступила…
Ослабевший рубль благотворно подействовал на многие отечественные предприятия. Их продукция неожиданно стала конкурентоспособной. Однако положительные результаты дефолта сказались лишь спустя несколько месяцев.
Правительство же «молодых реформаторов» под свист и улюлюканье ушло в отставку.
Помню, как ехал в машине на работу (опаздывал, заплатил таксисту последние деньги) и слушал по радио комментарий какого-то модного ведущего. Он был разъярен, назвал правительственных экономистов, Кириенко и прочих «молодыми подонками».
И я подумал: за что уж так-то? Ведь эти люди возглавляли экономику какие-то считаные месяцы. Да и не только у нас бушевал финансовый ураган, начавшийся где-то далеко за пределами России. Сингапур, Индонезия, Таиланд, список стран, где рухнули финансовые рынки, причем стран с гораздо более мощной и динамичной экономикой, был весьма внушительным.
Однако мрачнейший общественный резонанс дефолта больно ударил и по репутации президента Ельцина. Политические последствия его были и вовсе не предсказуемы.
Сергея Кириенко, 20 августа прилетевшего из командировки, встречал в аэропорту глава кремлевской администрации Валентин Юмашев. Кириенко произнес тогда не очень гладкую в стилистическом смысле фразу: «Понимаю, что своими действиями… топлю президента…»
Но по смыслу она была точной. Кириенко уже давно морально был готов к отставке. События августа лишь подтолкнули этот сценарий. Вместе с Кириенко из правительства ушел и Борис Немцов, хотя Ельцин все же предлагал ему остаться. Кириенко попрощался с Б. Н. в его резиденции, в Горках.
На следующий же день Ельцин выступил с телеобращением. В нем он попытался объяснить народу природу кризиса — кризис мировой, не чисто российский, призвал к спокойствию и порядку, объявил о том, что исполняющим обязанности премьера становится Виктор Черномырдин и, через паузу, обозначил мотивы своего выбора: «Сейчас стране нужны те, кого принято называть политическими тяжеловесами…»
Почему Ельцин в августе 1998 года принял такое решение? С чего вдруг ему опять потребовались «тяжеловесы»? Ведь отставка Черномырдина весной того же года была принципиальной, продуманной, выношенной?
Решение Ельцина одни признают «паническим», другие «вынужденным».
Рискну предположить, что поначалу Ельцин не оценил значение финансового кризиса 1998-го.
С 1991 года Россия пережила немало подобных моментов, когда круто взлетал вверх курс доллара, на рынке царили панические ожидания, население готовилось к худшему. Для него это был
Он считал, и во многом справедливо, что ситуация в экономике сейчас, в 1998 году, значительно лучше, чем, скажем, в 1992 или в 1994-м. Что кризис во многом надуманный, не отражающий общих позитивных тенденций. И что усилия «нового-старого» премьера, который за несколько месяцев сможет стабилизировать ситуацию — естественно, путем договоренностей, административного нажима, введения особого режима финансовой дисциплины, — позволят всё вернуть к прежней точке, к прежнему курсу реформ. И в конечном итоге — вернуть в правительство тех, кто эти необходимые для страны реформы будет проводить.
«План Ельцина», глобальный экономический и политический план, не мог зависеть от сиюминутных, пусть и очень тяжелых обстоятельств. Президент хотел продолжать его реализацию. Проще говоря, он был уверен, что о кризисе забудут максимум через полгода и в правительство снова войдет обойма молодых реформаторов — если не Кириенко с Немцовым, то другие люди, новые, а возможно, что и старые испытанные бойцы — Чубайс, Федоров и т. д.
Но получилось иначе.
Когда Ельцин впервые, в сентябре, представил на утверждение в Думу кандидатуру Черномырдина, стало почти очевидно — депутаты решили дать президенту настоящий бой. Дума напоминала кипящий котел. Коммунисты открыто заявили о своей решимости создать «коалиционное» правительство, куда вошли бы представители разных думских фракций.
А главное — эта решимость депутатов слишком точно резонировала с общим настроением. С тоном статей и комментариев, с чувствами людей, оказавшихся в пиковой ситуации, — ведь домашний бюджет и сбережения «зависли» и никто не мог сказать точно, когда именно банки разблокируют счета.
Кроме самой Думы, где тон задавали коммунисты, в эту политическую игру включился и Совет Федерации. Одну из первых ролей в оппозиции Черномырдину неожиданно сыграл московский мэр Юрий Лужков.
Журналист Леонид Млечин пишет:
«Черномырдин с удовольствием принял предложение Ельцина, но поставил Борису Николаевичу свои условия. Он получает значительно большие полномочия, чем прежде, а президент соглашается ограничить свою власть… Он должен был получить поддержку Думы и брался добыть для оппозиции то, чего она тщетно добивалась много лет, — отказа президента от своего всевластия. Он полагал, что это предел мечтаний оппозиции — конституционная реформа, передел полномочий в пользу Думы и правительства. Черномырдин предложил основным думским фракциям подготовить политическое соглашение. Если президент его подписывает, то Дума автоматически утверждает Черномырдина»[32].
Как же было на самом деле?
Политическое соглашение между Ельциным и Черномырдиным родилось уже после двух неудачных голосований в Думе. При поддержке Ельцина правительство, администрация и Совет Думы работали над ним вместе, пытаясь выйти из тупиковой ситуации. Дума не хотела быть распущенной, а Кремль делал все возможное, чтобы депутаты согласились на утверждение Черномырдина главой правительства.
Политическое соглашение было подготовлено (по нему Ельцин гарантировал Думе несменяемость Черномырдина до выборов 2000 года), Виктор Степанович вел напряженные переговоры с думскими фракциями, обещая все, что мог обещать: посты в правительстве, например.
Когда лидеры всех фракций уже были готовы поставить свои подписи под документом, возникли новые непредвиденные обстоятельства. Перед третьим голосованием коммунисты отказались поддерживать политическое соглашение. Черномырдин, с соглашением или без, больше их не устраивал.
Как выяснилось позднее, это произошло после переговоров коммунистов с мэром Москвы Юрием Лужковым. Лужков практически сорвал утверждение Черномырдина, единственной реальной кандидатурой на пост премьера он считал себя…
Почему?
Политические амбиции московского мэра проявились далеко не сразу. Да, в ранние 90-е Юрий Лужков мог высказаться по политическим поводам, заявить свою особую позицию, но в целом роль хозяина крупнейшего мегаполиса его вполне устраивала. Москва была тем единственным регионом страны, который на фоне всеобщих трудностей переживал бурный экономический подъем, и московское правительство поставило дело таким образом, что все финансовые потоки в столице, так или иначе, управлялись из мэрии. Управление сложным хозяйством Москвы отнимало много сил, и Лужков первые годы шел строго в фарватере Ельцина, он понимал, что его положение всецело зависит от того, какой у России президент. Однако чем теснее становились связи Лужкова с другими регионами страны, чем больше росло его финансовое влияние, тем яснее становилось — ролью «крупного хозяйственника», то есть одного из губернаторов и мэров, он не удовлетворится. Тесными были связи Лужкова с банком «Менатеп», с Гусинским, которые активно занимались политическим прогнозированием и продвижением «своих» политиков начиная с 1996 года, добавляли в эту тему остроты. Они хотели видеть мэра в Белом доме и Кремле.
Однако Ельцин упрямо «не видел» Лужкова ни там, ни там. Ему казалось, что мэрские методы не подходят для большой политики. Прямого разговора об этом у них ни разу не возникало. Свои премьерские амбиции мэр обнаружил неожиданно и скандально, сорвав голосование по Черномырдину.
Когда Дума дважды провалила, причем с треском, кандидатуру Виктора Степановича, начали возникать фамилии новых кандидатов в премьеры.
Среди них — Егор Строев, глава Совета Федерации, Юрий Маслюков, руководивший при Горбачеве Госпланом и возглавлявший в 1998 году думский комитет по экономике, наконец, сам Юрий Лужков.
Кандидатуру Лебедя или Явлинского никто всерьез не рассматривал, но назывались и они.
Существует мнение, что кандидатуру Лужкова «закидали черными шарами» представители бывшей Аналитической группы, то есть люди, с которыми Ельцин одержал победу на выборах 96-го года, — Валентин Юмашев (глава администрации), дочь Ельцина Татьяна, Анатолий Чубайс, наконец, Игорь Малашенко. Конечно, это не так, и если бы Ельцин видел Лужкова премьером, он бы обязательно его выдвинул. Причина была в другом.
Ельцин не любил давления, никогда не принимал решения под давлением — это нарушало основу всей политической конструкции, его президентской республики, основу конституционного строя. Давление Лужкова было очевидным.
Оставалось одно: в третий раз предложить кандидатуру Черномырдина, и в случае третьего неудачного голосования, по действующей конституции, распустить Думу и назначить новые выборы. Или — предложить новую кандидатуру.
Неожиданно сторонники Лужкова появились в самой кремлевской администрации (ими оказались пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский и секретарь Совета безопасности Андрей Кокошин, кстати, тоже рассматривавшийся Ельциным на роль премьера). В администрации наметился раскол. Пригласив к себе в Горки-9 Юмашева, Ястржембского и Кокошина, Ельцин выслушал аргумента «за» и «против» Лужкова, затем, не говоря ни слова, всех отпустил. А еще через некоторое время спокойно подтвердил, что Лужкова премьером «не видит».
Рассказывает Валентин Юмашев:
«Главная проблема для него была — распустить Думу или нет. Он, в принципе, внутренне готов был ее распустить. Все мои совещания в Кремле, на которые я (между первым и вторым туром голосования) приглашал своих ближайших сотрудников — помощников президента, своих замов, были посвящены именно этому. Готовы ли мы к роспуску Думы? Как должен строиться дальнейший сценарий? Что у нас будет в новой Думе? И так далее. Александр Волошин, кстати, на этих совещаниях был жестко за третий тур голосования с Черномырдиным, даже если он не проходит (а Волошин считал, что думцы испугаются и он пройдет). Но даже если депутаты его провалят и мы пойдем на новые выборы при поддержке ключевых элит, телевидения — на выборах в новую Думу можно получить вполне приличный результат. Я считал, что распускать Думу нельзя. На фоне тяжелого финансового кризиса, на фоне забастовок, политического кризиса, связанного с отставкой правительства, мы не можем так рисковать. Весь этот круг позиций я изложил Б. Н. Окончательное решение должен был принимать он».
В Думе тем временем продолжались оживленные дебаты.
Григорий Явлинский, руководитель фракции «Яблоко», неожиданно выдвинул кандидатуру Евгения Примакова, министра иностранных дел. Комментарий Явлинского был неожидан и точен: Примаков — компромиссная фигура, он устраивает всех.
Черномырдин надеялся на третье голосование. Это был драматичный момент. Виктор Степанович, который вел активные переговоры с представителями думцев, настаивал, горячился. Его логика похожа на аргументы Волошина: «Никуда не денутся, проголосуют, испугаются роспуска Думы, даже и думать нечего!»
Глава администрации Валентин Юмашев ждал решения Ельцина. Он уже переговорил с Примаковым (задолго до предложения Явлинского), пытаясь понять, готов ли он, в случае провала с голосованием, согласиться на премьерство.
Примаков, который тоже понимал, что такая возможность есть, ответил ему жестким отказом: «Я не публичная фигура. Хочу спокойно доработать до пенсии. Уйти вместе с Борисом Николаевичем в 2000 году». Несколько туров переговоров главы президентской администрации с Примаковым результата не дали. Отказ вроде окончательный и обжалованию не подлежал. Черномырдин, узнав об этом, предложил Ельцину новую конструкцию — дать на утверждение в Думе не только свою кандидатуру, но и сразу двух первых вице-премьеров: Маслюкова и Примакова. «Мы — тройка, — говорил В. С. — Мы — мощная тройка, нас поддержат».
До момента подачи официального президентского письма в Думу с кандидатурой премьер-министра оставались считаные часы… Ельцин приглашает к себе Примакова, Маслюкова, Черномырдина. Уже в приемной президента Примаков еще раз подтверждает свой отказ. И настойчиво предлагает на роль премьера представителя коммунистической фракции Юрия Маслюкова, известного еще при Горбачеве экономиста, последнего руководителя советского Госплана.
Однако дочь Ельцина нашла для настороженного Примакова слова, которые его убедили. За несколько минут до совещания у президента, в приемной, Татьяна и Владимир Шевченко, глава президентского протокола, старый друг Евгения Максимовича, в последний раз попытались его уговорить. «Папа никогда не предложит премьера-коммуниста, вы же знаете, — говорила Таня. — Будет внесен на голосование либо Черномырдин, либо вы. Либо роспуск Думы, либо страна сможет спокойно вздохнуть».
А вот как описывает эту ситуацию сам Примаков в своей книге («Минное поле политики»):
«Выйдя из кабинета президента, в коридоре натолкнулся на поджидавших меня людей: главу администрации Юмашева, руководителя протокола президента Шевченко и дочь Бориса Николаевича Дьяченко. Я развел руками — сказал, что не мог согласиться. Тогда Володя Шевченко, с которым меня связывают годы приятельских отношений, буквально взорвался — я никогда не видел его в таком возбужденном состоянии.
— Да как вы можете думать только о себе, разве вам не понятно, перед чем мы стоим?! 17 августа обрушило экономику. Правительства нет. Дума будет распущена. Президент физически может не выдержать в любой момент. Есть ли у вас чувство ответственности?
Я отреагировал вопросом:
— Но почему я?
— Да потому, что Думу и всех остальных сегодня устраивает именно ваша кандидатура, и потому что вы сможете.
После моего спонтанного согласия меня начали обнимать. Кто-то побежал сообщить президенту».
— Папа очень спокойно относился к возможности роспуска Думы, — комментирует Татьяна Юмашева. — Он, в отличие от главы администрации, не считал такой поворот событий серьезным кризисом. И пост премьера он Маслюкову, как представителю коммунистов, никогда не предлагал и предложить не мог. В кабинет к папе, куда кроме Примакова вошли Маслюков и Черномырдин, Евгений Максимович вошел, уже дав согласие.
…Кандидатура нового премьера была утверждена Думой с первого раза, подавляющим большинством. Началось недолгое время его премьерства, «примаковской стабилизации», которое тем не менее сильно повлияло на дальнейший ход событий.
Но для начала попробуем разобраться — в какой ситуации оказался Ельцин, тогда, осенью 1998 года?
В чем он выиграл и в чем проиграл?
«Коалиционное правительство», о котором так давно говорили коммунисты, было наконец создано (в него, кроме Маслюкова, вошел еще один представитель компартии, Г. Кулик, который в качестве вице-премьера возглавил сельскохозяйственную политику России).
Однако возглавил правительство не коммунист, а ельцинский министр иностранных дел.
Ельцин избежал риска — не распустил Думу, что в тот момент было чревато масштабным политическим кризисом, который мог выплеснуться на улицы.
Ельцин твердо отмел претензии Лужкова на премьерство, а значит, и на будущее президентство.
Ельцин, короче говоря, еще раз стал победителем. Никто не верил, что он спокойно выйдет из этого кризиса, связанного с дефолтом, «восставшей» Думой, — но ему это удалось.
Но что же он проиграл?
Проиграл, как мне кажется, прежде всего инициативу. С этой точки для Ельцина начался «обратный отсчет» — выборы надвигались, а на посту премьера находился временный, компромиссный,
Проиграл Ельцин и Черномырдина. «Своего», надежного премьера. В этой новой ситуации, после дефолта, Черномырдин рассматривался им уже как преемник на президентских выборах 2000 года. Человек, который выводит страну из кризиса, имеет совсем другой потенциал. Так рассуждал Ельцин.
Однако поначалу «коалиционное правительство» и премьерство Примакова не давало Ельцину серьезных предпосылок для тревоги.
Кабинет министров, в котором роль главного экономиста играл Юрий Маслюков, вел себя осторожно, грамотно, не делая резких шагов. Характерная деталь — Примаков с самого начала пригласил на роль вице-премьера Сергея Кириенко. Это был ритуальный жест (Примаков почти наверняка знал, что Кириенко откажется), но важный.
Примаков тем самым обозначил преемственность экономического курса правительства.
Евгений Максимович работал с Ельциным давно, начиная с 1991 года. В дни августовского путча два известных «горбачевца», Примаков и Вольский, вовремя выступили с публичным заявлением, в котором осудили действия ГКЧП.
Осенью 91-го, меняя команду Горбачева, Ельцин предложил Евгению Максимовичу возглавить Службу внешней разведки (бывшее Первое главное управление КГБ).
Кадровые разведчики поддержали кандидатуру Примакова (Ельцин не просто утвердил его на этот пост, а предложил коллегии СВР проголосовать кандидатуру нового руководителя). Хотя сам Евгений Максимович кадровым разведчиком не являлся, но был знаком, что называется, «со спецификой работы», много путешествуя по арабскому Востоку, выполняя важнейшие секретные поручения, как и другие зарубежные корреспонденты газеты «Правда».
Вот как сам Примаков пишет об этом в своей книге: «Проработав в газете “Правда” три года, я был назначен собственным корреспондентом этой газеты на Ближнем Востоке, с постоянным пребыванием в Каире. “Правда” — орган ЦК КПСС, и будучи ее корреспондентом, впервые начал выполнять ответственные поручения Центрального Комитета, Политбюро ЦК. Некоторые из них оформлялись в Особую папку, к которой мало кто имел доступ. В ней формулировалась задача, назывались исполнители. Как правило, меры безопасности и связь поручалось обеспечивать КГБ».
…Однако думаю, разведчики оценили и другое — по натуре он был очень спокойный, выдержанный, компромиссный человек.
Сменив Андрея Козырева на посту министра иностранных дел, Примаков и здесь проявил свои лучшие качества — хладнокровие и профессионализм.
Это был человек
«Секрет Примакова, как говорили, состоит в том, что в его речах все слышали то, что хотят услышать. Либерально настроенные граждане — обещание рыночных реформ и свобод. Коммунисты — государственное регулирование и контроль.
И верно. Некая двусмысленность постоянно присутствовала в высказываниях Примакова.
Он рассуждал о необходимости чрезвычайных мер, но тут же замечал, что это отнюдь не введение чрезвычайного положения. Обещал “круто взять курс на то, чтобы продолжить движение к демократии, к реформе общества, к строительству многоукладной экономики, плюрализму политической жизни”. И тут же бросал фразу:
“Мы не можем идти дальше, рассчитывая, что всё решит рыночная стихия”», — пишет Леонид Млечин в биографии Примакова.
Примаков прекрасно осознавал роль своего правительства в новой политической конструкции. Дума поддерживала абсолютно
«Видно было, с каким уважением пожимал Примакову руку Геннадий Зюганов, — пишет Леонид Млечин. — Коммунистам никак нельзя было отправлять правительство Примакова в отставку отказом проголосовать за бюджет…
Это был самый жесткий бюджет за все последние годы. Он прежде всего означал резкое сокращение расходов на социальные нужды. Министр экономики Андрей Шаповальянц прямо сказал об этом депутатам:
“Прогнозируемый рост инфляции и величина доходов федерального бюджета не позволят в 1999 году обеспечить стабилизацию жизни населения на уровне предыдущего года”».
На человеческом языке это означало — правительство призывает «затянуть пояса». Жить скромнее. Жить экономнее.
Этот призыв был воспринят и услышан.
Но что самое главное — была пройдена самая острая фаза кризиса. Начиная с 1999 года российская экономика проявила тенденции к устойчивому росту. Это было следствием целого ряда объективных факторов. Но «сдержанность и умеренность» кабинета (кстати, многие кириенковские министры остались на своих местах) сыграли тут не последнюю роль.
Примаков поначалу очень осторожно общался с Ельциным. Фраза о том, что «вместе доработаем и вместе уйдем в 2000 году», обрастала новыми подробностями, Примаков продолжал говорить о том, как они с президентом будут на пенсии вместе ходить на рыбалку. Участливо и много говорил о здоровье. О своем в том числе — как и Ельцин, пожилой Примаков страдал набором хронических болячек, его мучили боли в спине и в ногах…
Однако не прошло и двух-трех месяцев, как политическая ситуация в стране начала быстро меняться.
Одним из первых тревожных звонков был законопроект депутата-коммуниста Виктора Илюхина «о состоянии здоровья президента Российской Федерации Ельцина Б. Н.».
Илюхин не в первый раз вносил подобное предложение, предлагая учредить государственную комиссию, обследовать Ельцина и отправить его в отставку в силу физической недееспособности.
Но в начале 1999 года эти угрозы прозвучали неожиданно мрачно и остро. Коммунисты при премьере Примакове расправили плечи, почувствовали реальную силу.
Было видно, что депутаты всерьез считают: полнота власти уже не принадлежит президенту и он доживает на своем посту последние месяцы. С антисемитскими заявлениями выступил генерал Макашов, тоже депутат Госдумы от компартии, его злобные речи о «жидах» в Кремле и на телевидении не вызвали в Думе никакого протеста, напротив, Макашова начали защищать его коллеги-депутаты. Новый директор ФСБ Владимир Путин публично осудил «любые формы экстремизма». Но по накалу страстей в Госдуме было видно — ситуация не просто изменилась, она переменилась разительно.
Ельцин ответил депутатскому корпусу.
Своим указом он отправил в отставку главу своей администрации Валентина Юмашева (оставив его своим советником) и назначил на этот пост генерала пограничной службы Николая Бордюжу (теперь он совмещал две должности, работая одновременно секретарем Совета безопасности). В своей книге Ельцин написал прямо — это назначение имело символический характер. Президент хотел, чтобы депутаты поняли: он полностью контролирует ситуацию и готов идти на любые конституционные меры для поддержания политической стабильности.
Власть и растущая популярность выявили в Примакове черты, которые раньше Ельцин не замечал или не хотел замечать.
Оказалось? что этот пожилой, спокойный, психологически и душевно близкий Ельцину человек, который к тому же на посту руководителя разведки и главы МИДа прошел с ним все самые тяжелые годы,
Ключевые роли в аппарате правительства сразу заняли представители спецслужб, бывшие чекисты. Давление на представителей российского бизнеса началось сразу, как только Примаков оказался у власти.
Он постоянно говорил Ельцину, что «мы не можем иметь такие СМИ». Приходил на встречи с президентом во всеоружии: с заранее подготовленными досье, в которых были приведены наиболее неприятные для правительства цитаты. «Сначала папа удивлялся, говорил ему: “Евгений Максимович, не обращайте внимания, посмотрите, сколько меня ругают”. Потом удивляться перестал», — рассказывает Татьяна, дочь Ельцина.
Его отношение к свободе средств массовой информации (и все журналисты, работавшие тогда, это прекрасно помнят) проявилось сразу.
В публичных заявлениях Примакова, а они отражают как в капле воды всю логику сложного политического процесса, было немало агрессии и немало реверансов в сторону коммунистов. Экономический и политический климат как-то незаметно стал меняться. Повеяло неприятным холодком.
Когда Дума приняла амнистию, Примаков на заседании правительства сказал: в местах заключения освобождается много мест для людей, совершивших экономические преступления. Эту фразу как главную новость передали по всем телеканалам. И российские бизнесмены восприняли эти слова всерьез.
Всерьез воспринял эти слова и Ельцин. «Досье», которые приносил Примаков президенту, содержали в себе отнюдь не только цитаты из газет. Компрометирующие факты Примаков собирал и на представителей бизнеса, и на представителей российской власти.
«Держать на крючке» он хотел бы их всех. Примаков намеревался взять под контроль российскую ФСБ, постоянно жалуясь Ельцину на Владимира Путина, упрямо требуя отправить его в отставку. Их отношения сразу не сложились, говорят, еще и потому, что Путин отказался прослушивать разговоры политиков и бизнесменов, на чем настаивал новый премьер. В частности, речь шла о Григории Явлинском, который публично обвинил в коррупции некоторых членов нового кабинета, чем вызвал страшный гнев Примакова.
В ответ Примаков обвинил Путина в том, что он привел в руководство ФСБ слишком много «своих людей» из Питера, чем ослабил кадровый состав коллегии ФСБ. Путин привез в гости Примакову всю коллегию, пытаясь продемонстрировать, что среди его замов — лишь два новых человека из десяти. Еще через некоторое время премьер обвинил Путина в том, что он установил за ним слежку и прослушивание его разговоров. В каждый виток своих непростых отношений с молодым директором ФСБ Примаков упорно втягивал президента.
Этот долгоиграющий конфликт не мог не навести на серьезные размышления. Почему премьер, который призван прежде всего заниматься экономикой, до таких мелочей влезает в дела силовых ведомств? Почему пытается взять под контроль ФСБ, МВД, прокуратуру?
Позднее Ельцин напишет в своей книге: «Возбуждались непонятные уголовные дела. Под арест попадали невинные люди. Часть сотрудников спецслужб не скрывала при допросах и обысках бизнесменов, что ждет реванша за прежние годы… Эта ситуация грозила настоящим расколом страны в главном вопросе — вопросе экономических реформ». Ельцин прав — были в эпоху Примакова конкретные уголовные дела, конкретные арестованные бизнесмены, впоследствии оправданные. Но все-таки суть не в конкретике…
Яростный сторонник Примакова Леонид Млечин обиженно комментирует этот пассаж: «Странно сейчас читать эти слова. Наступление на свободу слова, реванш спецслужб, возбуждение непонятных уголовных дел против видных промышленников, аресты и обыски — все это скорее описывает то, что происходило уже после отставки Примакова, когда президентом стал ельцинский преемник Владимир Владимирович Путин».
Но никакого противоречия здесь нет. При президенте Ельцине ни один премьер, будь то Черномырдин, Примаков или Путин, не мог изменить политический климат новой России.
Примаков шел навстречу ожиданиям общества. Считал, что навести порядок в стране можно только таким путем, путем репрессий и давления на прессу, запугав и поставив на колени всех, кто не согласен и сопротивляется. Что другого пути у России нет вообще.
Возможно, президент Ельцин понимал — такая политика отвечает потребностям «народной души», любой новый лидер попытается использовать этот ресурс, все уже готово к такому повороту. Но
Что будет потом, после него? Каким будет его преемник? Какой станет страна? Какие ценности она выберет? Это вопросы очень важные, но они — уже к следующему президенту. Ельцин, и это важно подчеркнуть, прекрасно понимал пределы своей компетенции, как строитель, четко знающий, где его «участок работы», его объект, где начинается и где кончается его зона ответственности.
«Примаковская стабилизация», как назвал Б. Н. эти месяцы в своей книге, а по сути дела, попытка выстроить альтернативный политический курс, проявилась, пожалуй, лишь эпизодами, отдельными экспромтами и глухими внутренними конфликтами, которые почти не вырывались на публичную поверхность. Но Ельцин сумел оценить саму тенденцию. Эта тенденция его категорически не устраивала. «Примаковскую стабилизацию» Ельцин воспринимал как выпадающее из исторической логики,
Однако президент ни разу не подверг действия премьера публичной критике, они продолжали еженедельно встречаться и обсуждать ситуацию в стране, в экономике, за рубежом. А поводов для обсуждения было предостаточно.
В марте 1999 года, когда силы НАТО начали бомбардировки Белграда, самолет Примакова развернулся над Атлантикой. Это был знаменитый дипломатический жест. Примаков отменил свой визит в США прямо в воздухе. Ельцин согласен с жесткой позицией Примакова. Он разгневан, возмущен, оскорблен действиями американцев. Запись его телефонного разговора с Биллом Клинтоном передает всю гамму этих чувств. Ее Ельцин приводит в своей книге:
«Я сказал Биллу: “Нельзя допустить, чтобы из-за одного человека гибли сотни и тысячи людей, чтобы его (Милошевича. — Б. М.) слова и действия руководили нами. Надо добиваться того, чтобы его окружали другие люди, чтобы для него стало невозможно вести себя так, как он ведет себя сейчас… Ради будущего наших отношений и будущего безопасности в Европе прошу тебя отменить этот удар. Мы могли бы встретиться на какой-то территории и выработать тактику борьбы лично с Милошевичем… По большому счету, это надо сделать ради наших отношений и мира в Европе. Неизвестно, кто придет после нас с тобой. Я имею в виду тех, кто будет заниматься сокращением стратегических ядерных вооружений. Но ясно, что надо делать нам самим — сокращать и сокращать эти горы оружия”».
Война в Югославии перечеркнула многолетние усилия российской дипломатии в этом регионе. Перечеркнула международное право.
В этом они с Примаковым были абсолютно солидарны.
Сделаю еще одно отступление от главного сюжета.
Все эти годы Ельцин, несмотря на все проблемы со здоровьем, продолжает небывалые по интенсивности встречи с западными лидерами. Именно в эти годы Россия дипломатически оформляет свои отношения с Североатлантическим альянсом, становится членом Европарламента, практически всех европейских структур. Россия входит в «Большую Европу», пусть медленно, постепенно, но входит. Вот важнейший итог второго срока ельцинской дипломатии.
В 1999 году отношения России и Запада обострились, и не только из-за югославского кризиса, но и в связи с началом второй чеченской кампании. На саммите ОБСЕ в Стамбуле, в ноябре этого года, Ельцину пришлось выдержать жесткое давление своих постоянных партнеров по переговорам — Франции и Германии. Вот как сам Б. Н. описывает этот эпизод в своей книге: «Первый заготовленный для меня текст (выступления на саммите в Стамбуле. — Б. М.) правил нещадно. Вставлял туда самые жесткие и резкие формулировки. Текст возвращался снова ко мне — приглаженный и прилизанный. Международники боялись резкой конфронтации с западными партнерами. Прочитав очередной вариант, среди ночи я позвонил Волошину по телефону: “Вы что, надо мной издеваетесь, Александр Стальевич?”
…Еще раз внес рукописную правку в текст выступления:
Отдал текст Игорю Иванову (тогдашнему министру иностранных дел. — Б. М.) для доработки. Через некоторое время они вернулись, стали убеждать, что так нельзя…
Пришлось так и читать, с рукописной вставкой.
Клинтон чувствовал, что я буду резок, с первых секунд: он вошел “неправильно”, не в те двери, которые были положены по протоколу, и пошел через весь зал, метров сто, стал здороваться со всеми, улыбаться, дал понять, кто в этом зале хозяин.
Я показал ему на часы: “Опаздываешь, Билл!”
…Почти кожей ощутил: весь огромный зал как будто усыпан осколками недоверия, непонимания.
…Ширак и Шредер сидели с тяжелыми лицами. Такого напора они явно не ожидали».
А вот как описывают саммит в Стамбуле помощники Ельцина:
«Сначала… президент обрушился на критиков России: “Вы не смеете критиковать Россию за Чечню!” К этому добавилось нарочито снисходительное отношение к Ж. Шираку и Г. Шредеру, которым Б. Ельцин, вопреки достигнутым ранее протокольным договоренностям, уделил лишь 10 минут. А потом он просто уехал в Москву, оставив министра иностранных дел И. Иванова с лидерами стран ОБСЕ уточнять формулировки. Тремя неделями позже, 10 декабря, во время визита в КНР, президент в решительной форме напомнил “другу Биллу” о том, что Россия все еще обладает полным арсеналом ядерного оружия» («Эпоха Ельцина»).
Если внимательно всмотреться в эти страницы современной истории, вчитаться в те мельчайшие детали стамбульского саммита, которые сохранила память Б. Н., становится понятной парадоксальная картина: Ельцин использовал все имеющиеся у него возможности для того, чтобы отстоять свою позицию. И теплые доверительные контакты на встречах «без галстуков», во время неформального общения с лидерами Запада и Востока. И жесткие шаги, эффектные жесты. В сущности, этим арсеналом российская дипломатия продолжает пользоваться и сейчас. Параметры поведения российских лидеров были заложены именно тогда, во время второго срока президента Ельцина.
И все же, несмотря на югославский кризис, именно в марте — апреле 1999 года в их отношениях с премьером возникла серьезная трещина. Во время одной из встреч (она проходила в больнице, что невольно подчеркивало значимость происходящего) Примаков вновь нервно заговорил о том, что в окружении президента есть люди, которые настраивают президента против него, что у него нет никаких политических амбиций, что он просит президента подтвердить его полномочия до 2000 года. Ельцин спокойно сказал: все договоренности остаются в силе, я и вы спокойно работаем до конца президентского срока.
Тогда Примаков попросил вызвать телевидение и повторить эти слова публично. Ельцин выполнил просьбу Примакова и подтвердил в присутствии телекамер, которые срочно приехали из «Останкина», что не собирается менять правительство…
Но Примаков не поверил. Его следующим шагом был подготовленный проект документа, который он собирался провести через Госдуму — взаимные обязательства президента и парламентариев. Логика документа: временные ограничения полномочий исполнительной и законодательной власти (президент не отправляет правительство в отставку, Дума не отправляет в отставку президента до 2000 года) — повторяла те параметры политического соглашения, которое пытался подготовить и подписать при своем неудавшемся избрании Виктор Черномырдин.
Однако была и принципиальная разница: Черномырдин действовал с одобрения Ельцина, в тандеме с президентом, Примаков подготовил свой вариант соглашения (уже
Да, но что же именно заставило премьера требовать (публично, а потом и письменно) от главы государства дополнительных гарантий своей неприкосновенности «до 2000 года»?
Сам Примаков утверждает: он почувствовал интриги за своей спиной, растущее раздражение Ельцина. Чувство ответственности за работу возглавляемого им правительства заставило его пойти на этот шаг. Однако в действительности причина была иной.
Устные гарантии того, что правительство Примакова спокойно доработает до 2000 года, были даны президентом еще в сентябре 98-го, когда Евгения Максимовича уговаривали согласиться. Но тогда же было сказано и другое: президент Ельцин и Примаков вместе ищут кандидата в президенты, яркого молодого политика, который пойдет на выборы. Было также понятно, что этот новый политик может занять перед выборами премьерское кресло, что он рано или поздно заменит Примакова. Поначалу Евгений Максимович действительно искал эту кандидатуру, обсуждал варианты, в какой-то момент стал думать о Сергее Степашине, потом перебирал другие фамилии. Однако, в конце концов, его позиция изменилась: он
Попытка перехвата власти становилась все более очевидна.
Это Ельцина не устраивало.
Держать нейтралитет по отношению к политической конструкции, сложившейся к весне 1999 года, больше было невозможно. Основой этой конструкции, вольно или невольно, оказался премьер-министр.
Конструкция, которая складывалась постепенно, к весне 1999 года обозначилась в остром конфликте законодателей с президентской властью. Госдума запустила процедуру импичмента, торопилась отнять власть у действующего президента и передать ее премьеру.
…Но особенно остро Ельцин почувствовал опасность возникновения нового кризиса во власти в истории с генеральным прокурором Скуратовым весной 1999 года.
Напомню, как это было.
Внешне Скуратов всегда производил впечатление честного, интеллигентного, мягкого человека, и вначале Ельцин относился к генпрокурору вполне лояльно. Но очень скоро этот «мягкий человек» начал проявлять невиданную политическую ангажированность. Особенно это проявилось в так называемом «деле Собчака». Во время предвыборной кампании в Санкт-Петербурге противники питерского мэра сфабриковали против него уголовное дело. О ремонте квартиры. Собчак проиграл выборы. Генпрокуратура жадно ухватилась за это дело, и на бывшего мэра началась настоящая охота.
Ельцин никогда не вмешивался в работу судов и прокуратуры, ни в какие уголовные дела или расследования, считая это пережитком коммунистической системы. При коммунистах, говорил он, было «телефонное право», у нас такого быть не должно.
Скуратов же продолжал активно заниматься делами, которые представляли для него серьезный политический интерес. Несмотря на абсурдность выдвинутых обвинений, он не торопился закрывать «дело Лисовского и Евстафьева». Продолжал искать криминал в «коробке из-под ксерокса». Деньги, предназначенные для артистов, участвовавших в предвыборной кампании, с юридической точки зрения, были абсолютно прозрачными, в «деле» не существовало потерпевших, никто не заявлял о краже, но людей продолжали вызывать на допросы, «держать на крючке». Генпрокурора это устраивало.
Продолжались и другие «дела», которые были выгодны Скуратову, например, «дело писателей», по которому, напомню, авторы концепции приватизации подвергались преследованию — за «неоправданно высокие гонорары», выплаченные по книге «Приватизация по-российски». Был выдан ордер на арест Альфреда Коха, одного из авторов книги, продолжались допросы других фигурантов.
Но весной 1999 года генеральный прокурор, активно выступавший с публичными заявлениями о новом витке борьбы с организованной преступностью, мафией, коррупцией, вдруг предстал перед всеми в совершенно другом обличье.
А вернее, предстал совершенно голый.
В съемной квартире, где Скуратов развлекался с проститутками, была установлена скрытая видеокамера.
Очевидно, кто-то из «друзей» Скуратова решил использовать старый прием, чтобы держать его под контролем, — классический шантаж. Если прокурор от чего-то откажется, на что-то не согласится, в ход пойдет компрометирующая видеозапись. Почему хозяин пленки решил «сдать» своего высокого покровителя, что Скуратов отказался сделать (или не сделать) — осталось неизвестным.
Но кассета оказалась в Кремле. Скуратову пришлось написать заявление об уходе «по состоянию здоровья».
Бордюжа отправился к Ельцину с заявлением Скуратова. Вот что в нем было написано: «Глубокоуважаемый Борис Николаевич! В связи с большим объемом работы в последнее время резко ухудшилось состояние моего здоровья (головная боль, боль в области сердца и т. д.). С учетом этого прошу внести на рассмотрение Совета Федерации вопрос об освобождении меня от занимаемой должности генерального прокурора РФ. Просил бы рассмотреть вопрос о предоставлении мне работы с меньшим объемом. Юрий Скуратов. 01.02.99».
Бордюжа сказал Борису Николаевичу, что Скуратов чувствует себя совсем плохо, прямо сейчас ложится в ЦКБ. Ельцин попросил подготовить документы об освобождении Скуратова с поста генерального прокурора. О пленке, повторяю, он в тот момент ничего не знал.
Между тем вокруг Скуратова быстро образовалась своеобразная «группа поддержки», которая предложила ему начать открытую борьбу за то, чтобы не оставлять свой высокий пост. Наиболее активную роль среди «советников» Скуратова играют люди из финансовой группы «Менатеп» (одного из главных акционеров компании «ЮКОС»), в частности Леонид Невзлин.
В то время у «Менатепа» были очень сильные позиции в Совете Федерации. В офисе «Менатепа» заседал так называемый «клуб сенаторов», где губернаторы и руководители законодательных собраний регионов проводили свои встречи, обедали, обсуждали законы, вырабатывали совместные позиции. Одновременно «Менатеп» был теснейшим образом связан с Лужковым. Например, Василий Шахновский, один из основных сотрудников группы, долгие годы работал управляющим делами московского правительства. Отметим эту немаловажную деталь.
Ситуация мгновенно переросла из «личной» в «общественную». Схематически расположение заинтересованных сил можно описать так: Скуратов, который ищет поддержки; Лужков с мощным политическим ресурсом в Совете Федерации — для него конфликт генпрокурора с президентом очень выгоден; Совет Федерации, в компетенции которого отставка и назначение генпрокурора. (И здесь открывалось широкое поле для кулуарных переговоров: позиция при голосовании в обмен на какие-то льготы, уступки Центра, при этом у каждого губернатора — свой вопрос, своя «тема», чтобы поторговаться с Кремлем.) Ну и, наконец, банк «Менатеп», который хочет иметь «контрольный пакет» и при снятии, и при назначении генерального прокурора. Схема по-своему уникальна. И она, увы, отражает реалии того времени.
…Что же дальше?
Начались, как принято говорить в таких случаях, «активные консультации». Накануне первого голосования глава администрации Николай Бордюжа санкционирует показ компрометирующей пленки по Российскому телевидению (в ночное время). Однако и это не произвело впечатления на членов верхней палаты. Сенаторы проголосовали против отставки Скуратова. Большой торг начался.
Думаю, не нужно быть крупным специалистом в юриспруденции, чтобы доказать — в законодательстве в 90-е годы царили туман, неразбериха, в правовом поле зияли огромные дыры. Многие важные законы тормозились Госдумой, не приняты важнейшие кодексы — Налоговый, Уголовный, Гражданский, действующие законы обрастали кучей толкований, не применялись или применялись выборочно. Этим пользовались недобросовестные прокуроры, коррупционеры всех мастей, нечестные бизнесмены, да кто угодно.
Парадоксальная ситуация со Скуратовым как в капле воды отражает эту картину.
За полгода до этого, осенью 1998 года, Скуратову позвонила швейцарский прокурор Карла дель Понте. Она сообщила, что в результате проверки финансовой отчетности швейцарской строительной фирмы «Мабетекс» обнаружила счета, которые связаны с именами членов семьи Ельцина. Важная деталь: Скуратов не сообщил об этом ни президенту Ельцину, ни главе президентской администрации, никого не вызвал для допросов в прокуратуру, не открыл формально расследования. Спрятал материалы в дальний ящик стола, на всякий случай.
Впервые Скуратов вслух заговорил о деле «Мабетекс» именно в Совете Федерации. Упомянул о нем, пообещав бороться с коррупцией в высших эшелонах власти.
А вот еще один эпизод.
Однажды Борис Немцов все-таки попросил Ельцина вступиться за Собчака. Анатолий Александрович, сказал Немцов, может умереть в результате этой травли, со здоровьем у него совсем плохо. Только тогда Б. Н. снял трубку, позвонил Скуратову и произнес всего одну фразу: «Прекратите травить Собчака». Об этом сам Немцов позднее рассказал в своей книге.
Но и после этого был выдан ордер на арест. Спас Анатолия Собчака Владимир Путин: он вывез его за границу, буквально вырвав с больничной койки. Если бы Путин этого не сделал, на следующее утро Собчак был бы арестован.
Итак, после первого голосования в Совете Федерации глава администрации Николай Бордюжа рассказал Ельцину о самом неприятном: о скандальной пленке, на которой запечатлен Скуратов.
В следующей встрече, которая проходила в Центральной клинической больнице (ЦКБ), принимали участие трое (кроме Ельцина): Скуратов, премьер-министр Примаков и глава ФСБ Путин. Скуратов вел себя снова очень подавленно, просил сохранить за ним его пост, обещал «полное взаимодействие». Тогда Ельцин твердо сказал: «Я с вами работать не буду!» (Так Б. Н. пересказывает этот эпизод в своей книге.) Примаков также попросил прокурора уйти в отставку. Путин, как глава ФСБ, сухо доложил результаты официальной экспертизы: голос на пленке принадлежит Скуратову, пленка подлинная, не фальсификация. Ельцин протянул Скуратову ручку, бумагу и сказал: «Пишите заявление!» Скуратов написал второй вариант своего заявления об отставке. В Совет Федерации было отправлено новое представление президента на увольнение генпрокурора. Но сам Скуратов неожиданно пришел на заседание и попросил его отставку не принимать. За отставку генпрокурора проголосовали меньшинство сенаторов. Кремль проиграл и второй раунд.
— Вроде бы Евгений Максимович Примаков был за отставку Скуратова, — вспоминает дочь Ельцина Татьяна. — Но я прекрасно помню, как во время одного нашего с ним разговора он вдруг мне сказал: Таня, да что вы так упрямитесь с этим Скуратовым? Остался бы работать, был бы у нас на крючке. Я была поражена этой логикой.
Кризис разрастался.
После второго голосования в Совете Федерации Александр Волошин, который в этот момент возглавил администрацию президента, предложил вариант компромисса. Те, кто поддерживает Скуратова, прекращают ему помогать и гарантируют, что он подаст в отставку. При этом кандидатура нового генерального прокурора должна быть одобрена обеими конфликтующими сторонами — Советом Федерации и администрацией президента. Такой устраивающей всех кандидатурой стал бывший прокурор Москвы Геннадий Пономарев, который в этот момент возглавлял правовое управление правительства столицы.
Казалось, кризис преодолен. Появились надежды, что кандидатура нового генпрокурора успокоит страсти, удовлетворит всех, в том числе губернаторов.
Однако внезапно со стороны «менатеповцев» появились новые условия. Президент должен подписать письмо о внесении кандидатуры Пономарева
Ельцин, которому новый глава администрации Александр Волошин рассказал о сложившейся ситуации (их встреча состоялась в резиденции «Горки-9»), распорядился прекратить любые переговоры с представителями Скуратова.
По делу «Мабетекс» (о нем, напомню, Скуратов впервые заявил в Совете Федерации во время первого голосования о своей отставке) было возбуждено уголовное дело уже против самого генпрокурора[33]. В связи с возбуждением этого уголовного дела президент подписал указ о временном отстранении Скуратова от должности генпрокурора. Место исполняющего обязанности генпрокурора занял Юрий Чайка.
Скуратов активно участвовал в дискредитации Ельцина и его семьи летом 1999 года и даже поучаствовал в президентской гонке 2000 года, набрав 0,43 процента голосов, но, в общем, о нем постепенно начали забывать. Ничего другого, кроме пресловутого дела «Мабетекс», он предъявить не мог.
— Так что же с делом «Мабетекс»? — спрашиваю у Валентина Юмашева.
— Это было просто формой самозащиты. Скуратов пытался представить всё таким образом, что видеокассета сфальсифицирована с целью прекратить расследование дела о семье Ельцина. На самом деле, никакого расследования он не вел. Настоящее расследование происходило уже после его отставки. Таню и Лену вызывали для допроса в прокуратуру. Протоколы допросов существуют, они все в деле.
— И что же выяснилось? К чему в итоге пришли следователи?
— Прокуратура долго выясняла, как, откуда, когда появились злополучные кредитные карточки (с них было снято в общей сложности 70 тысяч долларов за три года). В итоге выяснилось, что деньги были сняты с личного счета, с гонорара Бориса Николаевича за его мемуары, а не с какого-либо другого счета. Дело было расследовано и закрыто.
В истории со Скуратовым есть два факта, которые трудно опровергнуть: первый — сама кассета, второй — участие в переговорах с Кремлем представителей группы «Менатеп». Первый факт отсылает нас к личной истории самого бывшего генпрокурора, истории грустной, а может быть, трагикомичной, не знаю, но в любом случае — далеко не героической. Второй указывает на то, что именно тогда, весной 1999 года, началась мощнейшая политическая интрига, целью которой было отстранение президента Ельцина от власти еще до выборов 2000 года.
Трудно понять, даже по самым «близким» и достоверным источникам, как Ельцин в то время реагировал на эти острые, болезненные для него ситуации. Он, прежде часто выступавший с телеобращениями и телеинтервью, стал мало появляться на экранах. Ему очень не хотелось показывать свою немощь, акцентировать внимание на физической форме, он продолжал упрямо верить в то, что послеоперационный этап пройдет и все само собой наладится. Тяжело было и реагировать на безумные или голословные обвинения по своему адресу и адресу семьи. Предпочитал отвечать молчанием. Принимая острейшие решения и понимая всю степень своей ответственности за них, стал реже прибегать к испытанному средству — обращениям к народу. Обратился только в самом конце второго срока, когда время показало, что он все-таки был прав…
Практически все, кто так или иначе объясняли позднее отставку Примакова, исходили из следующего: это был ответ президента на кризис. Ельцин решил усилить свои позиции. Он якобы боролся за власть.
Однако вернемся чуть назад: если бы Ельцину были нужны
Но именно это и не устраивало президента Ельцина. Его не устраивал этот новый политический климат. И его не устраивало, что в этом новом климате у России будет уже другая судьба, изменится сама концепция развития страны.
Отставка Примакова накануне импичмента, назначение новых премьеров (после череды отставок 1998 года) — были очень драматической страницей нашей истории. И это помнят все. События взрывали «новую стабильность». Они будоражили общество, открывая перед ним новые и далеко не ясные перспективы. Со всей определенностью эти шаги говорили: не время успокаиваться. Не время «засыпать» под убаюкивающие речи и вялотекущие прогнозы роста экономики.
Ельцин продолжал выполнять свой план. Он не боялся политических рисков, импичмента, жестокой борьбы, шока, смятения, нового кризиса. Для него существовала цель, и он шел к ней, несмотря на временные остановки.
Дом недостроен. «Объект» не сдан. Предстояло самое трудное — последний рывок. Как строитель, он знал, что это такое.
События между тем начали развиваться еще стремительнее.
9 апреля 1999 года Ельцин сделал публичное заявление:
— Не верьте слухам о том, что я хочу Примакова снять, правительство распустить и так далее. Все это домыслы и слухи. Такого нет и не предвидится. Я считаю, что на сегодняшней стадии, на таком этапе Примаков полезен, а дальше будет видно. Другое дело, что надо укреплять правительство. Этот вопрос стоит.
Примаков через несколько часов обиженно ответил, выступив по телевидению:
— Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить особенно тем, кто занимается этой антиправительственной возней: успокойтесь, у меня нет никаких амбиций или желания участвовать в президентских выборах, и я не вцепился и не держусь за кресло премьер-министра, тем более когда установлены временные рамки моей работы: сегодня я полезен, а завтра посмотрим…
Это была их первая публичная «перестрелка». В воздухе запахло грозой.
Следующий шаг Ельцина — назначение Сергея Степашина, министра МВД, первым вице-премьером. Степашин, кстати, был единственным человеком в правительстве, который обращался к Примакову на «ты». Между ними были прекрасные отношения.
Это случилось 27 апреля. Еще через несколько дней, на заседании «комитета по встрече 2000 года», Ельцин внезапно остановился и, насупив брови, сказал:
— Неправильно сели. Степашин — первый зам. Пересядьте, Сергей Вадимович.
12 мая, когда Примаков пришел в Кремль с очередным докладом, Ельцин сказал ему слова, которых тот давно ждал: «Вы выполнили свою роль. Теперь, очевидно, нужно будет вам уйти в отставку. Облегчите мне эту задачу, напишите заявление об уходе с указанием любой причины».
Он не хотел с ним ссориться. Был благодарен Примакову, переживал, испытывал перед ним острое чувство неловкости. Он убирал не лично Примакова, к которому относился с большим уважением, он просто осуществлял свой план.
План Ельцина.
Но Примакову эти резоны были неинтересны. Он ни о чем не спросил президента. Ему все было ясно: его «свалили» недоброжелатели, интриганы: Волошин, Березовский, Дьяченко, Юмашев. «Примаков, — пишет Леонид Млечин, — в эти недели чувствовал себя очень плохо, страдал от тяжелого радикулита, нуждался в операции. Но присутствия духа не потерял…»
Напряженно, хмуро Примаков сказал:
«Нет, я этого не сделаю. Облегчать никому ничего не хочу. У вас есть все конституционные полномочия подписать соответствующий указ. Но я хотел бы сказать, Борис Николаевич, что вы совершаете большую ошибку. Дело не во мне, а в кабинете министров, который работает хорошо, страна вышла из кризиса. Люди верят в правительство и его политику. Сменить кабинет — это ошибка».
Ельцин не хотел отпускать Примакова на этой тяжелой ноте. Зачем-то опросил, есть ли у Примакова машина, на чем он сможет доехать домой. Примаков хмуро ответил: на такси.
Ельцин почувствовал себя плохо, нажал на кнопку, вошли врачи.
Когда президенту стало лучше и медики ушли, он встал, обнял Примакова и сказал: давайте останемся друзьями. Так описал эту ситуацию сам Евгений Максимович. Очевидно, что каждой деталью он старается подчеркнуть: как Ельцин был неправ.
Сам Ельцин вспоминает эту отставку несколько по-другому: «Еще раз посмотрел на Евгения Максимовича. Жаль. Ужасно жаль. Это была самая достойная отставка из всех, которые я видел. Самая мужественная».
Примаков испытывал смешанные чувства — обиды, горечи, а с другой стороны — чувство освобождения. По крайней мере, так он скажет позднее.
Однако «чувство освобождения» не освободило Примакова от желания борьбы, от желания доказать свое превосходство.
Коммунистическая фракция в Госдуме, предвидевшая такой поворот событий, торопила процедуру импичмента, конституционного отстранения президента от власти.
До нее оставались считаные дни. Ельцин принял неожиданное решение — уволить Примакова не после голосования, а до него.
Казалось, что этот шаг не логичен. Дума разъярится, узнав, как президент бесцеремонно отправил в отставку популярного премьера. Но получилось иначе.
Коммунисты не собрали необходимого количества голосов для импичмента, в очередной раз проиграв Ельцину. Его решимость подействовала на них, как, впрочем, и всегда. Депутаты не захотели обострять ситуацию вторично, и Сергей Степашин с первого захода стал премьером, ему не пришлось, как Сергею Кириенко или Виктору Черномырдину, испытать болезненный стресс неудачного голосования.
Однако премьером Сергей Степашин пробыл недолго, всего три месяца. Возникает закономерный вопрос: почему?
…Интересная деталь: в своем интервью журналу «Тайм» Путин сказал, что первый разговор состоялся у них с Ельциным еще осенью 1998 года. Но об этом разговоре тогда никто не знал.
— Когда был решен вопрос, что Путин — главный кандидат в премьеры? Когда произошел их первый разговор, как и когда Ельцин принял это решение? — спрашиваю у Валентина Юмашева.
— Подобные предварительные беседы президент, скорее всего, провел с несколькими людьми в течение 1997–1998 годов. Среди них были, но здесь я могу только предполагать, первый вице-премьер Борис Немцов, бывший министр юстиции в правительстве Гайдара, президент республики Чувашия Николай Федоров, наверняка Виктор Степанович Черномырдин. К весне 1999 года к этому списку Ельцин добавил Сергея Степашина (тогда министра МВД), Николая Аксененко, министра железнодорожного транспорта. Наверняка был и кто-то еще. Ельцин пытался оценить реакцию собеседника, он как бы прощупывал его. Присматривался. Естественно, каждого из своих собеседников просил держать разговор в строжайшей тайне.
Назначение Степашина было той «долгой паузой», столь характерной для Ельцина, перед тем, как он сделал свой окончательный ход. Ельцин так объясняет это в своей книге: объявлять Путина своим преемником больше чем за год до президентских выборов было неправильным, опасным. Экономическая ситуация в стране была тяжелой, на премьера ложился груз непопулярных решений. Поэтому «выстрелить» надо в самый последний момент.
Но были, конечно, и другие причины. Отставка Примакова и без того была рискованным шагом для Ельцина. Он вполне логично опасался, что назначение Путина до предела раскачает ситуацию, вызовет конфликт внутри спецслужб, что за Путина не проголосует Госдума, зная о его непростых отношениях с Примаковым. Напротив, у Примакова со Степашиным были самые теплые, дружеские отношения. И это тоже повлияло на решение Б. Н.
Внутри президентской команды мнения разделились. Например, Анатолий Чубайс, бывший глава администрации, был за назначение Сергея Степашина. Юмашев — против. Волошин после долгих раздумий тоже склонился к фигуре Степашина.
Выслушав все доводы, Ельцин принимает решение — вносит кандидатуру Сергея Степашина в Думу. На удивление скептиков, депутаты сравнительно легко утвердили его в должности председателя правительства. И хотя Владимир Путин оставался основным кандидатом, у Степашина появился реальный шанс внести поправки в этот предвыборный расклад. Сама должность делает его безусловным кандидатом на лидерство.
Однако Сергей Степашин довольно быстро начал растрачивать этот потенциал. С первых же шагов у него возник конфликт с первым вице-премьером Николаем Аксененко. Он считал, что Аксененко пытается занять его место. Нервно реагировал на то, что Борис Николаевич периодически приглашал на встречу к себе вместе с премьером и Аксененко. Точно так же в свое время Ельцин приглашал в Кремль или в резиденцию «Горки-9» Черномырдина вместе с Немцовым и Чубайсом, двумя его первыми замами. Президент считал правительство одной командой. Но Степашин реагировал на это крайне болезненно.
Конфликт премьера с первым замом создал нездоровую атмосферу в правительстве, паралич воли, вакуум решений. Ельцина это раздражало. К концу июля президент понял, что настал решительный момент — медлить с назначением Владимира Путина больше нельзя.
Отставку Сергея Степашина Ельцин также перенес тяжело. Ему нравился Сергей Вадимович, с ним было пережито многое. Степашин не потерялся после тяжелых событий в Буденновске в 95-м, когда он вместе с другими силовиками ушел в отставку. Продолжал работать, сначала в департаменте правительства, потом стал министром юстиции, наконец, министром внутренних дел, и вот, когда настала вершина карьеры, Ельцин вынужден попрощаться с ним.
На решающий разговор Б. Н. пригласил вместе с Сергеем Степашиным Владимира Путина, будущего премьера, и Николая Аксененко, первого вице-премьера. Разговор получился тяжелый, неприятный.
Еще тяжелее отставку пережил сам Сергей Степашин. Уже после своего ухода он продолжал винить в этом Аксененко, обиделся на советников Ельцина, которые, как он считал, подтолкнули президента к этому шагу. На самом деле «подтолкнуть» Ельцина никто не мог. «Подтолкнуло» и повлияло совсем другое. С одной стороны, трезвый расчет, с другой — знаменитая
Это «отложенное» назначение происходило на фоне драматических событий лета 1999-го. Событий, все убыстрявших свой ход.
После отставки Примакова и назначения Сергея Степашина стало ясно: будет новая информационная война. Но какая война? Какими способами? Какой ответ Ельцину будет дан? Кем? Вскоре все ответы были получены. Началась травля президента и его семьи в СМИ.
Впервые, в виде пробы сил, своеобразной пристрелки, тема «семьи» появилась в 1998 году. Тогда по автомагистралям столицы были развешаны большие плакаты: «Семья любит Рому. Рома любит семью». «Московский комсомолец» сразу расшифровал для тех, кто не понял: речь идет о Романе Абрамовиче, владельце Сибнефти. Впервые о дружбе Валентина Юмашева и Татьяны Дьяченко с Абрамовичем написал Александр Коржаков в своей скандально известной книге, вышедшей в 1997 году.
Но почему именно «семья»? Почему не что-то еще? Ведь были и другие темы, давно апробированные коммунистами: экономическая депрессия начала 90-х годов, разорение эпохи дефолта, тяжелое состояние медицины, социальной сферы, армии, науки, наконец, здоровье Ельцина, его пресловутый «алкоголизм»…
Ответ очевиден — эта тема была наиболее
…В 90-е годы российская независимая пресса очень активно разрабатывала тему «родственники чиновников в бизнесе». Россияне прекрасно знали о том, как богатеет семья Юрия Лужкова или семья самарского губернатора Титова, знали и о многих других губернаторах, мэрах и т. д.
Поверить в то, что российский президент и его семья
Первый залп раздался в мае 99-го. В программе «Итоги» на канале «НТВ» телезрителям подробно объяснили, каким образом «семья» распределяет финансовые потоки, кто за что отвечает в этой зловещей, буквально поработившей политику и экономику России конструкции. Назывались Юмашев, Волошин, Дьяченко, Березовский, Абрамович, Мамут и, наконец, сам президент Ельцин, стоящий во главе преступного синдиката.
Постоянным персонажем программы «Куклы» стала Татьяна, дочь Ельцина, и если раньше сюжетом этого сатирического шоу служили в основном политические баталии, то отныне главной темой стали «семья» и ее влияние.
Следующим этапом разоблачения «семьи» явились уже тематические программы: 45-минутная программа о даче на Николиной Горе, якобы принадлежащей дочери Ельцина, программа о собственности «семьи» за границей, виллы в Германии, замки во Франции, дома в Англии. Вновь были вытащены на свет дело «Мабетекс», банковские счета за рубежом, «расхищение» транша МВФ в 1998 году, «махинации» на ГКО. Ключевым стал термин «кошелек семьи»: этот ярлык поочередно навешивали то на Абрамовича, то на Мамута, то на Березовского.
Второй главной темой стала узурпация власти: изоляция Ельцина (вновь пошла в ход тема здоровья), невозможность пробиться к нему через возводимые «семьей» заслоны, его несамостоятельность в принятии решений — все то, что и сейчас переходит из книги в книгу.
«Информационные поводы» находились легко. Публикации статей в изданиях медиахолдинга Гусинского (газета «Сегодня», журнал «Итоги»), «Как сообщает газета “Сегодня”», «как сообщает журнал “Итоги”»… О том, что «сообщают» все это одни и те же люди, по одной и той же команде, простой телезритель, естественно, не мог догадаться, да это было уже и не важно. Главное, тема запущена.
Не отставали от НТВ и московские городские СМИ, московский телеканал, финансируемый мэром. Лужков не мог простить Ельцину, что тот не сделал его премьером в сентябре 98-го… Обида не прошла. И в разгул этой травли мэр Москвы выступил с публичным заявлением, в котором сказал, что президент обязан
Самое печальное было то, что публичная травля исходила прежде всего от телеканала «НТВ» — самого «демократического», самого либерального на первый взгляд телевидения. Телевидения, которое декларировало объективную подачу фактов,
Был еще один важный момент — противники Ельцина прекрасно знали, что президент не подаст в суд на СМИ, это было его многолетним железным правилом. Казалось, что такая информационная война была беспроигрышной.
— У меня не было близких отношений с Гусинским, — рассказывает Валентин Юмашев, — а вот директора НТВ Игоря Малашенко я хорошо знал, дружил с ним, он принимал активное участие в выборах 1996 года. Малашенко был основным кандидатом на должность главы администрации в июле 96-го, сразу после окончания выборов президента. Игорь тогда отказался, и эту должность занял Чубайс. О степени моего доверия и открытости наших отношений с ним говорит такой факт. Когда встал вопрос, кто заменит Кириенко после августовского кризиса, и президент попросил меня сформулировать свою позицию, я попросил его, чтобы он меня принял вместе с Малашенко. Сказал ему, что вопрос настолько сложный и плохо просчитываемый, что лучше иметь несколько мнений. И более часа вместе с президентом мы обсуждали самые деликатные вопросы, все «за» и «против» каждой кандидатуры. Я полностью верил Игорю, знал, что от него не уйдет никакая информация, которую в тот день он на этой встрече вольно или невольно получил. И вот прошел всего год, и начался этот бред на НТВ. Я встретился с Малашенко и спросил его: Игорь, ты же прекрасно знаешь Таню, ты знаешь Бориса Николаевича, его семью, ты знаешь, что это кристально чистые люди, как ты можешь давать эту ложь каждый день в эфир?!
— И что же он ответил?
— Он ответил: да, я знаю. Но таковы командные правила игры, я ничего не могу сделать. Вы уже проиграли, вы не контролируете ситуацию, вы теряете политический ресурс, ваше дело обречено. Поэтому информационная кампания будет продолжаться.
…К концу этой кампании (правда, на канале «НТВ» она плавно сошла на нет в марте 2000 года, сразу после окончания президентских выборов) у слушателей, читателей и зрителей создалось одно ясное ощущение. «Семье» принадлежит всё. Фактически вся страна. Атомная промышленность, цветная металлургия, гражданская авиация, нефтяная промышленность, целые предприятия, скважины, месторождения и т. д.
Но вот прошло время, можно подвести некоторые итоги. Где же всё, что когда-то «им принадлежало»?
Вот как отвечает на эти вопросы в своем блоге дочь президента Ельцина Татьяна Юмашева:
«Есть известная ложь, распространяемая в течение долгого времени, что за те годы, что я работала в Кремле, мною было сколочено многомиллионное (десятки, сотни миллионов, миллиарды — сумма зависит от фантазии пишущего) состояние. Повторю, это ложь. Я все-таки попытаюсь в этом вопросе поставить точку. Как? Очень просто. Разобравшись с каждым слухом, с каждым враньем. При этом предлагаю использовать самое простое средство. Гласность. Помните, старое слово? Появившееся в середине 80-х.
Теперь, что пытаются мне приписать? Что за годы, что я работала в Кремле, я будто бы оказывала услуги различным бизнесменам, и они, в благодарность, делились со мной акциями компаний, которыми владели. Это тоже ложь. Дальше. Они расплачивались со мной не только акциями. Они также будто бы дарили мне виллы, дома, квартиры, особняки, резиденции и прочее недвижимое имущество, и это всё в Москве, Подмосковье, за границей — в Англии, Франции, Австрии, Германии, Италии и прочих европейских странах. Это тоже ложь. Еще писали про автомобили, которые мне дарили, дорогие и красивые, но это уже так, мелочи, добавка к основному. Это тоже ложь. У меня нет и никогда не было акций компаний. Ни “Сибнефти”, ни “Газпрома”, ни “Лукойла”, ни “Аэрофлота”, ни “ОРТ”, ни “Связьинвеста”, ни “Русала”, ни “Норникеля”, ничего. Я предлагаю дальше продолжить этот список, в него вы можете добавить все компании, которые были созданы или приватизированы в 90-е годы или позже. Эта информация легко проверяется. Почти все эти компании поменяли хозяев, новые собственники, у которых, понятно, никаких обязательств передо мной уже нет (у старых, правда, тоже не было), легко могут войти в реестр акционеров и подтвердить то, что я говорю.
Были десятки публикаций, например, о моем особняке-дворце на Николиной Горе. Первые статьи появились в 98-м году, к концу 99-го их был просто вал. Вот и в этот раз некоторые комментаторы спрашивают меня об этом доме. Что я предлагаю. Те журналисты, которые писали об этом моем богатстве на Николиной Горе — хотела бы уточнить, что это журналисты НТВ, телеканала ТВЦ, газеты “Сегодня” (уже не существующей), газеты “Версия”, газеты “Совершенно секретно” и некоторых других, — вы можете доехать до этого дома, постучаться в ворота и спросить, когда хозяева туда въехали, сколько там живут. Еще можно от имени любого печатного издания официально обратиться в местные органы, где зарегистрированы этот участок и дом, и получить информацию о том, кому принадлежит это имущество. Это также может сделать любой желающий. И я могу сейчас уже сказать, какая информация будет получена. Ни ко мне, ни к кому-либо из моих родных этот дом никогда никакого отношения не имел. Франция, Лазурный Берег. Периодически называются разные виллы, шале, дома и т. д. Я сказала в своем интервью журналу “Медведь” — ничего нет. И добавила, любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе».
По-моему, исчерпывающий ответ.
Парадокс состоит и в том, что Борис Николаевич, когда был президентом, не раз отправлял в отставку тех, в ком подозревал личную заинтересованность, порой даже несправедливо, но в любом случае это было для него сильнейшим аргументом: если есть скандал, такой человек должен уйти. Поэтому он не пускал в «большую» власть Лужкова, поэтому расстался с Коржаковым и его командой, таких примеров много. Но именно личную заинтересованность вменили ему в вину те, кто сам был далеко не ангел.
Тема «семьи» разрабатывалась тогда и в ином направлении. Говорили и писали: Б. Н. много болел, доступ к нему сильно затруднен, он мало с кем встречался, кроме нескольких человек. Это был тот узкий круг, который, по сути, всё и решал, эти люди могли провести через него любое решение, подписать любой документ.
Рассказывает Валерий Семенченко, руководитель секретариата президента в аппарате Ельцина:
— Порядок прохождения документов от президента и к президенту существовал, конечно, всегда. Но, памятуя о том, как Коржаков подписывал у Ельцина бумаги, при главе администрации Анатолии Чубайсе этот порядок был сильно ужесточен. Президент Ельцин просто технически не мог подписать ничего, что не прошло бы всех необходимых согласований в правительстве, силовых структурах и так далее. Любой документ он получал только через меня, со всеми необходимыми формальностями и визами. Миновать мою папку не мог ни один документ. Никто не мог подписать документ у Ельцина, не собрав всех необходимых виз.
— Пишут, что президент в последнее время мало с кем встречался, доступ к нему был затруднен, а получить аудиенцию можно было только через Татьяну, дочь президента. Так ли это?
— Это тоже было невозможно технически. «Прикрепленный» (дежурный адъютант. — Б. М.) был
Я опять спрашиваю Валентина Юмашева:
— Говорят и пишут, что в последние годы существовал некий «коллективный Ельцин», то есть президент передоверил свои главные функции узкому кругу советников. И они, то есть вы, вместо него принимали решения, а Ельцин лишь соглашался с вами.
— Ельцин никогда не принимал решение, если он не выслушивал несколько точек зрения. Примеров, известных и из мемуаров, и из опубликованных документов, масса: и март 1996 года, когда речь шла о роспуске Думы и переносе выборов, когда Ельцин выслушал позиции своих помощников во главе с Илюшиным, затем силовиков — Коржакова, Барсукова, министра МВД Куликова, Чубайса — и лишь после этого принял решение. И назначение, и снятие с поста замсекретаря Совбеза Бориса Березовского (кстати, и при назначении, и при снятии я занимал позицию, отличную от позиции Ельцина). Ситуация после дефолта, когда Дума не утверждала на пост премьера Виктора Степановича Черномырдина. Мнения в администрации по поводу кандидатуры Лужкова резко разделились, и по просьбе президента я повез в резиденцию Бориса Николаевича «Горки-9» Сергея Ястржембского и Андрея Кокошина, чтобы Борис Николаевич сам, не через аналитическую записку, не через меня, а напрямую выслушал их мнение. Я был против назначения Сергея Степашина премьер-министром после отставки Примакова (считал, что назначать надо сразу Путина). Во-первых, потому, что считал Степашина хорошим министром внутренних дел, а во-вторых, зачем нужно мучить человека и через некоторое время снимать его? Но Борис Николаевич, выслушав другие позиции, принял свое решение. То есть если считать, что я — один из видных членов «семьи», то Борис Николаевич достаточно часто делал всё «ровно наоборот». Вспоминаю сейчас лишь самые яркие примеры. Шла ли речь о назначении премьера или вице-премьеров, Б. Н. всегда требовал
…Я очень надеюсь, что миф о «семье» будет разобран когда-то будущими историками «по косточкам», с документами и фактами в руках, на объективную и субъективную составляющие, это важно. Но сейчас хочу вернуться к главной теме: «семья», как идеологическая конструкция, была не просто инструментом «черного пиара». Она была необходима и массовому сознанию, и не только потому, что имя Ельцина прочно связалось с периодом гайдаровских реформ, сложных экономических преобразований. Нет, просто так нам всем
В своей книге «Президентский марафон» Ельцин не без иронии главу о назначении Путина назовет: «Ельцин сошел с ума».
Сейчас уже трудно в это поверить, но именно так общество отреагировало на появление нового премьер-министра. Было непонятно, чем благодушный, симпатичный Степашин не устраивает президента.
Не понимали не только оппозиционеры, которые еще не успели остыть от «битв» по поводу отставки Примакова, не понимали и друзья. Анатолий Чубайс, считавший своим долгом предупреждать президента о принципиальных ошибках, добился встречи у Ельцина, с полчаса доказывал ему, что Путин премьером быть не может, что Степашин — наилучшая кандидатура. С огромной обидой воспринял свою отставку и сам Степашин, он дважды пытался переубедить президента.
Есть такие цифры: Ельцин уволил за время своего правления пять премьеров, более тридцати вице-премьеров. И на самом деле — чего он добивался этими отставками? В своей книге он так комментирует это: время двигалось слишком быстро, задачи менялись с калейдоскопической быстротой. Да и, кроме того, замечает он, благодаря работе в правительстве на политическую сцену выходили всё новые политики, они становились известны, а после отставки заполняли политическую пустоту, которая характерна для только что возникшей демократии. За редкими исключениями это было действительно так. Даже Александр Руцкой после Лефортова вернулся в губернаторы, не говоря уже о Лебеде и многих других. Это, между прочим, весьма красноречиво говорит о том, что, по большому счету, Б. Н. был незлопамятен.
Ельцин играл на открытом политическом поле. Он менял конфигурацию правительства в зависимости от ситуации в Госдуме, от экономических показателей, в зависимости от того, как вел себя тот или иной человек. Никогда не сомневался, принимая решение об очередной отставке, потому что знал — эти люди вернутся через какое-то время, если докажут свою честность и полезность.
Но в данном случае смысл отставки и назначения нового премьера был совершенно другим. В этот момент на карту было поставлено будущее страны — так считал президент Ельцин. И был совершенно прав. Другое дело — насколько правильно он увидел это будущее, насколько точно угадывал его? Но на этот вопрос я ответить, конечно, не могу. Ответят будущие историки, для которых эта книга будет лишь одним из многочисленных «источников». Моя же задача гораздо скромнее: попытаться более или менее адекватно изложить последовательность событий жизни героя, передать его логику и его образ мыслей.
Исполняющий обязанности премьера Владимир Путин был утвержден Госдумой неожиданно легко, в первом туре. Но будущее его виделось туманно.
Противники Ельцина торжествовали. Они не принимали Путина всерьез, в стране его еще никто не знал. Рейтинг Путина составлял ничтожные два процента.
Травля Ельцина и его семьи нарастала.
И в этот момент Россия застыла в шоке. Началась вторая чеченская война.
Вторжение чеченских боевиков в Дагестан летом 1999 года поначалу не восприняли всерьез. Но вскоре развернулась крупномасштабная войсковая операция, руководил которой именно Путин. Затем, в сентябре, прогремели взрывы в Москве, в Печатниках и на Каширке, потом взрыв в Волгодонске. Это были взрывы страшной силы — и физически, потому что взорванные ночью дома погребли под собой сотни мирно спящих людей, и психологически. Возник страх.
Я не помню такого страха в Москве за всю свою жизнь…
В сентябре 1999-го москвичи боялись выходить из дома, выпускать из квартир детей. Ездить по городу. Это была атака, по психологическим последствиям очень напоминающая нью-йоркскую трагедию, которая последовала два года спустя.
Жильцы устанавливали дежурства в подъездах, не спали ночами, ходили вокруг домов с фонариками, на милицию обрушился шквал звонков о «подозрительных личностях», из темных окон люди с ужасом вглядывались в темноту…
Первая чеченская война вызвала в обществе гневный протест, об этом свидетельствовали и тон прессы, и опросы, и реакция депутатов, и голоса интеллигенции. Вторая война была поддержана большинством населения, политическими элитами — практически всеми.
Но — далеко не сразу.
Забытые ныне цифры социологических опросов свидетельствуют о том, что идея второй чеченской войны была вначале
«Администрация президента считала последствия второй чеченской операции непредсказуемыми, а риск неоправданно большим. Лично я предлагал Путину отложить начало полномасштабной операции хотя бы на период после выборов, — вспоминает Валентин Юмашев. — Путин отвечал на это: “Но мы можем не дожить до выборов”. Он считал, что нужно отвечать ударом на удар, иначе страх дестабилизирует обстановку в стране. Идея второй раз ввязаться в Чечню казалась мне безумно рискованной. Но Борис Николаевич сразу поддержал Путина».
Впервые за всю историю своего президентства Ельцин передал координацию действий силовых министерств новому премьер-министру.
Никто в тот момент не мог ожидать, что война в Чечне, с тысячами жертв с обеих сторон, с одной и той же страшной телевизионной картинкой каждое утро и каждый вечер, что и в 1995-м, — станет, как ни парадоксально, для Путина взлетной полосой в политике. Сам он считал себя в тот момент заложником ситуации, предполагал, что, выполнив свой долг, уйдет в отставку.
Но получилось по-другому.
Путин апеллировал к вооруженной мощи государства. Это был премьер-министр, деловито и хладнокровно руководивший всеми военными ведомствами. Он апеллировал к давним народным инстинктам. Он говорил на языке двора, улицы, очереди — и его знаменитое «мочить в сортире» вызвало бурный восторг у населения страны.
Одним словом, Путин ввел в политическое мышление понятие непреклонной
В локальной ситуации чеченской войны он угадал давно копившиеся ожидания общества. Оно хотело видеть в Кремле победителя, защитника. Установка на борьбу с чеченским беспределом быстро расширилась в этих общественных ожиданиях до понятия борьбы с беспределом вообще. Карать, наказывать, наводить порядок, ставить жесткие рамки, требовать безусловного подчинения государственной воле — все это считывалось в поведении Путина, хотя сам он, возможно, еще только неосознанно формировал в себе этот образ, будучи поначалу человеком, в общем, далеко не публичным.
Физическая сила, молодость, энергия дополняли этот образ необходимыми красками — заработало подсознание людей. Рейтинг Путина невероятно вырос за несколько месяцев.
Существует много версий, предположений, догадок о том, как Ельцин выбирал Путина. Эту кандидатуру, как и все остальные, предлагали ближайшие советники президента. Но окончательный выбор, безусловно, делал он сам.
Что же заставило его сделать именно этот выбор?
Наблюдая нервные, тяжелые сцены в своем кабинете с участием Черномырдина, Примакова, Степашина при назначениях и отставках, Ельцин видел, как срослись эти политики с мыслью о будущей власти. Этот выплеск эмоций, нервную дрожь, которую ничем невозможно скрыть, — он обнаруживал в людях не раз, он хорошо различал ее.
Путин поразил своей сдержанностью.
Для него предложение Ельцина было шоком, как и для всего общества, он никак не мог поверить, что займет столь высокий пост.
В своих книгах первый и второй президенты России описывают тогдашнюю ситуацию, приводя дословно диалоги. Но даже если слова переданы точно, отсутствует подтекст.
Смысл подтекста прост: Путин не видел себя в роли будущего президента, публичного политика. Он пытался донести свои сомнения до Ельцина.
Тяжелая ноша первого лица была для Путина совершенно неожиданным поворотом судьбы.
Но отказаться было невозможно.
Сдержанная реакция Путина не могла не понравиться Ельцину. В детстве Б. Н. принимал участие в уличных массовых драках стенка на стенку и знал, что настоящий боец проявляет сдержанность. Это его первая отличительная черта. Не могла не понравиться Ельцину и спортивная закалка, которую прекрасно чувствуют все, кто когда-либо занимался спортом всерьез. Да и вид спорта у Путина подходящий: самбо, потом дзюдо. Время волейбола и тенниса уходило в прошлое.
Немаловажным было и то, что Путин, хотя и являлся директором ФСБ, кадровым чекистом по первому месту работы, долгое время служил в администрации Анатолия Собчака, потом — в кремлевской администрации. Прекрасно знал политическую кухню Кремля, был здесь своим человеком. Ему не нужно было ничего объяснять.
И, наконец, последнее. Ельцин считал Владимира Владимировича человеком твердых демократических убеждений, яростным сторонником рыночной экономики.
Для Ельцина, можно не сомневаться, этот аргумент был самым главным.
Тем временем российские войска заняли территорию Чечни по реке Терек, блокировали Грозный, начали вытеснять боевиков в предгорья. Поначалу война казалась грамотной, разумной, безусловно эффективной. Верилось, что всё кончится быстро.
…Здесь я должен сказать несколько слов о конспирологической версии вхождения Путина во власть.
Версия эта, которую из года в год воспроизводят и наши, и зарубежные» Журналисты, такова: вторжение боевиков в Дагестан и взрывы в Москве и Волгодонске были подготовленным сценарием. Существуют некие туманные «свидетельства» о встречах представителей кремлевской администрации с чеченскими эмиссарами весной 1999 года. Есть отрывочные и не очень точно датированные записи телефонных разговоров Березовского с лидерами чеченских сепаратистов.
Существуют — и это главное — некие довольно сложно выстроенные доказательства того, что ФСБ якобы знала о готовящихся терактах.
Почему я не верю в эти версии?
Во-первых, потому, что они очень удобны тем, для кого победа Путина оказалась политическим поражением.
Во-вторых, потому, что есть международный опыт. Точно такие же конспирологические версии, подробнейшим образом разработанные, существуют по поводу гибели нью-йоркского делового центра, трагедии 2001 года. Вы верите в то, что спецслужбы Буша специально, по его приказу, организовали гибель небоскребов-близнецов? Я тоже не верю.
Правительство, объявившее войну, которая рано или поздно становится непопулярной, всегда обвиняют в том, что оно само эту войну спровоцировало. Такова извечная политическая практика.
И еще. В первые годы существования «независимой Ичкерии» лидеры сепаратистов делали кассу на нехитром криминальном бизнесе.
Но начиная с 1999 года они стали торговать террористическими актами на территории России. Об этом свидетельствует то, что было дальше — Дубровка, Тушино, Беслан, взрывы на «Автозаводской». Это были очень тщательно спланированные мероприятия. Во всех них прослеживается один и тот же почерк.
То обстоятельство, что война в Чечне стала для нового президента России первым шагом к невиданной популярности (хотя поначалу никто этого не мог предполагать), по-своему закономерно. И это многое определило в нашей истории, многое в ней поменяло.
Поменяло и в нашем современном российском менталитете. Изживать ненависть к чужим, к поиску внешних врагов, изживать национальную ксенофобию нам придется еще долго. Если сумеем изжить.
…Но да, такова история!
Ее нельзя забывать, ее нельзя идеализировать, ее нельзя превращать в отстойник для наших национальных комплексов и обид. Ее надо знать.
Между тем приближались парламентские выборы декабря 1999 года.
За информационной атакой на Ельцина теперь стояли не коммунисты. Осенью 1999 года Лужков и Примаков объединили усилия уже открыто. Гусинский, хозяин НТВ, принял политическое решение: он за тандем Лужков — Примаков.
Политический вес Примакова и организационно-финансовые возможности Лужкова были направлены на создание партии «недовольных губернаторов». Эта партия называлась «Отечество». Она шла на парламентские выборы в декабре 1999-го под флагом нового курса — антиельцинского. Ельцин и вся его политика стали главной мишенью. И хотя с каждым новым публичным заявлением Путина количество губернаторов в партии уменьшалось, она по-прежнему представляла собой силу.
Вместе с коммунистами партия «Отечество» имела шансы создать, наконец, абсолютное парламентское большинство и захватить власть в стране совершенно легитимно, в канун президентских выборов.
Администрация Ельцина активно включилась в создание еще одной новой партии под названием «Единство». Ее рейтинг мгновенно взлетел, как только премьер-министр выразил ей свою поддержку.
«Единство» (кстати, вместе с СПС, партией демократов, список которой возглавил Сергей Кириенко) заняло в парламенте достаточное количество голосов, чтобы «Отечество» в союзе с коммунистами не набрало желаемого большинства. Это была важная победа. Более того, через полтора года после выборов «Единство» и «Отечество» объявили о своем слиянии. Так появилась «Единая Россия».
Руководителем предвыборного штаба Владимира Путина стал молодой юрист из Петербурга Дмитрий Медведев. Мало кто тогда знал, какую роль в истории России сыграет этот скромный, интеллигентный молодой человек, казавшийся в тот момент фигурой совершенно не публичной. Но настал срок — и о Медведеве узнал весь мир.
Ельцин внимательно следил за исходом выборов. На его глазах происходило то, что еще несколько месяцев назад казалось нереальным: президентская партия побеждала, Лужков, Примаков, коммунисты оказывались в роли проигравших. Это были радостные для него минуты.
Но вслед за триумфом наступили дни тяжелых сомнений.
Ельцин не хотел уходить раньше срока. Выборы 2000 года виделись ему такими: в положенный срок он уходит, передает свои полномочия новому избранному президенту, всё точно по закону, по конституции. По плану.
Но политическая ситуация диктовала иное. Путин находился на вершине успеха. А что дальше? Какие сюрпризы готовит война в Чечне? Что будет в новом парламенте? Какие еще крутые повороты готовит российская история в ближайшие месяцы? Не будет ли он, действующий президент, мешать президенту новому? А в том, что Путин им станет, Ельцин теперь был убежден.
Несколько дней Ельцин не принимал своих советников, мучительно размышлял.
План досрочных выборов, как один из многочисленных сценариев его ухода, у Ельцина наверняка существовал давно (хотя и держался в строжайшем секрете), но он не хотел о нем думать. Политический, сиюминутный смысл был ему ясен, но исторически… Исторически это, на его взгляд, было неправильно.
Все это — новая ситуация, парламентские выборы, появление Путина — совпадало с круглой, наикруглейшей датой в современной истории. С миллениумом, встречей 2000 года.
Ельцин был человеком эффектных, сильных жестов — всегда, всю жизнь.
Новая эпоха для России наступит с боем курантов.
…Это было бы действительно красиво.
Он считал, что о его решении не должен знать никто. Ни слова не сказал Наине Иосифовне. Строго предупредил: если произойдет малейшая утечка — всё будет отменено.
В своей книге он неохотно называет тех, кто был в курсе его новогоднего прощания с нацией: Путин, Волошин, Юмашев, дочь Таня.
На этом список заканчивается.
31 декабря Ельцин приехал в Кремль в последний раз.
Ему было тяжело. Но он скрывал свои чувства. Старался держаться, хотел, чтобы эти последние часы были теплыми и радостными. Утром записал свое обращение.
Встретился с патриархом Алексием II, который приехал поздравить его с Новым годом.
Вызвал к себе в кабинет сотрудников, помощников, советников, спичрайтеров, секретарей, адъютантов.
Со всеми чокнулся. Со всеми попрощался.
Отметил слезы на глазах у многих.
Сильнейшее чувство закипало в его груди — здесь, в этом кабинете, он пережил столько, сколько не дай бог пережить кому-то еще.
Путину подарил ручку, которой подписывал указы.
Не будет речей, не будет прямой трансляции, не будет огромного зала.
Он уходит в одиночестве. Политическое одиночество было его фатумом, роком на протяжении многих лет.
В одиночку принимал решения.
Один тащил эту тяжесть.
И этот уход точно такой же.
Но просто так, конечно, он уйти не смог. Никто не видел этого. Но фраза, сказанная Ельциным, навсегда останется в истории. Ее будут повторять сотни и тысячи раз. Хотя произнес он ее не публично.
«Берегите Россию!» — сказал он Путину.
Ельцин вышел из подъезда, вдохнул морозный новогодний воздух (многие главные события его жизни происходили под Новый год), сел в машину и уехал в «Горки-9». Домой.
Вот что услышали мы в тот день, в 12 часов дня:
«Дорогие россияне!
Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие.
Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали, сначала в детстве, потом повзрослев, сколько нам будет в 2000 году, а сколько нашей маме, а сколько нашим детям. Казалось когда-то — так далеко этот необыкновенный Новый год…
Дорогие друзья! Дорогие мои!
Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не всё. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как Президент России.
Я принял решение.
Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
Я много раз слышал: Ельцин любыми путями будет держаться за власть, никому ее не отдаст. Это — вранье.
Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И также мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские выборы — в июне 2000 года. Это было очень важно для России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти — от одного президента России другому, вновь избранному.
И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока.
Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми.
А мы, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти.
Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед.
И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть Президентом и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее?! Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода? Нет, это не по мне! Не по моему характеру!
Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно.
Я хочу попросить у вас прощения.
За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, одним рывком — и всё одолеем.
Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались чересчур сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение.
Но я хочу, чтобы вы знали. Я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце…
Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше».
Далее Борис Ельцин объявил, что в соответствии с конституцией исполняющим обязанности президента становится Владимир Владимирович Путин. И что через три месяца состоятся досрочные президентские выборы.
Пожелал счастья, спокойствия. Поздравил с Новым годом.
И ушел.
Сразу после своей отставки, в 2000 году, Ельцин совершил визит в Израиль, Вифлеем и Иерусалим на празднование, как он пишет в своей книге, «2000-летия христианства».
«В аэропорту я спросил у одного из встречавших: а что, та самая звезда над Вифлеемом уже взошла? Он смутился и ответил, что из-за дождя толком ничего не видно. А мне казалось: я обязательно должен был увидеть эту звезду над Вифлеемом. В конце концов, начало нового тысячелетия от Рождества Христова было и моим вторым рождением».
Там, в Израиле, у Ельцина было много официальных встреч — с президентом Израиля, с президентами стран СНГ, тоже прибывшими на празднование. Были встречи неофициальные — с друзьями юности по Свердловску, которых он давно не видел. Ельцин побывал в храмах, на богослужениях. Об этом визите много писали, фотографии публиковались в газетах.
Однако начало нового этапа его жизни вовсе не было таким безоблачным. В начале 2001 года Ельцин подхватил тяжелейшую форму пневмонии. Фактически Борис Николаевич находился при смерти — пришлось подключать аппарат «искусственные легкие», а для этого вводить его в состояние искусственной комы. Канцлер Германии Гельмут Коль, посетивший Б. Н. в эти тяжелые дни, сказал: «Кажется, мне скоро опять предстоит визит в Россию по очень печальному поводу».
Но Коль ошибся. Ельцин выкарабкался. Выжил.
Восстановление после тяжелой болезни было небыстрым, но уже к лету Борис Николаевич чувствовал себя прекрасно. И прекрасно выглядел.
Он похудел на 20 килограммов, каждый день плавал, много ходил. Ельцин впервые после операции на сердце начал играть в теннис.
Своему зятю Валентину Юмашеву он говорил:
— Валентин, почему о вас с Таней пишут, что вы постоянно живете в Англии? Если мы с вами каждую неделю играем в теннис, а Таня каждую неделю мне привозит ящик книг, как вы можете постоянно жить в Англии? Нельзя им это как-то объяснить?
…Кстати, о «ящике книг».
Осенью 2007 года я приехал в Барвиху, на интервью с Наиной Иосифовной Ельциной. Мы сидели и пили чай в гостиной. Я попросил отвести меня в его библиотеку. Это была любимая комната Ельцина после его отставки. Здесь он проводил много времени.
Один из мифов о Ельцине гласит, что он был невежественным человеком. Так вот, все годы своего президентства он читал каждый день десятки, порой сотни страниц сложнейших текстов — аналитических записок, концепций, проектов законов, огромные папки с информацией, обзорами прессы, которые давали ему спецслужбы и служба помощников. Это были тексты, повторяю, очень сложные, насыщенные терминами и, по правде говоря, тяжелые для чтения. К счастью, у Ельцина была способность читать страницу целиком, у него фотографическая память (эту способность переняла у него дочь Лена).
Я стоял в библиотеке и думал о том, насколько плохо мы знали его, настоящего. «Идите, я вам покажу, — сказала Наина Иосифовна. — Это он еще из Свердловска привез». Я посмотрел: стояли родные, до боли знакомые тома «Библиотеки всемирной литературы», знаменитой БВЛ. Читаные, затрепанные. Я ходил вдоль полок и не мог поверить глазам. Ельцин читал всё! Вот полка военных мемуаров. Вот история. Вот альбомы. Вот книги по психологии. Читал и художественную литературу — например, решил прочесть всего Харуки Мураками, модного японца, но, прочтя две книги, сказал, что всё понял, больше не надо. Поручил Тане подобрать современных российских авторов. Таня привозила ему по 20–30 книг в неделю, а он требовал еще и еще, потому что прочитывал их очень быстро.
Он наверстывал упущенное за долгие годы тяжелейшей работы, когда было некогда читать то, что хочется, ходить и ездить, куда хочется, просто смотреть на мир столько, сколько хочется. Его отношение к этому периоду жизни было, как говорят его близкие, «почти восторженным», настолько он наслаждался этой своей новой жизнью.
Ельцин очень не любил, когда Наина Иосифовна уезжала от него. Если родные упрекали его в этом — мол, маме хочется куда-то сходить, выйти в свет, он недовольно бурчал: «Ну что… ей там интереснее, чем со мной?» Однако сам не любил сидеть дома, обожал ходить в театр, в гости. Они были неразлучны. Особенно — в путешествиях, поездках, которые он очень любил.
Он планировал их заранее — в январе садился со своим многолетним помощником Владимиром Шевченко и расписывал визиты по месяцам, жестко требуя потом от него «выполнения намеченного плана», как прежде, в Кремле. Три-четыре зарубежные поездки в год — таков был его график. Одной из самых запоминающихся была поездка в августе 2005 года на Аляску. Огромные айсберги, киты, рыбалка — на спиннинг Ельцин ловил полутораметровых рыб, радовался улову как ребенок. По его просьбе лодка подошла очень близко к одному из айсбергов, и в этот момент оторвался и упал в воду огромный кусок льда — довольно опасная ситуация, как объяснил позднее капитан, осторожно глядя на Ельцина. Но тот был доволен.
Выйдя в отставку, первый президент России вовсе не собирался вести затворнический образ жизни. Однако первые его «выходы в свет» были сопряжены с немалым волнением — как его встретят в новом качестве, какой будет реакция людей?
В Большом театре, где первый президент России 7 января 2000 года появился вместе с Наиной Иосифовной на церемонии вручения премии «Триумф», зал встал и приветствовал его овацией. Это было волнующее для Ельцина событие.
«Честно говоря, не ожидал. Не ожидал, что после всех этих восьми лет тяжелейшей политической борьбы — и до последнего года, самого кризисного, — реакция людей будет именно такой», — пишет Ельцин.
Позднее Ельцин бывал в театре еще не один раз. Особенно интересной была реакция молодежи на одном из премьерных спектаклей знаменитого в те годы мюзикла «Метро» (в Театре оперетты): молодежь бурно приветствовала Ельцина, справедливо увидев в нем «настоящую звезду».
Ельцин считал, что не может просто «уйти в личную жизнь», прервав общение с теми, с кем работал много лет.
Одной из первых была встреча с «кремлевским пулом» журналистов, то есть с репортерами различных СМИ, которые сопровождали его в поездках за рубеж и по России. Все, кто был тогда на этой встрече, вспоминают о том, как Ельцин шутил, как тепло попрощался с теми, кто писал о нем в эти годы — порой весьма нелицеприятные, даже резкие вещи.
Вместе с В. Шевченко Ельцин, хотя и находился в отставке, установил железный порядок во всех своих встречах и контактах: среди его гостей были и президент Путин, и глава администрации Волошин, и ельцинские «силовики» (Сергеев, Рушайло и др.), и главы стран СНГ, и коллеги Ельцина по «восьмерке» — Клинтон, Коль, Ширак.
Следует отметить и такой факт (Ельцин сам пишет об этом в своей книге) — в Барвиху ежедневно продолжали поступать мониторинг прессы, отчеты министерств и ведомств и другие «особые папки» из Кремля. Ельцин хотел быть в курсе событий.
Трижды ездил во Францию — на Ролан Гаррос, крупнейший мировой теннисный турнир на грунтовых покрытиях, на финал Кубка Дэвиса, когда российская команда выиграла этот престижный кубок и Ельцин бросился после последнего, решающего матча на корт обнимать «своих ребят». Когда я увидел по телевизору, как он сидит на трибуне теннисного турнира Ролан Гаррос в смешной соломенной шляпе, в черных очках — мне вдруг стало ясно, что он абсолютно счастлив. И я порадовался за него. Спортивные трансляции были второй, после книг, страстью Ельцина. Смотрел их часами, упоенно, не пропуская ничего: теннис, волейбол, футбол, баскетбол, биатлон, Олимпиада. Да, он был страстный болельщик, совершенно фанатичный. Шамиль Тарпищев вспоминал, что когда Ельцин звонил ему, чтобы узнать подробности теннисных турниров, то спрашивал его о совсем молодых теннисных звездах, молодых игроках, только-только появившихся в рейтинге, и порой ставил его, тренера сборной, своими вопросами в тупик.
После ночной теннисной трансляции он пошел спать и не увидел в темноте (свет был притушен) ступеньку лестницы, оступился, упал и сломал шейку бедра. Врачи знают, что в таком возрасте это страшная травма. Это случилось осенью 2006 года в Италии. И хотя операция прошла хорошо, нога с тех пор болела.
За эти годы Ельцин дважды побывал в Италии, ездил в Ирландию и Грецию, в Норвегию, Иорданию.
Ельцин отдыхал в Крыму, в гостях у президента Украины Кучмы, с которым встречался довольно часто. Бывал в гостях у президентов Казахстана, Киргизии. Ездил по стране, не забывая родной Екатеринбург, где каждый год посещал крупный международный волейбольный турнир, названный в его честь. Частенько, когда открывался охотничий сезон, бывал в Завидове с ружьем (но другие президентские резиденции не посещал, скажем, ни разу после отставки не был в Сочи). Словом, вел довольно насыщенную жизнь.
Но периодически наступали кризисы. «Я так не могу, мне нужно что-то делать», — говорил он тогда родным. Не помогали ни книги, ни поездки. Однако в публичную жизнь Ельцин так и не вернулся.
…Интересно сравнить, как Горбачев и Ельцин вели себя на пенсии. Как строился их образ жизни после отставки. Горбачев баллотируется в президенты в 1996 году, постоянно выступает с лекциями, участвует в семинарах и конференциях, даже снимается в кино и рекламе.
Ельцин на пенсии вел себя по-другому: как абсолютно частный человек. Вел домашний, закрытый образ жизни. О его встречах с президентом Путиным мало что известно. Он лишь дважды выступил в печати с интервью — о гимне и о свободе слова, в которых высказал свое особое мнение по этим вопросам, отличное от общепринятого.
Путин был тем политиком, которого он собственноручно привел в Кремль. Ельцин считал, что несет ответственность за все его действия и поэтому высказывать свою точку зрения, любую критику должен с глазу на глаз и никак иначе. Такова была его позиция, от которой, повторяю, он не отступил. Вот поэтому-то он был закрыт для прессы. Не принимал участия в международных конференциях, не читал лекций и не писал больше книг. Откровенно говоря, поучать, выступать, вещать — вообще не любил. Говорить общие, расплывчатые вещи, болтать и «растекаться мыслью по древу» не хотел, не умел, не был приучен. Заниматься самоцензурой тоже. Ельцин так же решительно, раз и навсегда ушел из политики, как однажды вошел в нее.
В связи с этим возник еще один, наверное, последний по времени ельцинский миф — об «особых договоренностях» президента Путина и президента Ельцина. О том, какие это были договоренности, какие же именно обязательства взяли на себя бывший и действующий президенты, аналитики и комментаторы написали, наверное, сотни, тысячи статей. Произнесли массу ненужных слов. Впрочем, понять их можно — молчание Ельцина по-своему загадочно.
На самом деле договоренностей во время передачи полномочий от одного к другому не было. «Ни о тактике, ни о стратегии, ни о конкретных людях, которых Ельцин мог попросить оставить в правительстве или в администрации, ничего этого не было сказано», — подтверждает мою догадку Валентин Юмашев. Ельцин понимал: это бессмысленные договоренности. Новый президент все равно должен всё сделать по-своему, и нельзя связывать его обязательствами.
Указ о президенте, прекратившем свои полномочия, не имеет никакого отношения ни к гарантиям, ни к договоренностям. Этот указ лишь заполнил правовую пустоту, которая существовала по вине предыдущей Думы. Новая Дума (в 2000 году) превратила его в закон. Закон касается всех президентов России, уходящих в отставку, на пенсию. Он суммирует, в правовом смысле, положения аналогичных законов, которые существуют в других странах. (Указ Ельцина об ушедшем в отставку президенте СССР Горбачеве построен на тех же основаниях, но поскольку это был президент исчезнувшей страны, документ не мог стать правовой базой для законодателей.)
Итак, положения этого закона касаются самых простых вещей, тех жизненных «мелочей», которые возникают в подобной ситуации. Где должен жить бывший президент? Предположим, на госдаче. Кто и за какие деньги повезет его на эту дачу после отставки? И на чем? Предположим, ему положена охрана (хотя бы как носителю огромного количества секретной информации). Что это за охрана? На какие деньги существует? Предположим, действующий президент захочет срочно позвонить бывшему (или наоборот). Кто эту связь должен быстро и своевременно обеспечить?
Ну, казалось бы, всё просто. И понятно. Пенсия, связь, дача, машина. Охрана. (Президент Путин спросил Ельцина, на какой из госдач он хотел бы жить после отставки, Ельцин ответил — на любой, и тогда Путин предложил ему выбрать самому.) Однако в указе президента Путина есть один пункт, который долгое время вызывал ожесточенные споры. Собственно, он и вызвал волну домыслов и предположений. В нем сказано: нельзя возбуждать уголовного преследования против бывшего президента за деяния, совершенные им во время срока исполнения его полномочий. Этот пункт придуман не нашими юристами. Придуман он столетия назад. В других странах. Законники этих стран позаботились о том, чтобы руки у главы государства были, что называется, свободными — и, объявляя, например, войну другому государству или подавляя беспорядки в своем, он знал, что делает это, обладая определенными гарантиями.
Этот пункт закона взят из международной практики. Насколько он применим у нас в России? Насколько он вообще справедлив, разумен, функционален, оправдан — не мне судить. Но к конкретной ситуации, к отставке Ельцина, этот пункт отношения не имеет.
Этот пункт, кстати, не распространяется на членов семьи бывшего президента. Вопреки распространенному мнению. Но новый миф о Ельцине, о его семье, как и многие предыдущие, живет своей отдельной жизнью.
Вернемся к образу жизни Б. Н. в эти шесть лет.
…Ельцин был домоседом. Но домоседом, конечно, особым. Дом, где он жил, загородная резиденция — это дом с большим прилегающим к нему парком. По такому парку можно гулять долго. Особенно вдвоем.
Главное, чему он хотел посвятить остаток жизни, — вернуться к состоянию нормального, обычного, семейного человека. Вернуть себе эмоции, теплоту, яркость мира, его запахи и краски, впечатления, полноценную душевную жизнь.
Да, конечно, главным содержанием его жизни в эти годы была семья. Она росла из года в год. Каждые выходные семья собиралась за общим столом, и стол становился все длиннее, фигурально говоря. Дочь Таня в 2001 году вышла замуж за Валентина Юмашева. И родила дочь Машу. Таким образом, у Ельцина стало шесть внуков и внучек — Катя, Боря, Маша, Глеб, Ваня и опять Маша, Маша-маленькая. Внучка Катя и внучка Маша-старшая, родившиеся, соответственно, в 1979 и 1981 годах, родили ему четверых правнуков. С внуками и правнуками Ельцин обожал вместе купаться в бассейне, гулять, играть, рыбачить, разговаривать. Это были счастливые мгновения, которых он был лишен всю свою «сознательную жизнь», когда не хватало времени на детей. Эти шесть лет не были для него скучными.
Бог под конец жизни наградил его покоем.
В конце апреля он лег на несколько дней в ЦКБ, на плановые процедуры. Ему стало чуть лучше, и он собирался вернуться домой. Утром этого дня, когда Наина Иосифовна уже собралась ехать за ним в больницу, ей сообщили, что Борису Николаевичу плохо. Утром он внезапно заторопился, несмотря на уговоры врачей, резко поднялся, начал вставать с постели и потерял сознание.
Вот официальное сообщение о его смерти.
Первый президент России умер от «прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности, то есть от нарушения функций всех внутренних органов, вызванного заболеванием сердечно-сосудистой системы». Он скончался в понедельник, 23 апреля 2007 года, в 15.45 в Центральной клинической больнице.
24 апреля 2007 года, вечером, часов в пять, я вышел из вестибюля станции метро «Кропоткинская» и посмотрел на очередь, тянувшуюся в сторону набережной.
Это была очередь к Ельцину. Очередь людей, которые пришли проститься с ним в храме Христа Спасителя.
Что я ожидал увидеть в этой очереди?
Ну, прежде всего, людей, так сказать, старой демократической закалки. Бедно одетых интеллигентов, которые будут спорить, вспоминать дни былых побед и поражений.
Но, уже подходя к концу очереди, я вдруг понял, что всё не так. Во-первых, людей было очень много. Они, как потом я узнал, приезжали и в три ночи, и под самое утро. Приезжали целыми семьями.
Здесь были и совсем молодые, и люди моих лет, среднего, условно говоря, возраста. И старики, конечно, тоже.
Вместо ожидаемого мной траурного Гайд-парка было совсем другое — люди внимательно, с некоторым удивлением приглядывались друг к другу.
Всем как будто было важно — кто пришел и почему. И третье — лица неуловимо знакомы. Они словно выплыли как из старых фотографий, из хроники начала конца 80-х и начала 90-х — демократические митинги, Васильевский спуск, Белый дом.
Лица хороших людей. Спокойные, умные, печальные лица.
Ни мрачной скорби, ни ажиотажа, ни возбуждения, ни истерики.
Я всё пытался найти для себя хоть какую-то формулу. Как-то объяснить это ощущение.
…Вместе со всеми я дошел до ворот храма, прошел через милицейскую рамку металлоискателя, увидел высокие своды, росписи, услышал слова молитвы, которые произносили священники.
Увидел семью президента. Близкие сидели на стульях возле гроба. Иногда охрана пропускала к ним кого-то. Подходили многие — президенты, бывшие и нынешние, артисты, писатели, просто друзья.
Это были семейные похороны. Больше всего не хотелось видеть здесь почетный караул — старую советскую традицию, когда большие начальники, сменяясь по ранжиру, стоят с траурными повязками, изображая на лицах скорбь. Не хотелось видеть даже намека на официоз.
С первым президентом прощались в церкви. Это было впервые за весь наш глубоко атеистический и глубоко советский XX век. В последний раз русского царя отпевали в церкви в 1883 году, это был Александр III.
Ельцин лежал в отдалении, кругом цветы, тела почти не видно. Золоченый барьер преграждал путь к гробу. Я посмотрел на его бледное, застывшее лицо.
— Пожалуйста, не задерживайтесь, — тихо, но твердо сказал мне охранник.
У метро, на обратном пути, услышал, наконец-то, что ожидал услышать. Горячий спор двух пожилых интеллигентов.
— При нем была свобода! — говорил один.
— При нем был голод! — говорил другой.
Первый задумался и твердо ответил:
— Знаешь, голод здесь был всегда. А свободы не было…
Да — это был оживший, только на две роли разыгранный, монолог из «Великого инквизитора» Достоевского.
Я посмотрел на этих двух стариков.
И тогда формула нашлась.
Возможно, кому-то она покажется странной. Но я вдруг понял настроение очереди. Ее молчаливую, сдержанную, спокойную сосредоточенность.
В очереди к нему стояли люди, которые пришли в последний раз проголосовать за него.
Не было тех миллионов, которые толпились в давке и рыдали на похоронах Сталина, когда им, бедным, казалось, что мир рухнул.
Это были десятки тысяч разумных, ясных и сильных людей. Его избиратели. Его друзья.
Возможно, пришло бы больше, если бы церемония не была такой короткой. Но не это важно. Важно понять — за что мы, стоявшие в очереди, ему благодарны?
Стоял прохладный весенний вечер, тихий, светлый. Возле храма я нашел своего старого друга, фотокорреспондента Юрия Феклистова. Мы зашли в какой-то тихий ресторанчик на Остоженке помянуть Бориса Николаевича. Юра улыбался, вспоминал, как фотографировал Ельцина на теннисном корте, возбужденного, разгоряченного игрой. Как снимал ночной Белый дом в августе 91-го, когда там вдруг появился Ростропович. Тогда был сделан этот знаменитый кадр — улыбающийся Ростропович с автоматом, который он держит бережно, как виолончель, и здоровенный парень, заснувший у него на плече.
Выйдя из ресторанчика в темноту, я вдруг понял: кончилась эта эпоха. Эпоха удивительных, ярких, потрясающих душу событий.
«Не дай вам бог жить в эпоху перемен». В общем, верно сказано. Но сказано про времена другие — кровавые, страшные. Время Ельцина было не таким. Оно было жизнеутверждающим, жизнетворческим, несмотря на драмы и катастрофы.
В этой книге я пытался проследить не только его личный путь, но и путь человека, который построил другую страну. Да, хорошо бы он построил ее без войны в Чечне, без разрушенных заводов, безработицы, нищеты депрессивных регионов, без коррупции и преступности. Но страна — не детский конструктор, где из танка запросто можно сделать человечка. Любая страна всегда обновляется болезненно, было бы ради чего.
Когда Ельцин умер, в стране на несколько часов повисла тягостная пауза. Никто не мог толком ничего сказать, сформулировать. У всех как будто наступил шок.
Президент Путин в этот момент проводил международную встречу с президентом Туркмении. Журналисты, которые были аккредитованы на ней, рассказывали в своих репортажах, что, узнав о смерти Ельцина, президент не мог скрыть своих чувств. Вот что писал «Коммерсантъ» 24 апреля 2007 года: «Владимир Путин думал о том, чтобы сделать заявление в связи с кончиной первого президента России. Текст заявления — это его текст, который он несколько раз уточнял и правил. Владимир Путин считал, что это очень важные для него и для страны слова, поэтому отложил их запись на поздний вечер. До этого он встретился с президентом Туркмении. Владимир Путин негромко сказал коллеге: “У нас очень большая трагедия сегодня…”».
Через час после того, как президент Туркмении уехал, Владимир Путин произнес первые слова прощания с Борисом Ельциным. В телеобращении к стране он сказал, что объявляет 25 апреля днем национального траура:
«…Сегодня я выражаю самые искренние, самые глубокие соболезнования Наине Иосифовне, родным и близким Бориса Николаевича. Мы скорбим вместе с вами. Мы сделаем всё, чтобы память о Борисе Николаевиче Ельцине, его благородные помыслы, его слова “Берегите Россию” всегда служили нам нравственным и политическим ориентиром… Ушел человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая демократическая Россия — свободное, открытое миру государство. Благодаря воле и прямой инициативе Бориса Ельцина была принята новая Конституция, провозгласившая права человека высшей ценностью. Она открыла людям возможность свободно выражать свои мысли, свободно выбирать власть в стране»…И только после этого СМИ пришли в себя. Они словно поняли, что первого президента можно поминать по-человечески. Плотину прорвало.
Журналисты, деятели культуры, политики вспоминали его в фильмах, репортажах, программах с интонацией, о которой он и мечтать не мог при жизни. Но это понятно.
Тем не менее эта включенная как по команде теплая интонация — слава богу, не была лицемерной, только лишь разрешенной сверху. Была искренней даже. И в этой общей искренности, чтобы в нее окончательно поверить, должны были прозвучать и другие голоса, на контрасте. Без них нельзя понять — правду говорят люди или врут, поют заказным хором.
Я ждал. И я дождался.
Нашлись принципиальные враги Ельцина, которые прокляли его и в эти дни. Собственно, спасибо им, как ни странно. Потому что они разом поставили перед всеми, кто сидел у телевизоров, важный вопрос — был ли он
Третьего, как говорится, не дано.
Великая историческая личность — это, собственно, строгое понятие. Не просто конгломерат «за» и «против» наших сегодняшних взглядов и аргументов. Это понятие, выношенное в истории человечества. Есть разные великие личности, разных типов, разных эпох. В какой же ряд можно поставить Ельцина?
Здесь я снова прибегну к цитате.
«В современной истории мало что подходит для сравнения: либо страна недостаточно велика и значима, либо масштаб и глубина кризиса недостаточны, либо не было человека, который играл бы абсолютно главную роль. По этим критериям на роль предшественников Ельцина подходят двое других мужчин очень высокого роста (Авраам Линкольн и Шарль де Голль. — Б. М.). Им противостояли не только внезапное разрушение целостности государства или жизнеспособности на всей территории страны, но и катастрофическое расстройство общенародного согласия по национальным целям и средствам их достижения и по правам и обязанностям гражданина», — пишет американский биограф Ельцина Леон Арон.
И продолжает: «Назвать кого-либо великим человеком — значит признать, что он сознательно сделал… крупный шаг, далеко за пределами обычных человеческих возможностей…»
Ельцин совершил этот шаг, добавлю я от себя, вне всякого сомнения.
Но это — американский взгляд на Ельцина или, если хотите, взгляд мировой. А вот наш, российский.
…Среди многочисленных откликов на смерть Ельцина, напечатанных в те дни в газетах, я натолкнулся, например, на такой пассаж. Ельцин был строителем, и он умел делать именно то, что делают все наши строители: быстро разрушить старое, обветшавшее здание, заложить фундамент и сдать объект с недоделками. Остроумно, не спорю. Только в будущем нам всем предстоит понять, насколько тяжело ему было разгребать эти развалины, насколько прочным оказался фундамент, который он заложил, и сумеем ли мы устранить недоделки при нашей жизни.
В годовщину его смерти один из телеканалов показал документальный фильм о Ельцине, снятый Александром Сокуровым. Наверное, это лучший фильм о Ельцине, и не только потому, что в нем он говорит какие-то потрясающе откровенные вещи, но и потому, что он там наполняет кадр своим присутствием, как нигде, ни в какой другой киноленте — огромный, могучий человек, настоящий великан.
Так вот, кончается фильм таким образом — Ельцин уезжает в Москву на своей правительственной машине, по обычной подмосковной дороге, мимо лесов, полей, деревенских домиков, мимо нашего обычного пейзажа. Под разрывающую душу симфоническую музыку.
Сокуров необычайно долго провожал машину Ельцина зрачком своего объектива, словно хотел что-то сказать напоследок ему, передать какое-то свое затаенное ощущение. Это снималось в очень тяжелый, тревожный момент, когда было непонятно, что будет с Ельциным, что будет с нами. Режиссер передавал ощущение тревоги за этого человека, которым в тот момент жила вся страна.
Этот
Этот путь не должен быть забыт никогда.
…В день его отставки и последней, прощальной речи, 31 декабря 1999 года, мне позвонила моя однокурсница Лена. Довольно умная, надо сказать, женщина. Она спросила, что я обо всем этом думаю. Я сказал, что думаю обо всем позитивно. Всё правильно старик сделал.
«Да? — сказала она. — А вот мне без Ельцина стало как-то страшно. А тебе нет?»
Кому-то страшно было жить при Ельцине. Кому-то — без него.
Разные мы все люди.
Я писал эту книгу для того, чтобы и те и другие еще раз попробовали задуматься о нем. О нем и о себе.
И о России, конечно.
В Политбюро ЦК КПСС… (По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова). М., 2006.
Из истории создания Конституции Российской Федерации. М., 2007.
Горбачев — Ельцин: 500 дней политического противостояния. М., 1997.
Эпоха Ельцина (очерки политической истории). М., 2001.