Герман Смирнов
МЕНДЕЛЕЕВ
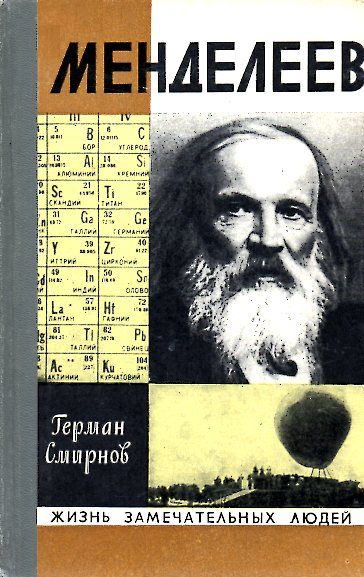
В полдень 29 июня 1899 года «Фортуна», небыстрый, но ладный пароходик, отвалив от тюменской пристани, засопела машиной, замолотила колесами по воде и неторопливо заскользила вниз по течению Туры. Ветер, низкие серые облака, почти по-осеннему моросящий дождь гнали немногочисленных пассажиров в теплые каюты и уютный, покойный салон, и ни вид богатых прибрежных сел, проплывающих время от времени за окнами, ни выход «Фортуны» из Туры в Тобол не смогли выманить пассажиров на мокрую палубу. Но когда на исходе следующего дня на темном горизонте показались очертания Тобольска, Дмитрий Иванович Менделеев не выдержал, не смог усидеть в помещении. Он облачился в просторный пылевик, надвинул на лоб картуз, вышел на палубу и там, укрывая лицо от дождя и ветра, стоял до тех пор, пока «Фортуна» не подошла к причалу. Прославленного соотечественника тобольчане встречали с почетом, Городской голова вышел встречать его на пристань, а полицмейстер принес ему приветствия от имени самого губернатора. Ему не дали остановиться в гостинице и сразу повезли в лучший дом Тобольска — дом Корниловых — богатых пароходовладельцев и купцов, известных до Полярного круга. Неторопливая беседа за самоваром, воспоминания о старых годах затянулись допоздна, и волнующее свидание великого сибиряки с городом его детства состоялось лишь на следующий день.
Места, где прошло детство… Странное, непонятное чувство охватывает человека при виде их. Огромные залы, оставшиеся в памяти с детских лет, вдруг оказываются весьма скромными по размерам комнатами; бескрайние дворы детства — тесными двориками; бесконечной ширины и длины просторы — обычными площадями и улицами. Стоит взглянуть на какую-нибудь уличную тумбу, на причудливую трещину на стене, на выщербленные ступени — и непостижимые могущественные законы памяти как будто переносят в невозвратимое детство.
Тобольск, обойденный железными дорогами, мало изменился за годы отсутствия Менделеева. Новая гимназия, музеи, бани, казармы, немногие частные дома — вот и все перемены. Да еще, может быть, сильно разросшийся сад возле памятника Ермаку, основавшему город, и лопнувшая арка «прямского взвоза» — так называли в городе «прямой», кратчайший ход по лестнице на гору, где находились собор и присутственные места. Все же остальное — дома, церкви, торговые ряды, деревянные мостовые — все осталось прежним, каким было полвека назад, когда Менделеев был ребенком…
Непрерывно сцепляющаяся нить воспоминании торопит, торопит Дмитрия Ивановича, и он в нетерпении гонит извозчика: «Скорее, скорее…» Но, увы, на месте отчего дома он увидал заросший пустырь с грудами щебня и углей, двух пасущихся коров. Он долго стоял на пепелище, потом решительно повернулся, сел в коляску, и она медленно покатилась вдоль дощатых тротуаров — улицы его детства. Вот показался покривившийся дом Мелковых, где жил старик портной, от которого маленький Митя впервые услышал о чудо-богатырях генерала Суворова. А вот дома, где жили сосланные в Тобольск декабристы. А вот и бугор, на котором на виду всего города жгли учебники ненавистной латыни окончившие курс гимназисты.
В этот первый день пребывания на родине самый ничтожный факт, слово, вещица вызывали в памяти Менделеева целый рой забытых и полузабытых впечатлении детства. И когда за обедом у Корниловых на стол подали княженику, Дмитрий Иванович вдруг вспомнил густейшие заросли этой ягоды близ аремзянского стеклянного завода, которым управляла его мать. «Выступили в уме картины давнего прошлого с поразительностью и захотелось поскорее на Аремзянку» — так описывал он потом охватившие его чувства.
Поездка состоялась через два дня. Рано утром 3 июля к дому Корниловых подкатили дрожки местного промышленника А. Сыромятникова, которому теперь принадлежали земли близ Аремзянки. Дорогой он рассказал Дмитрию Ивановичу, что сам завод давно сгорел, что дом, в котором некогда жили Менделеевы, разобран за ветхостью, но что деревянная церковь, построенная матерью Дмитрия Ивановича в 1844 году, еще цела. За этими разговорами время летело быстро, и, когда вдалеке показалась Аремзянка, дождь вдруг кончился, выглянуло солнце и, как вспоминал потом Менделеев, «светло было в те три часа, которые провел в селе Аремзянском».
Приезд Менделеева не был секретом для селян. Приодевшись, они толпились на улице в ожидании земляка. «Как подъедет гость, снимайте шапки и низко кланяйтесь», — поучали зеленую молодежь старики. Когда дрожки остановились посреди деревни и крестьяне окружили их плотным кольцом, Дмитрий Иванович поднялся с радостной улыбкой, снял шляпу и, поправив волосы, низко поклонился народу. Потом принял хлеб-соль и звучным, громким голосом спросил: «Кто меня помнит в детстве?»
Таких сверстников нашлось семь. Они вышли из толпы и пригласили гостя к обеденному столу, накрытому в школе. Здесь за обедом делились воспоминаниями, и Дмитрий Иванович часто от души смеялся. Перед отъездом он сфотографировался со своими сверстниками. Эта фотография позднее была опубликована во многих журналах и быстро стала знаменитой.
Посещение родных мест не было главной целью приезда Менделеева в Тобольск. Большую часть времени, проведенного в родном городе, Дмитрий Иванович потратил на встречи с чиновниками и промышленниками города, на сбор материалов для сложного технико-экономического исследования уральской железной промышленности. К выполнению этого важного поручения министерства финансов Дмитрий Иванович привлек нескольких сотрудников, каждый из которых осматривал свою группу заводов. Поэтому 5 июля, когда Менделеев поздно вечером вернулся в гостеприимный дом Корниловых, его ждало известие о прибытии в Тобольск С. Вуколова и В. Мамонтова. Их «приезд… служил прямым указанием того, что пора выезжать из родного мне Тобольска, приветливость жителей которого и воспоминания прошлого могли меня еще долго удерживать». Решили выехать на следующий же день в Тюмень на перекладных, не откладывая до дня, когда по расписанию должен был идти пассажирский пароход. Но так велико было обаяние менделеевского имени, что городские власти, предоставив в распоряжение Дмитрия Ивановича и его спутников места на казенном пароходе, избавили их от утомительной поездки лошадьми.
Стоя на палубе «Тобольска», Дмитрий Иванович задумчиво следил, как в закатной дымке угасающего дня скрывается его родной город, город, из которого вышел он в свой многотрудный и славный жизненный путь; город, который избрал его своим почетным гражданином и который — Менделеев не мог малодушно скрывать от себя самого это обстоятельство — ему никогда не дано больше увидеть. И вдруг с поразительной ясностью, заслоняя пестроту недавних впечатлений, всплыло в памяти Дмитрия Ивановича скорбное лицо матери. В сущности, все в этой поездке, на что бы ни обращался его взгляд, было пронизано памятью о ней. Аремзянка, стеклянные изделия аремзянского завода, чудом сохранившиеся к городском музее, разговоры со старожилами. Он вспомнил, какое ни с чем не сравнимое наслаждение доставила ему долгая беседа с Катериной Константиновной Алепиной, слушая рассказы которой он не раз подивился тому глубокому, не внешнему сходству этой женщины с его матерью. «Приветливые, даже идеализированные воспоминания о прошлом… и женственно-словоохотливые рассказы о всем современном уживаются у нее как истой сибирячки с большой деловитостью, так как она, по случаю болезни мужа, ведет сама все торговое дело, как моя матушка после болезни и затем кончины батюшки вела завод, содержала и устроила детей».
Все четыре сына Павла Максимовича Соколова, священника села Тихомандрица Вышневолоцкого уезда, учились в Тверской духовной семинарии, но по окончании ее только один из них — Тимофей — сохранил фамилию отца. Остальным трем братьям по обычаям тех лет фамилии придумали учителя. Василии стал Покровским, Александр — Тихомандрицким, а Иван — Менделеевым. «Фамилия Менделеева дана отцу, когда он что-то выменял, как соседний помещик Менделеев менял лошадей и пр., — вспоминает Дмитрий Иванович. — Учитель по созвучию «мену делать» вписал и отца под фамилией Менделеев».
Спустя много лет, в 1880 году, домочадцы профессора Менделеева были заинтригованы появлением молодой красивой дамы с испанским типом лица, которая властным голосом просила доложить, что госпожа Менделеева просит Дмитрия Ивановича принять ее. Любопытство домашних достигло предела, когда из кабинета донесся веселый громкий смех профессора. Оказалось, дама, жена тверского помещика Менделеева, приехала предупредить Дмитрия Ивановича, что она выдала своих сыновей, которых из-за отсутствия вакансий отказывались принять в кадетский корпус, за племянников профессора Менделеева. Это заявление произвело на начальство магическое действие: «Для племянников Менделеева может быть сделано исключение». Таким неожиданным результатом обернулась спустя семьдесят с лишним лет фантазия семинарского учителя. Но прежде чем удивительный и знаменательный курьез мог стать совершившимся фактом, должно было пройти немало времени и произойти немало событий.
В 1804 году, окончив Тверскую духовную семинарию, Иван Павлович Менделеев надумал пойти в только что открытый в Петербурге Педагогический институт. Спустя три года он получил направленно в готовящуюся открыться гимназию в Тобольске и в этом богатом сибирском городе познакомился и женился на Марии Дмитриевне Корнильевой, представительнице рода именитых купцов, которые в 1789 году — одновременно с Франклином в Америке — открыли первую в Тобольске типографию, начали издавать журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» и печатать книги. Служебная карьера Ивана Менделеева складывалась удачно, он стал директором гимназии и училищ Тамбовской губернии, потом Саратовской. И ничто не предвещало того драматического поворота судьбы, который ожидал его в 1834 году…
Впрочем, неприятности — предшественники того, что счастье перестало благоприятствовать бывшему старшему учителю философии, изящных наук и политической экономии, — начались гораздо раньше. В 1826 году директор саратовской гимназии прогневил всесильного попечителя М. Магницкого, того самого, которого великий наш сатирик М. Салтыков-Щедрин за самодурство прозвал Мерзицким. Люди, лично знавшие Магницкого, утверждало, что он был не тупым самодуром, а изощренным иезуитом, взявшим себе за правило искажать и преувеличивать до нелепости все правительственные меры. Такому-то человеку и подвернулся под руку директор саратовской гимназии.
Раздув до скандала отступление от буквы начальственных предписаний, допущенное Иваном Павловичем (он разрешил скоромный стол по средам и пятницам в пансионе для учеников саратовской гимназии), Магницкий настоял на переводе педагога в Пензу. И лишь после долгих хлопот Иван Павлович добился нового назначения в Тобольск.
При дешевизне сибирской жизни большая семья Менделеевых зажила неплохо: должность директора гимназии и училищ Тобольской губернии была одной из самых видных в городе. Но близился 1834 год… В этом году ослеп Иван Павлович и родился последний ребенок — всеобщий любимец Митенька. «Детей было всего 17, а живокрещенных 14», — писал в своих биографических заметках Дмитрий Иванович.
С выходом в отставку по болезни Иван Павлович получил пенсию — 275 рублей серебром в год, и семья сразу лишилась того положения в городе и того уклада домашней жизни, который установился со дня обоснования Менделеевых в Тобольске. С этого момента жизненный нерв семьи сосредоточился в Марье Дмитриевне.
Трезво и скрупулезно перебрав все возможности вытянуть семью и вывести детей в люди, она убедилась: единственное ее спасение — маленький стеклянный завод, построенный Корнильевыми еще в 1750 году в 25 верстах от Тобольска на реке Аремзянке. Этот завод по наследству отошел брату Василию, который жил в Москве и служил главным управляющим делами и имениями князей Трубецких. Он дал сестре доверенность на управление заводом, и, когда Иван Павлович вышел в отставку, этот завод стал, в сущности, единственным источником существования для Менделеевых. Марии Дмитриевне пришлось перевезти семью из города в Аремзянку, взять на себя управление заводом и самой заняться организацией хозяйства с пашней, огородом, коровами, домашней птицей.
Все эти экстренные меры поначалу как будто увенчались успехом. Уже в 1837 году Мария Дмитриевна смогла расплатиться с долгами и даже отправить Ивана Павловича с дочерью Екатериной в Москву на операцию снятия катаракты с глаз. Известный тогда московский окулист доктор Боссе сделал операцию очень удачно, и зрение восстановилось. Но место Менделеева в Тобольской гимназии было, конечно, уже занято, другого найти не удалось, и Иван Павлович: взялся помогать жене в управлении заводом. Вскоре вышла замуж и уехала в Ялуторовск Ольга, за ней — Екатерина. Дела Менделеевых как будто поправились, но это была только отсрочка.
Поглощенная заботами о хлебе насущном, Мария Дмитриевна лишь урывками могла заниматься детьми. И ненормальность такого положения она впервые остро ощутила в 1838 году, когда четырехлетний Митенька, которого она «любила паче всех», заболел натуральной оспой… Ребенок поправился, по воспоминания о его горящем в жару маленьком тельце, о его невидящих, беспамятных глазах заставляли материнское сердце судорожно сжиматься, заставляли окружать любимца вниманием и заботой.
Ранней весной 1839 года пришло письмо из Москвы от Василия Дмитриевича. Брат писал, что сын Менделеевых Ваня, живя в университетском пансионе на средства богатого дяди, попал в дурную компанию и участвовал в кутежах. Об этом стало известно начальству, и Ваню исключили из благородного пансиона «за дурное поведение». Василий Дмитриевич утешал сестру и сообщал, что можно в любой момент устроить Ваню, которого он любил и баловал, в Межевой институт…
Известие поразило Менделеевых как гром средь ясного неба. «Бедность никогда не унижала и не унизит меня, но краснеть за детей моих есть такое несчастье, которое может убить меня и приблизить к дверям гроба…» — писала Мария Дмитриевна одной из замужних дочерей.
Дети или фабрика, материнский долг или интересы дела — вот вопросы, которые неотступно стояли перед Марией Дмитриевной в течение всего 1839 года. «Мне жаль, жаль трудов моих по фабрике, и я люблю ее, но вижу, что… я променяла за славу фабрики славу и доброе имя детей, и что бы с нами ни случилось, решительно откажусь от оной».
Откажусь… А как жить дальше? Как быть с братом Василием, который и так был недоволен приказанием Марии Дмитриевны немедленно отправить Ваню в Тобольск? Ведь не случайно же он предупредил, что сестра может надеяться только на доход с фабрики, не случайно на все жалобы и просьбы освободить от управления заводом отвечал одно: человек-де сотворен для труда, и сам он, Василии Дмитриевич, в поте лица снискивает хлеб свой.
У Марии Дмитриевны не хватало сил и решимости ни отказаться от завода, ни остаться в Аремзянке. И, перевезя семью в Тобольск, чтобы посвятить себя воспитанию детей, она поставила на фабрике управителя, сохранив за собой главное руководство делами. Последствия этого несчастного решения не замедлили сказаться: дела на фабрике шли все хуже и хуже. И пожилая женщина не только нашла силы на одну себя принять тяготы бедности, но и попыталась сделать так, чтобы окружающие никогда не видели, как тяжело ей нести это бремя.
«Мой день начинается с шести часов утра приготовлением теста для булок и пирогов, потом приготовлением кушанья… и в то же время личными распоряжениями по делам, причем перехожу то к кухонному столу, то к письменному, а в дни расчетов по ярлыкам прямо от стряпни к расчетам… Слезы мои часто капают на журналы, посудные и статейные книги, но их никто не видит». «Мой Иван Павлович тоже трудится, сколько позволяют силы, и я благодарю за это бога», — писала Мария Дмитриевна в марте 1847 года, не подозревая еще, что силы мужа на исходе, что через несколько месяцев она станет вдовой. Иван Павлович умер в октябре. А через три месяца после него скончалась дочь Поленька — Аполлинария. Втянутая в какую-то секту, Поленька изнуряла себя постами и страданиями, таяла как воск… Поленька умерла в январе 1848 года, а в июне сгорела дотла аремзянская фабрика, навсегда освободив Марию Дмитриевну от обязанностей, которые ее так тяготили. И к концу 1848 года она, оставшись с двумя сыновьями и дочерью, вдруг обнаружила, что может «без горя оставить Тобольск, когда надо будет везти отсюда в университет Пашу и Митю…»
Хотя Паша был на два года старше, Митя не отставал от него в своем развитии, и, когда настало время старшему брату идти в гимназию, родители решили отправить с ним и Митю. «Чтобы не разбаловался, оставаясь дома один, меня упросили принять вместе с братом. Но так как принимать, да и то в исключительных случаях, дозволялось только с 8 лет (а мне было 7), то меня приняли, но с условием, чтобы в 1 классе я пробыл непременно 2 года. Учился я тогда, кажется, не худо, но по малолетству так и оставлен в 1 классе на 2 года».
Впрочем, успехами Митя блистал только в первых классах. Потом учеба перестала его увлекать, и он хорошо шел только по тем предметам, которые ему нравились и легко давались, — по математике, физике, истории. Предметами, к которым был равнодушен, — русской словесностью, законом божьим — Митя занимался без особого старания, а порой лишь угроза остаться на второй год заставляла его подтягиваться. Но настоящим камнем преткновения для него оказались иностранные языки — немецкий и особенно латынь. Иногда дело доходило до того, что, беззастенчиво пользуясь положением любимца семьи, Митя заставлял переводить и переписывать задание по латыни самого Ивана Павловича. А иногда подбивал сестрицу Машеньку, вышедшую замуж за преподавателя тобольской гимназии Попова, склонять своего супруга к должностному преступлению: сообщать, о чем будут спрашивать на экзаменах братцев Пашу и Митю.
Но, несмотря на все эти ухищрения, скрыть слабое знание латыни удавалось очень редко, и свою нелюбовь к латыни Дмитрий Иванович считал если не врожденной, то, во всяком случае, привитой с очень раннего детства. И если Митя успешно переходил из класса в класс, то это происходило только благодаря совету гимназии. На склоне лет, будучи сам опытнейшим педагогом, Дмитрий Иванович в полной мере оцепил мудрость своих учителей: «По нынешним временам, вероятно бы, меня много раз оставляли и даже исключили бы из гимназии, так как у меня из латыни очень часто были худые отметки». Но «общая подготовка и должное развитие все же у меня были, и оставление в классе только бы испортило, вероятно, всю мою жизнь. Дело обучения лежит на совести учителей».
Изучая Митины отметки за все время его обучении в гимназии, можно, казалось бы, сделать вывод, что его успехи в математике, физике, истории объясняются явной склонностью к этим предметам, которые будто бы и давалось ему очень легко. Но такое заключение будет справедливо лишь отчасти, ибо в этих дисциплинах природная склонность ученика счастливо соединилась с талантами, увлеченностью и тактом учителей.
Вспоминая гимназических учителей, Дмитрий Иванович всегда с особым признанием говорил о двух из них — об учителе математики и физики И. Руммеле и учителе истории М. Доброхотове. И вот что любопытно: лучшими учителями тобольской гимназии ее великий питомец считал именно тех педагогов, которыми часто бывало недовольно начальство. «Руммель понимал, что нельзя требовать от учеников умственного напряжения в течение целого часа, и вел дело так. Первую половину урока спрашивал учеников и сам объяснял, причем требовал самого напряженного внимания и тишины, что ученики охотно исполняли, а потом говорил ученикам: «Ну а теперь делайте что хотите». Поднималась возня, в которой иногда участвовал и сам преподаватель». Доброхотов поступал иначе: «Он… сперва вызывал охотников, и если один из них все расскажет хорошо, то затем заставлял то же повторять кого-нибудь из слабых. Если вызывавшийся охотник не умел хорошо объяснить заданное, вызывался другой, а если и он оказывался неумелым, учитель сам все объяснял и заставлял первого вызвавшегося повторить после него. Иные так и не готовились дома, а после урока все знали… Учителя того и любили же, хотя он был очень строг».
Тих и пустынен был этим летом дом Менделеевых. Окончивший гимназию Павел уехал служить в Омск. «…Такая вдруг сделалась пустота, что я испугалась моего одиночества и спешила рассеять себя неутомимыми занятиями», — писала Мария Дмитриевна, рядом с которой остались только Лизонька да Митя. Мать радовалась устройству детей, ибо чувствовала: силы ее на исходе. Вся нежность, вся сила и вся страсть материнской души сосредоточились теперь на младшем сыне. И когда гимназический курс был окончен, Мария Дмитриевна с Лизой и Митей отправилась в Москву, твердо решив определить сына в Московский университет.
Когда осенью 1849 года Мария Дмитриевна Менделеева с Лизонькой и Митей и служителем Яковом, миновав Рогожскую заставу, въехала в черту первопрестольной столицы, вся пестрота, великолепие и убожество великого города замелькали перед глазами ошеломленных провинциалов, точь-в-точь как это описано у Пушкина:
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри.
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
Вот проплыла за окном последняя будка, пробежала последняя чугунная решетка, мелькнул последний «лев на воротах», и Менделеевы подъехали к подъезду особняка князей Трубецких, что на Покровке.
Василий Дмитриевич Корнильев принял сестру радушно, любезно предоставил ей возможность жить в его поставленном на широкую ногу доме и взялся похлопотать об определения Митеньки в Московский университет. Славная репутация этого учебного заведения как нельзя лучше соответствовала тем талантам, которые пока, быть может, одна только мать видела в Мите Менделееве.
Но честолюбивые замыслы Марии Дмитриевны, даже подкрепленные знакомствами и связями Василия Дмитриевича (в его доме бывали такие знаменитости, как Н. Гоголь, Е. Баратынский, М. Погодин, И. Дмитриев и другие), не увенчались успехом. По существовавшим тогда правилам лица, окончившие гимназию, могли поступать только в университет того учебного округа, где находилась гимназия. По этому правилу Митя должен был поступать в Казанский университет. Ехать в незнакомую Казань Мария Дмитриевна не хотела, и тогда Корнильев предложил план, совершенно неприемлемый для его сестры. Он сказал, что готов определить Митю на службу в канцелярию губернатора. Заметив, как нахмурилась при этих словах сестра, Василий Дмитриевич поспешил перечислить многочисленных знакомых, преуспевших в жизни без всякого университетского образования. Он не упустил упомянуть и Митиных братьев; он, наконец, привел в пример самого себя, но слепая материнская любовь на этот раз оказалась прозорливее житейской опытности и искушенной проницательности княжеского управляющего.
Весной 1850 года Мария Дмитриевна привезла Митю в Петербург…
Но в Петербурге действовали те же правила, что и в Москве: в университете Марии Дмитриевне указали опять-таки на Казанский университет. Следующим после университета высшим учебным заведением в Петербурге по праву считалась Медико-хирургическая академия, но, присутствуя в анатомическом театре на вскрытии, Митя почувствовал себя дурно и наотрез отказался от медицинской карьеры. И вот тогда-то Мария Дмитриевна решилась отдать своего любимца в Главный педагогический институт.
Но судьба и тут припасла каверзу. Хотя в Главный педагогический институт принимались абитуриенты из всех учебных округов, но прием производился раз в два года, и как раз в 1850 году приема не было. Лишь после долгих хлопот и рекомендательной записки университетского профессора Д. Чижова, который учился и окончил Педагогический институт вместе с Иваном Павловичем Менделеевым, Мите было дано согласие на прием в неурочном году.
1 мая 1850 года он подал прошение и выдержал приемные испытания. Видимо, проходной балл был в те годы невысок: набрав всего 3,22 балла, Митя был принят в институт. Ради курьеза отметим: на этих испытаниях по нелюбимой им латыни он получил 4, а по любимой математике и физике соответственно 3 и 3+. 9 августа министр народного просвещения утвердил решение конференции, и Дмитрий Менделеев стал студентом.
Это долгожданное, страстно желанное событие в одночасье сняло с Марии Дмитриевны страшное напряжение. Она будто выполнила предназначение своей жизни: поставить будущего гения русской науки на дорогу, которая должна была привести его к славе. И можно только поражаться, как быстро угасла после этого ее жизнь. Она умерла 20 сентября 1850 года, всего 57 лет от роду. Через 18 месяцев после смерти матери от скоротечной чахотки умерла Лизонька, и весной 1852 года Митя Менделеев остался в Петербурге один. И как завет на всю предстоящую жизнь звучали в его ушах последние слова матери: «Настаивай в труде, а не в словах».
В старости, вспоминая поступление в институт, Менделеев писал, что его особенно поразила одна деталь приемной процедуры. У каждого поступившего была взята расписка в том, что он по окончании курса обязывается прослужить не менее двух лет за каждый год учения в институте там, куда направит его учебное ведомство. Это требование сильно поразило Митю. «Очень я хорошо помню, что в те 16 лет, которые прожил до поступления в Главный педагогический институт, никаких я никому расписок… никогда не давал. А тут заставили всю расписку самому написать. Оно, во-первых, удивило, во-вторых, было как-то лестно чувствовать себя уже решающим свою судьбу; а в-третьих, заставило много и не раз подумать в самом начале о том, что каждому из нас предстоит».
Менделееву и семерым его товарищам, принятым в институт в неурочный 1850 год, было предложено решить, за сколько лет они желают закончить полный курс: за три или за пять. В первом случае, пройдя самостоятельно курс предыдущего года, они могли присоединиться к студентам, принятым в 1849 году. Во втором — присоединиться к тем, кого примут в 1851 году, и снова прослушать вторую половину первого курса. Единственный из всех принятых в неурочный год, Дмитрий решил пройти курс вторично. И результат не замедлил сказаться. Если весной 1851 года среди 28 своих сверстников он по успехам в учебе был всего лишь двадцать пятым, то спустя год стал уже седьмым. А в 1853/54 году о нем уже говорили как о самом одаренном студенте Главного педагогического института.
Биографы Менделеева не перестают дивиться быстроте, с которой шалун гимназист, порой переходивший из класса в класс лишь по снисходительности педагогического совета, превратился в серьезного, работящего студента, искренно увлеченного наукой. Если у гимназиста Мити Менделеева предметы делились на любимые и нелюбимые, то у студента Дмитрия Менделеева нелюбимых предметов нет. Первенствуя в физике и химии, увлекаясь чистой математикой, он с равным интересом изучал биологические науки, поражая профессоров зоологии и ботаники своими успехами. Будучи студентом физико-математического факультета, он интересовался и науками, проходимыми на историко-филологическом факультете, всегда находя время, чтобы быть на лекциях профессоров этого факультета. Сверх того он интересовался гальванопластикой и посещал гальванопластическую мастерскую Академии наук.
В этот период отношение Менделеева к учению начинает выходить за рамки понятия, определяемого словом «учение». Это была какая-то ненасытная алчба знаний. И эта необузданная работа мозга породила такую нагрузку, какой не мог выдержать неокрепший юношеский организм…
Митя начал прихварывать со дня приезда в Петербург. У него болела грудь, он сильно кашлял. А осенью 1851 года открылось кровохарканье — грозный симптом чахотки. Болезнь прогрессировала, и в январе 1853 года Дмитрий Иванович слег. Рядом с ним в институтском лазарете лежал студент Бетлинг, больной туберкулезом. И как-то раз, когда директор с институтским доктором Кребелем обходили лазарет, Кребель, полагая, что больные крепко спят, довольно громко сказал: «Ну, эти двое уже не встанут». Слова врача, которые для Дмитрия Ивановича и так уже имели весьма зловещий смысл — его отец и три сестры умерли от чахотки, — приобрели значение смертного приговора после того, как умер Бетлинг. По рапорту Кребеля конференция педагогического института направила министру народного просвещения ходатайство о переводе Менделеева по состоянию здоровья в Киевский университет. Но благословенная сила духа спасла Менделеева если не от смерти (позднее выяснилось, что у него была не чахотка, а не очень опасный порок сердечного клапана, не помешавший ему дожить до 73 лет), то от превращения в человека, неспособного интересоваться наукой из-за болезненной чуткости к ничтожнейшим отправлениям своего организма.
Вместо того чтобы предаваться мрачным мыслям и отчаянию, Дмитрий Иванович обратился к Кребелю с просьбой дозволить ему держать очередной экзамен. Доктор удивился, но разрешение дал. Преодолевая слабость, Менделеев встал, облачился, как полагалось по правилам, в парадный мундир и блистательно сдал экзамен. Когда после этого он побрел обратно в лазарет, товарищи устроили ему овацию — первую, но далеко не последнюю овацию в его жизни.
В архиве Менделеева не сохранилось документов о том, чем кончилось ходатайство института о его переводе в Киев. По всей видимости, он превозмогал болезнь. Но состояние здоровья Менделеева в годы его учения все время оставалось неважным, причиняло ему немало расстройства и хлопот. Он даже вынужден был отказываться от любимого своего развлечения — игры в шахматы. «Голубчики, — говорил он жалобным голосом приглашавшим его друзьям, — не могу; ведь вы знаете, что я целую ночь спать не буду».
Горячий интерес Дмитрия к наукам не остался незамеченным со стороны преподавателей Главного педагогического института. Все эти очень разные люди с одинаковой готовностью помогали Дмитрию, хотя его трудно было назвать тихим, покладистым студентом. Скорее наоборот, он был нервным, страстным и резким юношей. Но рано и мощно проявившаяся одаренность — это такая сила, которая не только самого человека движет к поставленной цели, но и других побуждает помогать, невзирая на непокладистость его характера. И эта, в сущности, бескорыстная поддержка, которую окружающие оказывают таланту, зиждется на бессознательно возникающей уверенности в том, что труды и хлопоты, потраченные на такого человека, падают на благодатную почву и не пропадут даром. Пожалуй, именно в этом чувстве секрет того благорасположения к студенту Менделееву со стороны большинства профессоров Педагогического института.
Сам Менделеев прекрасно понимал, что без такой доброжелательной поддержки он никогда не смог бы стать тем, кем он стал, поэтому он навсегда сохранил чувство глубокой признательности к своим учителям и к учебному заведению, взрастившему его. «Я сам обязан Главному педагогическому институту всем своим развитием, — писал он много лет спустя. — После первого же года вступления в него со мной приключилось кровохарканье, которое продолжалось и во все остальное время моего там пребывания. Будь я тогда стипендиатом или вообще приходящим слушателем, я бы лишен был всякой возможности удовлетворять возбужденную жажду знаний, а там все было под рукой, начиная от лекций и товарищей до библиотеки и лаборатории, время и силы не терялись на хождение в погоду, ни на заботы об обеде, платье и тому подобное.
…Огонь в нашем очаге не тух от избытка топлива, а мог только разгораться под влиянием не только профессоров и товарищей, не только удобств для притока всего того кислорода, нужного для научного горения, который доставляли рядом со спальными и жилищными помещениями находящиеся лаборатории и библиотеки, но и того общего напряжения или пыла, который установился в Главном педагогическом институте».
Говоря об «общем напряжении или пыле, который установился в Главном педагогическом институте», Дмитрий Иванович имел в виду группу студентов, чрезвычайно серьезно готовившихся к будущей преподавательской деятельности. Много и систематически работая в течение учебного года, эти студенты свысока относились к тем, кто специально готовился к экзаменам, и демонстрировали свое превосходство тем, что ночи напролет играли в карты в самый разгар экзаменационной сессии.
Результаты такого способа подготовки к экзаменам Дмитрий Иванович с блеском продемонстрировал при окончании института в мае 1855 года. В актовом зале собрались не только многочисленные почетные гости — академики, профессора, генералы, — не только однокашники экзаменующихся, но и студенты младших курсов как физико-математического, так и историко-филологического факультетов, специально пришедшие посмотреть, как будет сдавать экзамены Дмитрий Менделеев. Экзаменующиеся, облаченные в полную парадную форму, чувствовали себя немного смущенно и торжественно. Один за другим поднимались они на кафедру и отвечали на вопросы экзаменаторов.
Интересно, что на этом экзамене повторилась история, отдаленно напоминающая случаи, происшедший на том достопамятном лицейском экзамене, на котором «старик Державин» благословил юного Пушкина. Роль метра довелось сыграть академику Юлию Федоровичу Фрицше, известному специалисту по органической химии.
«Присутствовав при экзамене в Главном педагогическом институте, — писал академик директору института И. И. Давыдову, — я с удовольствием слушал объяснение вопросам химии студента Менделеева. Убедившись, что этот молодой человек вполне владеет зданием химии и очень хорошо знаком даже с новейшим направлением этой науки, я долгом считаю сообщить вам об этом свое личное мнение и покорнейше просить ваше пр-во содействовать с вашей стороны тому, чтобы г-ну Менделееву при определении на службу была предоставлена возможность далее усовершенствоваться в химии».
У Давыдова на этот счет уже был готовый план: он выхлопотал разрешение, чтобы нескольких «отличнейших» выпускников Главного педагогического института (в том числе, конечно, и Менделеева, удостоенного золотой медали) оставить при институте еще на один год для усовершенствования в науках и приготовления к магистерскому экзамену…
Знаменитый в конце прошлого века французский социолог Г. Тард — с ним, кстати, Менделеев был знаком лично — писал: «Молодость отличается от зрелого возраста тем, что в молодом уме количество проблем превосходит количество решении, тогда как успокоившийся ум переполнен решениями, но у него почти нет вопросов». Другими словами, молодость спрашивает — зрелость отвечает. Следуя этому простому правилу, опытный педагог почти безошибочно может сказать, что получится в будущем из его учеников. По каким же признакам, по каким вопросам, волновавшим студента Менделеева, все профессора уже и тогда видели, что перед ними был будущий великий ученый?
При беглом взгляде на студенческие работы Дмитрия Ивановича создастся впечатление, что это работы юноши увлекающегося, одаренного, но без царя в голове, бросающегося из одной крайности в другую. Какое удивительное разнообразие, какая почти беспорядочная пестрота тем! «Описание Тобольска в историческом отношении», «О влиянии теплоты на распространение животных», «Об ископаемых растениях», «О телесном воспитании детей от рождения до семилетнего возраста», «Описание грызунов С.-Петербургской губернии», «Неорганический анализ умбры, найденной в 1854 году в Сибири», «Химический анализ финляндского минерала ортита», «Анализ и кристаллографическое исследование пироксена из Рускиала в Финляндии», «Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллических форм к составу», «О школьном образовании в Китае»…
Но весь этот кажущийся хаос интересов и проблем был настолько органичен для личности Менделеева, настолько гармонично, хотя и неявно еще, были они сцеплены в его мыслях, что товарищам по институту никогда не пришло бы в голову считать набор этих работ случайным. Напротив. «Меня в то время, — писал его студенческий друг М. Папков, — поражала обширность взгляда Дмитрия Ивановича на проходимые науки». Обширность взгляда на проходимые науки… Много лет спустя, уже после смерти Менделеева, его ученик известный химик Л. Чугаев прекрасно объяснил, о чем свидетельствовала эта самая «обширность взгляда»: «Из всех признаков, отличающих гениальность… два, кажется, являются наиболее показательными: это, во-первых, способность охватывать и объединять широкие области знания и, во-вторых, способность к резким скачкам мысли, к неожиданному сближению фактов и понятий, которые для обыкновенного смертного кажутся далеко стоящими друг от друга и ничем не связанными…»
И если студенческие годы показали, что Менделеев умел «охватывать и объединять широкие области знания», то вся его дальнейшая жизнь есть, в сущности, проявление великого дара к «неожиданному сближению фактов и понятий».
Внимательное изучение показывает, что чрезвычайное разнообразие студенческих интересов Менделеева не было случайным, что ни одно из его увлечений не осталось без дальнейшей разработки. Тематика его студенческих работ поразительно точно очертила совокупность вопросов и проблем, занимавших его всю дальнейшую жизнь. Так, юношеское «Описание Тобольска в историческом отношении» нашло неожиданное продолжение в обследовании «Уральской железной промышленности», которое маститый профессор Менделеев возглавил в 1899 году. Студенческий доклад «О влиянии теплоты на распространение животных» — первое проявление долгого и устойчивого интереса к метеорологии и изучению климата. Доклад «О телесном воспитании детей» положил начало обширной серии работ по проблемам просвещения и образования. «Ботанизирования с Шиховским» пригодились ему при обследовании состояния уральских лесов. Даже студенческая лекция «О школьном образовании в Китае» и та принесла пользу при работе над брошюрой «Попытка понять китайские события», которую он написал в 1900 году: «Считаю неизлишним сообщить, что вышеприведенное представление о состоянии Китая… родилось у меня в 1854 г., когда мне, как студенту Главного педагогического института, была задана тема пробной лекции: «О школьном образовании в Китае», для чего пришлось изучать много источников по истории и описаниям Китая». Но все это выяснилось потом, а тогда, в 1856 году, самой серьезной и важной из своих работ Дмитрий Иванович по праву считал «Изоморфизм»…
«Не боги горшки обжигают… — тут «бог» обычно делал паузу, оглядывая склонившихся над колбами и пробирками студентов, и, крякнув, благодушно выдыхал, — и кирпичи делают». Студенты понимающе переглядывались: мол, легко говорить это Александру Абрамовичу Воскресенскому, искусные руки и изумительное чутье которого вызывали восхищение у самого Юстуса Либиха, основателя знаменитой гиссенской лаборатории. «Ему все давалось с легкостью, — рассказывал впоследствии Дмитрию Ивановичу кумир германских химиков. — На сомнительном распутье он сразу выбирал лучший путь». Но «бог» знал, что делал. Он приучил к серьезной научной работе не одно поколение русских ученых, и это славное братство людей, научившихся с его легкой руки «обжигать горшки и кирпичи делать», единодушно признало его «дедушкой русских химиков». Поэтому можно понять, с каким удовольствием взялся Дмитрий Иванович за анализ минерала ортита, привезенного профессором геогнозии С. Куторгой из Финляндии, когда узнал, что эту работу ему надлежит выполнить под руководством Воскресенского. «Этот анализ сделан так отлично, что напечатан (на немецком языке) в издании Минералогического общества», — записано в отчете Куторги. За анализом ортита — первой печатной работой Менделеева — последовал анализ другого минерала — пироксена.
В заметках к списку своих сочинении Менделеев писал об этих анализах: «Ныне я не могу считать их достойными внимания», по всей вероятности забывая или упуская из виду то, что эти анализы привлекли его внимание к изоморфизму…
Среди прочих плодов ленивой доверчивости XVIII век получил в наследство от веков предшествующих убеждение, будто химический состав веществ ничего общего не имеет с формой их кристаллов и потому одно и то же твердое вещество может-де быть получено в виде кристаллов любой формы. Приемлемое, пока речь шла на качественном уровне, это положение стало непростительным заблуждением после того, как французский ученый Роме де Лиль в 1783 году изобрел гониометр — прибор для измерения углов в кристаллах. Но такова уж сила привычки — прошло 28 лет, прежде чем другой французский ученый — Р. Гаюи — не сделал того, что должно было сделать еще в 1783 году. Произведя множество измерений, Гаюи установил закон, прямо противоположный старому утверждению, а именно: веществу данного состава соответствует одна и только одна форма кристалла. Другими словами, атомы или молекулы, складываясь в кристалл, формируют его, как говорится, по своему образу и подобию. Поэтому, зная химический состав вещества, можно сразу сказать, как должен выглядеть его кристалл. И наоборот, простым измерением углов кристалла можно однозначно установить, из какого вещества он состоит.
В сущности, закон Гаюи языком науки утверждал принцип, который на языке поэзии выразил Гёте: «Ничто не внутри, ничто не вовне, ибо то, что внутри, есть и вовне». Но, несмотря на столь вескую поэтическую поддержку закона Гаюи, уже в момент его установления были известны факты, противоречащие ему. На них попросту закрывали глаза, пока в 1820 году германский химик Э. Митчерлих не обнаружил изоморфизм — явление, при котором одинаковые или очень близкие кристаллические формы свойственны веществам далеко не одинакового состава. Экспериментируя, например, с натриевыми солями фосфорной и мышьяковой кислот, Митчерлих обнаружил: эти вещества, хотя и различные по составу, имеют настолько близкие кристаллические формы, что даже могут заменять друг друга в одном кристалле. Митчерлих назвал эти вещества изоморфами и сделал вывод, что, по всей видимости, между такими непохожими, казалось бы, элементами, как мышьяк и фосфор, есть какое-то глубоко запрятанное сходство, сродство. Таким обрядом, закон Гаюи был бы справедлив, если бы свойства химических элементов представляли собой хаотический набор неповторяющихся, беспорядочно набросанных величин, если бы каждый элемент был уникален, независим, неповторим и вел себя в химических реакциях совершенно отличным от всех других элементов образом. Митчерлих внес сомнение в эти взгляды. Он установил, что есть какие-то таинственные связи между некоторыми элементами. Открытие германского химика смутно намекало, что элементы не беспорядочная толпа солдат, а дисциплинированное войско, построенное в ряды и колонны. Но, увы, изоморфизм лишь смутно намекал, но не давал возможности выявить закон построения химического войска, ибо, как скоро выяснилось, на углы и форму кристаллов влияют многочисленные факторы, которые порой невозможно отделить от проявлений химического сходства элементов. Поэтому для выявления сходств и различий, для уяснения закона классификации элементов одного изоморфизма недостаточно…
Таков и был вывод студенческой диссертации Менделеева. И все-таки он не зря считал, что «она определила многое». Ибо «Изоморфизм в связи с другими отношениями формы к составу» оказался зерном, зародышем, из которого выросли, из которого развились менделеевские исследования грядущих лет.
К моменту окончания института здоровье Менделеева внушало такие серьезные опасения, что он отказался от предложения И. Давыдова и решил ехать служить на юг. Свой выбор он остановил на 2-й одесской гимназии. Дмитрий Иванович знал, что в Одессе находится знаменитый Решельевский лицей, и надеялся, что в лицее он найдет возможность приготовиться к экзамену на степень магистра. Но Менделеев предполагал, а министерство народного просвещения располагало. Вернее, даже не министерство, а делопроизводитель, перепутавший бумаги и предписавший Дмитрию Ивановичу ехать в захолустный Симферополь.
Ошибка писаря вывела Менделеева из себя. «Я и теперь не из смирных, — говорил он много лет спустя, — а тогда и совсем был кипяток». Тут же отправился он в министерство и наговорил дерзостей директору департамента. А на следующее утро встревоженный Давыдов, директор института, потребовал к себе Дмитрия и сказал, что Менделеева вызывает к себе сам министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов. Участник Бородинского сражения, знаток восточных языков, поэт, министр просвещения был известен открытым грубоватым характером и тем, что всех называл на «ты». Он заставил Менделеева и обиженного директора департамента прождать его часа четыре. Потом вышел в опустевшую приемную, строго посмотрел сперва на Менделеева, потом на директора департамента.
— Вы что это в разных углах сидите? Идите сюда.
Они подошли.
— Что это у тебя там писаря делают? — напустился Норов на директора. — Теперь в пустяках напутали, а потом в важном деле напорют. Смотри, чтобы этого больше не было!
Потом он повернулся к Дмитрию:
— А ты, щенок! Не успел со школьной скамейки соскочить, а начинаешь старшим грубить. Смотри, я этого вперед не потерплю… Ну а теперь поцелуйтесь.
С неохотой Менделеев и директор департамента поцеловались, и министр их отпустил.
Приказ министра народного просвещения не может отменить даже сам министр народного просвещения. Насильственно помиренный с директором департамента, Дмитрий Иванович все ровно должен был ехать в Симферополь. Июль и август ушли на сборы в дорогу, и вот Дмитрий Иванович уже готов отправиться в Симферополь, где он по данной им пять лет назад подписке должен прослужить старшим учителем естественных наук в гимназии долгие восемь лет.
Наконец нанесены последние визиты, отправлены последние письма, отданы последние распоряжения друзьям. И Дмитрий Иванович Менделеев отправляется в путь, имея при себе аттестат, свидетельствующий, что он, «сын Надворного советника, уроженец города Тобольска, православного исповедания, 21 года от рождения», определен учителем в симферопольскую гимназию. Во время своего неторопливого путешествия к месту назначения Дмитрий, рассеянно обозревал проплывающие мимо ландшафты, но голова его была занята мыслями о друзьях, родных и знакомых, и особенно о Феозве Лещовой, очаровательной племяннице Владимира Александровича Протопопова — старого друга менделеевской семьи, живущего в Петербурге. Он снова и снова вспоминал прощальный визит к Протопоповым, щебетание трех сестер Лещовых, падчериц инспектора тобольской гимназии П. Ершова, автора «Конька-Горбунка». А от этих приятных воспоминании мысли Менделеева невольно обращались к посещению Н. Здекауера…
Грузный лобастый лейб-медик, прославившийся впоследствии тем, что стал главным учредителем Русского общества народного здравия, простукал, прослушал тощего, бледного студента, но точного диагноза не поставил, хотя и надавал рецептов и советов. Но, узнав, что Дмитрий Иванович отправляется в Симферополь, он оживился и настоятельно советовал ему показаться прославленному хирургу Н. Пирогову. Напомним, что в Крыму тогда шли бои: англо-франко-турецкие войска осаждали Севастополь. Именно поэтому Пирогов, заведовавший медицинской частью на театре военных действий, и находился в Крыму. Здекауер даже любезно написал и вручил Дмитрию Ивановичу письмо для Пирогова.
Забегая немного вперед, заметим, что знаменитый хирург сделал для Менделеева больше, чем мог бы тогда сделать кто-либо другой. В сущности, он вернул его к жизни, определенно сказав, что у Дмитрия Ивановича нет чахотки, мысль о которой угнетала молодого учителя. Прощаясь, Пирогов со смехом возвратил пациенту письмо Здекауера, сказав: «Сохраните это письмо и когда-нибудь верните Здекауеру. Вы нас обоих переживете». Менделеев понимал, какую роль сыграла эта короткая встреча с Пироговым, и навсегда сохранил чувство признательности и восхищения этим человеком: «Вот это был врач! — говаривал он. — Насквозь человека видел и сразу мою натуру понял».
Когда фургон миновал Перекоп, ландшафт резко изменился. Выжженная степь без единой травинки и бесконечные обозы с ранеными, боеприпасами, продовольствием и войсками: шли последние сражения Крымской войны. В начале октября Менделеев прибыл наконец к месту своей первой в жизни службы. Симферополь оказался неприглядным, захолустным городом: три-четыре прямые и широкие улицы да пять-шесть узких и кривых. Всюду, куда ни глянешь, лазареты. В степи за городом поднимались к небу столбы смрадного дыма — там жгли падаль и мусор. Гимназия, куда был назначен Дмитрий Иванович, не работала: верхний этаж тоже был отведен под лазарет. И поселившийся временно у директора Дмитрий Иванович с тоской глядел на гимназический двор, где ковыляли выздоравливающие солдаты.
«Невеселая жизнь выпала мне на долю, — жаловался он в письмах, — да, правда, веселья я не искал, хотелось спокойствия, маленьких удобств. Ни того, ни другого не имеют почти все жители Симферополя; главнейшая причина всего — страшнейшая дороговизна и теснота». Менделееву казалось, что он попал в тупик: где-то в мире течет настоящая жизнь, ведутся научные исследования, пишутся трактаты, издаются журналы, а он осужден на восьмилетнее пребывание в симферопольском захолустье. Отголоски этой идущей вдалеке яркой и насыщенной жизни он обнаруживал буквально в каждой строке писем, которые приносила ему тогдашняя неторопливая почта.
Друзья писали, что занятия в Главном педагогическом институте идут как всегда, что читают те же профессора, что вообще жизнь в Петербурге монотонна. У Менделеева даже сердце щемило от тоски. Как хотел бы он очутиться снова в Петербурге, увидеть дорогих товарищей и профессоров, окунуться в ту жизнь, которую они, не бывавшие в Симферополе, дерзко именуют «монотонной»…
В таком-то настроении и застало Дмитрия Ивановича письмо от Янкевича, того самого, которого оплошность департаментского писаря направила на менделеевское место в Одессу.
«Любезный Менделеев!
После долгих усилий мне удалось наконец выхлопотать себе позволение остаться в Петербурге… Я… решительно не имел времени ранее уведомить тебя о перемене моего назначения. Теперь мне пришло в голову, что, может быть, ты не можешь ли занять мое место, если захочешь, конечно… Во всяком случае, я считаю долгом уведомить тебя обо всем этом».
Письмо Янкевича переполнило чашу терпения: Менделеев тут же пошел к директору гимназии, получил у него разрешение поехать в Одессу и 30 октября с месячным жалованьем в кармане и с надеждой в сердце покатил из Крыма. Через две недели он уже получил место старшего учителя математики в гимназии при Ришельевском лицее.
Счастливый исход Менделеева из Симферополя, предпринятый им на свои страх и риск, увенчался успехом потому, что директор Главного педагогического института, узнав о бедствиях лучшего его воспитанника, просил попечителя Одесского учебного округа переместить Дмитрия Ивановича из Симферополя в Одессу, что и было разрешено.
Одесский период сыграл важную роль в жизни Менделеева. Здесь окончательно созрела тема его магистерской диссертации и были проведены первые эксперименты. Здесь он впервые начал самостоятельную жизнь. Говоря о своих планах на будущее, он в феврале 1856 года писал одному из своих друзей, М. Папкову: «Долго возился с извлечением из «Изоморфизма» для Куторги, которому все отправил уже дня три тому назад, писал по поручению начальства программу для гимназии, что отняло пропасть времени по бестолковости гимназических руководств, занимался еще одной интересной статьей о свете и измерении кой-каких кристаллов — благо нашел прекрасный гониометр. Теперь хочу заняться, как кончу писем с 20, волокитством и диссертацией. Дела предстоит пропасть».
Но дух Менделеева был смятен. Он чувствовал, что живет неполной мерой, что надо искать какой-то выход, надо действовать. А тут его институтский приятель М. Панков возьми да и напиши в письме как бы между прочил: «Сегодня Савич предлагал нашим выпускным два интересные места: быть директорами обсерватории в Ситхе и Пекине; им сулил оклады в 800 р. с. в Ситхе на 5 лет, и на 6 лет в Пекине — 1000 р. с….» И так велико было тогда беспокойство менделеевской души, что он едва ли не с радостью хватается за возможность на шесть лет похоронить себя и Пекине: «Решаюсь писать к Савичу — прошусь в Пекин — право, не дурно. Только не примут — вот беда».
Предчувствия не обманывали Дмитрия Ивановича. Его действительно не пустили в Пекин, так как крупнейшие ученые Россия, прослышав о его отчаянном намерении, приняли свои меры. Как бы выражая всеобщее мнение, профессор С. Куторга писал Менделееву в Одессу: «Место в Пекине не уйдет… Будьте здоровы и покойны духом; лучшее никогда не уйдет от вас.
Вскоре после того, как в феврале 1856 года в Париже был подписан мирный договор, положивший конец позорной Крымской войне, Дмитрий Иванович узнал, что планируется отправка ряда русских ученых за границу. Цель этих командировок была именно та, о которой писал в свое время академик Фрицше: «Посетить иностранные лаборатории и воспользоваться советами знаменитых иностранных химиков, личное знакомство с которыми никак не может быть заменено одним чтением их сочинений». Это известие приводит Менделеева в состояние крайнего возбуждения, и он решается написать откровенное, искреннее письмо директору Главного педагогического института Ивану Ивановичу Давыдову.
«Ваше превосходительство! — писал он. — «Спрос не беда», — говорит русская мудрость, потому, не смея надеяться, все-таки решился спросить — не могу ли я быть причислен к тем, которые будут иметь счастье быть отправленными за границу».
День, когда почта принесла ответное письмо, навсегда остался памятным Менделееву.
«Милостивый государь, Дмитрий Иванович! — писал Давыдов. — Просьба ваша о назначении вас за границу уже предупреждена институтом: еще в прошлом месяце было представлено министру об отправлении вас в числе некоторых других питомцев нашего заведения в чужие края. Из этого вы видите, что институт не только помнит вас, но и желает вам всего лучшего».
В середине мая 1856 года Менделеев выехал из Одессы в Петербург.
Крымская война, самонадеянно развязанная Николаем I, подвела итог его мрачному царствованию. И итог этот был столь неутешителен, что долгое время после его смерти в общество циркулировали слухи, будто он отравился. Со смертью царя пали ограничения, наложенные в его царствование на выезд из России, и после заключения мирного договора из России в Западную Европу хлынул поток денежных праздношатающихся людей. Помещики, чиновники, люди свободных профессий с ликующим чувством устремились за границу. И в этом потоке почти затерялись люди, которым в недалеком будущем предстояло украсить русскую науку бессмертными открытиями. Именно тогда в европейских лабораториях появились Иван Сеченов, Сергей Боткин, Александр Бородин, Николаи Бекетов, Александр Бутлеров и другие русские молодые ученью.
Среди них, увы, не было лучшего выпускника Главного педагогического института Дмитрия Ивановича Менделеева. Командировка, обещанная ему Давыдовым, так и не состоялась в 1856 году: в Педагогическом институте начались серьезные неурядицы, приведшие в 1859 году к закрытию и расформированию этого учебного заведения. В разгар этих неурядиц администрации института было, конечно, не до заграничных командировок бывших воспитанников, пускай даже и особо отличившихся. Пожалуй, при других обстоятельствах Дмитрий Иванович очень огорчался бы и переживал, но летом 1856 года у него на переживания просто не было времени.
Прибыв из Одессы в Петербург в середине мая, он немедленно, еще не обосновавшись толком на новом месте, подал П. Плетневу, ректору Петербургского университета, прошение о допущении его к сдаче экзамена на степень магистра химии. Причем из-за стесненности во времени просил проэкзаменовать его в течение оставшихся двух недель мая. Просьба эта была уважена, и 18, 25 и 30 мая двадцатидвухлетний Менделеев, как говорится, тряхнул стариной, не такой уж, впрочем, далекой: с момента его триумфа на выпускном экзамене прошел всего год. Блестяще ответив устно на вопросы по химии, физике, минералогии и геогнозии, он 31 мая сдал письменный экзамен по химии, после чего ему был назначен срок защиты магистерской диссертации — 9 сентября.
За два летних месяца Менделеев закончил начатую еще в Одессе магистерскую диссертацию «Удельные объемы», и, поскольку времени и средств на ее опубликование у него не было, ему разрешили защиту под тем условием, что за это время он напечатает подробные положения о сущности своего труда. 9 сентября, едва только профессор А. Савин от лица физико-математического факультета объявил, что «г. Менделеев достоин степени магистра химии», как неугомонный магистр подает новое прошение. Он желает защищать еще одну диссертацию — «Строение кремнеземистых соединении» — на право читать лекции по химии в Петербургском университете. 21 октября защита состоялась, 1 ноября совет университета обратился к попечителю Петербургского учебного округа с ходатайством о переводе магистра химии Менделеева на службу в Петербургский университет в звании приват-доцента по кафедре химии. Это ходатайство было утверждено, и 9 января 1857 года штурм, предпринятый Менделеевым, завершился полным успехом.
Университет дал молодому магистру очень много: возможность читать лекции, работать в лаборатории, общаться с первоклассными профессорами. Единственное, чего на первых порах университет не дал Менделееву, — это денег. Как приват-доцент, он за чтение лекций определенного жалованья не получал. В зависимости от состояния университетских финансов правление раз в год выплачивало ему 300–400 рублей.
«Лучшее никогда не уйдет от вас», — писал когда-то Менделееву в Одессу профессор Степан Семенович Куторга. И действительно, заграничная командировка, о которой мечтал учитель одесской гимназии, не ушла от него, а только отодвинулась на три года. А поскольку эти три года он не потерял понапрасну, администрация Петербургского университета, рассматривая в конце 1858 года вопрос о командировании приват-доцента Менделеева за границу «для усовершенствования в науках», имела дело с кандидатурой не начинающего новичка, едущего набираться школьной премудрости, а магистра химии, ученого со своими собственными взглядами на эту науку и своей собственной программой действий. «Менделеев… несмотря на молодые годы… был уже готовым химиком, а мы были учениками», — скажет Иван Сеченов, с которым Дмитрию Ивановичу в скором времени предстояло познакомиться в Гейдельберге.
А пока он читал лекции и вел практические занятия со студентами, с нетерпением ожидая окончания семестра. И когда эти бесконечно тянувшиеся четыре месяца наконец прошли, Дмитрий Иванович не мешкая приобрел за 38 рублей серебром билет на почтовый дилижанс, отправлявшийся 14 апреля 1859 года из Петербурга в Варшаву. Шесть суток тащился дилижанс по дорогам Российской империи, и все это время Дмитрий Иванович просидел на своем самом дешевом месте рядом с кучером… «Кажется, еще и до сих пор болят бока от езды в дилижансе, который увез из Петербурга», — писал он знакомым в августе. За первые три месяца Менделеев объехал не меньше десятка европейских университетских городов, прежде чем его внимание остановилось на двух: Париже и Гейдельберге. Ж. Дюма, М. Бертло, А. Вюрц, А. Сент-Клер-Девилль — эти французские имена блистали на химическом небосклоне первой половины XIX века так же ярко, как имена гейдельбергских химиков — прославленных Р. Бунзена, Г. Кирхгофа, Э. Эрленмейера, Г. Кариуса. Но, по всей видимости, не сопоставление имен определило выбор Дмитрия Ивановича. Ему очень пришелся по душе сам Гейдельберг: «Наш (я буду здесь жить два года, а потому употребляю слово «наш»), — пишет он Феозве Лещовой, — городок хорош… маленький, длинный, лежит в долине, по которой течет Неккар, идущий верст 40 до Рейна. Соединение гористой местности с плоскостью, зелень, ровный климат, превосходные окрестности, хороший университет, близость отовсюду делают Гейдельберг местом жительства многих иностранцев».
Кроме того, на решение Менделеева обосноваться в Гейдельберге повлияло, по-видимому, еще и то, что здесь была многочисленная русская колония. Она, правда, не была однородной, разделяясь на ничего не делающих аристократов и тружеников. Эти последние держались вместе, ходили друг к другу в гости, устраивали литературные вечера.
Дмитрий Иванович быстро и близко сошелся с химиком Александром Бородиным и физиологом Иваном Сеченовым. Калмыковатый, побитый оспою Сеченов вначале показался Дмитрию Ивановичу чересчур уж сухим и скептичным — «человек виду нисколько не обещающего», как он выразился. Но очень скоро он убедился, что Сеченов — оригинальный, интересный и добрый человек. Менделеев даже считал, что на Сеченове «можно отчасти узнавать вкусы людей — к внешности они привязаны, она ли их руководит, или же они любят простоту, прямоту, теплоту души»… Сеченов в Гейдельберге занимался исследованиями содержания газов в крови и в других животных жидкостях и имел несколько печатных работ по физиологической химии. Близким другом Менделеева в Гейдельберге стал также Валерьян Савич, милый, доброжелательный человек, которому ужасно не везло в работах. Другим близким товарищем Менделеева был в эти годы В. Олевинский. Не получив химического образования, он лихорадочно старался наверстать упущенное, но богатое воображение все время совлекало его с пути настойчивого экспериментирования в сферу теоретизирования, не всегда подкрепляемого фактами. К этому кружку примыкали Н. Житинский, А. Майнов, К. Котельников. Кроме более или менее постоянных русских обитателей Гейдельберга, в городке за два года побывали медики С. Боткин, Э. Юнге, Л. Беккерс, работавший с Н. Пироговым во время Крымской войны, юрист Б. Чичерин, химик П. Алексеев, А. Ковалевский, бросивший химию и увлекшийся зоологией, ботаники Л. Ценковский, А. Фаминцын и М. Воронин, химии К. Лисенко, товарищ Менделеева по институту и будущий министр финансов И. Вышнеградский.
«Жизнь наша текла так смирно и однообразно, что летние и зимние впечатления перемешались в голове и в памяти остались лишь отдельные эпизоды, — вспоминал о гейдельбергской жизни Сеченов. — Помню, напр., что в квартире Менделеева читался громко вышедший в это время «Обломов» Гончарова, что публика слушала его с жадностью и что с голодухи он казался нам верхом совершенства. Помню, что А. П. Бородин, имея в своей квартире пианино, угощал иногда публику музыкой, тщательно скрывая, что он серьезный музыкант, потому что никогда не играл ничего серьезного, а только, по желанию слушателей, какие-либо песни или любимые арии из итальянских опер. Так, узнав, что я страстно люблю «Севильского цирюльника», он угостил меня всеми ариями этой оперы; и вообще очень удивлял всех нас тем, что умел играть все, что мы требовали, без нот, на память».
Чопорность гейдельбергских обывателей и заносчивость немецких студентов были причиной того, что общение молодых русских ученых с местным населением практически ограничивалось встречами с профессорами, в лабораториях которых они работали. И надо отдать должное гейдельбергским профессорам: они никогда не допускали по отношению к русским коллегам тех бестактностей, которыми тогда отличались профессора берлинские. Иван Сеченов, выехавший за границу раньше всех своих друзей, иронически улыбаясь, рассказывал им о том, как берлинский физиолог Дю-Буа Реймон угостил русских слушателей рассуждением, будто длинноголовая раса, к коей принадлежат германцы, обладает всеми возможными талантами, а короткоголовая, к коей принадлежат славяне, наделена в лучшем случае подражательностью. В противность этому гейдельбергский химик Эрленмейер, по словам самого Менделеева, при прощании сказал, что Менделеев ничего от немцев не взял, а только имел время раскрыться. И это не было скромничаньем из вежливости со стороны германского химика…
Когда Менделеев впервые появился у Р. Бунзена, тот демонстрировал студентам опыт со взрывом. Вооружившись длинной палкой с воткнутым в конце ее под прямым углом пером и нацепив на нос очки, он взрывал в открытых свинцовых тиглях йодистый и хлорный азот, а затем торжествующе показывал зрителям пробитые донья тиглей. Вообще взрывы были слабостью Бунзена, или папы Бунзена, как ласково именовали студенты своего любимца, хотя он и не был еще стариком. За любовь к взрывам, эту мальчишескую страсть, живущую в душе серьезного ученого, украсившего науку замечательным открытием — спектральным анализом, он поплатился глазом и ослаблением слуха. Но, будучи не в силах устоять перед искушением, он при каждом удобном случае норовил самолично показать студентам один-два взрыва.
Бунзен принял Дмитрия Ивановича с распростертыми объятиями, тут же нашел для него рабочее место и обещал сделать все от него зависящее. Но в действительности дело обернулось совсем не так, как можно было ожидать по любезному приему. Георг Кариус, работавший рядом с Дмитрием Ивановичем, изучал сернистые продукты, такие зловонные, что к вечеру у Менделеева раскалывалась от боли голова и грудь. Поприсмотревшись, молодой химик с изумлением убедился, что в прославленной бунзеновской лаборатории нет многих необходимых ему приборов, что даже весы «куды как плоховаты», что «все интересы этой лаборатории, увы, самые школьные». И тогда Дмитрий Иванович решил работать в домашней лаборатории, для устройства и оборудования которой ему надо было съездить в Париж.
По пути он заехал в Бонн к знаменитому «стеклянных дел маэстро» Г. Гейслеру. Заказав ему несколько точнейших термометров и катетометров — приборов для измерения удельного веса жидкостей, — Дмитрий Иванович не удержался и поучился у Гейслера работать со стеклом. Месяц в Париже был тоже насыщен работой. Здесь он заказал весы, насос, манометр, купил редкие препараты, побывал во многих лабораториях. В этот приезд он близко сошелся с харьковским химиком Николаем Бекетовым, который возил его по Парижу и познакомил со многими парижскими знаменитостями. «Бертело мне очень поправился простотой своей, своими оригинальными взглядами на вещи, своей начитанностью». «…Был у Дюма, познакомился с Вюрцем. Оба они чрезвычайно милы. У Дюма я вовсе не нашел того генеральства, о котором так много слышал», — вспоминал потом Менделеев.
Вернувшись из Парижа со всем оборудованием, с богатым набором необходимых препаратов, Дмитрий Иванович одну комнату превратил в лабораторию, проведя в нее газ, и засел за изучение капиллярности…
В ряду многочисленных определений гениальности есть одно на первый взгляд странное определение, принадлежащее английскому историку Т. Карлейлю. Он считал, что гениальность «означает трансцендентальную способность начать беспокоиться раньше всех». Интерес двадцатилетнего Менделеева к изоморфизму — поистине проявление этой самой «трансцендентальной способности», поскольку именно в своей студенческой диссертации Дмитрий Иванович сформулировал вопросы, которые определили основное направление его научных исследовании в последующие пятнадцать лет и ответом на которые явилось его великое открытие — периодическая система элементов.
Выясняя, что объединяет изоморфные вещества, что заставляет их атомы укладываться в один кристалл, студент Менделеев натолкнулся на интересное объяснение этих вопросов, выдвинутое некоторыми европейскими химиками. Они считали, что изоморфны лишь те вещества, у которых близки величины удельных объемов, то есть, как пишет Дмитрий Иванович, «объемы атомов вместе с их атмосферой». Он заприметил эту идею, и, когда, окончив свои изыскания, убедился, что одного изоморфизма далеко не достаточно для полного выявления сходств и различии между элементами, он немедленно делает следующий шаг — приступает к изучению удельных объемов различных веществ.
В наши дни трудно даже представить все то смешение, неопределенность и нечеткость понятии, которые царили тогда в химии и неимоверно затрудняли работу Менделеева. Достаточно сказать, что не было еще твердо проведено различие между атомом и молекулой, что еще не было уяснено до конца такое фундаментальное понятие, как валентность. Даже самое существование атомов считалось не более чем недоказанной гипотезой, и Менделееву, рассуждая об атомах, приходилось всякий раз оговариваться: «придерживаясь предположения современных последователей атомического учения». Из-за этой неопределенности основных понятий Менделеев при изучении удельных объемов вынужден был рассматривать как сложные вещества — органические и неорганические, — так и химические элементы. И что же выяснилось?
Оказалось, изоморфизм никак не связан с близостью удельных объемов, когда речь идет о сложных веществах — солях, кислотах, основаниях, спиртах, углеводородах, альдегидах. В подтверждение этого вывода Менделеев привел список изоморфных веществ с весьма далекими удельными объемами и список тел с близкими удельными объемами, но отнюдь не изоморфных. А после этого он объяснил, в чем заблуждались его иностранные коллеги: они просто принимали следствие за причину. В химии давно известны вещества, отличающиеся по химическому составу, но за всем тем дающие более или менее длинный ряд одинаковых реакции. Скажем, все кислоты окрашивают лакмусовую бумажку в красный цвет, а щелочи — в синий. Все растворы солей соляной кислоты при добавлении раствора ляписа дают белый творожистый осадок, постепенно темнеющий на свету, и так далее. Такие вещества химики назвали сходственными, и чем длиннее ряд одинаковых реакции, тем сходственнее, тем ближе вещества. Сходственность — это и есть главная причина изоморфизма, и только то, что у сходственных веществ часто бывают и близкие удельные объемы, породило заблуждение, с такой исчерпывающей полнотой объясненное Менделеевым.
Но, вычислив удельные объемы для химических элементов, Менделеев сразу обнаружил удивительные вещи. Скажем, у таких необычайно близких по химическим свойствам элементов, каковы галогены — хлор, бром, йод, — удельные объемы оказались очень близкими, а у столь же близких по свойствам щелочных металлов — лития, натрия, калия, — удельные объемы составляли почти точную пропорцию 1:2:4. И еще важное для себя открытие сделал Менделеев: у самых энергичных, бурно вступающих в реакции элементов — у галогенов и щелочных металлов — удельные объемы велики, а у малоактивных элементов, вроде иридия, платины и золота, удельные объемы, напротив, очень малы. «Чтобы дать себе некоторый отчет в этом отношении, можно представить легчайшие простые тела рыхлыми и как губка, удобопроницаемыми другими, тогда как тяжелейшие — более сдавленными, с трудом расступающимися для вмещения других элементов».
Так неожиданно вдруг обнаружилась связь между химической активностью элементов и «объемом атомов с их атмосферою»! А совершенно ясно, что эта самая «атмосфера» целиком зависит от сил сцепления… Тех самых сил сцепления, всю многозначительность и важность которых он интуитивно ощутил еще до того, как начал готовить магистерскую диссертацию об «Удельных объемах».
Изоморфизм, удельные объемы… Прочь косвенные методы! Менделеев решил атаковать проблему в лоб, непосредственным измерением узнать силы сцепления и, таким образом, «алгеброй поверить гармонию» — методами физики проникнуть в тайны сокровенной субстанции химии — в тайны вещества. И задача эта была столь деликатна, столь своеобычна, столь непроста, что для ее решения оказалась слишком примитивной лаборатория самого Бунзена, не устающего повторять: «Химик, который не есть также физик, есть ничто!»
Если, занимаясь изоморфизмом и удельными объемами, Дмитрий Иванович располагал обильным экспериментальным материалом, уже накопленным в науке трудами других, то на этот раз ему пришлось начинать почти на пустом месте. «Первое время, месяца два, — писал он в декабре 1859 года, — употребил на кучу предварительных исследовании, столь необходимых в работе, так новой для меня. Теперь уже дошел до той скорости работы, какую перейти невозможно. Средним числом для каждого тела надо три дня: день приготовить, калибровать и вычислять трубки, другой — очистить тело, третий — наблюдать капиллярность и удельный вес. Уже много органических соединении переработано мной: гомологические жирные кислоты и алкооли, эфиры, алдегиды, ароматические некоторые углеродистые водороды, глицерин, молочная кислота. Для конца работы надо еще, как оказалось теперь, определить те же данные при возвышенных температурах».
Так в декабре 1859 года была намечена программа действий, которая через несколько месяцев привела Дмитрия Ивановича к открытию температуры абсолютного кипении. Капиллярность — вползание столбика жидкости, смачивающей стенку волосной трубки, — процесс, в котором зримо проявляется действие сил сцепления. Тех самых сил сцепления, которыми дают знать о себе атомы и по которым — в этом Менделеев был убежден — можно судить о свойствах этих таинственных частичек, об их сходствах и различиях. Тайна сходств и различий элементов по-прежнему властно приковывала к себе внимание Дмитрия Ивановича.
Первые серии измерений, произведенные при комнатной температуре, не дали ожидаемых результатов, и Менделеев с некоторой досадой записал: «Выводы, каких достиг… уже, не имеют большой общности, но я надеюсь достичь этих общих результатов, надо только еще тел двадцать изучить». Наконец эти двадцать тел изучены, но ожидаемые зависимости по-прежнему ускользают от исследователя. И тогда Дмитрий Иванович решается выяснить, как влияет на капиллярность уменьшение сил сцепления в жидкости при ее нагревании. В полном соответствии с ожиданиями Менделеева столбик жидкости по мере повышения температуры опускался все ниже и ниже.
А что же произойдет при температуре, при которой высота столбика станет равной нулю и уровень жидкости в волосной трубке сравняется с уровнем в сосуде, в который трубка опущена? «В этот момент, — писал потом Дмитрий Иванович, — жидкость должна сделаться телом без сцепления… т. е. превратиться в пар». Правда, достигнуть такой температуры при атмосферном давлении не удается: жидкость начинает кипеть гораздо раньше. Но если повышать давление, не давая тем самым жидкости закипеть, опускание столбика можно довести до нулевой отметки. И о том, что эта отметка достигнута, можно узнать по мгновенному исчезновению уровня, по мгновенному превращению жидкости в пар. Пар этот мало чем отличается от жидкости: он такой же тяжелый и несжимаемый, как и она, и разница только в том, что он не может образовывать капель и уровней. Температуру, при которой происходит такая удивительная метаморфоза, Менделеев назвал температурой абсолютного кипения, и в этом названии был глубокий смысл. Если температура пара меньше температуры абсолютного кипения, то, повышая давление, его всегда можно превратить снова в жидкость. Но если пар нагрет выше этой температуры, то никаким самым высоким сжатием его невозможно превратить в жидкость, способную литься струей и создавать уровень.
Менделеев понимал, что он сделал важное открытие, что ему «совершенно неожиданно удалось… достичь общего результата, посредством которого этот совершенно до сих пор неизвестный вопрос можно считать решенным». И тем не менее он не стал разрабатывать открытую им жилу. С поразительным дли окружающих равнодушием оставляет он тему, способную у другого ученого стать делом всей жизни, и приступает к исследованию совершенно другой проблемы. Но это равнодушие объяснимо и оправданно: перед умственным взором стоила далекая и великая цель, и все, что отвлекало его внимание от этой цели, все, что не вело к ней в то время, сразу же переставало интересовать его. Однако десять лет спустя, когда найденная Менделеевым жила нашла своего исследователя в лице шотландца Т. Эндрьюса, стало ясно, как глубоко Дмитрий Иванович проник в суть вопроса, на который натолкнулся мимоходом, который не стал делом его жизни и которому он смог уделить не так уж много внимания и времени.
В 1869 году, когда Эндрюс опубликовал свои ставший классическим труд о сжимаемости углекислоты, он не достиг еще той ясности представлений, которая была у Менделеева за десять лет до этого. Так, он писал: «Если бы кто-нибудь спросил, газообразна ли она (углекислота. — Г. С.), или же находится в жидком состоянии, то думаю, что вопрос остался бы без ответа: углекислота при 35,5° и под давлением 108 атмосфер находится в состоянии среднем между газом и жидкостью, и нет достаточных оснований, чтобы приписать ей то или другое состояние предпочтительно». Менделеев живо откликнулся на работы шотландца и опубликовал в одном немецком журнале свои «Замечания по поводу работы Эндрьюса над сжимаемостью углекислоты». Он писал: «Нет никакого повода предполагать, что между жидкостью и газом существует еще нечто среднее». И затем привел подробный разбор явлений, происходящих вблизи критической температуры — так назвал Эндрюс менделеевскую температуру абсолютного кипения.
«Замечания по поводу работы Эндрьюса» интересны еще и с той стороны, что они прекрасное подтверждение старой истины, согласно которой люди, способные сами делать открытия, обыкновенно расположены признавать и чужие заслуги. «Цель настоящей заметки, — писал в «Замечаниях» Дмитрий Иванович, — заключается не в констатировании, что Эндрюс не знал моей работы. Он дал такой полный ряд новых интересных наблюдений, вызванных тем, что начинал опыты с газа, а не с жидкостей, как его предшественники, что вопрос приобрел новый интерес». Надо сказать, что объективность и благородство шотландцев не уступали объективности и благородству Менделеева. И и 1884 году во время празднования своего 300-летия Эдинбургский университет, присваивая Менделееву степень почетного доктора прав, в числе других заслуг упомянул и его исследования по температуре абсолютного кипения.
«Это тем более трогает меня, — писал Дмитрий Иванович, — что Эндрюс, также шотландец, был главным проводником распространения этих понятий и предложил другое название, а я ясно высказался об этом, что не вопросы приоритета заставляют меня сделать несколько замечании на статью этого ученого, а необходимость некоторых поправок в понятии, бывшем еще тогда (1870 г.) неясным о предмете, который ясно был понят мной еще в 1861 году…»
Итак, надежды Менделеева «в капиллярности найти ключ к решению многих физико-химических задач» не оправдались, в феврале 1860 года он ставит себе новую задачу: «Теперь меня занимает вопрос о коэффициенте расширения тел… Желательно найти меру, истинную меру для сцепления жидкостей и найти зависимость ее от веса частиц». Далекая и великая цель по-прежнему сияла вдали и не давала ему отклониться в сторону!
Из 22 месяцев, проведенных Дмитрием Ивановичем за границей в 1859–1861 годах, 5 месяцев 20 дней были потрачены на путешествия по Европе. После стремительного турне по польским и германским городам, после поездки из Гейдельберга в Париж за препаратами и приборами Менделеев с головой ушел в кропотливые, изнурительные измерения и через несколько недель так утомился, что Сеченову не стоило большого труда склонить Дмитрия Ивановича к участию в выполнении своего плана. В августе 1859 года друзья отправились в Швейцарию, «имея в виду, — как писал Сеченов, — проделать все, что предписывалось тогда настоящим любителям Швейцарии, т. е. взобраться на Риги, ночевать в гостинице, полюбоваться Alpenglűhen'ом, прокатиться по Фирвальдштетскому озеру до Флюэльна и пройти пешком весь Oberland. Программа эта была нами в точности исполнена».
Вторая вылазка из Гейдельберга была в Париж, под рождество 1859 года. Сеченов получил небольшое наследство — 500 рублей — и опять-таки без труда склонил Бородина и Менделеева уехать в Париж вместе. «Там у меня дела были, там и повеселились», — сдержанно пишет Феозве Лещовой Дмитрий Иванович.
С нового, 1860, года Менделеев вдруг как-то сразу угомонился, видимо, улеглось первое возбуждение от массы заграничных впечатлении. В конце апреля с Н. Житинским и А. Бруггер он отправился было путешествовать по Северной Италии, но потом вдруг раздумал, расстался с ними в Милане и поехал в Мюнхен к Ю. Либиху.
В последнее пятнадцатилетие своей жизни Либих, сын дармштадтского торговца москательными товарами, вступил в ореоле славы. Гиссенский герцог возвел его в баронское достоинство. Он живет в роскошной резиденции и регулярно бывает у баварского короля на вечерах, которые почему-то называются «симпозиями». На него как из рога изобилия сыплются почести, ордена, подарки. Все есть у всесветной знаменитости Либиха, но нет у него уже невозвратимой молодости, нет убогой гиссенской лаборатории, в которой было сделано столько великих открытий и из которой разлетелись по белу свету его ученики. Либих принял Менделеева любезно, беседовал с ним о всякой всячине, вспоминал работавших в его лаборатории русских ученых — А. Воскресенского, Н. Зинина, В. Ильенкова, Н. Соколова, К. Шмидта. Тогда-то и услышал Дмитрий Иванович его отзыв о Воскресенском, «кому все трудное давалось с легкостью, кто на сомнительном распутии сразу выбирал лучший путь, кого любили и верно ценили окружающие». Из Мюнхена Менделеев заехал в Париж и, вернувшись в Гейдельберг, снова засел за работу.
В двадцатых числах августа в Гейдельберге появился Николай Николаевич Зинин — автор признанных во всем мире работ по органической химии. И 24 августа Менделеев, Зинин и Бородин отправились путешествовать по Швейцарии…
Дмитрий Иванович спешил набираться впечатлений. Он знал, что скоро предстоит возвращение в Петербург, знал, что возможность увидеть достопримечательности Европы может представиться очень не скоро. Поэтому и октябре 1860 года, накануне своего возвращения на родину, он решается поехать в Италию.
В эту поездку они отправились вдвоем с Бородиным. Ехать решили с минимальным багажом, в одних блузах, чтобы походить на художников. Вспоминая эту поездку, Менделеев говорил: «Италией мы пользовались вполне нараспашку после душной замкнутой жизни в Гейдельберге. Бегали мы весь день по улицам, заглядывали в церкви, музеи, но всего более любили народные малые театрики, восхищавшие нас живостью, веселостью, типичностью и беспредельным комизмом истинно народных представлений».
На обратном пути Менделеев и Бородин ехали вместе только до Ливорно. Здесь они распрощались, и Бородин поехал в Париж, а Менделеев — в Гейдельберг.
Печально и неуютно было на душе у Дмитрия Ивановича, когда на этот раз он возвращался в Гейдельберг. Кружок друзей распался. Из старожилов остался один Олевинский, а с вновь приехавшими молодыми учеными отношения еще не завязались. Срок командировки истекал. Исследования, которые он провел с такой тщательностью и которые отняли у него столько времени, не привели к тому результату, которого он ожидал, не оправдали возлагавшихся на них надежд. И что хуже всего, коллеги Дмитрия Ивановича, ничего, конечно, но знающие о той сияющей вдали цели, к которой он стремился, начали поговаривать о том, что Менделеев-де занимается не делом… До него доходили слухи и о том неблагоприятном мнении, которое сложилось в Петербурге о его работах. Так, старый Э. Ленц — закон Джоуля — Ленца — на совете университета распространялся: чтобы сделать работы, которые Менделеев выполнил в Гейдельберге, не было особой нужды ехать за границу, их вполне можно было бы сделать и в Петербурге. Даже доброжелательный Воскресенский, всячески опекавший и защищавший перед другими своего воспитанника, и тот в глубине души скорбел, что такой прирожденный химик, каковым он считал Менделеева, занялся далекими от этой науки исследованиями.
«У вас целый год впереди, — деликатно, как ему казалось, намекал он Дмитрию Ивановичу, — в это время можно сделать кучу работ, а такая рекомендация самая лучшая. Кроме работы над волосностью, которая, без сомнения, пойдет своим чередом, не мешало бы представить какую-нибудь другую, чисто химическую». Настроение Менделеева было тем тяжелее, что он был отчасти согласен со своими критиками. Лучше, чем кто-либо, он понимал: как ни важны полученные им результаты по температуре абсолютного кипения, они не продвинули его по пути понимания сходств и различии химических элементов. Но с мужеством, редким, в молодом человеке, Менделеев упорно продолжал выполнение своего давно составленного плана, невзирая на то, что у коллег и даже начальства складывается неблагоприятное мнение о выбранном им направлении работ.
Но тяжело, очень тяжело работать, когда никто не понимает, что ты не бездельничаешь, что ты занят кропотливым трудом. И, как ни парадоксально, труд этот раньше, чем ученые коллеги, оцепил парижский механик Саллерон. Чутьем мастера он уловил, что придирчивость, с которой Менделеев проверял точность изготовленных Саллероном измерительных приборов, не пустая прихоть, что за ней таится хотя и непонятная ему, Саллерону, но великая цель. И в разговорах со своими клиентами он не уставал предсказывать Менделееву успех в науке, выражая свою убежденность в словах, как нельзя более характерных для человека, для которого точность — профессия.
Однако, как ни трогательна эта поддержка, ее одной Менделееву, конечно, недостаточно, и он решается описать план своих будущих работ Леону Николаевичу Шишкову, отличному химику, к которому всегда относился с уважением: «Знаю, что меня многие упрекнут в бесплодном собирании фактов, потому что сразу высказать цель совокупности своих работ я не решусь, чтобы не упрекнули опять в многомыслии без фактов, но и на это еще можно пуститься. Для меня важно, чтобы было несколько людей, мнением которых я дорожу, понимающих мою цель, чтобы они не упрекнули меня так. Вы поймете из этого, какую причину имел я, высказывая вам план своей работы…»
Но, увы, так же ясно, как и план, Менделеев представлял себе и всю трудность его осуществления: «Цель моя теперь определилась ясно, беда в средствах. Опять нужны многие приборы, опять нужно кучу времени, а то и другое уходит на курьерских… от меня…»
Прощание с Бородиным в Ливорно оставило Менделеева наедине с самим собой, и всю оставшуюся дорогу до Гейдельберга его занимает одна мысль: как быть и что делать дальше?
И вот в таком-то состоянии он и перечитал вновь подвернувшееся ему под руку письмо Сеченова, уехавшего в Россию в феврале 1860 года: «Пробыл всю святую в Москве, signore miei Менделеев и Бородин, и потому запоздал немного ответом… Неурядица на святой Руси страшная. Петербургская публика к науке охладела… Хандре моей не дивитесь — посмотрю я, что сами запоете, когда вернетесь. В России привязанностей у меня нет; в профессорствовании счастия крайне мало: работать гораздо труднее, чем за границей, климат скверный. Жизнь дорогая. Вот почему меня тянет назад…»
И Менделеев решается…
Под новый, 1861 год он отправляет в Петербург два прошения: одно в факультет университета, другое — попечителю петербургского учебного округа.
«Милостивый государь! — писал он попечителю. — Почти при самом конце моей двухлетней поездки за границу решаюсь обратиться к вам с просьбой содействовать продолжению ее еще на год… Сущность дела состоит в том, что в России плохо заниматься наукой… Причин на то много. Главные, конечно, две: недостаток во времени и недостаток в пособиях, необходимых для занятий… Начавши труд, которого конечные результаты не мог представить быстро достигнутыми, выполнив многие уже из необходимых предварительных работ и наконец успешно достигнув уже некоторых выводов, я с прискорбием должен думать теперь, что не буду иметь средств немедленно продолжать начатое дело в России, и потому решился просить об отсрочке моей командировки».
В прошении, отправленном в университет, Менделеев приводит те же самые соображения, но сверх того не преминул сообщить о своем участии в работе первого химического конгресса в Карлсруэ. Символичен самый факт участия Дмитрия Ивановича в работе этого конгресса, наведшего порядок в химической номенклатуре, четко определившего такие фундаментальные понятия, как атом, молекула и, главное, атомный вес. Ведь без выработки этих понятии, без ясного их определения было невозможно великое открытие Менделеева — периодическая система элементов.
Как ни странно, первое сообщение о подготовке конгресса дошло до Менделеева в такой форме, что он едва ли придал ему какое-нибудь значение. В апреле 1860 года Валерьян Савич прислал ему из Парижа письмо, в котором, между прочим, писал: «На праздниках пасхи были здесь Кекуле, Байер, Вельцын, Роско, да еще один химик-англичанин, которого я не знаю. Эти господа и после праздников еще здесь оставались с неделю, и, конечно, уже не до занятий было: то и дело, что фланировали по Парижу всею компанией». Так разрабатывался план, предложенный германским химиком Августом Кекуле осенью 1859 года. Крупнейшие химики Европы обменивались письмами и визитами, спорили, договаривались, и вся эта деятельность завершилась наконец тем, что к 3 сентября 1860 года в Карлсруэ съехалось более 140 ученых-химиков.
Менделеев приехал в Карлсруэ вместе с Зининым и Бородиным прямо из Швейцарии и был не только участником, но и активным членом комитета конгресса. С напряженным вниманием вслушивался Дмитрий Иванович в каждое слово. Скорее внутренним чутьем он ощущал, что перед ним разворачиваются события, для понимания которых важно знать не только что представляет собой тот или иной факт, но и что он означает.
Напомним: главные вопросы, которые решались в Карлсруэ, — это вопрос о различии атомов и молекул, вопрос об атомных и молекулярных весах и вопрос о формулах химических соединении. Высокому собранию надлежало сделать выбор между воззрениями увенчанных славой А. Лавуазье, Дж. Дальтона и Я. Берцелиуса и двух недавно умерших французских химиков — Ш. Жерара и О. Лорана. Конгресс склонялся в пользу Жерара и Лорана, внесших ясность в существовавшую тогда путаницу понятий. Именно они разъяснили, что такое атомный вес, что атом и молекула не одно и то же, что молекула может состоять как из разнородных, так и из одинаковых атомов.
Но вот прославленный академик, знаменитый французский химик Ж. Дюма начинает говорить, и в его речи звучит нечто такое, что заставляет Менделеева насторожиться. И эта настороженность прекрасно отражена в описании конгресса, которое он отправил Л. Воскресенскому.
«Дюма… старался поставить пропасть между старым и новым, искусственно уладить дело об обозначениях, предлагая в неорганической химии оставить старое обозначение, а в органической — принять новые… При этом Дюма прекрасно характеризовал оба существующие направления. Одно, говорил он, представляет ясное последование за Лавуазье, Дальтоном и Берцелиусом. Исходная точка для ученых этого образа мыслей есть атом, неделимое простое тело; все прочее есть сумма атомов, величина, производная от первой. Другая партия идет по пути… Жерара; она берет готовые тела и сравнивает их; она берет частицы тела, отыскивает изменения и сличает их физические свойства. Первая партия все сделала для минеральной химии, в органической она до сих пор бессильна, потому что здесь химия еще немногое может создать из элементов. Вторая партия, несомненно сильно двинувшая органическую химию, ничего не сделала для минеральной. «Оставим же, — говорил Дюма, — тем и другим действовать своими путями»…»
Как и многих других, Менделеева восхитила и поразила горячая, темпераментная речь итальянского химика С. Канниццаро, ибо в ней он услышал гораздо больше, чем, пожалуй, большинство других участников конгресса. «Решающим моментом в развитии моей мысли о периодическом законе, — рассказывал он много лет спустя, — я считаю 1860 г., съезд химиков в Карлсруэ, в котором я участвовал, и на этом съезде идеи, высказанные итальянским химиком С, Канниццаро. Его я и считаю настоящим моим предшественником, так как установленные им атомные веса дали необходимую точку опоры. Я сразу же тогда заметил, что предложенные им изменения атомных весов вносят… новую стройность, и идея возможной периодичности свойств элементов при возрастании атомного веса, в сущности, уже тогда мне представилась внутренне. Меня остановили, однако, оставшиеся несообразности в принятых тогда атомных весах; ясно осталось только убеждение, что в данном направлении надо работать».
И будто под стать этой решимости из Петербурга пришло письмо Воскресенского: «Очень жаль, любезнейший Дмитрий Иванович, что хлопоты факультета о продолжении вашего отпуска были так неудачны».
О февраля 1861 года гейдельбергские приятели устроили Дмитрию Ивановичу проводы, и на следующее утро поезд помчал его через Гиссен и Берлин в Кенигсберг.
Весной 1861 года железная дорога из Кенигсберга доходила только до Эйдкунена, прусского пограничного городка. С русской стороны железнодорожный путь был доведен только до Вильны, и переезжать границу и ехать через пограничную станцию Вержболово и Ковно до Вильны путешественникам приходилось на лошадях. Но пассажиры, особенно торопящиеся попасть в Петербург, нередко предпочитали скакать на перекладных не в Вильну, а в Динабург, что было прямее, дешевле и скорое. Именно этим путем решил ехать и Дмитрий Иванович Менделеев, которому секретарь русского посольства в Берлине поручил доставить срочный пакет в министерство иностранных дел и вручил подорожную дипломатического курьера.
Ранним утром 12 февраля 1861 года курьер с невиданным доселе титулом «доцента императорского Санкт-Петербургского университета» сошел с поезда в Эйдкунене. «Дали тут нам санки, и проехали мы заставу, сперва прусская была поднята, шлагбаум русский опущен, и два солдата. Паспорт спрашивают и на водку просят. В таможне не осматривали ничего — благо курьер».
В Вержболове подвернулась оказия: строительство участка между Вержболовом и Ковно было близко к завершению, и курьера с его багажом в служебном поезде довезли почти до самого Ковно. Здесь, в канцелярии губернатора, Дмитрий Иванович получил подорожную до Динабурга, и началась бешеная двухсотверстная гонка. Рвались постромки, летели из-под копыт комья мокрого снега, курьера и холодило и горячило. И на исходе шестнадцатого часа сани промчались по гати через Двину, проскочили через лощину, и за городом, на горе ездок увидел дымящий паровоз и состав.
«Въехали — звонят — это последний звонок. Подкатив, вбегаю, — говорят, нельзя. «Курьер» — можно, только вещей нельзя, но и вещи взяли. Заплатил и обрадовался, вошел уже покойно в вагон 2-го класса. Хотелось соснуть…
Спал, конечно, крепко, хоть и согнулся в дугу, но не надолго. Толки да еда. Так вот до Царского Села и не заметил».
Менделеев вернулся на родину в то время, когда в столице кипела хотя и всем известная, по скрытая лихорадочная деятельность. «Все знали, что великий акт освобождения миллионов рабов вскоре совершится, и все трепетно ждали его обнародования, — вспоминал об этом времени Сеченов. — Общее настроение, как перед большим праздником, было напряженно-тихое, выжидательное, без всяких вспышек». Сам Дмитрий Иванович быстро ощутил это настроение. 16 февраля он записал в своем дневнике: «Об освобождении много слышал, — говорят, 5-го, что государь говорил в народ, что хочет ко дню молитв назначить срок, что печатают уж манифест…»
Чутко уловив желание Александра II возвестить освобождение крестьян 18 февраля 1861 года — в пятилетнюю годовщину его царствования, — не только главные деятели реформы, но и весь чиновный люд с невиданной доселе расторопностью готовил и оформлял документы для всякого рода комиссий, комитетов, заседаний. Но, как почти всегда бывает в подобных случаях, одного дня все-таки не хватило, и к царю на подпись манифест попал только 19 февраля. Еще две недели ушло на печатание манифеста, и наконец 5 марта документ был опубликован в Петербурге.
Когда прошло первое возбуждение от обнародования манифеста, все как-то вдруг осознали, что ничего в нем не поняли, что это совсем не то долгожданное освобождение, о котором думали и мечтали. Недоумение — вот слово, которое характеризовало тогдашнее настроение. Вскоре начали доноситься слухи о ропоте и недовольство манифестом со стороны крестьян. И передовые люди шестидесятых годов уже не сомневались, что недоразумения и столкновения неизбежны.
В марте 1861 года стало известно, что 25 и 27 февраля в результате нападения кавалерии на варшавян, выходивших из костелов после траурной службы в честь годовщины Гроховской битвы, были убитые и раненые. В конце сентября под влиянием этих событий начались студенческие волнения в Петербургском университете, завершившиеся закрытием его на неопределенный срок. А весной следующего года заполыхали знаменитые петербургские пожары: горел Апраксин двор, горели жилые кварталы, горели казармы…
«Всего в 1861 г., — докладывал царю шеф жандармов князь И. Долгоруков, — оказано крестьянами неповиновение в 1176 имениях… Убиты 140… ранены 170… наказаны шпицрутенами 117».
Мощные процессы, происходившие в толще русской народной жизни, оказались тесно связанными с демократическим движением российского студенчества, энергично выступившего против произвола царского правительства. И демократическая направленность передовой русской профессуры ни в чем, быть может, не проявилась так ярко, как в ее поддержке справедливых требовании студенчества.
Менделеев сочувствовал освобождению крестьян, как человек, далеко отстоящий от конкретных частностей реформы. Но очень скоро ему предстояло убедиться в том, что такие, казалось бы, далекие от деятельности доцента понятия, как земельные наделы, выкупные платежи и прочие частности, повлияют на все дальнейшее точение русской жизни и в том числе на течение жизни доцента Менделеева. В биографических заметках, написанных 45 лет спустя, Дмитрий Иванович упоминает о наиболее запомнившихся ему событиях этих лет: «Возвратился с долгом 1000 р. (А. И. Вышнеградскому для Фойхтман) и места не получил… Работал у Фрицше. Жил на Петербургской за 2-м корпусом, где уроки… Написал Органическую химию… 20 декабря при закрытии университета остался за штатом. Пожар Измайловского полка; польское восстание».
Из этой скупой записки видно, какое тяжелое время было тогда у Менделеева. «В денежных средствах Дмитрий Иванович, как мне казалось, всегда был стеснен», — писал приятель Менделеева М. Панков, вспоминая студенческие годы. Но только по возвращении из-за границы Дмитрий Иванович узнал, что такое настоящая стесненность в деньгах. Много лет спустя он говорил одному из своих коллег, что в эти годы он еле успевал на извозчике переезжать из одного учебного заведения и другое: столько ему приходилось тогда читать лекций. «Зачем же вы набрали так много работы?» — спросил его собеседник. «А вот почему: когда я жил за границей, у меня была интрижка, а от нее плод, за который и пришлось расплачиваться». Предметом этой интрижки была провинциальная немецкая актриса Агнесса Фойгтман, которой Дмитрий Иванович был сильно увлечен в Гейдельберге. Отношения между ними сложились трудные и доставили Менделееву немало душевных терзании: «Все мои беды оттого, что не единственно направление моей воли, то она уму повинуется… то следуешь за сердцем и оттого идешь за Фойгтман, когда бы надо было бежать…» Так или иначе, Менделеев заботился о дочери и высылал Фойгтман деньги до тех пор, пока девочка не выросла и не вышла замуж.
Заботы о заработке — вот что больше всего занимало Менделеева в это время. И, как назло, все было будто против него. Найти педагогическую работу в феврале, когда началась уже вторая половина учебного года, было очень трудно, и Дмитрий Иванович был близок к тому, чтобы вообще переехать в Москву, где Зинин хлопотал о месте для него в Сельскохозяйственном институте (ныне Тимирязевская сельскохозяйственная академия) и в Московском университете.
Но мало-помалу дела Менделеева начали выправляться. На первых порах выручил Воскресенский, передавший ему свое место преподавателя в корпусе инженеров путей сообщения. В новом учебном году Дмитрий Иванович с августа начал читать в университете органическую химию. И хотя в декабре в результате студенческих волнении университет закрылся на неопределенный срок и Менделеев оказался «за штатом», он отнюдь не оказался без лекций. В Инженерном училище он преподавал физику, в корпусе инженеров путей сообщения — химию, во 2-м кадетском корпусе — химию и физическую географию. В феврале 1862 года Менделеев вместо с И. Сеченовым, А. Бекетовым (братом Н. Бекетова, с которым Дмитрий Иванович познакомился в Париже), Н. Костомаровым и другими читал публичные лекции в зале городской думы. Лекции эти были своеобразным ответом преподавателей на решение министра народного просвещения закрыть университет. Министром тогда был граф Е. Путятин — адмирал, который с легкостью перешел с палубы фрегата «Паллада» в министерский кабинет.
Энергичные действия министра-адмирала сыграли в судьбе Менделеева гораздо более важную роль, чем можно было бы подумать. Они вдруг предоставили в его распоряжение бездну (3–4 летних месяца) свободного от учебных занятий времени: университет был по-прежнему закрыт, а уроки в учебных заведениях, где преподавал Дмитрий Иванович, весною заканчивались. Присуждение Демидовской премии за «Органическую химию» разрешило главную проблему — материальную, — которая заботила и тревожила его в течение целого года. И тогда Менделеев решил, что пора заняться устройством своей личной жизни.
В первый же день своего приезда в Петербург он нанес визит Протопоповым и был обманут в ожиданиях. Феозва Никитична, встреча с которой рисовалась его воображению необыкновенно яркой и волнующей, в первый момент даже не узнала его. Через неделю-другую это ощущение рассеялось. «Милая, право, она. Если б не деньги, которых нет и самому-то, право, женился бы на ней». Дмитрий Иванович то убеждает себя: «Не для меня эта девушка. Нет, положительно нет». То вдруг обнаруживает с удивлением: «Что это Физа, опять она меня увлекать начала. И хорошая, право, была бы жена». Но снова очарование сменяется тревогой: «Физа сегодня сделала на меня что-то недоброе впечатление».
Конец этим колебаниям положила сестра Дмитрия Ивановича Ольга. Она была старше его почти на 20 лет и выступала, можно сказать, на правах матери. Именно Ольга Ивановна повела дело так, что Менделеев 10 марта 1862 года сделал предложение Феозве Никитичне, а 14 марта стал уже женихом. Пока шилось приданое, Дмитрий Иванович готовился к послесвадебной поездке за границу. Уже в этот период обнаружилось, что обе стороны вступают в брак не без колебаний. Перед Феозвой Никитичной иногда вдруг с пугающей ясностью вставала перспектива совместной жизни с таким вспыльчивым и раздражительным человеком, каким был Менделеев. Ее родственники и знакомые предостерегали от этого шага, и тогда она, сама в глубине души не уверенная ли в чем, самонадеянно говорила: «Я переделаю его своей любовью».
Дмитрий Иванович тоже колебался. Он писал сестре, что чем более он узнает невесту, тем больше убеждается, что у него нет чувств, которые должны быть у жениха. Но умудренная жизненным опытом Ольга Ивановна отмела эти не очень-то уверенные сомнения брата: «Ты помолвлен, объявлен женихом, в каком положении будет она, если ты теперь откажешься?»
Менделеев уступил, и эта уступка поставила его в затянувшиеся на много лет и мучительные для обеих сторон отношения. Конечно, выяснилось это не сразу, и после венчания, состоявшегося в конце апреля 1862 года, молодожены в самом радужном настроении отправились в свадебное путешествие по Европе, проживать ту тысячу рублей, которую в виде Демидовской премии принесла Дмитрию Ивановичу «Органическая химия».
Откровенно говоря, присуждение Демидовской премии не было для Менделеева полной неожиданностью. Еще в Гейдельберге летом 1860 года, размышляя о том, как бы добыть денег, он подумал о возможности представления какого-нибудь труда на соискание Демидовской премии. По-видимому, он просил своих петербургских друзей узнать подробности, так как один из них 9 августа 1860 года прислал ему выписку из правил. «На получение награды могут притязать только вообще вышедшие с 1-го ноября истекшего по 1-е ноября настоящего года оригинальные, напечатанные на русском языке… сочинения. Предмет сих сочинении может быть заимствован из какой бы то ни было отрасли человеческих познании, или приложение их к потребностям житейским». Конечно, о соискании премии в 1860 году нечего было и думать, но в следующем — 1861 году Дмитрий Иванович решил писать первый оригинальный учебник по органической химии на русском языке…
14 февраля прибыл он в Петербург, а уже 24 февраля начался этот беспримерный научный труд, показывающий, какая колоссальная духовная мощь таилась в этом 27-летнем человеке. Самое лучшее представление об обстановке, в которой велась эта работа, и о том горении, в котором находился Менделеев, дают слова, часто встречающиеся к его знаменитом «Гейдельбергском дневнике», названном так по недоразумению, ибо большая часть его написана Дмитрием Ивановичем уже в Петербурге: «Писал, писал и писал». И когда 18 июня рукопись была сдана в набор, Менделеев мог с полным основанием сказать: «Больше работать, как я с этой книгой работал, — нельзя».
Первого октября книга была уже отпечатана, и одни из первых авторских экземпляров Дмитрий Иванович повез Зинину. Николаи Николаевич внимательно пролистал Менделеевский труд, похвалил и сказал: «В год все разойдется».
Он оказался прямо-таки пророком: «Органическая химия» действительно разошлась с такой быстротой, что на следующий год ее пришлось выпустить вторым изданием. А весной 1862 года она была удостоена полной Демидовской премии. Казалось бы, этот успех должен был показать Менделееву, как глубоко правы были его доброжелательные учителя и коллеги, когда советовали ему обратиться к органической химии, на которой сосредоточился тогда интерес века…
Можно сказать: три открытия, сделанные в двадцатых годах прошлого века, положили, начало этой отрасли химии и придали ей тот мощный импульс, который определил ее развитие вплоть до 1880—1890-х годов. Первое из этих открытии —
Но по порядку. Когда метод анализа органических соединений был окончательно отработан, Либих в восторге воскликнул: «Теперь даже обезьяна может стать химиком!» Отбросив возникающие в связи с этим заявлением ассоциации, нужно признать, что Либих действительно сделал очень важное усовершенствование. «Берцелиус, — писал он, — затратил на свои анализы органических кислот 18 месяцев, сделав всего 7 анализов… В последней нашей работе в три месяца сделано 72 анализа… Берцелиус со своим старым аппаратом должен был бы работать над этим ни больше ни меньше как пять лет!.. Он (Берцелиусов метод. — Г. С.) доступен лишь немногим экспериментаторам, когда же хотят строить большой дом, надо много работников».
Работники не замедлили явиться в невзрачную либиховскую лабораторию, расположившуюся в помещении бывшей гиссенской гауптвахты. И их дружными усилиями было проанализировано такое множество органических веществ, что уже к сороковым годам можно было приступать к их классификации и систематизации. Оказалось, что все без исключения органические вещества обязательно содержат в своем составе углерод. Это дало основание рассматривать органическую химию как химию углеродных соединений. Но почему углерод занимает такое привилегированное положение? Почему пришлось посвящать соединениям одного элемента целый раздел химии? Почему эта наука разделилась на две части: химию углерода и химию всех остальных элементов, вместе взятых?
Оказывается, углерод дает поразительное разнообразие всевозможных соединений. Одни только углеводородные соединения исчисляются сотнями, причем в их число входят такие непохожие вещества, как метан, горящий в наших кухонных плитах; ацетилен, при помощи которого режут и сваривают сталь; полиэтилен, пленка из которого нашла столь широкое применение и в промышленности, и в быту; скипидар, бензин, парафин, керосин и т. д. И все это разнообразие достигается лишь различными комбинациями атомов углерода и водорода в молекуле. Сколь же велико должно быть количество соединений углерода с водородом, кислородом, азотом, серой, мышьяком и другими элементами! Какое колоссальное поле открывалось перед исследователями!
Второе основополагающее открытие не повлекло за собой столь же быстрой разработки, как первое. Конечно, когда Вёлер кипячением раствора неорганического вещества — циановоаммониевой соли — неожиданно получил мочевину — вещество, считавшееся тогда сугубо органическим, — он оценил значение своего открытия. Реакция в его колбе перекинула мостик через ту пропасть, которая в те времена разделяла химию минеральную и химию растительного и животного миров. И это значило, что на его глазах косная мертвая материя без всякого участия пресловутой жизненной силы была превращена в продукт, прежде вырабатываемый лишь живым организмом. Но настолько вёлеровское открытие опережало свой час, что и спустя 15–20 лет крупнейшие химики Европы отказывались принимать его всерьез. Даже Жерар, проницательный Жерар, работы которого сыграли такую важную роль в формировании научного мировоззрения Менделеева, и тот в 1842 году писал: «…Химик… делает все противоположно живой природе; он сжигает, разрушает, работает с помощью анализа; одна только жизненная сила действует с помощью синтеза». А патриарх европейской химии шведский ученый Я. Берцелиус в 1849 году, то есть через 21 год после вёлеровского эксперимента, считал: «В живой природе элементы, по-видимому, подчиняются совершенно иным законам, чем в неорганической природе, ибо продукты, получающиеся при взаимодействии этих элементов, отличаются от тех продуктов, которые дает нам органическая природа. Если бы удалось найти причину этого различия, то у нас был бы ключ к теории органической химии; но эта теория до такой степени скрыта, что у нас нет никакой надежды открыть ее, по крайней мере, в настоящее время…»
Историю же третьего основополагающего для органической химии открытия следует начать с того, что Либих с детства увлекался взрывами. Работая в Париже у знаменитого Ж. Гей-Люссака, он и надумал исследовать гремучую ртуть и гремучее серебро, которые доставляли ему в детстве столько радости и столько нахлобучек от старших. И оказалось, что все это соли одной кислоты, которую он по аналогии назвал тоже гремучей. Либих гордился своим мастерски сделанным анализом, и вдруг ему попадается работа Вёлера, в которой тот приписывает точно такую же формулу циановой кислоте, по свойствам ничего общего с гремучей кислотой не имеющей. Либих обвинил Вёлера в грубой ошибке, Вёлер обвинил в грубой ошибке Либиха. И начавшуюся перепалку пришлось останавливать Берцелиусу. Проверив оба анализа, Берцелиус с изумлением убедился, что правы оба и что в природе существуют тела одинакового химического состава, но различающиеся по множеству свойств. Берцелиус отказался объяснить, в чем тут дело, но зато придумал для обозначения непонятного явления отличный термин — изомерия. А проникшиеся величайшим уваженном друг к другу спорщики сделали в знак примирения совместную работу и на всю жизнь стали лучшими друзьями.
К 1860 году, когда Менделеев начал работать над «Органической химией», три основополагающих открытия, сделанных почти одновременно, были разработаны весьма неравномерно. Поначалу центр тяжести исследовательских работ в органической химии сосредоточился, естественно, на анализе. Ученые выяснили: молекулы органических веществ можно уподобить зданию, сложенному из крупных блоков — радикалов. И как в здании связь между блоками слабее, чем прочность самих блоков, так и в молекуле радикалы между собой связаны не так крепко, как атомы, входящие в состав радикалов. Поэтому в большинстве реакций радикалы лишь перестраиваются по-новому, не распадаясь на отдельные атомы. На первых порах радикалов наоткрывали великое множество, но постепенно их сводили к общим типам, и наконец усилиями уже знакомых нам Ш. Жерара и О. Лорана все типы удалось привести всего к двум «первичным радикалам» — метану и бензолу.
Метан — болотный газ — простейший углеводород. Его молекула состоит из одного атома углерода, окруженного четырьмя атомами водорода. Таким образом, химическая формула метана — CH4. Если у двух молекул метана оторвать по одному атому водорода, то два осколка сцепляются вместе и образуют более сложную молекулу этана — C2H6. Оторвав у вновь полученной молекулы один атом водорода и присоединив к нему еще один осколок метана, получим молекулу пропана — C3H8. Продолжая такую операцию сколь угодно долго, можно получить множество соединений, принадлежащих к одному ряду с общей формулой CnH2n+2. Если же оторвать у каждой молекулы метана по два атома водорода и сцепить вместе два получившихся осколка, возникнет молекула этилена — C2H4 — родоначальника ряда CnH2n. Следующий ряд — CnH2n-2 — открывает всем известный ацетилен — C2H2.
По предложению Жерара такие ряды соединении, состав которых выражается одной общей формулой, стали называть
Другой первичный радикал — ароматическая жидкость бензол — открыт М. Фарадеем в 1825 году. Его молекула состоит из шести сцепленных в кольцо углеродных атомов, каждый из которых соединен с одним атомом водорода. Замещая эти атомы, сцепляя бензольные кольца во всевозможных сочетаниях, можно получить второе обширное семейство веществ, получивших название ароматических. Правда, в 1860 году еще не было известно, что в бензоле атомы углерода сцеплены в кольцо, это было установлено пять лет спустя, но характерные особенности веществ ароматического ряда были уже установлены.
Что же касается органического синтеза, то после дивного вёлеровского открытия наука в течение многих лет не подвигалась дальше в этом направлении. Лишь в пятидесятых годах были возобновлены опыты в этом направлении и началась титаническая, захватывающая своей красотой и напряженностью работа французского химика Марселена Бертло. В 1853 году из простых органических соединений — глицерина и жирных кислот — он получает искусственные жиры. В 1855-м он синтезирует спирт из этилена, пропиловый спирт, горчичное масло. В 1856 году он берется за синтез углеводородов, в 1857-м — получает искусственный древесный спирт. И к 1860 году в его голове складывается план того ослепительного каскада синтезов, при помощи которых он получил едва ли не большинство известных в то время типов органических соединений из ацетилена — газа, который нетрудно получить из угля, извести и воды.
Тайна изомерии в 1860 году тоже была близка к разгадке. Уже публиковал некоторые соображения о структурных формулах Август Кекуле. Уже в голове Александра Бутлерова созревали идеи структурной теории, изложенные им 19 сентября 1861 года в его историческом докладе «О химическом строении веществ». А от них уже недалеко было до его блестящей работы «О различных объяснениях некоторых случаев изомерии», которую он опубликовал о 1863 году и в которой доказывалось: различие свойств органических веществ с одинаковым химическим составом есть следствие различия в строении их молекул.
Таким образом, интерес Менделеева к органической химии, бурно развивающейся и таящей в зародыше немало великих открытии, представляется вполне оправданным и объяснимым. Зато совершенно неоправданным и необъяснимым представляется то равнодушие, с которым он оставляет работу, принесшую ему такой успех и такое одобрение коллег. Складывается впечатление, будто мастер, занятый работой, настолько сложной и тонкой, что она недоступна для понимания подмастерьев, устал слушать их ворчание по поводу своего мнимого лентяйства или неумения. Отвлекшись ненадолго, подошел, сделал с блеском и с радостной яростью работу, над которой они корпели, поразил, продемонстрировал высшее мастерство и снова вернулся к своему тонкому и незаметному для непосвященных труду. И сделанная в запальчивости работа среди прочих творении мастера заняла какое-то странное и не совсем понятное для потомков место. Именно такое место в творчестве Менделеева и заняла «Органическая химия».
Действительно, еще в декабре 1860 года не было никаких намеков, что Дмитрий Иванович собирается заняться органической химией. Не далее как 10 декабря он написал попечителю петербургского учебного округа: Главный предмет моих занятий есть физическая химия… Блеск чисто химических открытий сделал современную химию совершенно специальною наукой, оторвав ее от физики и механики, но несомненно должно настать время, когда химическое сродство будет рассматриваться как механическое явление… Я выбрал своею специальностью те вопросы, решение которых может приблизить это время». И вдруг через каких-нибудь два месяца мы застаем его работающим над учебником органической химии.
Ну хорошо, может быть, передумал, пересмотрел свои взгляды. Может быть, успех «Органической химии» убедил в том, что раньше заблуждался. Но нет! Через некоторое время, когда Зинин начал сетовать на то, что Менделеев не продолжает работать над проблемами органической химии, Дмитрий Иванович пишет ему письмо, свидетельствующее о том, что он и не думал менять свои взгляды: «Разработку фактов органической химии считаю в наше время не ведущей к цели столь быстро, как то было 15 лет тому назад, а потому мелочными фактами этой веточки химии заниматься не стану».
Но ежели с самого начала знал, ежели всегда понимал, то зачем брался? Из-за денег? Но ведь на Демидовскую премию, как явствует из условий, можно было представить работу на любую тему, а уж в темах-то у Менделеева недостатка никогда не бывало. Биографы и исследователи творчества Менделеева всегда чувствовали, что в этой истории с «Органической химией» таится какая-то неясность, какая-то странность, и почти все они как-то затруднялись в оценке этого труда. Подчеркивая заслуги Менделеева в том, что именно он написал первый русский учебник органической химии; что именно он первый отказался от старого способа написания некоторых знаков и формул; что именно он ввел в русский химический обиход многие термины, сохранившиеся до наших дней; что именно он разработал теорию предельных органических соединений, они начинают мяться, когда дело доходит до оценки той роли, которую сыграла книга Менделеева в развитии органической химии. Едва ли не извиняющимся тоном начинают они говорить, что-де в то время органическая химия находилась как раз в состоянии полнейшего переворота, что теория пределов не давала объяснения проявлениям изомерии и что Менделеев почему-то не оценил по достоинству структурной теории Бутлерова, разъяснившей эту самую изомерию.
У каждого ученого есть исследование, которое лично для него означает гораздо больше, чем для науки; которое в формировании его собственных взглядов сыграло роль гораздо более важную, чем в формировании избранной им науки. Думается, что «Органическая химия» была именно таким трудом для Менделеева. Совершенно очевидно, что эта книга не сыграла значительной роли в развитии органической химии, зато она дала Дмитрию Ивановичу повод и возможность обдумать и решить для себя еще одну важную сторону волнующей его проблемы, сделать еще одни шаг по направлению к его великому открытию.
Что же могло привлечь внимание Менделеева к органической химии? Что могло заинтересовать его в этой науке, от которой он упорно отворачивался, несмотря на все попытки склонить его к ней? Пожалуй, на эти вопросы можно ответить уверенно: Менделеева побудили заняться органической химией гомологические ряды.
Действительно, нет в органической химии ни одного вещества, которое стояло бы одно, само по себе. Здесь каждое вещество — член гомологического ряда, член бесконечной цепи веществ, каждое из которых несет на себе неизгладимое клеймо рода. Зная, к примеру, что метиловый спирт определенным образом реагирует с натрием, мы можем уверенно утверждать, что любой спирт из уходящего в бесконечность гомологического ряда взаимодействует с натрием точно таким же образом. Пристраиваясь один к другому, гомологические ряды образуют классы органических веществ — углеводороды, спирты, альдегиды, кислоты, эфиры.
По всей вероятности, Менделеев испытывал эстетическое наслаждение, созерцая таблицы гомологических веществ. Вот выстроился вдоль горизонтали ряд углеводородов: метан, этан, пропан, бутан, пентан… Вот их формулы: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12. Закон прост: каждый последующий член ряда отличается от предыдущего только тем, что содержит лишний радикал CH2. Взгляд Менделеева с удовлетворением останавливается на закономерно увеличивающихся значениях удельного веса и температуры кипения.
Ниже — второй ряд: этилен, пропилен, бутилен, амилен… C2H4, C3H6, C4H8, C5H10…
Еще ниже — третий ряд: ацетилен, аллилен, кротонилен, валерилен… C2H2, C3H4, C4H6, C5H8…
А вот и последний, завершающий ряд углеводородов — ароматические: бензол, толуол, ксилол, кумол… C6H6, C7H8, C8H10, C9H12…
Ясно, что перемещение вправо вдоль горизонтальной оси такой сетки сопровождается непрерывным возрастанием молекулярного веса. А что означает перемещение вниз по вертикали, по соединениям, содержащим одинаковое количество атомов углерода? Прежде всего это означает уменьшение молекулярного веса, но уменьшение, идущее за счет одного только водорода. Другими словами, двигаясь вниз по вертикали, мы постепенно переходим к соединениям, все менее и менее насыщенным водородными атомами. А что означает такое уменьшение?
Спустя много лет, вспоминая о поисках ответа на этот вопрос, Дмитрий Иванович писал: «Возвратившись из заграницы и начав чтение органической химии, я стал ее писать и тогда формулировал понятие о пределе, следуя за идеями Франкланда». Кто же такой был Франкланд и какими его идеями воспользовался Менделеев?
В 1853 году, изучая соединения азота, фосфора, мышьяка и сурьмы, английский химик Эдвард Франкланд обратил внимание на то, что один атом любого из этих элементов может присоединять иногда 3, а иногда 5 атомов других элементов. Исследовав вопрос, Франкланд предложил характеризовать способность элементов к насыщению термином «атомность» или «валентность». Если, к примеру, азот присоединил 3 атома водорода, то его валентность равна 3. Кислород образует воду, присоединяя 2 атома водорода, следовательно, кислород двухвалентен. В пятиокиси азота, состоящей из 2 атомов азота и пяти атомов кислорода, азот пятивалентен и так далее.
Это понятие, без которого немыслима современная химия, в 1860 году еще далеко не установилось в науке, и Менделеев не решился ввести его в учебник: «Не должно забывать, что понятие об атомности заключает в себе много условного и служит, как мне кажется, главным образом только для облегчения системы, не заключая в себе ничего абсолютного». Поэтому Дмитрий Иванович пошел по более наглядному пути. Он обратил внимание, что максимальное количество водорода на каждый атом углерода содержится в соединениях первого гомологического ряда. Он стал называть эти углеводороды предельными. Все нижележащие ряды — ряды непредельных углеводородов, причем чем ниже лежит ряд, тем меньше его соединения насыщены водородом и тем легче они вступают во всевозможные реакции.
Эта ясная, чрезвычайно наглядная картина перехода весового количества в химическое качество была так близка и дорога душе Менделеева, вносила столько ясности и понимания в систему его взглядов, что он весьма настороженно отнесся к структурным теориям и объяснениям изомерии, появившимся вскоре после выхода его книги. Структурные формулы и изомерия настолько усложняли построенную им модель, порождали столько новых вопросов, что Дмитрию Ивановичу пришлось проявить редкое умение — умение самоограничиваться. Он интуитивно ощутил: иногда пытаться ответить на все вопросы — значит отказаться от намерения понять хоть что-нибудь. И он не стал претендовать на то, чтобы объяснить все…
О причинах, побудивших его с осторожностью относиться к структурной теории Бутлерова, Менделеев писал: «…при изложении и 1860-х годах «Органической химии»…я старался выставлять на вид постепенность и непрерывность перехода от жирных соединении к ароматическим, выставляя на первый план то обстоятельство, что первые отвечают пределу CnH2n+2, а вторые — далекому от него классу соединений соответствующих углеводородам состава CnH2n-6… Ацетилены, терпены и тому подобные ряды должны поэтому составлять ступени перехода. Подобные, вполне естественные, соображения были совершенно забыты, особенно по поводу господства той части структурного… учения… по которой для предельных соединений признается цепеобразное строение… а для ароматических — замкнутое или кольцеобразное…»
Эти слова, в которых сквозит неприязненность к структурной теории, написаны в 1894 году, когда идеи Бутлерова в органической химии восторжествовали, и время показало, что здесь прав был именно Бутлеров. Но зато Менделеев открыл периодическую систему элементов. И быть может, и в том, что он сделал это великое открытие, и в том, что он оказался не прав в споре с Бутлеровым, проявилась одна и та же особенность его мышления — умение пренебречь усложняющими дело тонкостями и обнаружить мощный принцип, позволяющий увидеть порядок в груде материала, поначалу представляющейся хаотичной. Понятно о пределах — вот тот принцип, который дал возможность Менделееву охватить единым взглядом пеструю картину органических веществ. И позднее мы увидим, какую роль сыграет этот принцип в открытии периодического закона…
Иногда бывает очень интересно проследить первые шаги великого человека на ниве избранного им дела, особенно такие его шаги, в которых он волен сам принимать решения, волен выбирать то, что ему почему-либо представляется заслуживающим внимания. В этом смысле бесценным материалом для биографа, изучающего творчество Менделеева, следует считать «Журнал Министерства народного просвещении» за 1857 год, когда 23-летний магистр вел в нем раздел «Новости естественных наук».
Распределив опубликованные Менделеевым заметки по тематике, мы получим удивительную картину, показывающую, как рано и как точно сложились у Дмитрия Ивановича его научные интересы. Судя по заметкам, опубликованным в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1857 год, 23-летнего магистра Менделеева больше всего интересовали неорганическая химия и свойства химических элементов… Второе, третье и четвертое места делили одинаково интересующие его области: органическая химия, минералогия и природные богатства России, физиология животных. Затем следуют физическая химия, сельское хозяйство, зоология и ботаника, стекло и стеклянное производство, метеорология и пироксилин.
Конечно, жизнь должна была внести свои поправки в пасьянс ранних менделеевских интересов, и она действительно внесла их. В 1861 году Менделеев написал курс «Органическая химия» и, подчиняясь своенравным, но неумолимым требованиям жизни, взялся за «технологию по Вагнеру». И в результате в раскладе его интересов стекло и стеклянное производство переместились с одного из последних мест на первое…
«Здоровье мое плохо, кашель и кровохарканье истощили мои силы очень значительно, — писал Менделееву в августе 1861 года профессор М. Скобликов. — С декабря месяца я решительно не в силах заниматься. Читаю разные книжки — вот и все мои занятия. Вы очень кстати, стало быть, предложили ваше намерение взять на себя редакцию Технологии Вагнера… Я хочу сказать, что я решился окончательно передать кому-нибудь ответственность по редакции этой книги. Если вы пожелаете, Дмитрий Иванович, принять на ваше имя редакцию Технологии Вагнера, напишите мне об этом». Прекрасный специалист по технической химии, профессор Петербургского университета Скобликов, готовивший переводное издание «Технологии по Вагнеру», в 1859 году тяжело заболел и вынужден был уехать для лечения за границу. Тогда они и познакомились с Менделеевым, сдружились, и между ними завязалась переписка. И эта встреча спустя 2–3 года обернулась для Дмитрия Ивановича работой, в которой проявилась новая грань его удивительной одаренности и которая связала его имя с Петербургским технологическим институтом.
По всей видимости, он с радостью взялся за технологию, и из мира скудных и бледных символических выражений отвлеченной науки его мысль перенеслась в хлопотливый, живой, веселый мир техники и промышленности. Бестелесные формулы вдруг обрели плоть и кровь, абстрактные термины — энергия, сила, масса — вдруг наполнились глубоким значением и начали волновать, как воспоминания детства. Дмитрий Иванович не смог избежать очарования научной истины, представшей перед ним в столь полнокровном конкретном выражении.
В течение 1862 года Дмитрий Иванович подготовил три выпуска: «Производство муки, хлеба и крахмала», «Сахарное производство», «Производство спирта и алкоголометрия». По когда дело дошло до четвертого выпуска — «Стекло и стеклянное производство», сердце его дрогнуло. Вспомнились детские впечатления, Аремзянка, завод… И захотелось разобраться, понять суть и смысл запомнившихся с детства, по недоступных детскому пониманию инструментов и операций. А когда полистал да почитал Вагнера, понял, как много неясного и вздорного почитается за истину в теории стеклянного ремесла.
Четвертый выпуск «Технической энциклопедии» дал Дмитрию Ивановичу возможность довести до полной ясности те идеи, которые были развиты в его доцентской диссертации «О составе кремнеземных соединений», которую он защитил в 1856 году. Соединения эти давно вызывали у Менделеева как у химика ощущение беспокойства. В самом деле, изучение чистого кремния показывало, что этот элемент очень сходен с углеродом (в наше время сказали бы, что углерод и кремний входят в одну группу периодической системы элементов). Не из-за этого ли сходства именно углерод и кремний поделили между собою живое и минеральное царства? Не из-за этого ли сходства вся органическая химия зиждется на соединении углерода с водородом, а вся минеральная — на соединении кремния с кислородом — кремнеземе? Но вот что удивительно: трудно сыскать в природе вещества, которые различались бы сильнее, чем соединения органические и минеральные. Какое поразительное различие, какая, противоположность в свойствах соединений вдруг оказывается у сходственных элементов — углерода и кремния. Если первый олицетворяет собой тонкую, переменчивую, уязвимую живую материю, то второй — символ материи минерального мира, материи холодной, косной, малоподвластной времени и разрушительным силам.
В 1864 году Дмитрий Иванович мог уже говорить о ясных результатах своих размышлений. Он понял, что органические и минеральные соединения являют собой два различных принципа организации, два различных типа упорядочения вещества. Органическая химия построена по первому принципу, в ней все вещества четко отделены одно от другого, содержание составляющих данное вещество элементов находится в строго постоянной пропорции, и нарушение этой пропорции равносильно уничтожению данного соединения. Химия минеральная совсем другое дело. Основа ее — кремнезем — твердое «огнепостоянное» вещество, способное сплавляться со многими окислами и образовывать с ними однородную массу. Но в отличие от обычных химических соединений, в которых жесткие связи однозначно определяют соотношение всех составляющих элементов, кремнеземистые сплавы способны соединяться во всевозможных отношениях и образовывать множество разнообразных соединений. Именно на этом свойстве кремния заждется второй принцип организации веществ, принцип, который дал минеральному царству богатство и разнообразие, немногим уступающее богатству и разнообразию живой природы.
«Техническая энциклопедия» сыграла важную роль в жизни Дмитрия Ивановича. Она принесла ему репутацию знающего химика-технолога, что послужило основанием для выдвижения его на должность исполняющего обязанности экстраординарного профессора технической химии в Петербургском университете. Однако министр просвещения отказался утвердить ходатайство факультета под предлогом, что у Менделеева не было докторской степени. И хотя в 1863 году будто в отместку министру Технологический институт, не входивший в систему министерства просвещения, избрал Менделеева профессором и дал ему казенную квартиру при институте, Дмитрий Иванович решил заняться работой над докторской диссертацией.
О степени популярности, того или иного ученого нередко свидетельствует обилие ходящих в народе анекдотов и слухов, в которых самым неожиданным и прихотливым образом расцвечиваются и перевираются сведения о его научных работах. О Менделееве ходило немало слухов такого сорта. Одни, например, говорили, что именно Дмитрий Иванович нашел секрет приготовления русской водки, прославившейся на весь мир своим необыкновенным вкусом. Другие же шли еще дальше, доказывая, что Менделеев заработал огромные деньги, изготовляя поддельные французские вина для известного в то время владельца магазинов Елисеева. За популярность приходится расплачиваться… Все эти фантастические измышления построены только на одном, действительном факте: докторская диссертация Дмитрия Ивановича называлась «О соединении спирта с водою».
В 1863 году, когда Менделеев занялся этими исследованиями, трудно было найти тему, которая вытекала бы так естественно и так закономерно из его предыдущих работ. Органическая химия, твердо поставленная предшественниками и успешно развиваемая современниками, дала ему повод разобраться и уяснить себе принцип построения многочисленных, органических веществ. Доцентская диссертация и «Стекло и стеклянное производство» явили его взору новый, еще мало изученный принцип, ответственный за многообразие минералов и стекол. Понять его, изучить его действие, объяснить, как образуются бесчисленные неопределенные соединения, в которых нет строго выдержанных соотношений между входящими в их состав компонентами, — вот что Менделеев поставил себе очередной задачей.
Но как неудобны для этой цели «огнепостоянные», твердые, неразложимые кремнеземистые соединения. Как трудно найти образцы, которые можно было бы считать однородными. Как труден их элементарный анализ по сравнению с анализом органических веществ. Как, наконец, труден, в сущности, даже невозможен для техники тех лет, синтез минералов с заранее заданным соотношением входящих в них окислов…
Редактируя «Технологию по Вагнеру», Дмитрий Иванович должен был дополнить главу об алкоголометрии. Работая над ней, он понял, что спирт, смешивающийся с водой в любых пропорциях, — прекрасный объект для изучения неопределенных соединении. Так волею обстоятельств Менделеев снова возвращается к любимым физико-химическим исследованиям.
После двухлетнего перерыва снова извлечены заветные приборы, с которыми Дмитрий Иванович работал еще в Гейдельберге. Руки ученого нежно прикасаются к стеклу, стали и бронзе саллероновских аналитических весов, гейслеровских термометров и чувствительнейшего пикнометра, изготовленного боннским стеклодувом по чертежу Дмитрия Ивановича. И затем начинается изнурительная подготовка к экспериментам, которым Менделеев отдал полтора года своей жизни.
Прежде всего он проанализировал работы предшественников, выявил недостатки и недочеты их измерений и предпринял все меры, внес все поправки в свою работу для того, чтобы устранить самую возможность малейшей неточности, малейшей ошибки. За сто с лишним лет до Менделеева его великий предшественник в физической химии М. Ломоносов писал: «Нужные и в химических трудах употребительные натуральные материи сперва со всяким старанием вычистить, чтобы в них никакого постороннего примесу не было, от которого в других действиях обман быть может». Хотя Менделеев не мог знать этого завета — труды Ломоносова были еще похоронены в архивах Академии наук, — он, не жалея сил и времени, избавлялся от всякого «примесу» в тех 15 ведрах спирта, которые он вместе с академиком А. Купфером весной 1863 года получил на казеином складе. Сначала он перегнал этот спирт в обычном кубе химической лаборатории Института инженеров путей сообщения. Потом любезный Шишков предоставил в его распоряжение спиртовой куб химической лаборатории Артиллерийской академии, и здесь, чередуя перегонку с пропусканием через негашеную известь, Дмитрий Иванович довел крепость спирта с 71,6 процента до 99,9 процента.
О выведенной из последовавших затем экспериментов формуле, которая содержала 30 членов и занимала 5 строк, Менделеев писал: «Эта формула все-таки есть одна из простейших…» Но данные, полученные из этой «простейшей» формулы, по точности превзошли цифры всех менделеевских предшественников, что было сразу же оценено питейными ведомствами. Измерения Дмитрия Ивановича были положены в основу алкоголометрии сначала в Голландии, потом в Германии, Австрии и России.
Таков был
«Невозможно приписать такое явление какой-либо другой причине, кроме образования более прочного соединения, чем все прочие, — объяснял происшедшее Дмитрий Иванович. — Эта прочность легко объясняется из аналогии между составом того раствора, которому свойственно наибольшее сжатие, и составом так называемых определенных химических соединении». Итак, растворение не есть чисто механическое раздробление и «разжижение» вещества в растворителе. Действуя на вещество, растворитель и сам испытывает ответное влияние. А это значит, что растворение — это своеобразный химический процесс, приводящий к появлению в растворе сложной смеси неопределенных и определенных соединении. Подтверждение догадки окрылило Менделеева. Он увидел, что даже в такой сравнительно грубой характеристике, как удельный вес раствора, можно уловить действие тех таинственных сил сцепления, которые — он был убежден, — должны пролить свет на сходство и различия элементов. В его голове складывается картина некой обобщенной химии, в которой привычные, знакомые всем вещества будут рассматриваться как крайние, предельные формы соединений. Он убежден, «что определенные химические соединения составляют только частный случаи неопределенных химических соединений, что растворы, сплавы, соединения окислов дают нам образчики тел, изучаемых такой обобщенной химией, что изучение таких тел «должно послужить к разрешению химических вопросов в самой общей их форме…».
Свою диссертацию, успешно защищенную 31 января 1865 года, Дмитрий Иванович закончил обещанием, что обнаруженные им особенности растворения спирта в воде он намерен проверить и над другими растворами, «к исследованию которых уже многое приготовлено». Последующие годы, однако, не приносят исполнения этого намерения. Множество других дел и событии увлекло Менделеева…
Впервые о Боблове Менделеев услышал в поезде летом 1865 года, когда как депутат от Петербургского университета ехал на Всероссийскую промышленную выставку в Москву. Кто-то из дорожных спутников рассказывал об имении князя Дадиани, умершего в год освобождения крестьян. У князя не было наследников, поэтому имение перешло сначала в казну, потом попало какому-то частному лицу. Вот это-то самое частное лицо вознамерилось продать имение и искало покупателей. На обратном пути Дмитрий Иванович не удержался, сошел в Клину и поехал посмотреть. А увидев три горы — Бобловскую, Спасскую и Дорошевскую, между которыми извивалась речка Лутосня; увидев вязовую и березовую аллеи, ведущие к одноэтажному деревянному дому, увидев запущенный парк и проточный пруд, он загорелся мыслью купить имение. Конечно, шестнадцати тысяч рублей, запрашиваемых владельцем, у него не было, но желание оказалось настолько сильным, что Дмитрий Иванович уговорил своего друга по Главному педагогическому институту профессора Н. Ильина купить имение на двоих. Причем из-за стесненности в средствах свою половину Дмитрий Иванович выплатил не сразу.
С 1866 года вся дальнейшая жизнь Дмитрия Ивановича до самой смерти связана с Бобловом. Ранней весной семья уезжала из Петербурга, и до поздней осени Феозва Никитична с детьми — сыном Владимиром, родившимся в 1865 году, и дочерью Ольгой, родившейся три года спустя, — жила в имении. Самому Дмитрию Ивановичу дела не всегда позволили подолгу жить в Боблове, но, как только высвобождалась неделя-другая, он собирался в дорогу. Обычная менделеевская обстоятельность не изменяла ему и во время этих сборов. В дорожные сумки предусмотрительно укладывалась не только снедь, но все, что может понадобиться в дороге, вплоть до лекарств — нашатырного спирта и гофманских капель — и приключенческих романов.
«…Не думать совершенно я не умею, — объяснял Дмитрий Иванович, — а чувствую, надо отдохнуть мозгу. Ну и возьмешь такую книжку, которая сама мыслей никаких не возбуждает, а читается легко — вот и отдых». В старости, когда слабость зрения сделала затруднительным чтение, Менделеев нашел себе другое дорожное развлечение: пасьянс. «Места карты занимают мало, а комбинаций в пасьянсе масса и занимательно, и голова отдыхает».
Если дело было зимой, одеяние Менделеева состояло из полушубка, сибирского малахая и валенок, если летом — из длинного пальто — сака и широкополой мягкой серой шляпы.
В вагоне Дмитрий Иванович располагался по-домашнему, долго спал, пил чай, не спеша прогуливался но перрону во время остановок. Бывая в хорошем настроении, затевая горячие споры и беседы с попутчиками, и тогда вокруг него собиралась целая аудитория. Когда поезд подходил к Клину и живописная фигура Менделеева появлялась в дверях вагона, станционные сторожа спешили принять его багаж и проводить в буфет. Тем временем лихой клинский ямщик Засорин, пользовавшийся особым расположением Дмитрия Ивановича, торопливо запрягал свою серую тройку. Менделеев любил быструю езду, а никто быстрее Засорина не мог промчаться те двадцать верст, что разделяли Клин и бобловскую усадьбу.
В 1869 году деревянный барский дом разобрали за ветхостью, и Дмитрий Иванович выстроил новый каменный дом с деревянным верхом и высокой красной железной крышей, с балконами, бельведером и галереей. Сам Дмитрий Иванович поселился наверху со своими книгами, приборами и инструментами, а в шести нижних комнатах — семья, няни, родные и наезжавшие гости. В Боблове были написаны многие статьи и книги Менделеева, и название этой деревеньки в двадцать домов, приютившейся на косогоре, стало известным всему ученому миру.
Изредка Дмитрий Иванович откладывая научные занятия и отправлялся гулять с кем-нибудь из детей. Во время таких прогулок он, бывало, безошибочно называл все растения, которые его маленькие спутники находили в лесу или на лугу. Иногда под настроение Дмитрий Иванович затевал с подростками игру в крокет. Тогда на крокетной площадке между яблонями поднимался страшный шум. Менделеев горячился, учил своих партнеров, припадал к земле и входил в такой азарт, что не хотел уходить домой, пока не кончит партию. В таких случаях доигрывать кон приходилось при свете вынесенных под яблони фонарей.
Иногда в хорошую погоду на телегу и двухколесную таратайку с утра грузилась провизия, чайники, и все семейство отправлялось в лес. Здесь раскладывали костер, кипятили воду, и Дмитрий Иванович отправлял детей искать грибы. Потом он пек их в угольях, угощал всех и ел сам.
Но сохранились у родственников и знакомых Дмитрий Ивановича и другие воспоминания о первых годах его пребывания в Боблове, воспоминания, рисующие его как рачительного сельского хозяина.
Как раз в эти годы шла интенсивная перестройка всей бобловской усадьбы: возводился образцовый скотный двор, молочная, конюшня. В имение привезли заказанную Менделеевым молотильную машину с конным приводом. Дмитрий Иванович сам следил за ее сборкой, сам опускал развязанные снопы в барабан, сам следил, как втягиваются в жерло машины колосья, как сыплется зерно и ложится на землю солома. Но все эти хлопоты, все заботы, все увлечение сельскими работами отнюдь не были проявлением внезапно проснувшегося в Менделееве хозяйского инстинкта. В действительности в течение первых пяти «бобловских» лет он оставался тем, кем он был всегда, — ученым, ведущим серьезный и важный для России научный эксперимент.
«У него было отделено так называемое опытное поле с пробами различных удобрении, и Дмитрий Иванович на своем гнедом жеребце часто ездил осматривать это поле…
Опыты Дмитрия Ивановича дали блестящий результат.
Урожай получился такой, что крестьяне поражались…
— Скажи-кася ты, Митрий Иваныч, хлеб-то у тебя как родился хорошо за Аржаным прудом… Талан это у тебя али счастье?..
—
Потом, рассказывая об этой беседе родным, он со смехом добавил: «Зачем же я скажу, что это только мое счастье.
К тому времени, когда Менделеев заинтересовался сельскохозяйственными проблемами, изучением этой древнейшей области человеческой деятельности уже около четверти века занимались некоторые видные западноевропейские ученые. И несомненно, из них из всех наибольшей популярностью у широкой публики пользовался Либих.
Популярность у широкой публики… Если есть искусство, с помощью которого ученый может завоевывать признание этой самой широкой публики, то одним из основных требовании этого искусства должно быть умение правильно выбирать лозунг. Он должен быть очень простым, ясным, понятным и логичным. Он не должен требовать для своего усвоения долгого и кропотливого труда, он должен усваиваться, как говорится, на лету. И Либих сумел найти такой лозунг…
«Отдайте почве то, что вы у нее взяли или не ждите от нее в будущем столько, сколько раньше. С оскудением почвы урожаи ваши будут все уменьшаться, пока наконец посев не окажется бесплодным» — вот суть знаменитого «закона возврата», которым Либих поразил воображение тогдашней широкой публики. Этот закон нам кажется едва ли не самоочевидным, но в сороковых годах прошлого столетия он был настоящим откровением. Агрономы того времени полагали, что растение питается органическим веществом почвы — гумусом, или перегноем, который является основным источником углерода для растений и должен вноситься в почву в виде навоза.
Либих заявил нечто совершенно противоположное. Он считал, что вся ценность навоза сводится лишь к минеральным веществам, которые в нем содержатся, и что применением одних только минеральных удобрении можно добиться такого же успеха. «Основной принцип земледелия, — писал он, — требует, чтобы почва целиком получила назад то, что было у нее взято. В какой форме осуществится этот возврат, в виде ли экскрементов, золы или костей, — довольно безразлично. Придет время, когда поле будут удобрять растворимым стеклом (кремнекислым калием) с соломенной золой и фосфорными солями, изготовленными на химических фабриках, подобно тому как теперь лечат лихорадку и зоб химическими препаратами». Минеральная теория и личность ее создателя не могли не поразить воображения современников. «На скрижалях истории человеческого знания навсегда сохранится тот знаменательный факт, что самое старое из человеческих искусств, каково земледелие, получило ключ к правильному пониманию своего тысячелетнего опыта от такой молодой науки, какова химия, и при посредстве того человека, который никогда не ходил за плугом, никогда не сеял и не собирал жатвы». Эти слова, произнесенные на открытии памятника Либиху в Гиссене знаменитым А. Гофманом, основателем Германского химического общества, свидетельствуют о том, как сильно подействовали на современников доводы Либиха.
Исходя из анализов золы, Либих считал, что возвращать в почву нужно лишь те элементы, которые содержатся в золе: фосфор, калии, натрий, магний. Поскольку при сжигании соломы азотистые соединения разлагаются, то, естественно, Либих не обнаружил их в золе и не считал нужным вносить в почву азотистые минеральные удобрения. Поэтому первые же эксперименты показали всю ошибочность этого мнения: полоса, удобренная по рекомендациям Либиха, дала почти такой же урожаи, что и полоса без всяких удобрений. Зато добавка в почву аммиачных солей дала существенный прирост урожая. Против такого лобового эксперимента не смог устоять даже заядлый спорщик Либих. Он, «никогда не ходивший за плугом, никогда не сеявший и не собиравший жатвы», дошел до того, что купил под Гиссеном клочок бесплодной земли и начал сам производить эксперименты. Тут-то он и убедился, как рискованно давать умозрительные рекомендации, когда имеешь дело с такой сложной и многообразной системой, каково земледелие. И теории Либиха смогли стать основой промышленности искусственных минеральных удобрений, достигшей такого колоссального развития в наши дни, лишь после многолетних кропотливых экспериментов, после отказа от ряда заблуждений, после корректировки «самоочевидных» формул опытом западноевропейского земледелия. Мы говорим «западноевропейского», ибо этот опыт оказался не полностью применимым в русском земледелии, и установить, это обстоятельство довелось Дмитрию Ивановичу Менделееву.
Когда простые, до очевидности ясные законы прилагаются к телам необычайно сложным и многообразным, нередко возникает некоторый диссонанс. С одной стороны, не вызывающий сомнений закон говорит, что должно быть так, а с другой стороны, столь же не вызывающим сомнений действительный факт показывает, что на самом деле все получается эдак. Теоретик настаивает на законе, практик — на факте, и возникает спор, который, увы, не приводит к рождению истины. Спор, в котором практика противопоставляется теории и в котором забывается старая истина, что теория есть практика в мысли, а практика есть теория в действии. Обычно такие споры разрешаются не искусными и красноречивыми полемистами, а теми честными, скрупулезными исследователями, которые не в словах, а в природе вещей ищут и находит доводы неотразимые. И сельскохозяйственная деятельность Менделеева может служить прекрасным подтверждением этого рассуждения.
«Отдайте почве то, что вы у нее взяли!» Что может быть яснее и разумнее этой либиховской формулы? Но как трудно, как фантастически трудно приложить эту простую теоретическую формулу к шестидесяти десятинам бобловской пахотной земли! В самом деле, чтобы узнать, что вы взяли у почвы, надо знать, что в ней было с самого начала. Потом нужно узнать, какие культуры и когда выращивали на этой почве. Потом нужно выяснить, какие вещества преимущественно высасывают из почвы те или иные растения и какие вещества и в каких количествах нужно вносить в почву под каждую культуру. Чтобы ответить на каждый из этих вопросов, нужно было проделать такую работу, что Менделеев поначалу устрашился ее огромности и не удержался от искушения испробовать простые либиховские рекомендации.
Истощение запасов калия и фосфора в почве было любимым коньком Либиха. Отдавшись вольному полету своей фантазии, прославленный германский химик навел страх на сельских хозяев всей Европы. «Многие местности, известные в древности как цветущие и плодоносные, — вещал Либих, — оскудели и превратились в пустыню потому, что растения высосали из почвы весь фосфор и калий. Этот процесс повлек за собой исчезновение целых народов и цивилизаций, и, если современное человечество не озаботится пополнением пахотных земель этими элементами, потомков наших ждет неумолимая погибель». В 1860-х годах фосфориты считались некой панацеей, которая только и могла спасти земледелие. И Дмитрий Иванович начал тоже с фосфоритов.
«…Я приступал к опытам, — писал он впоследствии, — отчасти предубежденный… в пользу фосфористого удобрения. Перед тем я применил во всем своем именин, на том небольшом хозяйстве, которое было у меня, фосфористые удобрения. Я уповал… на них и думал найти в них хороший исход для дела». Но упования эти не оправдались. С грустью Дмитрий Иванович писал: «Господствующее ныне учение о фосфористом удобрении, представляющее его чуть не философским камнем падающего земледелия, противоречит тому, что было получено нашими опытами». Первая неудача показала: проблема слишком сложна, чтобы простые либиховские советы были пригодны во всех климатических поясах, на всех почвах и для всех культур. Но, начав разбираться в деле детально, Дмитрий Иванович с удивлением обнаружил, что ни Либих, ни его последователи и даже противники перед началом своих экспериментов не удосужились сделать анализ почв на опытных полях. И уже по одному этому полученные ими рекомендации не представляли надежного руководства для удобрения бобловских делянок.
Изучив и сопоставив историю западноевропейского и российского земледелия, Менделеев пришел к выводу, что опыт западного сельского хозяйства часто неприменим к русским климатическим и экономическим условиям. Причин тому несколько. Прежде всего различие климата: «Большинство полей Западной Европы страдает избытком сырости, а большинство наших страдает недостатком сырости, засухами». Затем, в противность Западной Европе, сравнительно слабое развитие скотоводства в России было причиной систематической нехватки навоза, а ограниченное сеяние кормовых трав приводило к тому, что навоз этот был беден минеральными веществами. Наконец, в течение многих десятилетий в почвы Западной Европы было внесено огромное количество извести. В результате «наши земли, говоря не о черноземе, если страдают чем по своей природе, то отнюдь не недостатком чего-либо в отдельности, а преимущественно всеобщим недостатком правильного удобрения и обработки… недостатком того, что называют зрелостью или спелостью почвы. Если бы наша почва была действительно хорошо обработана и качества питательных веществ отвечали бы их количеству, то… мы увидели бы, что наша почва не хуже, если не лучше, многих из известных европейских почв; но в том-то и дело, что нашим почвам недостает, так сказать, тамошней отделки».
Постепенно перед Менделеевым все полнее и полнее раскрывался объем исследовательской работы, необходимой для решения основной научной задачи земледелия, которая, по его мнению, сводилась к тому, чтобы «по химическому исследованию почвы… суметь судить об необходимых для почвы удобрении и обработке, как имеют возможность судить по анализу руды о способе добытая из нее металла, о качестве и количестве плавней и топлива…». И когда Менделеев понял, что одному ему с такой огромной работой не справиться, он решил обратиться в Вольное экономическое общество…
Весной 1764 года впервые собралась группа ученых и любителей науки, которые спустя год составили ядро первого отечественного научного общества. В предуведомлении к своим трудам «Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства» спрашивало у своих читателей: «При неусыпном старании всех просвещенных в Европе народов о приведении себя направлением земледелия в лучшее состояние, что может быть нужнее и полезнее, как к таковой же ревности побудить любезных сограждан наших?» Ясно, что ответа на этот риторический вопрос основатели общества от читателей не требовали и сразу же переходили к провозглашению целей общества, которых было три. Во-первых, «все полезные и новые земледелия и экономии, чужестранными народами поныне изобретенные и опытами уже изведанные материи, прилежно сообщать любезным своим согражданам». Во-вторых, производить «собственные опыты и об успехах их народ уведомлять». И в-третьих, «подробно узнать внутреннее состояние здешних провинций, открыть их недостатки и изыскать полезные к отвращению тех недостатков средства».
К тому времени, когда Менделеев, вступив в Вольное экономическое общество, предложил свою программу сельскохозяйственных опытов, из 284 конкурсных задании, опубликованных за 100 лет в трудах общества, более двухсот было посвящено сельскому хозяйству. Основная масса работ была сделана на хорошем уровне и на важные темы: «Какой хлеб прибыльнее для России?», «Указать средства против скотского падежа», «О пользе минералогии в отношении к хлебопашеству» и др. Благодаря таким исследованиям Вольное экономическое общество завоевало отличную репутацию, и 3 апреля 1866 года доклад профессора Менделеева слушали люди, весьма искушенные в сельском хозяйстве.
«Мнения, высказываемые то о природном богатстве наших полей, то об истощении их фосфорною кислотою, то о недостатке в них деятелей, растворяющих и способствующих выветриванию, — говорил Дмитрий Иванович, — эти мнения не имеют еще твердой опытной опоры. Окрестности С.-Петербурга, Москвы и Казани суть первые пункты, которые должно выбрать для суждения о различии условий для перехода с запада на восток…
Если эти первые опыты будут произведены в разнообразных местностях, если они будут соединены с метеорологическими наблюдениями и анализом почвы и продуктов, если, вообще, будут сделаны с надлежащею полнотою и притом в течение нескольких лет, то наука получит запас сведении, равного которому по полноте еще нет до сих пор… Выгоды для России от таких опытов столь очевидны, что мне не приходится и говорить о них».
Вольное экономическое общество, одобрив менделеевский план, ассигновало на опыты около 7 тысяч рублей, и Дмитрий Иванович тщательно, до мелочей разработал программу, по которой должны были работать исследователи на всех опытных полях. Чтобы результаты опытов были сопоставимы, Вольное экономическое общество на свои средства приобрело посевной материал — семена ржи и овса, — который высылался бесплатно лицам, пожелавшим добровольно принять участие в опытах. Общество приняло на свой счет и химический анализ присылаемых образцов почв, а полученный урожай шел в пользу землевладельцев, предоставивших участки для опытов. Менделеев предлагал сделать опыты в шести местностях России в течение нескольких лет, но денег общества хватало только на проведение работ в двух местах и в течение трех лет. А надежды на хозяев, которые пожелали бы произвести опыты на свой счет, не оправдались. За это взялся всего один человек — Дмитрий Иванович Менделеев. Да еще член Вольного экономического общества И. Брылкин согласился в своем имении провести исследования на счет Петербургского университета. Весной 1867 года начался этот хотя и урезанный, но самый крупномасштабный для тех лет сельскохозяйственный эксперимент.
Если увлекающиеся реформаторы видели спасение русского земледелия единственно в фосфорных удобрениях, каковое мнение каждый может усвоить, не напрягая особенно мысли, то Менделеев ясно видел, что в каждом отдельном случае твердый ответ требует кропотливого труда. Он убедился: почва не простая механическая смесь нужных и ненужных для растения веществ, а сложная система, в которой все взаимосвязано, все влияет друг на друга и все важно. Например, глина сама по себе не нужна растению, но зато она препятствует вымыванию из почвы необходимейших минеральных веществ. Органическая часть навоза не усваивается растением, но зато наряду с тщательной глубокой вспашкой улучшает физические свойства почвы. Вещества, содержащиеся в тонком пахотном слое, непрерывно взаимодействуют между собой, реагируют с водой и углекислым газом, и нередко даже внесение в этот слой веществ, безразличных для самих растений, может оказать огромное влияние на их развитие, ускоряя или замедляя выработку в почве важных для произрастания веществ. Больше того, в почве идут не только физические и химические процессы, но и биологические.
Такой взгляд, такой подход к объекту не как к куче камней, а как к гармоничному архитектурному сооружению был вообще свойствен мышлению Менделеева. И это ясно проявилось в тех рекомендациях, которые он разработал для русского земледелия. В те дни, когда на искусственные удобрения смотрели как на средство быстро исправить недостатки почвы, заменить навоз едва ли не мусором и начать получать максимальные урожаи на любых землях, Менделеев не уставал говорить о том, как важны для земледелия физические свойства почвы. Именно в доведении почвы до спелости, то есть до способности поглощать из воды и воздуха азотистые вещества и углекислоту и прочно удерживать эти вещества, видел Дмитрий Иванович первоочередную задачу отечественного земледелия.
«Эта спелости достигается разведением широколистных, отеняющих землю растений, продолжительным навозным удобрением, разработкою, мергелеванием, известкованием и особенно правильно устроенным паром, а когда земля поспела, она уже долго будет сама себя питать азотистыми началами воздуха и воды.
Но в глубине души Дмитрий Иванович понимал, что его проповедь не достигает цели, ибо легче человеку купить даже за большие деньги бесполезную вещь, чем освоить трудное, хотя и полезное, искусство или ремесло. Легче завалить землю покупными фосфатами, чем заставить себя заняться долгим и систематическим трудом. И быть может, именно это тайное понимание безнадежности своих призывов побудило его завершить свой последний отчет «Об опытах над действием удобрений» такими словами: «Я еще раз позволю себе выразить желание, чтобы это начинание не осталось втуне, и заключу уверенностью, что рано или поздно будут продолжены наши опыты, которые, таким образом, положили начало тому, чего продолжение отложено, быть может, на долгие годы». Правда, кроме предчувствий, были здесь и другие, более осязательные причины: «Секретарем… Вольного экономического общества был тогда Ходнев… — вспоминал на склоне лет Менделеев. — Я предлагал у себя все сделать на свой счет, и дело сладилось. Но мало давали средств и помощников при исследованиях, а потом, когда результаты… все же получились, Ходнев захотел всем ворочать сам, и я отстал, а он ничего не сделал».
Так или иначе, предчувствия не обманули Менделеева… Продолжение его опытов действительно было отложено на многие годы, и они были забыты столь основательно, что о них ничего не упоминалось даже в учебниках по агрохимии. Но Менделеев оказался прав в том, что эти опыты когда-нибудь будут продолжены. В 1930-х годах Научный институт по удобрениям произвел грандиозные «географические опыты» академика Д. Прянишникова, когда по единому плану в течение пяти лет триста научных учреждений провели более 3800 полевых опытов.
Первый неофициальный химический кружок, возникший в Петербурге в 1854 году, собирался у профессора П. Ильенкова потому, что у него была удобная квартира и небольшая, хорошо обставленная химическая лаборатория, в которой каждый желающий мог провести научное исследование. У Ильенкова собирался весь цвет отечественной химии: Н. Зинин, А. Воскресенский, К. Клаус, Ю. Фрицше, Л. Шишков и др. Но, видно, время для создания химического общества еще не приспело, и кружок этот через два года распался.
Второй кружок организовали в 1857 году химик Н. Соколов и А. Энгельгардт — артиллерийский офицер, увлекшийся химией. Они устроили частную лабораторию по образцу гиссенской лаборатории Либиха, а в 1858 году начали издавать первый в России «Химический журнал». Однако и это предприятие просуществовало недолго: находясь в Гейдельберге, Дмитрий Иванович из писем друзей узнал, что журнал закрылся, а лаборатория пожертвована ее основателями Петербургскому университету. Но так велика и настоятельна была уже потребность в общении, что в 1860 году Шишков начал хлопотать об устройстве Химического общества. И когда в начале 1861 года Менделеев объявился в Петербурге, он оказался в самой гуще событий.
Сильно выросшая за десять лет «русская химическая дружина» собиралась поочередно то у одного, то у другого профессора примерно раз в две недели. На таких химических вечерах завязывались знакомства, принимались иностранные коллеги, обсуждались новые идеи и исследования, делались доклады и сообщения. И конечно, на этих вечерах мысль об официальном учреждении химического общества витала в воздухе. Нужен был человек, который пользовался бы всеобщим уважением, стоял бы выше личных отношений и мелких групповых интересов и взял бы на себя инициативу в деле объединения русских химиков.
В 1861 году Менделееву казалось, что таким человеком может стать Ю. Фрицше, тот самый, который некогда на экзаменах в Главном педагогическом институте дал такую высокую оценку способностям и успехам Дмитрия Ивановича. Поэтому на одном из химических вечеров он вместе с Леоном Николаевичем Шишковым пытался уговорить Фрицше взять на себя инициативу и положить начало обществу. Но Фрицше отказался.
Несмотря на отказ Фрицше, Дмитрий Иванович и его единомышленники не уставали пропагандировать идею создании общества. И их хлопоты в конце концов увенчались успехом.
4 января 1868 года на одном из заседаний I съезда русских естествоиспытателей химическая секция выступила с заявлением: «Секция просит Съезд ходатайствовать об учреждении русского химического общества». Съезд единодушно поддержал это заявление, и началась разработка устава будущего общества. «Устав этот составлялся у меня на квартире собранием химиков и примечателен по краткости и ясности», — вспоминал Дмитрий Иванович. 26 октября 1868 года министерство народного просвещения утвердило устав, и 6 ноября в старой химической аудитории Петербургского университета впервые собралось Русское химическое общество, призванное «содействовать успехам всех частей химии и распространять химические знания».
Хотя первым президентом был избран Н. Зинин, хотя членами общества были практически все выдающиеся химики России, обществу уже при Советской власти не случайно было присвоено имя Дмитрия Ивановича Менделеева. И дело здесь не столько в том, что на первом же заседании общество выразило признательность Менделееву за его труды по объединению русских химиков, сколько в том, что всего через четыре месяца менделеевское сообщение, зачитанное на очередном заседании, навсегда связало Русское химическое общество с периодической системой элементов.
Много лет спустя О. Озаровская, работавшая под началом Менделеева в Главной палате мер и весов, в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды, когда она под диктовку Дмитрия Ивановича писала письмо, доложили, что пришел посетитель. Едва тот появился на пороге, Менделеев потребовал:
— Кто такой? Карточку.
— Сотрудник газеты «Петербургский листок», ваше превосходительство.
— Дмитрий Иванович! — выразительно поправил интервьюера Дмитрий Иванович. — Карточку! Не знаю, кто такой-с! Ну-с, что угодно! Я занят!
— Я, ваше превосход…
— Дмитрий Иванович!
— Я пришел, ваше превос…
— А-а, да Дмитрий Иванович!
— Я, Дмитрий Иванович, — уразумел наконец газетный сотрудник, — оторву у вас лишь несколько минут…
— Скорей, только скорей! Мы заняты: видите, письмо пишем! Ну-с! Что угодно?..
— Позвольте вас спросить, какого вы мнения о радии?
— О-о-о-о?! О Господи!
Дмитрий Иванович склонился весь налево вниз и долго стонал, вздыхал и тряс головой: «О Господи!» Потом он повернулся к гостю и на высоких нотах жалобы заговорил:
— Да как же я с вами разговаривать-то буду? Ведь вы, я чай, ни черта не понимаете? Ну как же я с вами о радии говорить буду? Ну-с, вот вам моя статья: коли поймете, так и слава богу… Ну-с, все? Что еще? Только скорей. Время-то, время идет!
— Как вам пришла и голову, Дмитрий Иванович, ваша периодическая система?
— О-о! Господи!
Те же стоны, потрясанье головой, вздохи и смех: кх, кх, кх, кх. И наконец решительное:
— Да ведь не так, как у вас, батенька! Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку готово! Не так-с!..
Во внезапной вспышке Менделеева проявилось все его ожесточение против обывательских представлений о науке и о научной работе. И раздражение его было тем более сильным, что отчасти он сам невольно, не подозревая об этом, дал повод к облегченному представлению о своем великом открытии.
Как-то раз А. Иностранцев, ученик и сотрудник Менделеева, застав Дмитрия Ивановича в хорошем настроении, стал расспрашивать его об обстоятельствах открытия периодического закона. И Дмитрий Иванович рассказал ему, что, заподозрив существование взаимосвязи между элементами еще в студенческие годы, он не уставал обдумывать эту проблему со всех сторон, собирать материалы, сравнивать и сопоставлять цифры. Наконец настало время, когда проблема созрела, когда решение, казалось, вот-вот готово было сложиться в голове. Как всегда бывало в жизни Менделеева, предчувствие близкого разрешения мучившего его вопроса привело Дмитрия Ивановича в возбужденное состояние. В течение нескольких недель он спал урывками, пытаясь найти тот магический принцип, который сразу привел бы в порядок всю груду накопленного за пятнадцать лет материала. И вот в одно прекрасное утро, проведя бессонную ночь и отчаявшись найти решение, он, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете и заснул. И во сне ему совершенно ясно представилась таблица. Он тут же проснулся и набросал увиденную во сне таблицу на первом же подвернувшемся под руку клочке бумаги.
По всей видимости, не одному Иностранцеву Дмитрий Иванович рассказывал об этом случае. Но если Иностранцев, как человек, знакомый с научной работой, мог правильно понять и оценить значение этого факта, если Иностранцев увидел в этом случае «один из превосходнейших примеров психологического воздействия усиленной работы мозга на ум человека», то научно малограмотная, но начитанная публика усмотрела в нем лишь подтверждение легковесного представления о научном открытии, нежданно-негаданно явившемся ученому во сне. И на старости лет Дмитрию Ивановичу пришлось с вполне понятным раздражением подчеркивать необходимость и важность непрерывной и целеустремленной работы, предшествовавшей открытию периодической системы элементов.
Один писатель, когда его спрашивали, о чем он написал в своем очередном романе, молча подходил к полке, брал в руки этот роман и начинал читать его с первой страницы. Такое поведение кажется странным лишь на первый взгляд, ибо в действительности оно глубоко логично: если весь смысл романа можно изложить в двух словах, то и надо написать только эти два слова, а не раздувать их до размеров романа. По сути дела, на вопрос корреспондента «Петербургского листка» Менделеев, если бы он захотел дать настоящий ответ, должен был бы начать читать свои труды: «Изоморфизм», «Удельные объемы», «О молекулярном сцеплении некоторых органических жидкостей», «Химический конгресс в Карлсруэ», «Органическая химия» и так далее. Другими словами, он должен был бы изложить результаты своих почти пятнадцатилетних размышлений и исследований, предшествовавших 1867 году.
Летом этого года ректора Петербургского университета А. Воскресенского назначили попечителем Харьковского учебного округа, и, навсегда покидая университет, он рекомендовал на освобождаемую им должность профессора химии своего талантливого 33-летнего ученика Д. И. Менделеева. В то время в русских университетах были лишь две штатные должности по химии: профессор химии и профессор технической химии. 18 октября 1867 года совет университета утвердил перемещение Менделеева с должности профессора технической химии на должность профессора химии, поэтому ему пришлось немедленно приступить к чтению лекций по неорганической химии.
Надо сказать, Менделеев недолюбливал это название, и, не желая противопоставлять неорганическую химию органической, он стал именовать свой курс «общей химией», тем самым как бы подчеркивая единство и неразрывность этой науки. На освободившуюся должность профессора технической химии Дмитрий Иванович рекомендовал знаменитого уже создателя теории химического строения А. Бутлерова, работавшего в Казанском университете. По взаимной договоренности Бутлеров стал читать органическую химию, а техническую и аналитическую химию взял на себя Н. Меншуткин, избранный экстраординарным профессором. Таким образом, к 1868–1870 годам в стенах одного университета собрались три первоклассных химика, которые украсили русскую науку блестящими открытиями.
Особенно большую роль все эти перемещения сыграли в научной биографии Менделеева. С избранием его на должность профессора химии развитие прямой линии идеи, пронизывающей все его предшествующие работы, вступило в свою завершающую фазу. Приступив к чтению лекций, Дмитрий Иванович обнаружил: ни в России, ни за рубежом нет курса общей химии, достойного быть рекомендованным студентам. И таков был запас сил и знаний в молодом профессоре, такова была его духовная мощь, что он решил написать такой курс сам…
«Писать начал, когда стал после Воскресенского читать неорганическую химию в университете и когда, перебрав все книги, не нашел, что следует рекомендовать студентам, — писал в старости Дмитрий Иванович. — Писать заставляли и многие друзья, например Флоринский, Бородин. Писавши, изучил многое, например Mo, W, Ti, Ur, редкие металлы. Начал писать в 1868 году. Вышло всего 4 выпуска, и когда (1871) выходил последний, первого уже не было. Так как издавал сам, то получились и средства, а потом эта книга дала мне главный побочный доход — новыми изданиями. Тут много самостоятельного в мелочах, а главное — периодичность элементов, найденная именно при обработке «Основ химии».
Всякая книга есть отражение личности ее автора, но в ряду бессмертных творений человеческого духа менделеевские «Основы химии» занимают место совершенно исключительное. В отличие от ньютоновских «Начал натуральной философии», галилеевских «Бесед о двух системах мира» или дарвиновского «Происхождения видов» «Основы химии» не были созданы раз и навсегда. Эта великая книга, вышедшая при жизни Менделеева восемью изданиями, непрерывно углублялась, дополнялась и изменялась.
Как будто сопровождая Дмитрия Ивановича на протяжении почти сорока лет его жизни, «Основы химии» отражали постепенную эволюцию его взглядов. «Основы химии» не есть учебник в обычном понимании этого слова, но необычный сплав научных сведении, тонкого анализа, глубоких философских размышлении и брошенных мимоходом удивительных пророчеств.
«Сочинение напечатано двумя шрифтами, — писал Дмитрий Иванович в предисловии к третьему изданию, — с той целью, чтобы начинающий мог ознакомиться сперва с важными данными и законами, а потом уже с подробностями, которые без того могли бы затемнить картину целого». В «крупнопечатной» части своей книги Менделеев выступает и как специалист, скрупулезно выверяющий каждую формулу, каждую цифру; и как умелый, виртуозно владеющий, играющий находящимся в его распоряжении научным, материалом; и как химик, пристально следящий за развитием своей науки, мимо которого не проходит незамеченным ни одно новое исследование, новое направление, новое открытие. В этой части своего труда Менделеев ни на минуту не отрывается от прочного экспериментального фундамента химии, и любые новые открытия, теории и гипотезы могут внести лишь уточнения и дополнения в бессмертный труд Дмитрия Ивановича, но не перечеркнуть, не обесценить его полностью.
Что же касается «мелкопечатного» текста «Основ химик», то в нем содержится драгоценнейший материал для того, кто хочет разобраться во взглядах Менделеева на науку вообще и на химию в частности, на теорию и практику, на гипотезы и на эксперименты, на прошлое, настоящее и будущее науки. Оказавшись перед необходимостью систематически изложить такую обширную науку, какова химия, Дмитрий Иванович получил прекрасный повод для размышлений, о месте и роли науки, в жизни человечества.
«Два самые мощные ума, которые произвела Англия, были Шекспир и Ньютон, — писал Г. Бокль, английский философ, необычайно популярный в России в 1860—1870-х годах, — и что Шекспир предшествовал Ньютону, это не было… обстоятельством случайным, безразличным. Шекспир и поэты сеяли семена, а Ньютон и философы собирали жатву». Эту мысль продолжил и уточнил французский философ Г. Тард: «Если имеем перед собою народ очень сведущий в математике, то отсюда нельзя еще заключить, что он уже очень просвещенный в химии или в медицине, тогда как если в этом народе существуют выдающиеся химики и физиологи, то можно быть уверенным, что в нем существуют (или что в нем существовали) первостепенные геометры».
Пример России, где великому химику Менделееву предшествовал великий математик Лобачевский, может служить прекрасным подтверждением этих слов, понятных и близких самому Дмитрию Ивановичу. Искусства, считал Менделеев, «стремятся путем образов и предчувствий, так сказать полубессознательно, совершенно к тому же, что сознательно вырабатывается в науке». Приняв эту мысль, он по необходимости должен был принять и вытекающее из нее следствие: науки не есть компания равноправных сверстником, но скорее семья, состоящая из дедов, отцов и детей. И как дети не могут появиться на свет раньше родителей, так и химия не может процвести раньше математики, а математика раньше философии. «Недалеко то время, — писал Дмитрий Иванович в своих «Основах химии», — когда звание химии и физики будет таким же признаком и средством образования, как за сто-двести лет тому назад считалось знание классиков, потому что тогда их изучение было задатком возрождения, было средством против укрепившихся суеверий… Как тогда философские системы, весь строй наук опирался на классиков, так и ныне другие науки или опираются, или стараются опереться на естествознание, а оно берет свои методы от физики и химии».
Физика и химия… Менделеев много размышлял, сравнивал и сопоставлял, прежде чем в голове его сложилось ясное представление о месте и роли этих наук. «Явлением должно называть то, что совершается во времени с веществами и телами, — писал Дмитрий Иванович, в «Основах химии». — Явления сами по себе составляют основной предмет изучения физики. Веществами занимается химия… ее вместе с механикою, изучающею движения, должно положить в основу естествознания». Изучение веществ отличается от изучения явлений, поэтому химик к предмету своей науки подходит не совсем так, как, скажем, механик или даже физик. Он не может считать массу сосредоточенной в точке, не имеющей размера; не может приписывать изучаемым телам абсолютной твердости, упругости или теплопроводности. И эта нерасторжимая взаимосвязанность, всех свойств приводит к тому, что в химии, как ни в какой другой науке, проявляется, по словам Менделеева, «лживость учения, говорящего «не в форме дело, в существе», потому что существо нельзя постичь помимо формы, а истину завоевать без средств, основанных на правде и труде, одним набегом мысли».
Дмитрий Иванович не случайно упоминает об обычае действовать «набегом мысли». В начале XIX века немецкий философ-идеалист Ф. Шеллинг корил Ньютона и Бойля за то, что они «испортили» физику, положив в основу своих исследовании опыт, а не единый всеобъемлющий принцип. Правда, Шеллинг был отнюдь не первым, кто считал единственным методом науки дедукцию, идущую от общего к частному, от принципа к факту. Но возведение дедукции в абсолют, сделанное Шеллингом, было последним всплеском. Индукция, идущая от частного к общему, всюду в естественных науках не только одержала верх, но и хватила через край. «Одно число больше стоит, чем целая библиотека гипотез».
Сейчас трудно даже себе представить, какие печальные последствия повлекло за собой неукоснительное следование этому девизу. «Мы находимся в таком положении, — писал в прошлом веке Бойль, — что у нас факты опередили знание и затрудняют теперь его движение вперед… Благодаря неутомимой деятельности нынешнего и прошедшего столетий мы обладаем теперь громадною, бессвязною массою наблюдений, которые были накоплены с большой заботливостью, но останутся совершенно бесполезными до тех пор, пока не будут связаны какою-нибудь господствующею идеею. Лучшим средством для извлечения из них пользы было бы дать более простора воображению и совместить дух поэзии с духом науки».
Человек, способный совместить дух поэзии с духом науки, должен быть одинаково силен и в дедукции, и в индукции, а, по мнению Бойля, таких людей в истории мировой науки было всего двое — Аристотель и Ньютон. Думается, к этому списку можно смело приобщить и ими Дмитрия Ивановича Менделеева.
Если философы древности высокомерно заявляли, что «наука тем выше, чем она менее полезна», то Менделеев считал основными целями науки предвидение и пользу. Если философы древности норовили не размениваться на мелочи, а «набегом мысли» пытались сразу ухватить «начало всех начал», то Менделеев считал, что надо отказаться от мысли прямо познать истину. Но следует медленным и трудным путем опыта доходить до обобщающих принципов, через
Приступая к работе над «Основами химии», Дмитрий Иванович интуитивно чувствовал, что самый предмет требует необычайного искусства изложения, что невозможно отделять теорию от практики, что должно разгадать секрет того сверкающего сплава, который получается при соответствии структуры книги ее научному материалу.
«Здание науки требует не только материала, — писал он в предисловии к своей бессмертной книге, — но и плана, гармонии… Научное мировоззрение и составляет план и гармонию научного здания. Притом, пока нет плана — нет и возможности узнать много из того даже, что уже было кому-либо известно, что уже сложено. Многие факты химии, не нанесенные на ее план, часто открывались не раз, а два, три и более раза. В лабиринте известных фактов легко потеряться без плана, и самый план уже известного иногда стоит такого труда изучения, доли какого не стоит изучение многих отдельных фактов. Узнать, понять, охватить гармонию научного здания с его недостроенными частями — значит получить такое наслаждение, какое дает только высшая красота и правда».
Менделеевы въехали в казенную университетскую квартиру 24 ноября 1806 года, и с этого дня жизнь Дмитрия Ивановича в течение четверти века была теснейшим образом связана с Петербургским университетом. Квартира состояла из гостиной, зала, столовой, спальни, детских комнат, комнат для гувернантки, учителя и прислуги, кладовой и кухни. Скромная мебель, обитая полосатым красно-серым тиком, терялась в огромных комнатах, в которых сам Дмитрий Иванович появлялся редко.
Все свое время он проводил в кабинете, куда утром ему приносили стакан горячего молока, большую фарфоровую чашку крепчайшего сладкого чая, лепешки из каши и несколько кусочков французской булки. Чашка всегда должна была быть полной, так как во время работы он пил и остывший чай.
За обедом вся семья собиралась вместе. Дмитрий Иванович, не желая терять время на ожидание, входил в столовую, когда суп был уже на столе. Быстро подходил к детям, целовал в голову и садился напротив Феозвы Никитичны. Дети затихали, потому что знали: пустой болтовни за столом отец не любит. Не раз, бывало, он останавливал их словами: «Помолчать надо» или «Речь — серебро, а молчание — золото». Сразу же после жаркого Дмитрий Иванович, не дожидаясь сладкого блюда, вставал из-за стола, благодарил жену и, как бы извиняясь, говорил: «А я пойду к себе».
К завтраку Дмитрию Ивановичу подавали в кабинет бифштекс с макаронами или котлеты с рисом или картофелем. За обедом — немного бульона или ухи, кусочек рыбы или котлету. Иногда он изобретал какое-нибудь новое кушанье: отварной рис с красным вином, ячневая каша, гречневая каша крутая или размазня, поджаренные на масле лепешки из вареного риса или геркулеса. За обедом Дмитрий Иванович иногда выпивал маленький стаканчик кахетинского вина или бордо. Иногда пил сидр или домашний квас. Сладкого Дмитрий Иванович не ел почти никогда, хотя в его кабинете всегда были фрукты и сласти: для угощения знакомых, родных и детей. Зато неравнодушен был к блинам: «Люблю я их, проклятых, хоть они мне и вредны». Настоящей же слабостью Дмитрия Ивановича был чай и табак.
В те годы лучшие сорта чая из Китая доставлялись караванами в Кяхту, и именно оттуда и выписывал чай Менделеев. Он заказывал его на несколько лет сразу, и, когда цибики доставляли в квартиру, все семейство принималось за переборку и упаковку чая. Пол устилался скатертями, цибики вскрывали, высыпали весь чай на скатерти и быстро смешивали. Делать это приходилось потому, что чай в цибиках лежал слоями и смешивать его надо было как можно быстрее, чтобы он не выдохся. Потом чай насыпали в огромные стеклянные бутылки и плотно их закупоривали. В церемонии участвовали все члены семьи и оделялись чаем все домочадцы и родственники. Менделеевский чай заслужил большую славу среди знакомых, и сам Дмитрий Иванович, не признавая никакого другого, в гостях чая никогда не пил. В кабинете во время работы чай почти не сходил у него со столика по левую руку. Всякому, кто приходил к нему по делу, он предлагал: «Хотите чаю?» И тут же говорил служителю: «Михайло, чаю». И крепкий сладкий чай всегда свежей заварки моментально появлялся перед гостем.
Табак Дмитрий Иванович тоже закупал сразу на несколько лет и тоже высшего качества. Радушно встречал посетителей, он всегда угощал их своими папиросами, так как не любил запаха чужого табака. Сам себе он крутил толстейшие папиросы, и над ним всегда поднимался к потолку густой столб табачного дыма. «Смотрю я на прожженные табаком коричневые пальцы Менделеева, — вспоминал художник Я. Минченков, — и говорю: «Как это вы, Дмитрий Иванович, не бережете себя от никотина, вы, как ученый, знаете его вред». А он отвечает: «Врут ученые: я пропускал дым сквозь вату, насыщенную микробами, и увидел, что он убивает некоторых из них. Вот видите — даже польза есть. И вот курю, курю, а не чувствую, чтобы поглупел или потерял здоровье».
Не желая тратить время на выбор одежды, Дмитрий Иванович свел заботы о ней к минимуму. Дома носил темно-серую блузу придуманного им самим фасона, причем по заведенному порядку портной должен был являться в определенное время сам, без вызова. Бывало, увидит Дмитрий Иванович на пороге портного, замашет руками, приговаривая: «Э, батенька, шейте как раньше».
Живя в университете, Дмитрий Иванович выбирал для лекции всегда утренние часы, чтобы осталось больше времени для научной работы. Но, привыкнув трудиться ночью и ложась иногда в 4–5 часов утра, он боялся проспать на лекцию, поэтому служитель был предупрежден: если в 8 часов 5 минут Дмитрия Ивановича нет, надо идти его будить. Тогда, еле умывшись, одеваясь на ходу, Менделеев стремительно поднимался по лестнице, быстро вполголоса спрашивал ассистента: «На чем остановился?» — и, взойдя на кафедру, обычным тоном начинал лекцию. Читал он два часа с перерывом в 10–15 минут. Лекции требовали от него большого напряжения. Он выходил усталый, потный и, опасаясь простуды, от которой всегда берегся, некоторое время сидел в препаровочной, накинув на плечи осеннее пальто, предусмотрительно приносимое служителем. Сотрудники очень любили эти послелекционные рекреации Дмитрия Ивановича. Обычно он бывал настроен благодушно, покуривал свои «крученки», рассказывал всякие истории, обсуждал химические новости, университетские и лабораторные и даже домашние дела.
Вернувшись домой, Дмитрий Иванович сразу удалялся в кабинет и работал часов до 5–5.30. Если погода была хорошая, выходил на 15–30 минут прогуляться, но, не любя бесцельных прогулок, он обязательно что-нибудь покупал: сладкое, фрукты, рыбу, которую очень любил, игрушки и книги для детей. Обедал всегда в 6 часов, потом отдыхал: играл с кем-нибудь в шахматы или раскладывал пасьянс. Домашние, для которых Дмитрий Иванович был кумиром, утверждали, что в шахматы он играл очень хорошо, что действовал обдуманно, весь уходил в игру и очень редко получал мат. Сыграв тринадцать партии с самим Чигориным, он даже выиграл одну партию у знаменитого шахматиста. Но, по мнению знатоков, Менделеев играл в шахматы несильно: нервничал, горячился, брал свои ходы назад. Если партнера не было, он раскладывал пасьянс, пока ему читали что-нибудь вслух. При этом он всегда сердился, если ему подсказывали, куда положить карту: он любил самостоятельность во всем.
После отдыха Дмитрий Иванович снова удалялся в кабинет. Здесь, среди шкафов и полок с книгами, стеклянных трубок, колб, реторт и пробирок, он работал до глубокой ночи. И если бы кто-нибудь из университетского сада заглянул в такой поздний час в светящиеся, доходящие почти до самой земли огромные окна, то он увидел бы, как Дмитрий Иванович либо пишет за высокой конторкой, стоящей посреди комнаты у газового рожка, либо читает, сидя в углу дивана, обитого серым с красным тиком. Того самого, на котором, по преданию, он заснул 17 февраля 1869 года, когда ему приснилась периодическая система элементов…
В 1869 году ни один человек в мире не думал о классификации химических элементов больше, чем Менделеев, и, пожалуй, ни один химик не знал о химических элементах больше, чем он. Он знал, что сходство кристаллических форм, проявляющееся при изоморфизме, не всегда достаточное основание для суждения о сходстве элементов. Он знал, что и удельные объемы тоже не дают ясного руководящего принципа для классификации. Он знал, что вообще изучение сцеплений, теплоемкостей, плотностей, показателей преломления, спектральных явлений еще не достигло уровня, который позволил бы положить эти свойства в основу научной классификации элементов. Но он знал и другое — то, что такая классификация, такая система обязательно должна существовать. Ее угадывали, ее пытались расшифровать многие ученые, и Дмитрий Иванович, пристально следивший за работами в интересующей его области, не мог не знать об этих попытках.
То, что некоторые элементы проявляют черты совершенно явного сходства, ни для одного химика тех лет не было секретом. Сходство между литием, натрием и калием, между хлором, бромом и йодом или между кальцием, стронцием и барием бросалось в глаза любому. И от внимания Дюма не ускользнули интересные соотношения атомных весов таких сходственных элементов. Так, атомный вес натрия равен полусумме весов соседствующих с ним лития и калия. То же самое можно сказать о стронции и его соседях кальции и барии. Больше того, Дюма обнаружил такие странные цифровые аналогии у сходственных элементов, которые воскрешали в памяти попытки пифагорейцев найти сущность мира в числах и их комбинациях. В самом: деле, атомный вес лития равен 7, натрия — 7 + (1 X 16) = 23, калия — 7 + (2 X 16) = 39!
В 1853 году английский химик Дж. Гладстон обратил внимание на то, что элементы с близкими атомными весами сходны по химическим свойствам: таковы платина, родий, иридий, осмий, палладий и рутений или железо, кобальт, никель. Спустя четыре года швед Ленсен объединил по химическому сходству несколько «триад»: рутений — родий — палладий; осмий — платина — иридий; марганец — железо — кобальт. Немец М. Петтенкофер отметил особое значение чисел 8 и 18, так как разности между атомными весами сходственных элементов оказывались нередко близкими 8 и 18 либо кратными им. Были сделаны даже попытки составить таблицы элементов. В библиотеке Менделеева сохранилась книга германского химика Л. Гмелина, в которой в 1843 году была опубликована такая таблица. В 1857 году английский химик В. Одлинг предложил свои вариант. Но…
«Все замеченные отношения в атомных весах аналогов, — писал Дмитрий Иванович, — не привели, однако, по сих пор ни к одному логическому следствию, не получили даже и права гражданства в науке по причине многих недостатков. Во-первых, не явилось сколько то мне известно, ни одного обобщении, связывающего все известные естественные группы в одно целое, и оттого выводы, сделанные для некоторых групп, страдали отрывочностью и не вели к каким-либо дальнейшим логическим заключениям, представлялись необходимым и неожиданным, явлением… Во-вторых, замечены были такие факты… где сходные элементы имели близкие атомные веса. В выводе поэтому можно было только сказать, что сходство элементов связано иногда с близостью атомных весов, а иногда с правильным возрастанием их величины. В-третьих, между несходными элементами и не искали даже каких-либо точных и простых соотношений в атомных весах…»
В библиотеке Менделеева до сих пор хранится книга германского химика А. Штреккера «Теории и эксперименты для определения атомных весов элементов», которую Дмитрий Иванович привез из первой заграничной командировки. И читал он ее внимательно. Об этом свидетельствуют многочисленные пометки на полях, об этом свидетельствует отмеченная Дмитрием Ивановичем фраза: «Вышевыставленные отношения между атомными весами… химически сходственных элементов, конечно, едва ли могут быть приписаны случайности, но ныне мы должны предоставить будущему отыскание закономерности,
«Меня неоднократно спрашивали, — вспоминает Менделеев, — на основании чего, исходя из какой мысли, найден был мною и упорно защищаем периодический закон?.. Моя личная мысль во все времена… останавливалась на том, что вещество, силу и дух мы бессильны понимать в их существе или в раздельности, что мы можем их изучать в проявлениях, где они неизбежно сочетаны, и что в них, кроме присущей им вечности, есть свои — постижимые — общие самобытные признаки или свойства, которые и следует изучать на все лады. Посвятив свои силы изучению вещества, я вижу в нем два таких признака или свойства:
В этом описании все выглядит очень просто, но чтобы хоть отдаленно представить себе всю неимоверную трудность содеянного, надо уяснить, что кроется за несколько расплывчатым понятием «индивидуальность, выраженная в химических превращениях». В самом деле, атомный вес — понятная и легковыразимая в цифрах величина. Но как, в каких цифрах можно выразить способность элемента к химическим реакциям?
Сейчас человек, знакомый с химией хотя бы в объеме средней школы, легко ответит на этот вопрос: способность элемента давать те или иные типы химических соединений определяется его валентностью. Но в наши дни сказать это только потому легко, что именно периодическая система способствовала выработке современного представления о валентности. Как мы уже говорили, понятие о валентности (Менделеев называл его атомностью) ввел в химию Франкланд, заметивший, что атом того или иного элемента может связать определенное число атомов других элементов. Скажем, атом хлора может связать один атом водорода, поэтому оба эти элемента одновалентные. Кислород в молекуле воды связывает два атома одновалентного водорода, следовательно, кислород двухвалентен. В аммиаке на атом азота приходится три атома водорода, поэтому в этом соединении азот трехвалентен. Наконец, в молекуле метана один атом углерода удерживает четыре атома водорода. Четырехвалентность углерода подтверждается еще и тем, что в углекислом газе в полном соответствии с теорией валентности углеродный атом удерживает два двухвалентных атома кислорода. Установление четырехвалентности углерода сыграло такую важную роль в становлении органической химии, разъяснило в этой науке такое множество запутанных вопросов, что германский химик Кекуле (тот самый, который придумал бензольное кольцо) заявлял:
Если бы это убеждение соответствовало действительности, задача, стоящая перед Менделеевым, упростилась бы до крайности: ему нужно было бы просто сопоставить валентность элементов с их атомным весом. Но в том-то и заключалась вся сложность, что Кекуле хватил через край. Перехват этот, необходимый и важный для органической химии, был очевиден всякому химику. Даже углерод и тот в молекуле угарного газа связывал лишь один атом кислорода и был, следовательно, не четырех-, а двухвалентным. Азот же давал целую гамму соединений: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, в которых он пребывал в одно-, двух-, трех-, четырех- и пятивалентном состояниях.
Кроме того, было и еще одно странное обстоятельство: хлор, соединяющийся с одним атомом водорода, следует считать одновалентным элементом. Натрий, два атома которого соединяются с одним атомом двухвалентного кислорода, тоже следует считать одновалентным. Выходит, в группу одновалентных попадают элементы, не только не имеющие между собой ничего общего, но являющиеся прямо-таки химическими антиподами. Чтобы как-то отличать такие одинакововалентные, но малопохожие элементы, химики были вынуждены в каждом случае делать оговорку: одновалентный по водороду или одновалентный по кислороду.
Менделеев ясно понимал всю «шаткость учения об атомности элементов», но так же ясно он понимал и то, что атомность (то есть валентность) — ключ к классификации. «Для характеристики элемента, кроме прочих данных, требуются два путем наблюдений опыта и сличений добываемых данных: знание атомного веса и знание атомности». Вот когда пригодился Менделееву опыт работы над «Органической химией», вот когда пригодилась ему идея о ненасыщенных и насыщенных, предельных органических соединениях. По сути дела, прямая аналогия подсказала ему, что из всех значений валентности, которые может иметь данный элемент, характеристическим, тем, который надо класть в основу классификации, следует считать наивысшую предельную валентность.
Что же касается вопроса о том, какой валентностью — по водороду или по кислороду — руководствоваться, то ответ на него Менделеев нашел довольно легко. В то время как с водородом соединяются сравнительно немногие элементы, с кислородом соединяются практически все, поэтому формой именно кислородных соединений — окислов — должно руководствоваться при построении системы. Эти соображения отнюдь не беспочвенные догадки. Недавно в архиве ученого была обнаружена интереснейшая таблица, составленная Дмитрием Ивановичем и 1862 году, вскоре после издания «Органической химии». В этой таблице приведены все известные Менделееву кислородные соединения 25 элементов. И когда спустя семь лет Дмитрий Иванович приступил к завершающему этапу, эта таблица, несомненно, сослужила ему отличную службу.
Раскладывая карточки, переставляя их, меняя местами, Дмитрий Иванович пристально всматривается в скупые сокращенные записки и цифры. Вот щелочные металлы — литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Как ярко выражена в них «металличность»! Не та «металличность», под которой любой человек понимает характерный блеск, ковкость, высокую прочность и теплопроводность, но «металличность» химическая. «Металличность», заставляющая эти мягкие легкоплавкие металлы быстро окисляться и даже гореть в воздухе, давая при этом прочные окислы. Соединяясь с водой, эти окислы образуют едкие щелочи, окрашивающие лакмус в синий цвет. Все они одновалентны по кислороду и дают удивительно правильные изменения плотности, температуры плавления и кипения в зависимости от нарастания атомного веса.
А вот антиподы щелочных металлов — галогены — фтор, хлор, бром, йод. Дмитрий Иванович может лишь догадываться, что самый легкий из них — фтор, — по всей видимости, газ. Ибо в 1869 году еще никому не удалось выделить из соединений фтор — типичнейший и самый, энергичный из всех неметаллов. За ним следует более тяжелый, хорошо изученный газ хлор, затем темно-бурая жидкость с резким запахом — бром, и кристаллический с металлическим отблеском йод. Галогены тоже одновалентны, но одновалентны по водороду. С кислородом же они дают ряд неустойчивых окислов, из которых предельный имеет формулу R2O7. Это значит: максимальная валентность галогенов по кислороду — 7. Раствор Cl2O7 в воде дает сильную хлорную кислоту, окрашивающую лакмусовую бумагу в красный цвет.
Наметанный глаз Менделеева выделяет еще некоторые группы элементов, не столь, правда, яркие, как щелочные металлы и галогены. Щелочноземельные металлы — кальций, стронций и барий, дающие окислы типа RO; сера, селен, теллур, образующие высший окисел типа RO3; азот и фосфор с высшим окислом R2O5. Прослеживается, хотя и не явное, химическое сходство между углеродом и кремнием, дающими окислы типа RO2, и между алюминием и бором, высший окисел которых R2O3. Но дальше все спутывается, различия смазываются, индивидуальности утрачиваются. И хотя существование отдельных групп, отдельных семейств можно было считать установленным фактом, «связь групп была совершенно неясна: тут галоиды, тут щелочные металлы, тут металлы, подобные цинку, — друг в друга они точно так же не превращаются, как одна семья в другую. Другими словами, неизвестно было, как эти семьи между собой связаны».
В наши дни легко сказать: смысл периодического закона — установление зависимости между наивысшей валентностью по кислороду и атомным весом элемента. Но тогда, сто с лишним лет назад, из нынешних 104 элементов Менделееву были известны лишь 63; атомные веса десяти из них оказались заниженными в 1,5–2 раза; из 63 элементов лишь 17 соединялись с водородом, а высшие солеобразующие окислы многих элементов разлагались с такой быстротой, что были неизвестны, поэтому высшая валентность по кислороду у них оказывалась заниженной. Но самую большую трудность представляли элементы с промежуточными свойствами. Взять, к примеру, алюминии. По физическим свойствам — это металл, а по химическим — не поймешь что. Соединение его окисла с водой — странное вещество, не то слабая щелочь, не то слабая кислота. Все зависит от того, с чем оно реагирует. С сильной кислотой оно ведет себя как щелочь, а с сильной щелочью — как кислота.
Глубокий знаток менделеевских работ по периодическому закону академик Б. Кедров считает, что Дмитрий Иванович в своих изысканиях шел от хорошо известного к неизвестному, от явного к неявному. Сначала он выстроил горизонтальный ряд щелочных металлов, так напоминающий ему гомологические ряды органической химии.
Всматриваясь во второй ярко выраженный ряд — галогены, — он обнаружил удивительную закономерность: каждый галоген легче близкого и нему по атомному весу щелочного металла на 4–6 единиц. Значит, ряд галогенов можно поставить над рядом щелочных металлов:
Что дальше? Щелочноземельные металлы на 1–3 единицы тяжелее щелочных, стало быть, их — вниз:
Атомный вес фтора — 19, ближе всего к нему примыкает кислород — 16. Не ясно ли, что над галогенами надо поставить семейство аналогов кислорода — серу, селен, теллур? Еще выше — семейство азота: фосфор, мышьяк, сурьму, висмут. Атомный вес каждого члена, этого семейства на 1–2 единицы меньше, чем атомный вес элементов из семейства кислорода. По мере того как укладывается ряд за рядом, Менделеев все более и более укрепляется в мысли, что он на правильном пути. Валентность по кислороду от 7 у галогенов последовательно уменьшается при перемещении вверх. Для элементов из семейства кислорода она равна 6, азота — 5, углерода — 4. Следовательно, дальше должен идти трехвалентный бор. И точно: атомный вес бора на единицу меньше атомного веса предшествующего ему углерода…
В феврале 1869 года Менделеев разослал многим химикам отпечатанный на отдельном листке «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». А 6 марта делопроизводитель Русского химического общества Н. Меншуткин вместо отсутствовавшего Менделеева зачитал на заседании общества сообщение о предложенной Дмитрием Ивановичем классификации.
Изучая этот непривычный для современного взгляда вертикальный вариант менделеевской таблицы, нетрудно убедиться в том, что он, если так можно выразиться, разомкнут, что к его жесткому костяку — поставленным рядом щелочным металлам и галогенам — сверху и снизу примыкают ряды элементов с менее ярко выраженными переходными свойствами. Было в этом первом варианте и несколько неправильно расположенных элементов: так ртуть попала в группу меди, уран и золото — в группу алюминия, таллий — в группу щелочных металлов, марганец — в одну группу с родием и платиной, а кобальт и никель заняли одно место. Вопросительные знаки, поставленные около символов некоторых элементов, свидетельствуют о том, что сам Менделеев сомневался в правильности определения атомных весов тория, теллура и золота и считал спорным положение в таблице эрбия, иттрии и индия. Но все эти неточности отнюдь не должны умалить важности самого вывода: именно этот первый, несовершенный еще вариант привел Дмитрия Ивановича к открытию великого закона, побудившего его поставить четыре вопросительных знака там, где должны были стоить символы четырех элементов…
Сопоставление элементов, расположенных в вертикальных столбцах, навело Менделеева на мысль, что свойства их изменяются периодически по мере нарастания атомного веса. Это был принципиально новый и неожиданный вывод, так как от предшественников Менделеева, увлекавшихся созерцанием линейного изменения свойств сходственных элементов в группах, ускользала эта периодичность, позволившая связать воедино все казавшиеся разрозненными группы. В «Основах химии», изданных в 1903 году, есть таблица, с помощью которой Дмитрий Иванович сделал периодичность свойств химических элементов необычайно наглядной. В длинный столбец он выписал все известные к тому времени элементы, а справа и слева поместил цифры, показывающие удельные объемы и температуры плавления, и формулы высших окислов и гидратов, причем чем выше валентность, тем дальше от символа отстоит соответствующая формула. При беглом взгляде на эту таблицу сразу видишь, как периодически нарастают и убывают цифры, отражающие свойства элементов, по мере неуклонного увеличения атомного веса.
В 1869 году неожиданные перерывы в этом плавном нарастании и убывании чисел доставили Менделееву немало затруднений. Укладывая один ряд за другим, Дмитрий Иванович обнаружил, что в столбце, идущем вверх от рубидия, вслед за пятивалентным мышьяком идет двухвалентный цинк. Резкий перепад атомного веса — 10 единиц вместо 3–5, и полное отсутствие сходства между свойствами цинка и углерода, стоящего во главе этой группы, навели Дмитрия Ивановича на мысль: в перекрестии пятого горизонтального ряда и третьего вертикального столбца должен находиться не открытый еще четырехвалентный элемент, напоминающий по свойствам углерод и кремний. А поскольку цинк ничего общего не имел и с идущей далее группой бора и алюминия, Менделеев предположил, что науке еще неизвестен и один трехвалентный элемент — аналог бора. Такие же соображения побудили его предположить существование еще двух элементов с атомными весами 45 и 180.
Понадобилась поистине изумительная химическая интуиции Менделеева, чтобы сделать столь смелые предположения, и понадобилась его поистине необъятная химическая эрудиции, чтобы предсказать свойства не открытых еще элементов и исправить многие заблуждении, касающиеся элементов малоизученных. Дмитрий Иванович не случайно назвал свою первую таблицу «опытом», этим он как бы подчеркивал ее незавершенность; но в ближайший же год он придал периодической системе элементов ту совершенную форму, которая, почти не изменившись, сохранилась до наших дней.
«Разомкнутость» вертикального варианта, по-видимому, не соответствовала представлениям Менделеева о гармонии. Он чувствовал, что из хаотической кучи деталей ему удалось сложить машину, но он ясно видел, как далека эта машина от совершенства. И он решил переконструировать таблицу, разорвать тот двойной ряд, который был ее костяком, и поместить щелочные металлы и галогены на противоположных концах таблицы. Тогда все остальные элементы окажутся как бы внутри конструкции и будут служить постепенным естественным переходом от одной крайности к другой. И как часто бывает с гениальными творениями, формальная, казалось бы, перестройка вдруг открыла новые, ранее не подозреваемые и не угадываемые связи и сопоставлении.
К августу 1869 года Дмитрий Иванович составляет четыре новых наброска системы. Работая над ними, он выявил так называемые двойные сходственные отношения между элементами, которые вначале он помещал в различные группы. Так вторая группа — группа щелочноземельных металлов — оказалась состоящей из двух подгрупп: первой — бериллий, магний, кальций, стронций и барий и второй — цинк, кадмии, ртуть. Далее, уяснение периодической зависимости позволило Менделееву исправить атомные веса 11 элементов и изменить местоположение в системе 20 элементов! В итоге этой неистовой работы в 1871 году появилась знаменитая статья «Периодическая законность дли химических элементов» и тот классический вариант периодической системы, который ныне украшает химические и физические лаборатории во всем мире.
Сам Дмитрий Иванович очень гордился этой статьей.
В старости он писал: «Это лучший свод моих взглядов и соображении о периодичности элементов и оригинал, по которому писалось потом так много про эту систему. Это причина главная моей научной известности — потому что многое оправдалось гораздо позднее». И действительно, позднее многое оправдалось, но все это было позднее, а тогда…
…Тогда, в самый разгар титанической работы Менделеева над периодической системой, почти все друзья и доброжелатели в глубине души скорбели о «заблудшем химике». Деликатно, между делом они намекали Дмитрию Ивановичу, что следует-де бросить «бесплодные умозрения», заняться «делом, работой». По-видимому, особенно прямолинейно эти упреки высказал Менделееву академик Н. Зинин, поскольку под впечатлением минуты Дмитрий Иванович написал ему довольно резкое письмо.
«Николай Николаевич,
Когда я был у Вас в последний раз, Вы посоветовали мне: «Пора заняться работой». Я дорожу Вашим мнением и потому поговорю об этом… Полагаю, что Ваши слова вырвались оттого, что Вы не знаете того, что я сделал, не следите за тем, что делается в области моих занятии. Вы не можете отказать мне в том, что я открыл те законы объемов, о которых так много говорилось после меня. Не откажите и в том, что указал закон пределов для углеродистых соединений, ввел первый и притом сразу точнее, чем существующее, понятие о пределе, что теперь на языке у всех. Мне принадлежат первая попытка и опыты о связи состава со сцеплением, над чем после стали многие работать, мое исследование о спирте заключает новые приемы, вводящие критерий точности в разборе вопроса о неопределенных соединениях, мне принадлежит указание на закон симметрии простых тел, что обещает большую будущность. Можно это сделать не работая?
Вы этого ведь не знаете, потому что следите за другою стороною науки. Не тщеславие заставляет меня писать так, и, поверьте, не расчет, а право защиты перед уважаемым человеком… Поверьте, Николай Николаевич, что этим письмом, хотя и грубо, но ясно я стараюсь показать мое уважение к Вам… Ваши слова я объясняю невниманием к моим работам, которые страдают именно тем, что не заключают в себе одностороннего интереса, находящегося в обычных
К счастью, это письмо никогда не было отправлено, и мы теперь можем узнать, что думал Менделеев о путях химической науки в декабре 1869 года.
Сейчас с изумлением узнаешь, что большинство химиков восприняло периодическую систему лишь как удобное учебное пособие для студентов. В цитированном письме Зинину Дмитрий Иванович писал: «Если немцы не знают моих работ… я позабочусь о том, чтобы они знали». Выполняя это обещание, он попросил своего товарища химика Ф. Вредена перевести на немецкий язык его фундаментальную работу по периодическому закону, и, получив 15 ноября 1871 года типографские оттиски, он разослал их многим иностранным химикам. Но, увы, не только компетентного суждения, но вообще никакого ответа не получил на свои письма Дмитрий Иванович. Ни от Ж. Дюма, ни от А. Вюрца, ни от С. Канниццаро, Ж. Мариньяка, В. Одлинга, Г. Роско, X. Бломстранда, А. Байера и других химиков.
Дмитрий Иванович не мог понять, в чем дело. Он снова и снова перелистывал свою статью и снова и снова убеждался в том, что она полна захватывающего интереса. Разве не удивительно, что он, не производя никаких экспериментов и измерении и основываясь только на периодическом законе, доказал, что считавшийся ранее трехвалентным бериллии в действительности двухвалентен? Разве не доказана правильность периодического закона тем, что, исходя из него, Менделеев установил трехвалентность таллия, который раньше считался щелочным металлом? Разве не убедительно то, что Менделеев, исходя из периодического закона, приписал малоисследованному индию валентность, равную трем, что спустя несколько месяцев было подтверждено измерениями теплоемкости индия, сделанными Бунзеном? И тем не менее это ни в чем не убедило «папашу Бунзена». Когда один из молодых учеников попытался привлечь его внимание к менделеевской таблице, он только досадливо отмахнулся: «Да уйдите вы от меня с этими догадками. Такие правильности вы найдете и между числами биржевого листка». А нравящееся самому Дмитрию Ивановичу исправление атомных весов урана и ряда других элементов, продиктованное периодической законностью, вызвало лишь упрек со стороны германского физика Лотара Мейера, которому, по странной иронии судьбы, впоследствии пытались приписать приоритет в создании периодической системы. «Было бы поспешно, — писал он в «Либиховских анналах» о статьях Менделеева, — изменять доныне принятые атомные веса на основании столь непрочного исходного пункта».
У Менделеева начинало создаваться впечатление, что эти люди слушают — и не слышат, смотрят — и не видят. Не видят черным по белому написанных слов: «Система элементов имеет значение не только педагогическое, не только облегчает изучение разнообразных фактов, приводя их в порядок и связь, по имеет и чисто научное значение, открывая аналогии и указывая чрез то новые пути для изучения элементов». Не видят, что «по сих пор мы не имели никаких поводов предсказывать свойства неизвестных элементов, даже не могли судить о недостатке или отсутствии тех или других из них… Только слепой случай и особая прозорливость и наблюдательность вели к открытию новых элементов. Теоретического интереса в открытии новых элементов вовсе почти не было, и оттого важнейшая область химии, а именно изучение элементов, до сих пор привлекала к себе только немногих химиков. Закон периодичности открывает в этом последнем отношении новый путь, придавая особый, самостоятельный интерес даже таким элементам, как иттрии и эрбий, которыми до сих пор, должно сознаться, интересовались только весьма немногие».
Но больше всего поражало Менделеева равнодушие к тому, о чем сам он на склоне лет с гордостью писал: «Это был риск, но правильный и успешный». Убежденный в истинности периодического закона, он в разосланной многим химикам мира статье не только смело предсказал существование трех еще неоткрытых элементов, но и описал самым подробнейшим образом их свойства. Увидев, что это изумительное открытие тоже не заинтересовало химиков, Дмитрий Иванович предпринял было попытку сделать все эти открытия сам. Он съездил за границу для закупки минералов, содержащих, как ему казалось, искомые элементы. Он затеял исследование редкоземельных элементов. Он поручил студенту Н. Бауэру изготовить металлический уран и измерить его теплоемкость. Но масса других, научных тем и организационных дел нахлынула на него и легко отвлекла от работы, несвойственной складу его души. В начале 1870-х годов Дмитрий Иванович занялся изучением упругости газов и предоставил времени и событиям испытывать и проверять периодическую систему элементов, в истинности которой сам он был совершенно уверен.
«Писавши в 1871 году статью о приложении периодического закона к определению свойств еще не открытых элементов, я не думал, что доживу до оправдания этого следствия периодического закона, — вспоминал в одном из последних изданий «Основ химии» Менделеев, — но действительность ответила иначе. Описаны были мною три элемента: экабор, экаалюминий и экасилиций, и не прошло еще 20 лет, как я имел величайшую радость видеть все три открытыми…» И первым из трех был экаалюминий — галлий.
20 сентября 1875 года французский химик А. Вюрц на заседании Парижской академии вскрыл пакет, присланный на его имя, и зачитал письмо своего ученика П. Лекока де Буабодрана. «Между тремя и четырьмя часами ночи 27 августа 1875 года, — писал молодой исследователь, — я нашел признаки возможного существования нового элементарного вещества в продуктах, содержащихся в исследовавшейся мною обманке из Пьеррфитта…»
Когда на глаза Дмитрию Ивановичу в Докладах Парижской академии попалась заметка Лекока де Буабодрана, он сразу увидел, что открыт экаалюминий. «Элемент, открытый недавно Лекоком де Буабодраном и названный им галлием, — говорил он 6 ноября на заседании Русского химического общества, — как по способу открытия (спектром от искр), так и по свойствам, до сих пор наблюденным, совпадает с долженствующим существовать экаалюминием, свойства которого указаны четыре года назад». Одновременно Менделеев отправил письмо Буабодрану и заметку в Доклады Парижской академии. Поводом для письма и заметки послужили неточности, содержащиеся в сообщении французского химика; был неправильно охарактеризован ряд свойств галлия и его соединений. И настолько Дмитрий Иванович был убежден в своем периодическом законе, что он, никогда не державший в руках ни крупицы галлия и никогда не видавший его спектра, взялся поправлять человека, который в 1875 году считал себя знающим о галлии больше, чем кто-либо в мире.
Нетрудно представить себе раздражение Лекока де Буабодрана, когда неизвестный ему петербургский ученый взялся оспаривать и даже исправлять его измерения. Особенно обидным показалось французскому химику то, что Менделеев не только усомнился в измеренной им, Буабодраном, плотности галлия, равной 4,7, но даже указал, что она должна быть 5,9–6,0. Раззадоренный Буабодран со своим помощником Э. Юнгфлейшем снова взялся за эксперименты, и, когда через несколько месяцев он получил галлий в количествах, достаточных для более точных измерений, он с удивлением убедился, как поразительно точно полученные им числа совпадают с менделеевскими предсказаниями.
Итогом этого заочного спора было полное обоюдное удовлетворение. «Я думаю, нет необходимости настаивать на огромном значении подтверждения теоретических выводов г. Менделеева относительно плотности нового элемента» — так заключил свои исследования Лекок де Буабодран. «Эта статья показывает как мою научную смелость, так и мою уверенность в периодическом законе. Все оправдалось. Это мне имя» — так оценил свою заметку в Докладе Парижской академии Дмитрий Иванович.
Открытие галлия придало периодической системе ореол той драматичности, которая способна взволновать не только специалиста-химика, но любого человека, интересующегося судьбами и путями науки. «Экаалюминий получил свою реализацию в галлии, — писал тогда Ф. Энгельс. — Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты — Нептуна»[2].
Кроме Энгельса, открытие Менделеева с открытием Леверье сравнивали многие ученые, и это дало повод Николаю Николаевичу Бекетову высказать и свое мнение: «Открытие Леверье есть не только его слава, но главным образом слава совершенства самой астрономии, ее основных законов и совершенства тех математических приемов, которые присущи астрономам. Но здесь, в химии, не существовало того закона, который позволял бы предсказывать существование того или другого вещества… Этот закон был открыт и блестяще разработан самим Д. И. Менделеевым».
Но широкую общественность поразили не эти тонкости. Ее поразила красота и мощь научного предвидения. «Менделеев объявляет всему миру, что где-то во вселенной… должен найтись элемент, которого не видел еще человеческий глаз, — писал К. Тимирязев, — этот элемент находится, и тот, кто его находит при помощи своих чувств, видит его на первый раз хуже, чем видел его умственным взором Менделеев».
Отношение к периодическому закону и системе сразу переменилось после открытия галлия. Теперь уже всех интересовало, что писал в своих статьях и книгах Менделеев. И оказалось: Менделеев предсказывал существование одиннадцати (!) неизвестных элементов, которым он дал названия экацезий, экабарий, экабор, экаалюминий, экалантан, экасилиций, экатантал, экателлур, экамарганец, двимарганец и экайод. Поскольку положение большинства этих элементов в периодической системе было таково, что соседей справа и слева, сверху и снизу недоставало, а если и доставало, то свойства этих соседей были изучены плохо, Дмитрий Иванович смог подробно описать и вычислить свойства лишь для трех из них. Эти три элемента — экаалюминий, экабор и экасилиций, — по мнению Менделеева, должны были быть открыты раньше всех других. И можно лишь подивиться менделеевской интуиции. Именно эти три элемента были открыты в течение ближайших 15 лет, в то время как открытие 8 остальных затянулось еще на пятьдесят с лишним лет (экайод — астат — был открыт лишь в 1940 году).
После открытия галлия все эти предсказания быстро стали всеобщим достоянием, и когда в конце 1879 года шведский химик Л. Нильсон, профессор Упсальского университета, выделил из минералов эвксенита и гадолинита какой-то новый элемент, названный им скандием, другому упсальскому профессору — П. Клеве — не стоило большого труда увидеть, что это экабор. Поспешив сопоставить свойства скандия со свойствами Менделеевского экабора, Нильсон убедился: «Не остается никакого сомнения, что в скандии открыт экабор… так подтверждаются самым наглядным образом мысли русского химика, позволившие не только предвидеть существование названного простого тела, но и наперед дать его важнейшие свойства».
Открытие скандия отчасти нарушило ту последовательность событий, которую предвидел Менделеев. «Нужно надеяться, — писал он в 1875 году в заметке, посвященной открытию галлия, — что открытие экасилиция… будет скоро осуществлено. Его нужно искать прежде всего вместе с мышьяком и титаном». Но получилось так, что раньше был найден скандий — экабор, а открытие экасилиция затянулось на 11 лет…
«Милостивый государь.
Разрешите мне при сем передать Вам оттиск сообщения, из которого следует, что мною обнаружен новый элемент «германий».
Сначала я был того мнения, что этот элемент заполняет пробел между сурьмой и висмутом в Вашей замечательно проникновенно построенной периодической системе и что этот элемент совпадает с Вашей экасурьмой, но все указывает на то, что мы имеем дело с экасилицием.
Я надеюсь вскоре сообщить Вам более подробно об этом интересном веществе; сегодня я ограничиваюсь лишь тем, что уведомляю Вас о весьма вероятном новом триумфе Вашего гениального исследования и свидетельствую Вам свое почтение и глубокое уважение.
В тот самый день, 26 февраля, когда Винклер писал это письмо Менделееву, Менделеев писал письмо Винклеру. Об открытии германия он узнал из статьи, опубликованной Винклером в немецком химическом журнале «Berichte der Deutschen chemischen Gesselschaft». Взволнованный, радостный вошел он утром в университетскую лабораторию Бутлерова и, потрясая свежим номером «Berichte», сказал присутствующим, что Винклер открыл новый элемент — германий — и помещает его в V группу периодической системы. «Только нет, он ошибается, германию место не в V, а в IV группе. Это экасилиций. Я сейчас буду писать Винклеру».
В своей журнальной статье Винклер действительно ошибался, и сразу же после выхода «Berichte» два прекрасных химика написали ему об этом. Первым пришло письмо от старого «периодикера» — сторонника периодического закона — В. Рихтера из Бреславля, чуть позже — от Лотара Мейера из Тюбингена. И к 26 февраля Винклер уже понял, что его коллеги правы и что открытый им германий — экасилиций. Винклер ни минуты не сомневался, что и Менделеев не преминет сообщить ему об ошибке. Спеша предупредить события, Винклер 26 февраля написал Менделееву письмо, в котором утвердительно указывал на то, что открыт именно экасилиций — германий. Таким образом, с этим элементом повторилась история, приключившаяся в свое время со скандием. Тогда Нильсон открыл и дал название новому элементу, а Клеве подсказал ему, что скандии — это экабор. И теперь, семь лет спустя, Винклер открыл и назвал новый элемент, а Рихтер подсказал ему, что германий — это экасилиций.
Конечно, имена всех троих первооткрывателей предсказанных Менделеевым элементов были равно милы его сердцу: «Л. де Буабодрана, Нильсона и Винклера… я, с своей стороны, считаю истинными укрепителями периодического закона». Но, в сущности, драматические обстоятельства открытия галлия больше всего способствовали признанию важности и ценности периодической системы. И если поначалу о периодической системе не говорили вообще или говорили как о построении любопытном, но лишенном научного значения, то после открытия галлия появилось немало химиков, претендующих разделить с Менделеевым славу его открытия или доказать, что раньше Менделеева такую же систему разработали их соотечественники. Ученые, не удостоившие Менделеева ответом, когда он рассылал им оттиски первого варианта своей системы и свои эпохальные статьи по периодическому закону, теперь наперебой спешили указать, что все было сделано до него и не им. Что еще в 1829 году немецкий химик И. Деберейнер выделил триады сходственных элементов. Что с 1857 года английский химик В. Одлинг опубликовал несколько таблиц элементов. Что в 1863 году француз Б. Шанкуртуа составил свою знаменитую спиральную систему — vis tellurique — земной винт. Что в 1864-м и 1867-м Лотар Мейер опубликовал свои таблицы. Что, наконец, в 1865 году англичанин И. Ньюлендс разработал знаменитый закон октав, который не что иное, как периодический закон.
Отголоски этих событии сохранились в примечаниях Дмитрия Ивановича к «Основам химии». «…Мне были неизвестны труды, предшествовавшие моим: Шанкуртуа… во Франции и Ньюлендса… в Англии, хотя в этих трудах видны некоторые зародыши периодического закона». Но этих зародышей было, конечно, недостаточно для того, чтобы всерьез противопоставлять наброски этих ученых совершенному творению Менделеева. «Тесные рамки системы Ньюлендса, — писали в 1930 году Э. Тило и Е. Рабинович, — характерны для труда систематика, умеющего классифицировать уже известное, но не имеющего чутья к тому, что еще может быть найдено. Напротив, vis tellurique Шанкуртуа есть спекуляция теоретика, потерявшего сознание реальности и руководимого только своей фантазией. На этих примерах видно, что необходима была научная интуиция для того, чтобы…создать систему элементов, которая была бы не слишком просторна, замкнута и в то же время достаточно эластична, чтобы быть в состоянии включить в себя все будущие открытия в области исследования элементов».
Что же касается Лотара Мейера, то спустя много лет он сам отказался от своих притязании: «Я открыто сознаюсь, что у меня не хватило смелости для таких дальновидных предположении, какие с уверенностью высказал Менделеев».
Казалось бы, естественно было ожидать, что с 1868 по 1872 год Менделеев работал только над периодическим законом и периодической системой. Но, как это ни удивительно, великое открытие отнюдь не поглотило целиком внимания Дмитрия Ивановича, который одновременно занимался исследованиями по весьма далеким одна от другой научным проблемам. Конечно, в центре его внимания находились эксперименты, связанные с работой над «Основами химии», и всякий, кто желал приложить к делу свои руки, свое старание, свой труд, мог сразу же получить от Менделеева готовую, никем не тронутую важную тему. И когда осенью 1870 года в университетской лаборатории появился Сеченов, оставшийся не у дел после конфликта с начальством Медико-хирургической академии, Дмитрий Иванович был вне себя от радости.
«…Он дал мне тему, — вспоминает Сеченов, — рассказав, как приготовлять… азотистометиловый эфир, что делать с ним, дал мне комнату, посуду, материалы, и я с великим удовольствием принялся за работу… Быть учеником такого учителя, как Менделеев, было, конечно, и приятно, и полезно, но я уж слишком много вкусил от физиологии, чтобы изменить ей, и химиком не сделался». Дмитрий Иванович, разумеется, не ставил себе целью перекрестить Сеченова из физиологов в химики. Просто он был благодарен своему другу за помощь в исследовании азотистых соединений.
Пока Сеченов возился с реактивами, Дмитрий Иванович, помимо своих теоретических изысканий, руководил завершением анализов почв. Опыты с удобрением показали ему, что главная беда русского земледелия — недостаток навоза вследствие слабого развития травосеяния и скотоводства. Поэтому вскоре его внимание закономерно переключилось на изучение скотоводства. И здесь Менделеев с изумлением увидел почти такую же путаницу и неясность во взглядах, как и в вопросе об искусственных удобрениях. Если в земледелии русские хозяева уповали на фосфорные удобрения, то в животноводстве они уповали на племенные породы, слывущие за отличные на Западе. Дмитрий Иванович быстро понял, в чем суть проблемы: «Где корм недостаточно хорош… — писал он, — там никакое расовое (племенное. — Г. С.) стадо не может дать значительных удоев… Если чего недостает для нашего крестьянского скотоводства… так это, мне кажется, не породы скота, и обыкновенная порода может быть производительною, а недостает корма — вот где корень дела».
Но, сделав очередной шаг, Менделеев столкнулся с новой проблемой: увеличение кормовой базы требует немалых средств. Средства эти должен дать сбыт продуктов животноводства. Сбыт продуктов зависит от спроса и предложения. А что мелкое крестьянское хозяйство могло предложить, кроме молока? Помещик Н. Верещагин — брат знаменитого художника-баталиста — завел артельные сыроварни, куда крестьяне из нескольких окрестных деревень могли свозить молоко, не находившее сбыта. Выручка от продажи сыров могла бы стать важным подспорьем, содействующим развитию крестьянского скотоводства.
Идеей Верещагина заинтересовалось Вольное экономическое общество, поручившее своему деятельному члену Д. И. Менделееву ознакомиться с постановкой артельного сыроварения на месте. Письмо А. Ходнева по поводу обследования сыроварен Дмитрий Иванович получил в феврале 1869 года. И именно на обороте этого письма Менделеев набросал первые сопоставления групп элементов по их атомным весам. Написанные тогда Менделеевым буквы и цифры стали причиной того, что просьба, положенная в самом письме, была выполнена с опозданием почти на 10 месяцев. Лишь в рождественские праздники 1869 года он смог объехать сыроварни Верещагина в Новгородской и Тверской губерниях и сделать о них доклад.
Так, начав с чисто научного вопроса о действии удобрений, Менделеев по неотвратимой логике жизни снова и снова упирался в отношения чисто экономические. Его трезвая ясная мысль металась в замкнутом кругу умозаключений: чтобы увеличить производительность русского сельского хозяйства, нужно повысить урожайность; чтобы повысить урожайность, нужен навоз; чтобы получить навоз, нужно развить скотоводство; чтобы развить скотоводство, нужен капитал; чтобы добыть капитал, необходимо увеличить производительность сельского хозяйства… И так до бесконечности.
«Так я мучился долго, убегал и в убежище чистой науки — не помогало», — писал он впоследствии.
По всей видимости, именно сыроварни натолкнули Дмитрия Ивановича на мысль об упреждении «Общества для содействия сельскохозяйственному труду». Это общество должно было кредитовать своих пайщиков и брать на себя сбыт всех сельскохозяйственных продуктов, ими произведенных. Но проект этот, столь же простой, сколь и утопический, не был поддержан Вольным экономическим обществом.
«Пора на то, видно, еще не пришла, если на то внимание никто не обращал, — вспоминал Менделеев. — Кончил тем, что увидел одну возможность — покровительством создавать новый класс людей и новую чуткость — а те спят и посейчас. Здесь мои первые экономические мысли». Но не настало еще Менделееву время заниматься экономическими трудами. Их черед пришел лишь 20 лет спустя. Тогда же, в 1872 году, внимание Дмитрия Ивановича сосредоточилось на другой проблеме.
Построив изумительное здание периодической системы, Дмитрий Иванович не преуспел в открытии экасилиция и других предсказанных им элементов, в исследовании редких земель и физико-химических свойств урана. С 1872 года он неожиданно для всех прекращает все эти попытки, и можно лишь дивиться мудрости менделеевского решения. Ведь следующее тридцатилетие оказалось бесплодным для проникновения в суть периодичности, и посвяти Дмитрий Иванович всю свою дальнейшую жизнь поискам причин периодичности, он извел бы себя неудачами и бросил бы тень на свое великое открытие. От такой судьбы Менделеева сберегло его изумительное чутье: «Периодическая изменяемость простых и сложных тел подчиняется некоторому высшему закону, природу которого, а тем более причину, ныне еще нет средства охватить, — писал он. — По всей вероятности, она кроется в основных началах внутренней механики атомов и частиц…»
Некогда Дмитрий Иванович начал заниматься физико-химическими исследованиями в надежде на то, что они приведут его к пониманию глубинных законов «внутренней механики атомов и частиц» и помогут ему найти принцип естественной классификации элементов. И вот теперь он с удивлением убеждался, что, по сути дела, его физико-химические работы не облегчили ему поиски и не сыграли почти никакой роли в открытии периодического закона. О том, что этот парадокс занимал мысли Менделеева, свидетельствует надпись, сделанная его рукой на личном экземпляре «Основ химии». «Естествознание учит, как формы, внешность отвечает внутренности… Мы постигаем только внешность, а значит, и сущность на основе этого. Так кристаллическая форма и вид соли отвечают их внутреннему виду… Это равновесие внешнего с внутренним проявляется, когда мы музыкою, игрою лица, живописью узнали внутреннее — это секрет знания».
Секрет менделеевского знания — колоссальный запас сведении о «внешности» элементов и их соединений. Тот запас, который позволил ему, минуя неизвестные тому веку законы микромира, создать систему элементов столь совершенную, что она сама стала ключом к «внутренней механике атомов», появившейся полстолетия спустя. И к чести Менделеева нужно сказать: он первым сделал попытку воспользоваться этим ключом. Стремясь через «внешнее» — атомные веса, химические соединения и т. д. — постичь «внутреннее» — силы сцепления, формы и размеры атомов и молекул, — Менделеев решил выяснить, чем отличается поведение реальных газов от идеального, введенного в науку еще в XVIII веке петербургским академиком Даниилом Бернулли. За идеальный Бернулли предлагал считать такой газ, атомы которого лишены собственного объема и не притягиваются друг к другу. Совершенно очевидно, что если реальные газы ведут себя отлично от идеального, то в этом отличии самым прямым непосредственным образом проявляется влияние собственного объема атомов и сил притяжения между ними. Нельзя сказать, чтобы Менделеев был первым, кто заинтересовался этими отклонениями.
За двадцать лет до него исследованием сжимаемости, газов занимался знаменитый А. Реньо. Относясь скептически к теориям, этот французский физик достиг в своих измерениях точности почти астрономической. Тысячи мелких предосторожностей, неутомимый контроль, громадные манометры, вдоль которых наблюдатель поднимался на платформе по рельсам, — все это создало Реньо славу непревзойденного измерителя. Испытав на своем уникальном оборудовании множество различных газов, Реньо убедился: до 30 атмосфер почти все они по мере увеличения давления сжимаются легче, чем идеальный газ. Например, чтобы в 20 раз уменьшить объем воздуха, давление нужно увеличить в 19,7 раза. Углекислоту сжать еще легче: двадцатикратное сокращение объема получается при увеличении давления в 16,7 раза. Один лишь водород — исключение из общего правила: чем выше давление, тем труднее его сжимать.
Спустя несколько лет австриец Н. Наттерер довел давление до 3600 атмосфер. И хотя точность его цифр ни в какое сравнение не идет с цифрами Реньо, они убедительно показали: при высоких давлениях все газы ведут себя как водород. Их сжимать тем труднее, чем выше давление. Так, при 3600 атмосферах объем воздуха уменьшился лишь в 800 раз, а водорода — в 1040 раз. Опыты Наттерера показали, что зависимость между сжимаемостью и давлением у реальных газов довольно запутанная. При больших давлениях газы сжимаются труднее, чем идеальный. При уменьшении давления наступает момент, когда реальный газ ведет себя как идеальный. Но если опуститься ниже этого давления, снова возникает отклонение — реальный газ становится более сжимаемым, нежели идеальный.
Таково было состояние учения о газах к началу 1872 года, когда в лаборатории Менделеева появился Петр Аркадьевич Кочубей, председатель Русского технического общества. Дмитрий Иванович в это время готовил статью «О сжимаемости газов». Кочубея заинтересовала тема менделеевского исследования. Как человек опытный, он сразу понял, какую огромную ценность для русской техники могут представить измерения газовых констант, проведенные таким скрупулезным экспериментатором, каков Менделеев. (Заметим, кстати, что и Реньо свои точнейшие опыты вел по заказу министра общественных работ Франции, понимавшего, как важно получить точные числовые данные для расчета паровых машин.) Поэтому Кочубей не просто одобрил планы Дмитрия Ивановича, но и добился, чтобы Русское техническое общество взялось финансировать работы, проводимые по этим планам. Этих средств хватило не только на то, чтобы закупить весьма ценное оборудование, но и привлечь к работе талантливых сотрудников: М. Кирпичева, И. Богусского, Ф. Капустина, И. Каяндера, В. Гемилиана и других. И уже в 1874 году в печати начали появляться первые сообщения о результатах этих работ.
Стремясь уяснить себе общую картину, Менделеев вывел новую формулу состояния газов, по которой, не производя никаких измерении, можно было легко и быстро установить, как зависит поведение различных газов от величины их молекулярного веса. Благодаря именно этой формуле Дмитрий Иванович направил свое внимание на самые легкие газообразные вещества, которые оказались наделенными значительно более яркими индивидуальными чертами, чем газы с большим молекулярным весом. И на склоне лет он с оправданной гордостью писал: «Считаю эту формулу (мною данную) существенно важною в физико-химическом смысле». Но конечно, самым неожиданным и удивительным результатом, полученным Менделеевым, было поведение газов при низких давлениях.
После опытов Реньо считалось, что чем разреженнее реальный газ, тем ближе он к идеальному. Дмитрий Иванович со своими сотрудниками установил, что это положение не соответствует действительности и что все газы без исключения при значительном разрежении приближаются к твердым и жидким телам по своей способности сжиматься. Это открытие навело его на мысль постепенным понижением давления дойти до уничтожения упругости газа, то есть до прекращения дальнейшего расширения. Столь удивительное следствие из обнаруженной зависимости придало новое направление мыслям Менделеева. Быстро перебрав массу возможностей, он обнаружил одну, которая сулила дать ключ к решению самого животрепещущего вопроса в науке того времени — вопроса о мировом эфире.
Трезвые, практичные основоположники механики справедливо полагали, что невозможно представить себе движение без материального носителя, движения, в котором движется ничто. И с тех пор как великие механики Гюйгенс и Ньютон обратили свое внимание на оптические явления, в науке утвердились две теории, объяснявшие движение света. Ньютон считал свет потоком частиц — корпускул, летящих сквозь пустое мировое пространство. Гюйгенс же считал световой луч волной, распространяющейся в особой среде, заполняющей все мировое пространство. Эта среда, получившая название светового эфира, оказалась в центре особого внимания ученых с 1854 года…
Около двухсот лет соседствовали, конкурируя, две видимым образом исключающие друг друга теории света — корпускулярная и волновая. Но постепенно вторая брала верх над первой, и в 1854 году, когда Л. Фуко прямым измерением показал, что теория истечения опровергается опытом, волновая теория восторжествовала окончательно. И ее торжество сделало мировой эфир центральным вопросом науки во второй половине XIX века.
Поведение сильно разреженных газов навело Дмитрия Ивановича на мысль об эфире. Их необычное отклонение от поведения идеального газа, по мере того как понижается давление, представлялось ему переходом к световому эфиру, наполняющему межпланетное и межзвездное пространство. Много лет спустя, когда световым эфиром начали заниматься такие ученые, как лорд Кельвин, Г. Лоренц, В. Крукс, Менделеев так писал об идеях, которые он разрабатывал в 1874 году: «Если… представим себе, что газы способны разрежаться лишь до определенного предела, достигнув которого (подобно твердым телам) мало меняют свой объем с уменьшением давления, то… станет понятным переход атмосферы в верхних ее пределах в однообразную эфирную среду… В этой области сильно разреженных газов наши представления ничтожны… а их восполнение обещает многое уяснить в природе. К трем состояниям вещества (твердому, жидкому и газовому), быть может, должно прибавить еще и четвертое — эфирное (как предлагал уже Крукс), подразумевая под ним вещество в крайнем возможном для него разрежении».
И все-таки эта важная и интересная работа не была доведена до конца. Внешне все выглядело буднично, как обычные неурядицы: «Бросил, я опыты по многим причинам, а главное: 1) Кирпичев, главный сотрудник, помер; 2) Гемилиана — другого — сам я устроил в Варшаву; 3) Ф. Я. Капустин уехал в Кронштадт; 4) Богусский уехал в Варшаву и т. д. — лишился помощников, а денег давали мало, претензий же заявляли (Львов, Кочубей, Гадолин) много, а я тогда решил жениться во второй раз, и время было мало». Но, думается, не из-за этих неурядиц Дмитрий Иванович охладел к изучению газов. По справедливому мнению исследователя менделеевского творчества А. Макарени, Менделееву, с его широтой интересов, с его стремлением проникнуть в глубинные тайны материи, просто не хватало «знаний эпохи» и технических средств. «Он выдвигал проблемы, для решения которых требовались «усилия» различных наук, но последние различались своей теоретической и экспериментальной оснащенностью; их точность была далеко не одинаковой… Вместо целеустремленного проникновения в глубь материи Д. И. Менделееву приходится выбирать другой путь — путь многоплановых исследований вширь».
Но какие бы причины ни побудили Менделеева оставить работу над газами, он сам всегда высоко ценил полученные результаты. «Когда работа… при многократном повторении показала явные и неожиданные отступления от Бойль-Мариоттова закона в разреженном воздухе, я решился это сообщить. Это оправдалось потом с разных сторон… но и по сих пор на этот значительный факт обращают мало внимания — а жаль, он важен теоретически. Считаю эту свою работу значительною».
«Над нашей квартирой были аудитории, выходившие в длинный коридор, тянувшийся во всю длину университета, — вспоминает Ольга, дочь Дмитрия Ивановича, — и утром я в детской слышала несшийся сверху равномерный шум сотен ног. Этот шум напоминает мне теперь отдаленный шум моря или леса, а тогда я знала, что отец мой сегодня читает лекцию».
И действительно, аудитория, где читал Дмитрий Иванович, всегда была полна слушателей. Больше всего народу собиралось на его первую в учебном году лекцию и на лекцию о периодическом законе. В эти дни в аудиторию приходили студенты со всех факультетов. И в памяти десятков русских химиков, инженеров, врачей навсегда запечатлелось величественное и волнующее зрелище — лекция Менделеева.
Обычно слушатели сходились в менделеевскую аудиторию пораньше. Собирались группами, переговаривались, расхаживали. Подсмеивались над служителем Алешей, который устанавливал нужные для лекции приборы и ворчал на смельчаков, рискнувших подойти к кафедре и потрогать стеклянные колбы и трубки. Но вот все подготовлено и наступает торжественная минута. Из маленькой двери, ведущей в препаровочную, появляется неуклюжая, сутулая фигура Менделеева, одно появление которой вызывает аплодисменты. Дмитрий Иванович, идя к кафедре, кланяется собравшимся, машет руками, прося тишины. Потом терпеливо ждет и, стоя на кафедре, пытается остановить аплодисменты: «Ну к чему хлопать? Только ладоши отобьете». Наконец наступает тишина, и Менделеев начинает говорить.
Первые фразы почти всегда приводили в недоумение людей, слушавших его впервые. Им становилось даже неловко за лектора, который подолгу подыскивал нужное слово, высоким плачущим голосом тянул «э-э-э-как сказать». Потом это нытье вдруг сменялось скороговоркой, затем следовали внятные, отчеканенные фразы, произносимые сильным звучным голосом, и постепенно магия менделеевской речи завораживает аудиторию. Строй речи, интонация, громкость голоса, внушительная жестикуляция в точности повторяют самый ход менделеевской мысли, то убыстряющейся — когда приводились промежуточные выкладки, то замедляющейся — когда обсуждался важный вывод.
«Фразы Менделеева не отличались ни округленностью, ни грамматической правильностью, — писал бывший ученик Дмитрия Ивановича профессор Б. Вейнберг, автор брошюры, посвященной лекторскому искусству Менделеева, — иной раз они были лаконически кратко выразительны, иной раз, когда набегавшие мысли нажимали друг на друга, как льдины на заторах во время ледохода, фразы нагромождались бесформенно: получались периоды чуть не из десятка нанизанных друг за другом и друг в друге придаточных предложении, зачастую прерывавшихся новою мыслью, новою фразою и то приходивших… к благополучному окончанию, то остававшихся незаконченными».
Сотрудники, помногу лет работавшие с Менделеевым, говорили, что Дмитрий Иванович очень тщательно готовился к лекциям и требовал такой же тщательности от лаборантов. Слушателям казалось, что на его лекциях все происходит словно по волшебству. Когда с кафедры Дмитрий Иванович говорил, что соединение того-то с тем-то производит кипение или взрыв, то кипение или взрыв должны были следовать сразу же за его словами. «Водород горит в кислороде», — произносил Менделеев, оборачивался и видел: водород горит в кислороде. «Но и кислород может гореть в водороде», — говорил профессор, снова оборачивался и видел: кислород горит в водороде. Стоит ли говорить, что такая слаженность и четкость давалась лаборантам и служителям дорогой ценой.
В Петербурге с его Горным, Технологическим и другими институтами, Медико-хирургической академией и т. д. читали лекции многие отличные химики, блестящие лекторы и искусные экспериментаторы. И тем не менее студенты предпочитали им всем лекции «корявого», как он сам себя называл, Менделеева. Происходило это не случайно, ибо лекции его не были лекциями просто по общей химии. Они изобиловали частыми отступлениями в другие области — в физику, астрономию, биологию, геологию. Дмитрий Иванович часто приводил примеры из истории химии, ссылался на опыт применения химии в промышленности. Он призывал слушателей разрабатывать природные богатства родины, поднимать ее благосостояние и независимость. При этом он старался воспользоваться любым поводом, чтобы еще и еще подчеркнуть важность фабрично-заводского дела для судеб России.
Иногда он настолько увлекался такими отступлениями, что не замечал, как далеко он отошел от курса. Тогда, спохватываясь, он останавливался, улыбался и, разглаживая бороду, произносил: «Это я все наговорил лишнее, вы не записывайте».
Но, несмотря на эти отступления, на «корявость», на отсутствие формального блеска, студенты прекрасно понимали, в чем притягательность менделеевских лекции. Дмитрий Иванович не пичкал их сведениями, но прививал им умение наблюдать и думать, умение, которого не может дать ни учебник, ни одна книга. Сам Менделеев тоже знал, что секрет успеха его преподавательской деятельности очень прост и очень поэтому труден: «Ко мне в аудиторию ломились не ради красных слов, а ради мыслей».
Ньютон, положивший закон о равенстве действия и противодействия в основу механики, едва ли подозревал, что через сто лет после его смерти принцип, открытый им в механике, найдет себе неожиданное подтверждение в общественной жизни Западной Европы, где мощное «научное действие» породило своего рода «антинаучное противодействие». И в то время как под напором науки одна за другой капитулировали проблемы, некогда провозглашенные неподвластными научной мысли, в нестойких умах укоренялись тени науки — мистика, оккультизм, спиритизм.
В лабораториях ученых простейшие молекулы ацетилена без всякого вмешательства «жизненной силы» соединялись в молекулы сложных кислот, жиров и углеводов, а в затемненных салонах и гостиных обычные стуки, скрипы, дрожания столов выдавались за проявление невидимых таинственных сил.
В лабораториях ученых с помощью спектроскопов открывались вещества, из которых состоят звезды, удаленные на миллиарды километров от Земли, а в затемненных салонах и гостиных сообразительные и нечистые на руку «медиумы» морочили публику с помощью до смешного простых фокусов.
В лабораториях ученых одна за другой раскрывались тайны живой материн, а в затемненных салонах и гостиных ничтожнейшие клерки тешили себя уверенностью, что тени давно умерших великих мыслителей, полководцев и государственных деятелей поспешат явиться на их зов.
Некоторое время точное знание и вера в чудо, наука и антинаука шли параллельными курсами, которые нигде не пересекались: ученые занимались своим делом, а экзальтированная малообразованная публика развлекалась столоверчением и медиумами. Казалось, стоит только соприкоснуться этим течениям — и произойдет взрыв, но вместо взрыва произошло чудо — единственное настоящее чудо спиритического учения.
Произвели это чудо представители английской научной школы, гордящейся и даже кичащейся своей осторожностью, трезвостью, приверженностью к фактам и пренебрежением к умозрению. И возглавляли когорту этих «чудодеев» такие люди, как натуралист А. Уоллес, одновременно с Ч. Дарвином выдвинувший теорию происхождения видов, В. Крукс, открывший элемент таллий и исследовавший электрический разряд в газах, О. Лодж, известный своими работами в области радиоволн.
Конечно, в том, что такие ученые заинтересовались спиритизмом, нет ничего, что порочило бы их научный авторитет. Всякое непонятное явление достойно изучения. Но беда вся в том, что, привыкнув иметь дело с газами, жидкостями и кристаллами, эти ученые не провели различия между такими объектами и человеческим мозгом — объектом не только очень сложным, но объектом, наделенным памятью, страстями, хитростью. И если кристаллу или газу нет смысла вводить исследователя в заблуждение, то человеку, небескорыстно утверждающему, что он общается с загробным миром, такой смысл есть. Чудо легковерия, сотворенное английскими учеными, произошло не тогда, когда они заинтересовались спиритизмом. И даже не тогда, когда они дали себя обмануть. Оно произошло тогда, когда они продемонстрировали странное и непонятное желание оставаться обманутыми, когда они потребовали, чтобы им верили на слово, когда они уличенных в мошенничестве медиумов взяли под свою защиту и объясняли их мошенничество утомлением или даже тем, что обманывал-де не сам медиум, а его подсознательное «я».
Невозможно без изумления читать статьи Крукса, повествующие о произведенных им спиритических экспериментах: «Вот уже несколько лет, как одна молодая дама, мисс Флоренс Кук обнаруживает замечательные медиумические качества; в последнее время она дошла до того, что производит целую женскую фигуру, которая, судя по всему, происходит из мира духов и появляется босиком, в белом развевающемся одеянии, между тем как медиум, одетый в темное и связанный, лежит в глубоком сне в занавешенном помещении… или в соседней комнате». Простодушный Крукс, даже перед лицом столь очевидного чуда не потерявший самообладания, поспешил пустить в ход все свое обаяние, чтобы войти в доверие к очаровательному духу. И он так преуспел в этом намерении, что вскоре дух стал запросто появляться в доме ученого и даже болтать с его детьми о своих приключениях в Индии. Наконец, дело дошло до того, что дух стал полностью доверять Круксу, позволял обнимать себя, измерять пульс и дыхание и согласился даже сфотографироваться рядом с ученым.
Альфред Уоллес развлекал читателей рассказами еще более чудесными. Он утверждал, что лично был свидетелем того, как некая госпожа Гуппи, «одна из дороднейших дам Лондона», перенеслась по воздуху из своей квартиры в одни дом, где проводился спиритический сеанс. И хотя, утверждал Уоллес, все двери этого дома были крепко заперты, внезапное вторжение госпожи Гуппи не оставило ни малейшего отверстия ни в дверях, ни в потолке.
Когда такие истории рассказывают всякого рода странники, невежественные обыватели или доморощенные ясновидцы, их воздействие на общество ничтожно, ибо всякий здравомыслящий ум легко увидит в них шутку, мистификацию, мошенничество или просто проявление безотчетного лганья. Но когда их начинают рассказывать ученые, известные своими выдающимися открытиями, тогда становится страшно. Тогда сразу выявляется, что истинный смысл погони за чудесным — это жестокая борьба, которая издавна ведется церковью против науки, мракобесием против разума. И к чести прогрессивных ученых прошлого столетия следует сказать, что они не замедлили возвысить свои голос против «чертобесия», которое их менее стойкие коллеги попытались перевести на научную основу.
Когда Либиха попросили прочитать лекцию о таинственных силах, действующих в спиритических явлениях, он желчно ответил, что видит здесь не «силу», а одну лишь слабость ума. Английский биолог Гексли на приглашение комитета по изучению медиумических явлении ответил саркастическим отказом: «Лучше жить в качестве подметальщика улиц, чем в качестве покойника болтать чепуху устами какого-нибудь медиума, получающего гинею за сеанс».
Моду на столоверчение и вызывание духов завезли в Россию те многочисленные шалопаи, которые, по словам М. Салтыкова-Щедрина, изучали Западную Европу «с точки зрения милой безделицы». Поначалу спиритическими сеансами забавлялись в светских салопах, но мало-помалу заграничная новинка получила широкое распространение. Тогда-то пошли разговоры, что спиритизм-де «мост для перехода от знания физических явлении к познанию психических»; что спиритизм-де прогрессивный путь в науке. И когда наконец в России появились ученые — последователи Крукса и Уоллеса, Менделеев понял, что больше медлить нельзя. Решение выступить против спиритизма далось Дмитрию Ивановичу нелегко, так как главными его оппонентами должны были стать его коллеги по университету профессора А. Бутлеров и Н. Вагнер.
Горячим пропагандистом спиритизма в России выступил Александр Аксаков, одни из представителей известной семьи Аксаковых. Ему удалось увлечь модным учением Бутлерова, Бутлеров склонил Вагнера. Не обращаясь к содействию ученых обществ, оба профессора стали печатать статьи о спиритизме в газетах и в литературных журналах, апеллируя таким образом прямо к обществу. Это и возмутило Менделеева, который считал, что, прежде чем публиковать такие статьи, следовало бы тщательно изучить факты.
«Комиссия для рассмотрения медиумических явлении», учрежденная Русским физическим обществом по настоянию Менделеева, впервые собралась 6 мая 1875 года. В этот день в университетскую квартиру Менделеева съехались все члены комиссии — 12 профессоров петербургских учебных заведении. Аксаков, Бутлеров и Вагнер поначалу с радостью согласились участвовать в работе комиссии. Аксаков взялся раздобыть медиумов и через полгода, в конце октября, действительно привез из Англии двух медиумов — братьев Петти, из которых старшему было лет 17–19, а младшему — 12–14. Дмитрий Иванович предоставил для заседании комиссии свою квартиру.
И вот окна заколочены двойным слоем плотного коленкора, свет лампы создает в комнате таинственную полутьму, музыкальный ящик, приобретенный по требованию медиумов, наполняет комнату звуками… Все собравшиеся чувствуют себя неловко. Членов комиссии угнетает мысль, что они участвуют в каком-то некрасивом, постыдном деле. «Я не мог бы приступить еще раз к занятиям такого же рода без чувства отвращения и даже унижения, — вспоминал потом друг Менделеева профессор Ф. Петрушевский, — так как вся требуемая сторонниками спиритизма обстановка этих занятий странна, деспотически подавляет свободную пытливость и вообще бесконечно далека от всего, чего требует точная и гласная наука». Спириты — Аксаков, Бутлеров, Вагнер — тоже были не в своей тарелке, видя всеобщее недоброжелательство к развязным и самонадеянным медиумам, которым они покровительствовали.
Самые простые меры предосторожности, предпринятые медиумической комиссией, развеяли ореол таинственности, и братья Петти признаны были обманщиками.
Раздосадованный Аксаков отправил семейство Петти назад в Англию и в начале следующего, 1876 года привез оттуда нового медиума — некую госпожу Клайер, медиумические способности которой были изучены и подтверждены самим Круксом.
Первые опыты госпожи Клайер привели спиритов в восторг: столы у нее ходили «как собачки». Они скользили по полу, и подпрыгивали, и качались во все стороны, неоспоримо, как казалось спиритам, доказывая, что все это проделки духов. И вот тогда-то Менделеев преподнес свой первый сюрприз — манометрический стол. Столешница у него не соединялась жестко с ножками, а свободно лежала на резиновых подушках, наполненных жидкостью и соединенных с манометрами. Чувствительность этих манометров была такова, что, когда кто-нибудь из участников опыта клал руки на столешницу, манометры отмечали даже его дыхание. Если бы при наложении рук стол начал бы скользить по полу, а показания манометров при этом оставались бы неизменными, наличие медиумической силы у госпожи Клайер можно было бы считать доказанным. Учуяв опасность, Клайер объявила, что манометрический стол не располагает-де «духов» к общению.
Неуклюжие попытки спиритов сохранить хорошую мину при плохой игре в конце концов переполнили чашу терпения членов медиумической, комиссии.
Вскоре она закончила свою работу и вынесла окончательны и приговор: «Спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие…»
Иногда ложь принимает обличье столь обширное и многообразное, что невозможно разоблачить ее одним метким и точным словом, одной короткой и ясной мыслью. И тогда слово истины начинает мельчиться, расплываться, терять убедительную силу. В глубине души Дмитрий Иванович чувствовал, что спиритизм как раз и есть такая трудноискоренимая многообразная ложь. И на последней странице изданных им «Материалов для суждений о спиритизме» он писал: «…жаль, что вмешался. Печалюсь и грущу, потому что вижу, как правду хочет оседлать кривда, не мытьем хочет взять, так катаньем».
Спустя четверть века Менделеев оценивал работу комиссии и свои собственные хлопоты гораздо оптимистичнее. «Когда А. М. Бутлеров и И. П. Вагнер стали очень проповедовать спиритизм, я решился бороться против суеверия… Противу профессорского авторитета следовало действовать профессорам же. Результата достигли: бросили спиритизм. Не каюсь, что хлопотал много».
Участие Дмитрия Ивановича в работах медиумической комиссии на первый взгляд может показаться отходом от изучения тех научных проблем, которыми он занимался в середине 1870-х годов. Но в действительности это было не так. Менделеева тогда увлекал вопрос о природе светового эфира — той таинственной субстанции, противоречивые свойства которой ставили в тупик ученых прошлого века и без которой все-таки они не мыслили дальнейшее развитие физики. Спириты, спекулируя на сложности этого понятия, поспешили связать медиумические явления с эфиром и заселить заполненное им мировое пространство духами умерших людей. Они утверждали, что, по всей видимости, в момент смерти какой-то отблеск нашего существа, какой-то духовный силуэт отпечатывается в эфирной среде. И этот бледный образ продолжает витать в величавой леденящей бесконечности, где его ничто больше не питает и где он постепенно гаснет.
Менделеев, которому эфир представлялся вполне материальным телом — сильно разреженным газом, — не мог принимать эти измышления всерьез. Разоблачение медиумов, образно говоря, очистило межпланетное пространство от непрошеных пришельцев — духов, и Дмитрий Иванович с радостью вернулся к своим научным изысканиям в области метеорологии.
Трудно найти явления, от которых человечество зависело бы сильнее и с которыми его существование было бы связано теснее, чем явления метеорологические. Так, от климата — статики метеорологии — зависели расселение народов по поверхности земного шара, обычаи и образ жизни, основной род занятий. Другой раздел метеорологии, темпестология, изучает погоду — те стремительные отклонения от предписаний климатологии, от которых зависит урожай, безопасность жилищ и дорог, а подчас и сама жизнь населяющих данную местность людей. И если то, что касается климата, более или менее предсказуемо, как предсказуема смена времен года или местонахождение жарких стран близ экватора, а холодных — у полюсов, то погода — дело совсем иное. Содрав с Земли ее воздушную оболочку, мы убедились бы, что, образно говоря, климат ее не изменился бы, а погода исчезла бы, ибо погода обусловлена стремительными, прихотливыми и труднопредсказуемыми перемещениями воздушных масс. Именно из-за своей труднопредсказуемости погода так давно и так тесно сплетена с суеверием — «уверенностью, на знании не основанной».
Существует множество различных примет, характеризующих изменения погоды. Земледельцы и моряки издавна составили целый комплекс таких практических примет, к которым примешалось немало суеверии. Точные сведения о погоде начали накапливаться с тех пор, когда в дело вмешались ученые, приступившие к собиранию измеряемых метеорологических данных.
«Данных оказывается чрезвычайно много, — писал Менделеев в 1870 году, — но затем новый труд состоит в том, чтобы охватить их, разобраться и найти общее начало, управляющее полученными числами». К тому времени, когда Менделеев вплотную занялся метеорологией, в этой науке было уже сделано два важных обобщения. Первое — изотермы — линии, которыми А. Гумбольдт в 1817 году соединил на картах пункты с одинаковой температурой воздуха. Второе — изобары — линии, которыми ирландский метеоролог Букан в 1868 году соединил пункты с одинаковым атмосферным давлением. Дмитрий Иванович в полной мере оценил идею изобар, которая, по его словам, сделала «возможным новый прогресс в метеорологии».
Менделеев ясно представлял себе величественную картину вечно переменчивой и прихотливой земной атмосферы. Вот из мест с высоким давлением ринулись в точку, где давление низкое, мощные воздушные потоки. Здесь, не имея иного выхода, они устремляются вверх и, пропутешествовав в верхних слоях атмосферы, снова «возвращаются на круги своя». Эти воздушные массы захватывают в теплых странах испарившуюся влагу, которую потом исторгают в виде дождя, града или снега в холодных районах. Не будь ветра, на поверхности земного шара установились бы правильные периоды перемены климата, полностью определяемые интенсивностью солнечного света и углами падения его лучей. Понятия о погоде как вариации климата не существовало бы. Но чтобы знать действительное положение дел, необходимо иметь представление о том, как на данную местность влияет солнце и какая часть воздуха и с какой скоростью перемещается из одного места над земной поверхностью в другое.
Дмитрий Иванович очень скоро убедился: ситуация в метеорологии принципиально отличается от ситуации в химии накануне открытия периодического закона. Если в химии к середине 1860-х годов уже была открыта большая часть элементов и сравнительно точно были определены их атомные веса, то в метеорологии в середине 1870-х годов было по меньшей мере два неясных фундаментальных вопроса. Во-первых, очень важное для понимания круговорота атмосферы движение воздуха в верхних ее слоях было не только абсолютно неизвестно, но и труднодоступно для изучения. А во-вторых, движение воздушных масс вблизи земной поверхности хотя и было доступно наблюдению, но не было доступно пониманию: гидродинамика в те годы изучала только идеальные, лишенные вязкости жидкости и, в сущности, была неприложима к объяснению движения воздушных течений.
Поначалу внимание Менделеева сосредоточилось на первой проблеме. Верхние слои атмосферы влекли к себе не только потому, что сулили разрешение практических задач метеорологии. Они сулили ему и открытия, важные для теории. Еще во время исследования сильно разреженных газов Дмитрий Иванович сообразил: аномалии, обнаруженные в поведении газов в лабораторных условиях, в верхних слоях атмосферы должны приобретать масштабы поистине космические, так как воздух, поднимаясь все выше и все сильнее разрежаясь, должен в итоге превратиться в эфир. Вот этот-то двойной интерес и побудил его заняться аэростатами.
Конечно, нельзя сказать, что Менделеев был пионером научного воздухоплавания. Эта почетная роль за семьдесят лет до него выпала на долю академика Я. Захарова. Гондола аэростата, который взлетел 30 июня 1804 года из сада 1-го кадетского корпуса в Петербурге, была буквально забита приборами, долженствующими ответить на множество вопросов. Изменяется ли с высотой подъема магнитное поле Земли, температура, давление и состав воздуха? Увеличивается или уменьшается «согревательная сила» солнечных лучей? Меняются ли на большой высоте явления электризации? Как действует на человеческий организм разреженный воздух больших высот?
«Мы должны гордиться тем, что первое, чисто метеорологическое поднятие совершено русским ученым и из Петербурга», — писал Дмитрий Иванович. Но, оценивая научные результаты поднятий как Захарова, так и последовавших его примеру Ж. Гей-Люссака и Ж. Био в Париже, Гернерена и Гласфурда в Англии, Робертсона в Гамбурге, он отмечал: «К несчастью, они (научные результаты. — Г. С.) ограничиваются несколькими отрывочными числами».
Гораздо более многочисленные данные были получены в 1850—1870-х годах англичанами Вельшем и Глешером.
Но даже классических измерений Глешера, директора Гринвичской метеорологической обсерватории, по мнению Дмитрия Ивановича, было недостаточно для того обобщения, которое внесло бы порядок и ясность в учение о погоде. «Близость моря, значительность содержания влаги и облака в английских полетах делают их своеобразными. Тем желательнее полеты в России, где легко выбрать совершенно ясную погоду, очень сухое время и безопасно совершать восхождение ночью… Черед за русскими учеными. Интерес к делу имеется, потребность очевидна, силы найдутся — необходимы средства. Неужели они не найдутся?»
Мысль об аэростате завладела Менделеевым так сильно, что он решил добыть средства на его сооружение за счет доходов от издания пяти своих трудов.
Но, увы, идея, так увлекшая самого Менделеева, мало взволновала тогдашнюю читающую публику: книги Дмитрия Ивановича, доход с которых должен был пойти на постройку аэростата, лежали нераспроданными. А ученые, хотя и дружно соглашались с ним в том, что данные надо собирать, не торопились хлопотать об изыскании средств на аэростаты. Дмитрий Иванович понял, что время для обобщений в метеорологии еще не пришло. Оставив мысль о подъеме в верхние слои атмосферы, он решил заняться изучением движения воздуха близ земной поверхности; движения, которое нельзя описать, не зная законов сопротивления жидкости.
Четверть века спустя, комментирую одну из своих статей о температуре верхних слоев атмосферы, он писал: «Вопрос этот очень меня занимал. Он связан с моими работами над разреженными газами, и они направлялись к вопросу о природе светового эфира… Тогда-то я стал заниматься воздухоплаванием. Отсюда — сопротивлением среды. Все находится в генетической связи». Но работы по сопротивлению жидкостей Дмитрий Иванович смог начать лишь через пять с лишним лет, ибо в 1876 году другие темы, другие проблемы, другие события властно приковали к себе его внимание.
«Лабрадор», пароход французской трансатлантической компании, отчалил от причала в Гавре 11 июня 1876 года в два часа утра. К удивлению Дмитрия Ивановича и его спутника В. Гемилиана, пассажиров, несмотря на сравнительно малую стоимость, оказалось немного — в первых классах всего 48 человек. И все это были люди, так или иначе связанные с Филадельфийской всемирной выставкой: экспоненты, комиссары, инженеры и другие специалисты, ехавшие в Америку для ознакомления со страной и ее промышленностью.
«Обычное плавание через океан 10 дней; нам пришлось употребить 11, потому что около Ньюфаундлендских мелей, которые всегда отличаются неровностями погоды, нас в течение нескольких дней провожал туман такой сильный, что на очень близком расстоянии ничего не было видно в море. Надо было бояться столкновения, и приходилось убавлять ход корабля. Обычный ход «Лабрадора» был 13 узлов… а было время, когда вследствие тумана убавляли ход почти наполовину. Особенно сильны и постоянны были туманы перед Ньюфаундлендскою мелью, в том месте океана, которое называется «чертовой пропастью»… Во все время от 14 до 20 июня мы были большую часть дня в тумане».
Дмитрий Иванович был в восторге: судно шло в Гольфстриме, морском течении, зарождающемся в Мексиканском заливе и вырывающемся затем в Атлантический океан. Законы жидкостей, паров, газов и растворов, изучением которых Дмитрий Иванович так много занимался в лабораториях, проявляются здесь в масштабах планеты. И Менделеев не уставал систематически измерять атмосферное давление, температуру воздуха и воды, соленость. Галантный капитан Санглие, следуя указанию администрации содействовать измерениям, производимым странным пассажиром, благодушно наблюдал за хлопотами Дмитрия Ивановича.
Многие спутники Дмитрия Ивановича не раз совершали плавание через океан. За время путешествия переговорили обо воем: об Алжире, об Индии, о Кубе, об Испании. Обсудили восточный вопрос. Много говорили о России, и Менделеев в своей книге о поездке в Америку с удивлением отмечал: «Чрезвычайно образованные люди не имеют никакого понятия о самых крупных чертах русской истории». Впрочем, во время своего заокеанского путешествия Дмитрию Ивановичу довелось, быть может, впервые столкнуться с весьма необычным типом «чрезвычайно образованного человека».
Им оказался некий господин Пьеррис, доктор из Калифорнии, опубликовавший в Париже сочинение о вреде табака. Румяный, веселый доктор доказывал, что Екатерина Медичи, нюхая табак, дошла до мысли о необходимости кровавой расправы с гугенотами. Что употребление табака ослабляет умственную деятельность, уменьшает способность к деторождению и увеличивает стремление к потреблению крепких напитков. Учитывая все это вместе взятое, доктор приходил к выводу: табак — это месть индейцев европейцам. Убедившись, что европейцев нельзя одолеть в открытом бою, индейцы-де решили извести их с помощью того самого зелья, которым они отравляли свои стрелы…
Тут Дмитрий Иванович понял, что Пьеррис не отличает никотина от яда кураре, и перестал воспринимать доктора всерьез. А когда тот, увлекшись, углядел некий символ в том, что в Америке в табачных лавках вместо вывески ставится деревянная фигура индейца, протягивающего руку с сигарой, Менделеев благодушно заметил, что рядом с ней следовало бы ставить фигуру европейца, протягивающего индейцу взамен табака бутылку виски. Это не помешало, однако, Пьеррису прочитать лекцию о вреде табака.
Ранним утром 21 июня туманы, в которых почти целую неделю шел «Лабрадор», вдруг рассеялись, и на севере справа по борту открылась низменная отмель Лонг-Айленда, совершенно голая, без построек и растительности. И, как это ни смешно, все пассажиры смутно ощутили то состояние, которое испытали Колумб и его спутники, услышав крик: «Земля!» Пароход довольно долго шел вдоль берега Лонг-Айленда, пассажиры начали переодеваться и укладывать вещи. Матросы открепляли какие-то спасти и приводили в порядок лебедки. Вскоре стал виден берег и по левому борту. Еще через полчаса земля была уже кругом, и только небольшую часть горизонта на востоке занимал океан.
Войдя в нью-йоркскую бухту, «Лабрадор» остановился напротив карантинного здания и выстрелил из сигнальной пушки. От берега тут же отвалил маленький пароходик, и вскоре на борт поднялся доктор — сухощавый франт с розой в петлице. Пассажиры знали, что его обязанность — осмотреть всех и убедиться, что среди них нет инфекционных больных. Но доктор не спешил с осмотром. Он посидел в курительной комнате с судовым врачом, выпил с ним виски и благополучно удалился восвояси. Оказывается, пароходным компаниям было гораздо выгоднее платить карантинному врачу 50 долларов, чем ожидать, пока он осмотрит всех пассажиров: тут одного угля в топках за это время сгорит больше, чем на 50 долларов.
Затем в салоне появились шесть таможенных чиновников. Они строгим тоном задавали пассажирам вопросы, требовали принесения присяги в том, что те сказали все по истинной правде, одновременно всем своим видом и улыбками показывая: все это пустые формальности, не имеющие никакого серьезного значения. Прошло немало времени, прежде чем «Лабрадор» начал медленно подвигаться к Нью-Йорку. Берега сузились, стали видны здания Бруклина и строящиеся опоры знаменитого Бруклинского моста. Причалы французской компании находились прямо на Манхаттане — острове, на котором и расположен собственно Нью-Йорк.
«Среди мелких хлопот, сопряженных с высадкой на берег и досмотром багажа, прощаньем с товарищами путешествия, подыскиванием извозчика, носильщика и т. д., прошло немало времени, — так писал Менделеев в своей книге «Нефтяная промышленность в Пенсильвании и на Кавказе». — Когда мы вдвоем сели в карету… чтобы добраться до гостиницы… мы были поражены невзрачным видом улиц знаменитого города. Они не широки, вымощены булыжником и чрезвычайно плохо, хуже даже, чем на худших улицах Петербурга или Москвы. Дома кирпичные, некрашеные, неуклюжие и грязные; по самым улицам грязь. Магазины и лавки напоминают не Петербург, а уездные города России. Словом, первое впечатление въезда было не в пользу мирового города с миллионным населением».
Русский генеральный консул в Нью-Йорке В. Бодиско жил в отеле «Кларендон» — том самом, где остановились Менделеев и Гемилиан. Он обстоятельно расспросил спутников об их намерениях и сказал, что им следует прежде всего ехать в Вашингтон, ибо именно в правительственных учреждениях столицы собраны важнейшие статистические материалы по американской нефтяной промышленности.
В становлении и развитии нефтяного дела решающую роль сыграло изобретение, сделанное не только в другой отрасли промышленности, но в отрасли, которая долгое время конкурировала с нефтяной промышленностью. В 1830 году германский химик К. Райхенбах, задавшись целью утилизировать продукты сухой перегонки дерева, торфа и бурых углей, научился добывать из них жидкое осветительное масло — фотоген. Новый продукт стал успешно конкурировать с растительными маслами и сальными и восковыми свечами, которые в те годы были единственными искусственными источниками света. Спустя десять-пятнадцать лет фотогенное производство широко развилось как в Европе, так и в Америке. В Америке из каменного угля научились гнать осветительное масло, названное керосином. В Европе в ход пошли деготь, смолистый шифер, горючие сланцы.
В России пионером этого дела стал В. Кокорев. Зная, что на Апшеронском полуострове залегают мощные пласты так называемого кира — асфальта новейшего образования, похожего на то сырье, из которого в Германии получали фотоген, — он решил наладить производство осветительного масла, названного им фотонафтилем. В 1859 году Кокорев построил в Сураханах близ Баку завод. Спроектировал этот завод сам Либих, который прислал на Кавказ своего ассистента К. Энглера для производства работ и постановки всего дела. Завод был выстроен в непосредственной близости от древнего храма огнепоклонников, ибо предусмотрительный Кокорев решил воспользоваться для переработки кира даровыми горючими газами, выбивающимися из-под земли и бесцельно горевшими в храме в течение столетий. Однако очень скоро выяснилось, что кир содержит всего 15–20 процентов тяжелых масел и не годится для рентабельного производства фотонафтиля. Дело грозило вот-вот лопнуть, но тут Энглер вновь переоткрыл то, что за тридцать с лишним лет до него было открыто и практически реализовано братьями Дубиниными — крепостными крестьянами графини Папиной. Он надумал получить осветительное масло, перегоняя непосредственно нефть.
В это самое время в Америке разворачивались события, отчасти похожие на те, что происходили на Кавказе. В 1849 году некий пенсильванец Самуэль Кир оказался на грани банкротства: в разрабатывавшуюся им соляную шахту просочилась черная маслянистая жидкость, которая безнадежно испортила всю добытую соль. Но не таков был Самуэль Кир, чтобы не попытаться вырвать победу из поражения. Он махнул рукой на соль, стал разливать сочащуюся в шахту жидкость в маленькие флаконы и пустил ее в продажу под громким названием «Петролеум Кира, или минеральное масло — натуральное лекарство, известное своей удивительной целебной силой».
Как-то раз флакон с петролеумом попал в руки промышленника Дж. Бисселла. Практичный янки пренебрежительно отнесся к целебной силе снадобья, гораздо больше его заинтересовало применение минерального масла для смазки машин и для сжигания в лампах. В 1854 году Бисселл и его компаньон Дж. Элверст основали первую в Америке «Пенсильванскую нефтяную компанию» и привлекли к исследованию нефти профессора Йельского университета Бенджамена Силлимана. Профессор произвел фракционную перегонку присланных ему образцов и пришел к выводу, что из нефти можно производить три вида продуктов: осветительные масло, смазочные масла и минеральный воск. «Мои исследования показали, что почти весь сырой материал может быть переработан в товарную продукцию почти без потерь», — писал он.
Ознакомившись с отчетом Силлимана, Бисселл понял: в его руках фантастически прибыльное дело, если удастся добывать петролеум сотнями тысяч, а то и миллионами пудов. Он поспешил заключить контракт на бурение нефтяной скважины в Тайтусвилле в Пенсильвании. Подрядился пробурить скважину «капитан» Эдвин Дрейк. В лучшие дни бур Дрейка проходил всего по одному метру в сутки. Когда же бур встречал породы более твердые и прочные, дневная проходка измерялась сантиметрами. Но упорство и вера Дрейка победили: 27 августа 1859 года, когда скважина достигла глубины 21 метр, она вдруг наполнилась нефтью, причем уровень ее установился в 6 метрах от поверхности.
Дрейк поставил добычу нефти на коммерческие рельсы. Пенсильванию охватила настоящая нефтяная лихорадка. Всего через год здесь добывалось 4 миллиона пудов нефти, а спустя 12 лет — 50 миллионов! В 1860 году Америка вывезла в Западную Европу первые тысячи пудов керосина, полученного из нефти. Новый керосин оказался лучше фотогена. Спрос на него начал увеличиваться с неимоверной быстротой, привлекая к себе внимание всего промышленного мира. Спустя несколько лет американский керосин начал импортироваться в Россию, и у кокоревского фотонафтиля появился серьезный конкурент. В сущности, фотонафтиль был лучше керосина: он был тяжелее его, давал более яркое пламя, на данное количество света его требовалось меньше, чем американского керосина. Но у заморского продукта было важное преимущество: он был дешевле.
Завод в Сураханах приносил Кокореву один убытки, поэтому он предложил Менделееву посетить завод и сказать, что нужно сделать, чтобы завод стал рентабельным. Тогда-то в августе 1863 года Дмитрий Иванович и был в первый раз в Баку.
Внимательно ознакомившись с делом, Менделеев рекомендовал Кокореву проложить от нефтяных колодцев к заводу и от завода к морским причалам трубопроводы; установить на судах резервуары, куда можно было бы грузить нефть наливом; учредить перевозку от Баку до Астрахани в нефтеналивных шхунах, а от Астрахани до волжских портов в нефтеналивных баржах; и, наконец, устроить близ Нижнего Новгорода большой нефтеперегонный завод.
Эти по преимуществу технические меры преследовали экономическую цель. Убытки Кокорева объяснялись главным образом чрезвычайной дороговизной транспортировки нефти и керосина. Так, нефть от колодцев к заводу везли и бурдюках на допотопных арбах. А керосин от завода к потребителям везли на обычных парусниках и пароходах в деревянных бочках, которые обходились очень дорого, ибо клепку и обручи для них нужно было везти в Баку из Центральной России. В результате в Нижнем Новгороде пуд керосина стоил 1 рубль 60 копеек, из которых больше половины — 98 копеек — приходилось на стоимость бочки и доставки. По мнению Менделеева, перекачка нефти и керосина по трубопроводам и перевозка ее по воде в наливных судах должны были резко сократить транспортные расходы. Что же касается постройки завода в Нижнем Новгороде, то она мотивировалась тем, что в Центральной России можно найти сбыт не только керосину, составлявшему лишь одну треть бакинской нефти, но и другим нефтяным продуктам. Причем переработка нефти должна была быть дешевле, чем в Баку, так-как в Баку не было тогда механических заводов и все приходилось выписывать из России.
Кокорев признал все рекомендации Дмитрия Ивановича правильными, но ограничился усовершенствованием лишь в пределах самого заводского процесса. Такая сдержанность предпринимателя, которого трудно было заподозрить в отсутствии новаторства, не была случайной. В 1813 году, когда Бакинское, Кубинское и Дербентское ханства были окончательно присоединены к России, Казенная экспедиция верховного грузинского правительства по примеру прежних ханов отдала все нефтяные колодцы на откуп, получая за них в год 130 тысяч рублей. После этого добыча и продажа нефти неоднократно переходила из «откупного содержания» в «казенное управление», пока в 1825 году окончательно не установилась откупная система. Суть ее состояла в том, что казна за определенную сумму сдавала нефтяные участки предпринимателям, после чего в течение четырех лет те могли действовать практически бесконтрольно. Зная, что через четыре года участок будет отобран и может попасть в другие руки, откупщики стремились возможно быстрее извлечь из земли все, что можно было извлечь без дорогостоящего оборудования и технических усовершенствовании. Менделеев сразу понял, что такая хищническая разработка ценных месторождений приносит огромный ущерб народному хозяйству. И когда в 1866 году Русское техническое общество предложило Дмитрию Ивановичу прочесть публичную лекцию о нефтяном деле, он особенно настаивал на двух мерах: на устройстве заводов в Центральной России и на отмене откупов.
30 января 1867 года в числе членов Русской комиссии по устройству всемирной выставки Дмитрий Иванович выехал в Париж. Перед командировкой члены комиссии договорились по возвращении опубликовать отчеты обо всем увиденном по своим специальностям. Так появилась работа Менделеева «О современном развитии некоторых химических производств в применении к России по поводу всемирной выставки 1867 года», о которой позднее он с гордостью писал: «Меня с тех пор стали слушать в этих делах».
«Излагая технические стороны дела, — вспоминал потом Менделеев, — я понимал важность… экономических условий, а потому громче всего говорил об необходимости отмены… откупа с нефти… Не один мой голос поднялся в то время против нефтяных откупов, говорили и другие…» В конце концов в 1868 году была назначена комиссия, выработавшая проект «правил о нефтяном промысле и акцизе с фотогенного производства». Правила эти, утвержденные в феврале 1872 года и вступившие в действие с 1 января 1873 года, уничтожили откупную систему и раскрепостили русскую нефтепромышленность от стесняющих пут нелепых ограничений. И хотя правительство установило вместо откупа акцизное обложение, новая система была более прогрессивной, и русская нефтепромышленность начала делать первые успехи. Уже в 1873 году братья Артемьевы использовали одну из идей Менделеев, высказанную десять лет назад: они приспособили лодку «Александр» для перевозки нефтяных остатков наливом. Спустя год наладил строительство деревянных наливных шхун В. Рагозин, а в 1882 году из 28 миллионов пудов нефтяных грузов, перевезенных морем от Баку до Астрахани, больше половины приходилось на наливные суда. И в 1891 году Менделеев мог с удовлетворением констатировать, что стоимость перевозки за двадцать лет упала «почти в три раза не столько от удешевления провозной платы, сколько… от развития перевозки наливом».
Когда комиссия кончала свою работу, Менделеев находился за границей. Вернувшись в Петербург, он узнал, что комиссия рекомендовала отменить откуп и установить акциз, то есть налог в 15 копеек с каждого пуда произведенного керосина. «Тогда же я высказался против этой последней меры, — писал Дмитрий Иванович, — но все же считал, что и обложенная акцизом нефтяная промышленность будет разливаться, когда добыча нефти станет свободным делом. Так и случилось: как только нефтяные источники были проданы в частные руки, в Баку оказалась огромная масса добываемой нефти, ценность которой весьма понизилась против первоначальной. Вырыли буровые колодцы, дающие десятки тысяч пудов нефти ежедневно и постоянно, избытки сырой нефти образовали целые озера. При такой массе нефти учредилось много заводов для переделки ее на керосин, основан был около Баку целый городок… в в нем сосредоточилась сотня больших и малых керосиновых заводов».
Однако акциз оказался как бы миной замедленного действия. Поскольку платить налог следовало не с действительно полученного количества керосина, а с емкости перегонных кубов и времени их работы, заводчикам было выгодно перегонять только легкие фракции. Перегонка тяжелых продуктов, которых в бакинской нефти было раза в два больше, чем в пенсильванской, требовала много времени; керосин, полученный из них, вышел бы очень дорогим. Поэтому 2/3 нефти, оставшейся после отгона керосина, были столь тягостны заводам, что их нередко жгли прямо в поле. «Гнали скоро, сбывали как могли, и тому, кто сразу давал какую-либо цену, — писал Менделеев. — …Бакинский керосин получался… с качествами весьма невысокими, и на первое время это обстоятельство было чрезвычайно вредно для развития промысла, — родилось… предубеждение противу «русского» керосина. Но все-таки дело развивалось, потому что были большие и, можно сказать, уродливые барыши…»
Конец «уродливым барышам» бакинских нефтяных королей — Мирзоевых, Губониных, Лианозовых, Тер-Акоповых и других — положил знаменитый нефтяной кризис, разразившийся в 1875 году. Цены на нефть и керосин на русском рынке вдруг резко упали, на Кавказе закрылось сразу множество заводов, и в промышленных кругах началась паника, тем более страшная, что большинству заинтересованных лиц причины неожиданного обесценения нефти и керосина представлялись совершенно загадочными. В Баку, Тифлисе и Петербурге срочно были составлены комиссии для рассмотрения вопроса. В одну из них и был приглашен Дмитрий Иванович, которого «стали слушать в этих делах» после Парижской выставки.
«При сложности явившихся вопросов и при неясности полученных сведений комиссия признала наиболее полезным командировать на лето 1876 г. К. И. Лисенко в Баку… а мне было поручено собрать сведения в Америке…»
С самого начала Вашингтон поразил Менделеева и его спутника своими громадными размерами и обширными незастроенными пустырями. Визит, нанесенный посланнику, и обещанное им содействие чрезвычайно ускорили сбор данных по нефтяному делу. На следующий же день секретарь посольства сопровождал Менделеева в министерство финансов США, где Дмитрий Иванович хотел получить сведения о пошлинах на нефть.
Начальник отдела, к которому министр финансов направил Дмитрия Ивановича, поручил одному из своих подчиненных оказать необходимое содействие. И Менделеев с удивлением узнал, что его помощником будет К. Бестужев-Рюмин, имя которого было хорошо известно в России: он был первым переводчиком на русский язык знаменитого тогда труда Г. Бокля «История цивилизации в Англии». При его помощи все необходимые материалы были собраны очень быстро. Во время сбора сведений в отделах министерства Дмитрий Иванович с удивлением наблюдал волнение, с которым чиновники относились к приближающимся президентским выборам. Их беспокойство стало понятным, когда он узнал, что победа демократов или республиканцев на выборах сопровождалась изгнанием всех чиновников противной партии.
Вашингтон не переставал удивлять Менделеева все те четыре дня, которые он провел в этом городе. Во время посещения «Сайнал оффиса» — главного метеорологического учреждения Соединенных Штатов — он узнал, что этому заведению, образцово поставленному военными министрами республиканской партии, грозит закрытие, если верх на президентских выборах одержат демократы.
27 июля путешественники прибыли в Филадельфию, снабженные пачкой рекомендательных писем. Такие письма были тогда в Америке в большом ходу. Достаточно было получить письмо к какому-нибудь влиятельному лицу, и оно не только само делало все, что могло, но и давало несколько новых рекомендательных писем. Благодаря этому обычаю, познакомившись с одним-двумя нужными людьми, можно было быстро и значительно расширить область знакомств и быстро собрать все нужные сведения.
Экспозиция, посвященная нефти, на Филадельфийской выставке не отличалась богатством: образцы сырой нефти из Пенсильвании, Кентукки и Виргинии да осветительные и смазочные масла. Только завод «Алладин» близ Питтсбурга выставил заслуживающий внимания экспонат — желтое, твердое, порошкообразное вещество петроцен, полученное из нефти.
Когда-то, собираясь совершить поездку в Америку, Дмитрий Иванович мечтал увидеть Ниагарский водопад, Иосемитскую долину, Йеллоустонский национальный парк в Скалистых горах с его периодически бьющими горячими ключами и гейзерами. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Поручение, возложенное на Менделеева департаментом торговли и мануфактур, ограничило маршрут его путешествия по Америке, по сути дела, одним штатом — Пенсильванией.
Из Филадельфии Менделеев и Гемилиан отправились поездом на запад через Гаррисберг в Питтсбург. Этот город считался тогда центром пенсильванской нефтяной промышленности, в нем сосредоточивалась почти вся нефть, добываемая в бассейне реки Огайо. Путешественники выехали из Филадельфии 4 июля утром, в день празднования 100-летнего юбилея независимости Северо-Американских Соединенных Штатов, надеясь, что по этому случаю на железной дороге будет свободнее.
За окнами вагона потянулись пустынные, необработанные земли, выжженные беспощадной летней жарой 1876 года. За Гаррисбергом, где железная дорога проложена в долине реки Юниата, ландшафт стал веселее, потом пошли округленные, постепенно возвышающиеся холмы — Аллеганские горы. Наконец около шести часов вечера на западе в глубокой долине показалось плотное облако дыма. Это был Питтсбург, славившийся своей копотью даже в Америке.
Менделеев и Гемилиан остановились в гостинице «Монангагела». Весь вечер за окнами грохотали выстрелы, вспыхивали ракеты и фейерверки: вся Америка праздновала день своего столетия.
На следующий день в гостинице появился корректный, сияющий господин Тведдле — владелец завода «Алладин», тот самый, который представил на Филадельфийскую выставку петроцен. Предупрежденный друзьями о приезде Дмитрия Ивановича, он горел желанием показать ему свой завод. В отличие от большинства американских заводчиков Тведдле оказался образованным человеком. Он много экспериментировал сам; читал все, что делалось другими по нефти; был знаком и с химией, и с геологией; говорил по-французски. Утром 7 июня в сопровождении Тведдле Менделеев и Гемилиан выехали по железной дороге на завод «Алладин», лежащий как раз на пути к Паркеру, городку, хотя и состоявшему всего из одной улицы, но считавшемуся в то время центром пенсильванской нефтепромышленности. В Паркере Дмитрия Ивановича любезно встретил директор крупной трубопроводной компании Гетч, которого «природная склонность к отчетливости впечатлений» сделала настоящей находкой для Менделеева. Гетч лично показывал Дмитрию Ивановичу всю прилегающую к Паркеру нефтеносную провинцию, сопровождал его в поездках на нефтяные скважины, газовые фонтаны, насосные станции. «От него в один день… я узнал больше, чем из многих других источников», — вспоминал потом Дмитрий Иванович.
Из Паркера спутники выехали по железной дороге на север, сперва вдоль реки Аллегани, потом по Ойл-Крику мимо Тейтусвиля, где пробурил первую скважину Дрейк, и других знаменитых в истории американского нефтяного дела городов.
Из Ниагары путешественники отправились в Нью-Йорк, где они провели последние два дня, оставшиеся до отхода трансатлантического лайнера.
Еще до поездки в Америку, работая в комиссии по нефтяным делам, Дмитрий Иванович ясно понял, что истоки бакинского кризиса лежат за океаном. США были тогда главным поставщиком нефти, цена на нее складывалась именно там. И если в 1875 году катастрофически подешевел русский керосин, то это произошло потому, что за несколько лет до этого катастрофически подешевел керосин американский. Какие же причины вызвали падение цен на нефть в США?
«Можно было думать, — писал Менделеев, — что эти колебания зависят от новых успехов в технике дела, или от превышения предложения перед спросом, или от каких-либо других причин». Поэтому, приступая к осмотру американских нефтеперерабатывающих заводов, Дмитрий Иванович сосредоточил свое внимание на технической, научной и экономической сторонах нефтяного дела. Уже при первом знакомстве с нефтяной промышленностью Пенсильвании Дмитрий Иванович убедился, насколько правильны были рекомендации, которые он дал Кокореву в 1803 году. Американцы будто подслушали его: и трубопроводы завели, и заводы построили не рядом с колодцами, а там, где сосредоточены были рынки сбыта и торговые пути.
На заводе «Атлантик» близ Филадельфии Менделееву очень понравились механические приспособления для заполнения керосином жестянок и бочек, для автоматического заколачивания ящиков. Но при этом механическом великолепии завод поразил его примитивностью перегонных снарядов. «Улучшив перегонку, можно было бы выгадать гораздо большую прибыль вместо тех копеечных выгод, которые получаются при механическом устройстве многих других частей завода; теряют рубли, экономят копейки — вот что замечается на многих американских заводах». Общей картины не меняли редкие исключения вроде тведдлевского «Алладина», где Дмитрий Иванович впервые познакомился с вакуумной перегонкой, где производились высококачественные смазочные масла и парафин, где из нефти изготовлялись новые химические продукты — петроцен, лаки, смолы.
«…Я обращался ко многим ученым для получения ближайших сведений о научной разработке нефтяного вопроса в Америке и был немало удивлен, узнав, что ни с химической, ни с геологической стороны нет еще у американцев ответов на самые первые научные вопросы, относящиеся к нефти. Научная сторона вопроса о нефти… в последние десять лет почти не двинулась. В Америке… заботятся добыть нефть по возможности в больших массах, не беспокоясь о прошлом и будущем, о том, как лучше и рациональнее взяться за дело; судят об интересе минуты и на основании первичных выводов из узнанного. Такой порядок дела грозит всегда неожиданностями и может много стоить стране».
По мере того как Менделеев все глубже и глубже вникал в нефтяное дело, он утверждался в мнении, что никакие научные открытия или технические усовершенствования не могли вызвать нефтяного кризиса в Америке. Его могли вызвать лишь экономические причины. В 1870-х годах в Америке произошли два события, роковым образом повлиявшие на судьбы нефтедобычи. Первое — отмена акциза на нефть, которая привлекла в эту область свободные капиталы и вызвала оживленную конкуренцию. Второе — открытие новых месторождений. Прыткие джентльмены, на участках которых ударили нефтяные фонтаны, начали продавать эту почти даровую нефть за бесценок, чтобы возможно быстрее получить плывущие им в руки деньги. Цены на нефть катастрофически упали, и кризис поразил нефтепромышленность сначала в Америке, а потом и в России. Американские нефтяные неурядицы 1873 года докатились до России в 1874 году, и к началу следующего года число нефтеперерабатывающих заводов в Баку упало со 100 до 20, а потом до 4.
На первый взгляд положение представлялось безвыходным. Чтобы избавиться от влияния неуправляемых стихийных сил, сотрясающих американскую нефтепромышленность, русское нефтяное дело должно было стать сопоставимым с американским по мощи. А чтобы представить себе масштаб предстоящей работы, необходимо вспомнить, что накануне кризиса в США добывалось 70 миллионов пудов нефти, а в России — всего 5 миллионов. И тем не менее Менделеев считал, что такой гигантский скачок по плечу отечественной нефтепромышленности. Когда он высказал это убеждение тогдашнему министру финансов Рейтерну, тот только руками развел: «Да что вы, батенька! Да где же это нам тягаться с американцами-то! Мечтания это все, профессорские мечтания!» Но Дмитрий Иванович знал, что говорил.
18 декабря 1876 года, выступая в Русском техническом общество, он сформулировал условия, необходимые для того, чтобы русская нефтяная промышленность смогла соперничать с американской. Прежде всего, считал Дмитрий Иванович, необходимо снять акциз, наложенный на керосин. Принося ничтожный доход казне, он поощрял недобросовестных заводчиков гнать низкокачественный керосин и хищнически сжигать тяжелые остатки, из которых можно было бы наладить производство ценнейших смазочных масел. Изготовление таких масел Менделеев считал особенностью, отличающей русскую нефтепромышленность от американской. «Хороший продукт — керосин — из пенсильванской нефти получить нетрудно, потому что самая нефть, можно сказать, есть только нечистый керосин, в сторону идет немного больше пятой доли, прочее есть керосин. Другое дело при обработке тяжелых, как у нас в Баку или как в Виргинии, сортов нефти, — здесь уже нельзя получить добротного продукта при невнимательной перегонке, а потому такую нефть и плохо обрабатывают к Америке. Нашим бакинским… техникам нечему учиться у американцев относительно перегонки, можно если что заимствовать, так это некоторые механические приспособления…»
Конечно, Менделеев не ограничился одним лишь выступлением в техническом обществе. Через год после поездки в Америку вышла его фундаментальная книга «Нефтяная промышленность в североамериканском штате Пенсильвания и на Кавказе», о которой он в старости с гордостью говорил: «Видно, что тогда я, много думав, написал». Соображения, изложенные в этом труде, он в скором времени начал подтверждать делами. По его проекту и под его наблюдением на Кусковском заводе был сооружен перегонный куб непрерывного действия. После испытания этого аппарата стала возможной постройка масляных кубовых батареи, превративших мазут из отброса в сырье для производства смазочных масел, значительно более ценных, чем керосин. А уже через пять-шесть лет русские смазочные масла зарекомендовали себя на мировом рынке как более качественные, чем американские.
«Наши общие упования на то, что с развитием свободы дело будет развиваться, — писал Дмитрий Иванович в 1880 году, — поглядите, как оправдались здесь на деле! Вместо 40 (1876) теперь (1880) здесь около 350 буровых колодцев; вместо бочек уже начали многие отправлять суда, прямо наливая их нефтью; родился перевозочный флот; вместо арб и бурдюков, которыми велась доставка с промыслов к заводу и порту, теперь трубы и вагоны; вместо прежних цен (сперва при откупе 40 коп. за пуд, потом при акцизе от 5 до 15–20 коп.) теперь охотно и даже не без некоторой выгоды продают на месте по 2 коп. за пуд; вместо зависимости от иностранных техников выработали свои отличные и выгодные приемы бурения; вместо сожигания остатков в поле ввели или вводят их переработку на смазочные масла; топка остатками введена на Волге и Каспие и т. п. Корень дела здоров и крепок».
И действительно, к 1884 году, через семь лет после отмены акциза, ввоз американского керосина в Россию полностью прекратился, а со временем русский керосин серьезно потеснил американский и на мировом рынке. И в том, что в 1901 году на долю России приходился 51 процент мировой нефтедобычи, немалая заслуга принадлежала профессору Менделееву.
Грустным и унылым было десятидневное путешествие Менделеева и Гемилиана из Нью-Йорка в Гавр. Казалось бы, все благоприятствовало хорошему настроению и времяпрепровождению: пароход «Америка» ничем не уступал «Лабрадору», компания подобралась отличная, было много знакомых русских, возвращавшихся с выставки. Но увы. Все возвращающиеся были более или менее разочарованы Америкой. «Скучали не оттого, что оставляли Америку, — писал Менделеев, — а оттого, что оставляли в Америке веру в правдивость некоторых идеалов. В Америке думалось найти их подтверждение, а нашлась куча опровержений».
На протяжении своей долгой жизни Дмитрий Иванович часто бывал за границей. Он изъездил всю Западную Европу: Англию, Францию, Германию, Голландию, Бельгию, Швецию, Австрию, Италию, Испанию. В Америке он был один-единственный раз, но это единственное посещение сыграло большую роль в жизни Менделеева.
Америка показала Дмитрию Ивановичу изнанку всеобщей подачи голосов, которая в руках беззастенчивых политиканов превратилась в средство для обделывания своих делишек. В теории, в идеале избранник должен быть доверенным лицом большинства, а на самом дело сплошь и рядом в Америке власть попадала в руки избранников меньшинства, иногда очень скудного. Но меньшинство это представляло организованную силу, тогда как большинство было подобно песку, ничем не связанному. Такое большинство политикан считал не более как стадом для сбора голосов.
«Природные богатства Америки громадны, люди там живут, надо сказать прямо, прелестные, симпатические, простые, с энергией, образцы развитого индивидуализма. Отчего же не устроятся они, ссорятся, отчего они ненавидят негров, индейцев, даже немцев, отчего нет у них соразмерной с их развитием науки, поэзии, отчего так много обмана, вздора?
…Америка представляет драгоценный опыт для разработки политических и социальных понятий. Людям, которые думают над ними, — полезно побывать в С.-А. Соединенных Штатах. Это поучительно. А оставаться жить там — не советую никому из тех, кто ждет от человечества чего-нибудь кроме того, что уже достигнуто, кто верит в то, что для цивилизации неделимое есть общественный организм, а не отдельное лицо, словом — никому из тех, которые развились до понимания общественных задач. Им, я думаю, будет жутко в Америке».
Мысли обо всем увиденном в Америке крепко засели в голове Менделеева. Он чувствовал, что здесь кроется какая-то фундаментальная истина, ускользающая от его понимания. И настоятельная потребность избавиться от мучений, причиняемых этим непониманием, стремление связать эти впечатления в одно гармоничное целое со всем опытом предшествующей жизни побудили Дмитрия Ивановича заняться изучением взаимосвязи между частью и целым, между гражданином и государством, между личностью и обществом… Возможно, именно американские впечатления привели к тому, что в ноябре 1877 года в журнале «Свет», издававшемся Н. Вагнером, появилась статья Менделеева «Об единице», подписанная — единственный раз в жизни — псевдонимом «Д. Попов».
Основная мысль этой довольно сбивчиво и невнятно написанной статьи состояла в том, что невозможно представить себе человека — единицу — вне человечества, вне множества; что индивидуализм есть преломленное в общественном сознании представление об единице.
«Единицу, — писал в этой статье Менделеев, — мало понимали до сих пор, ею увлекались, из-за частей не видели целого, и пришла пора сознаться в том, что мы, каждый, считали себя значащими единицами, и, в сущности, каждый из нас сам по себе нуль. Еще ступенью встанем выше, и тогда единица будет высшего порядка — семья, общество, государство, человечество. И на этих ступенях наша жизнь построится лучше и мы станем… понимать себя не больше, как микроскопическую клетку в целом организме».
Двадцать с лишним лет спустя Дмитрий Иванович так оценивал эту статью: «Переходное это было для меня время: многое во мне изменялось; тогда я много читал о религиях, о сектах, по философии, экономических статей. Здесь кое-что выражено. Взял псевдоним по той причине, что тогда во мне еще слаба была уверенность в верности выбранного мною пути. А я теперь писал бы то же — прямо с моей фамилией; все сказанное, прочтя вновь, подписываю». И действительно, мысль, смутно уловленная Дмитрием Ивановичем в 1877 году, впоследствии превратилась в стройную систему.
Но мнению Менделеева, идея крупного государства раньше всего осуществилась в Азии. Оттуда она была заимствована греками и римлянами, которые из микроскопических кланов, уделов и городов создали обширные и могущественные государства — империи. Затем появилось христианство — это «противодействие идее древнего мира о государстве». Обращенное к отдельной личности, к ее благосостоянию, христианство вскормило индивидуализм, создало личность человека. Но потом оно же привело к развитию духа меркантилизма, яснее всего выразившегося в Америке.
Таким образом, Америка исчерпала возможности, заложенные в христианском культивировании отдельной личности, и дальнейшее развитие этого начала стало уже невозможным. Новая история кончилась, началась история новейшая. Если первая характеризовалась преобладанием и развитием интересов индивидуальных, то вторая должна дать наибольший простор интересам социальным. Но это преобладание социальных интересов отнюдь не должно было, по мнению Менделеева, вылиться в подавление личности в угоду государству, в угоду обществу. Напротив, лишь проникшись общественными стремлениями, лишь вжившись в общественные и государственные интересы, человек сможет достичь такого духовного богатства и такой полноты жизни, каких никогда не раскроет перед ним преследование узких, эгоистических, личных целей.
В августе 1876 года Менделеев возвратился из дальних странствий. Засоринскую тройку, на которой он прискакал из Клина, ждали в Боблове с нетерпением. С его приездом дом оживился, наполнился шумом, суетой, беготней. Оля и Володя помогали Дмитрию Ивановичу разбирать чемоданы и свертки. Сгорая от любопытства, они тем не менее в точности выполняли всегдашнее требование отца — аккуратно сворачивали упаковочную бумагу, веревочки и не брались за следующий сверток до тех пор, пока подарок не был вручен но назначению. Благодарить за подарки было не положено, и если кто-нибудь все-таки благодарил, Дмитрий Иванович морщился и махал руками: «Ах, глупости какие! Ну что там».
В это лето в Боблове собралось много молодежи. У Дмитрия Ивановича гостили племянники — дети его сестры Екатерины Ивановны. Большая ватага приходила каждый день из Стрелиц — так называлась часть имения, подаренная Менделеевым его сестре Машеньке; поля, изрезанные оврагами, шли там как бы стрелами, отсюда и название Стрелицы. Центром всей этой компании была Олина гувернантка Александра Николаевна Голоперова, очаровательная молодая воспитанница Николаевского сиротского института. Время проходило весело: пикники, крокет, танцы, пение. И вдруг веселье кончилось. Всеобщая любимица и душа общества Клая — так называла Оля свою гувернантку — неожиданно объявила о своем решении оставить место у Менделеевых и уехать в Петербург. Все как-то притихли, и будто черная туча нависла над бобловским домом. Феозва Никитична замкнулась в своей комнате. Дмитрий Иванович не спускался из своего кабинета на втором этаже. Он подолгу стоял у окна и фальшивым тенором тянул: «Засту-у-у-пница усе-е-ердная…», что было признаком крайне дурного расположения духа.
После отъезда Александры Николаевны жизнь в Боблове пошла как бы по-старому, и все делали вид, будто ничего не случилось. Но даже дети, лишь много лет спусти узнавшие, что в то лето Дмитрий Иванович сделал Александре Николаевне предложение, вдруг ощутили драматическую неустроенность семейной жизни отца. Менделеевы состояли в браке уже 14 лет, но первые же годы совместной жизни показали Феозве Никитичне, что она не преуспеет в самонадеянном намерении переделать своей любовью тяжелый нрав Дмитрия Ивановича. Наделенный от природы холерическим темпераментом, Дмитрий Иванович все время был сосредоточен на работе, и все, что отвлекало от нее, что рассеивало внимание, что ослабляло титаническое напряжение мысли, легко выводило его из себя. И тогда малейший — с точки зрения окружающих — пустяк вызывал бурную вспышку: Менделеев кричал, хлопал дверью и убегал к себе в кабинет. А Феозва Никитична шла к себе в комнату, сквозь слезы бормоча: «Мучитель! Мучитель!»
Как-то раз горничная подала Дмитрию Ивановичу плохо выглаженную рубашку. Рубашка тотчас вылетела из кабинета на пол в коридор. Точно так же одна за другой вылетели пятнадцать поданных Дмитрию Ивановичу рубашек. Весь дом притих, только из кабинета отца доносились громовые раскаты его голоса. Вдруг стало тихо, потом послышались торопливые шаги в коридоре. Дмитрий Иванович бурно вбежал в комнату Феозвы Никитичны, стал на колени и просил прощения за несдержанность характера. «Уж ты прости меня, ведь я не могу спокойно работать». Но проходил день-другой, и снова из кабинета Дмитрия Ивановича неслись крики, снова весь дом затихал, и снова он просил прощения у Феозвы Никитичны.
Тяжелая болезнь жены внесла новые осложнения в семенную жизнь, которая и так-то не очень ладилась. И тогда Феозва Никитична, дав Дмитрию Ивановичу полную личную свободу, поставила ему единственным условием сохранение семьи. Дмитрий Иванович принял это условие. По взгляду со стороны, в доме все шло по-прежнему. Дети росли окруженные любовью и лаской обоих родителей, но сами супруги виделись довольно редко. Ранней весной Феозва Никитична уезжала с детьми в Боблово, оставаясь там до глубокой осени. И в огромной университетской квартире Дмитрий Иванович подолгу жил один. Чтобы не очень скучать, он стал каждое лето приглашать жить в университетскую квартиру свою сестру Екатерину Ивановну Капустину с детьми. Так получилось, что весной 1877 года в доме профессора Менделеева поселилась целая компания — Екатерина Ивановна, ее внучка-гимназистка, сын — студент университета, дочь Надежда и соученица дочери по Академии художеств 17-летняя Анна Ивановна Попова. Разместились все очень удобно, причем племянница Дмитрия Ивановича с подругой поселились в большой гостиной, выходящей окнами на парадный подъезд университета.
Квартира была расположена так, что Дмитрий Иванович миг неделями не показываться в той половине, которую занимали сестра и дети. Поэтому первая встреча юной Анны Ивановны и Дмитрия Ивановича состоялась спустя несколько дней после того, как все поселились в профессорской квартире. И внушительная внешность, громкий голос, весь вид Дмитрия Ивановича поразили юную художницу.
И это не удивительно. В свои 43 года Менделеев являл собой замечательный образец мужской красоты. Хотя во внешности Дмитрия Ивановича не было ничего экстравагантного, он всегда делался предметом всеобщего внимания. Производя впечатление на женщин, Менделеев и сам легко подпадал под обаяние женской красоты. Эта слабость была хорошо известна его друзьям и коллегам и становилась иногда предметом шутливых розыгрышей. Так, во время какого-то конгресса в Гейдельберге вечером был устроен маскарад. Дамы в черных масках вовсю «интриговали» кавалеров, и одна из них особенно преуспела в этом с Дмитрием Ивановичем. Он не отпускал ее ни на шаг и весь вечер провел в приятном с ней разговоре. Когда же наконец он уговорил ее снять маску, то оказалось, что это не дама, а старый гендельбергский приятель Менделеева химик Эрленмейер.
Появление Анны Ивановны в профессорской квартире не осталось незамеченным. Как-то раз, когда она играла на рояле, Дмитрий Иванович зашел к сестре, спросил, кто играет, и довольно долго слушал. И, как это часто бывает, наблюдательные родственники заметили, что Анна Ивановна произвела большое впечатление на Менделеева, гораздо раньше, чем она сама. И когда Дмитрий Иванович приходил усталый после экзаменов и Анна Ивановна спешила закрыть крышку рояля и уйти, Екатерина Ивановна, посмеиваясь, настойчиво уговаривала ее: «Играйте, матушка, играйте! Он будет добрей на экзаменах».
Ученый, который не боится никакой работы, который равно силен и в эксперименте, и в теории, который может не только увидеть недостатки в работе других, но и предложить свои собственные меры к их устранению, такой ученый нуждается не в сотрудниках, которые смотрят ему в рот, а в сотрудниках, которые смотрят в том же направлении, что и он сам. Вероятно, именно в этом секрет своеобразного и неповторимого менделеевского подхода к людям. Он охотно подсказывал начинающим ученым интересные и перспективные темы, направлял их мысли, но не занимался мелочной опекой, давал понять, что ему проще самому взяться и самому решить всю проблему, чем тащиться к цели со спотыкающимся, непрерывно недоумевающим «помощником». Первое и самое важное качество, которое интересовало Дмитрия Ивановича в студенте и в сотруднике, — самостоятельность.
«Школьные успехи, — говорил он, — ничего не предрешают. Я замечал, что «первые ученики» обыкновенно в жизни ничего не достигали: они были слишком несамостоятельны». Первым признаком такой несамостоятельности Менделеев считал обилие задаваемых студентами вопросов. Когда один из его помощников, получив задание приготовить препарат, растерянно спросил, как это сделать, он получил от него сухой резкий ответ: «На то вы и лаборант, чтобы знать, как это сделать». В другой раз молодой сотрудник спросил Менделеева, в каком объеме нужно знать новейшую литературу по теме магистерского экзамена. И получил сразу же недовольный ответ: «На то вы и магистрант, чтобы понимать, что нужно и что не нужно». Но, подумав немного, Дмитрий Иванович смягчился: «Для магистерского экзамена нужно то же, что для студентского — кандидатского, только вот с какой разницей. Если, например, студента спросят о гликолях, то ему достаточно ответить, что представляют из себя гликоли, каковы их свойства и реакции, а магистрант должен еще прибавить: как, зачем, почему, когда». Подробнее Менделеев говорить не стал, предоставив магистранту самому разобраться к смысле этих четырех слов.
Менделеев неустанно прививал своим ученикам дух здорового критицизма. «Химик должен во всем сомневаться, пока не убедится всеми способами в верности своего мнения», — любил говорить он. Чтобы показать, как важно следовать этому правилу, он иногда давал студентам для анализа совершенно чистую воду. И тогда тот, кто чересчур полагался на слова препаратора и не удосуживался прежде всего выпарить каплю раствора, расплачивался за свою излишнюю доверчивость многими часами напрасной работы.
Экзаменовал Менделеев нервно: быстро посмотрит, что написано на доске, задаст несколько вопросов из разных разделов курса и решительно выведет отметку. Ответы любил четкие, ясные, быстрые, в которых сразу выделяется главное и опускаются незначащие подробности. Так, экзаменуя, приглядываясь, давая задания, Дмитрий Иванович выделял из окружающих его людей таких, которых он называл сложившимися. «Сложившийся человек, — говаривал он, — знает, кто он, куда идет, что будет делать. Он определился. Сложившийся уже готов для дела, а не сложившийся еще ученик, может быть, на всю жизнь».
Со студентами и сотрудниками, которые прошли менделеевское испытание на самостоятельность, у Дмитрия Ивановича складывались отношения необычные и своеобразные. Будучи человеком нервным, Дмитрий Иванович нередко появлялся в лаборатории, в дурном расположении духа. Тогда он ворчал, раздражался, корил студентов: «Ни одна кухарка не работает так грязно, как вы». Но для студентов важна была не форма, а смысл отношения к ним Дмитрия Ивановича. Он говорил им обидные слова не как распекающий подчиненных начальник, а как равный равным. И поэтому сам Менделеев никогда не обижался, когда ему приходилось выслушивать ответы, не всегда почтительные и корректные.
Так, среди студентов Дмитрия Ивановича был некто П—в — человек почти одних лет с профессором. Этот П—в был знаменит тем, что умел работать со стеклом почти так же хорошо, как сам Менделеев. Паяльный стол в лаборатории был только один, и если за ним работал П—в, то Дмитрию Ивановичу приходилось ждать, пока тот закончит свою работу. Обычно терпения Менделеева хватало лишь на несколько минут, потом он начинал нервничать, подзадоривать П—ва, говорить, что выдуваемая тем трубка вот-вот лопнет. П—в как ни и чем не бывало заканчивал свою работу и, уступив место Дмитрию Ивановичу, оставался у стола. Это нервировало профессора, он начинал торопиться, а П—в спокойно говорил: «Вот у вас так лопнет, гните медленнее». Тут трубка действительно лопалась.
— А что говорил я, — восклицал П—в, — не торопитесь!
В другой раз с тем же П—вым был такой случай. Менделеев поручил ему приготовить какое-то редкое вещество. И когда П—в спросил, из чего его приготовить, Дмитрий Иванович, сразу раздражившись, буркнул: «Из воздуха». П—в удалился, обдумал план работы и, не дожидаясь менделеевского одобрения, приступил к выполнению поручения. Спустя некоторое время к нему подошел Дмитрий Иванович: «Ну, из чего же вы получаете?» — «По вашему совету — из воздуха», — ответил ему П—в. И тем не менее такие стычки нисколько не портили отношений между профессором и студентом.
Воспринимая науку как непрерывно строящееся и перестраивающееся здание, ощущая себя одним из строителей этого здания, Дмитрий Иванович был чужд того высокомерия, которое побуждало иных ученых с пренебрежением глядеть на людей труда. «Наука, — говорил он, — есть просто история, свод какого-нибудь дела, знания. Например, говорят:
Когда после окончания гимназии к Дмитрию Ивановичу пришла племянница и выразила желание «быть развитой», он ей с усмешкой сказал:
— Развитой? Беды!.. Да вот столяр развитой. Лицо племянницы вытянулось от изумления.
— Столяр? Развитой?
— Да, матушка, столяр развитой человек, потому что он знает вполне свое дело, до корня. Он и во всяком другом деле поэтому поймет суть и будет знать, что надо делать.
«…Я думала тогда, — вспоминала потом Капустина-Губкина, — что развитой человек тот, кто Милля и Спенсера понимает, Дмитрий Иванович точно читал в душе у меня:
— Он, матушка, и Милля поймет лучше, чем ты, если захочет, потому что у него есть основа…»
Работавшие с Дмитрием Ивановичем люди в один голос утверждали, что, несмотря на крутой прав и тяжелый характер, Менделеева любили, ибо он строил свои отношения с сотрудниками на основе их деловых качеств и ценил таланты и трудолюбие людей вне зависимости от их национальности, чина и звания. Тех, кто в научной среде начинал упирать на свои титулы, он умел вовремя поставить на место. Так, по издавна установившемуся порядку Дмитрий Иванович не вызывал студентов на экзамене, а они сами, выходя экзаменоваться по алфавитному списку, называли свои фамилии. Как-то раз один из экзаменующихся, представляясь, назвал себя: «Князь В.». Дмитрий Иванович удивленно вскинул брови и сухо сказал: «На букву «к» я экзаменую завтра».
В споре, в диспуте Менделеев был грозным противником. В 1874 году знаменитый палеонтолог В. Ковалевский, бывший свидетелем, спора его жены, математика Софьи Ковалевской с Дмитрием Ивановичем, писал в одном из своих писем: «Менделеев дрался с Софою из-за математики и значения ее до полуночи; он очень милый и, конечно, самый живой человек здесь; конечно, мил он, пока дружен, но я думаю, что в своих ненавистях он должен быть беспощаден, и иметь его своим противником должно быть очень солоно».
И действительно, в споре Дмитрий Иванович был страстен, упорен, неистощим в доводах. Он всегда был готов простить заблуждение, незнание, несообразительность. Но если он замечал, что противник хитрит, сознательно запутывает дело ради сохранения престижа, уклоняется от прямого ответа, он беспощадно разбирал и разбивал каждую цифру. Силу Менделеева-полемиста испытали на себе многие капиталисты-нефтепромышленники и чиновники многих ведомств, не говоря уже о коллегах-ученых.
Однажды в университете защищал докторскую диссертацию одни химик. Диссертация была слабая, и накануне защиты Бутлеров предупредил докторанта: «Пропустить пропустим, но пощиплем». На следующий день Бутлеров «щипал» докторанта деликатно, стараясь не очень задевать самолюбие. Меншуткин был более строг, вспоминал магистерскую диссертацию, говорил, что тогда от докторанта ожидали гораздо большего. Когда дело дошло до Дмитрия Ивановича, он поднялся и произнес страстную, яркую речь. «Один берет тему какую попало, лишь бы диссертация вышла, — говорил он. — Другой задается, определенной идеей, начинает с маленькой работы, которая постепенно развивается и в конце концов сама выливается в ученую диссертацию. Или, буду говорить образно, один идет но темному лабиринту ощупью, может быть, на что-нибудь полезное наткнется, а может быть, лоб разобьет. Другой возьмет хоть маленький фонарик и светит себе в темноте. И по мере того как он идет, его фонарь разгорается все ярче и ярче, превращается в электрическое солнце, которое ему все кругом освещает, все разъясняет. Так я вас и спрашиваю: где ваш фонарь? Я его не вижу!»
К осени 1877-го увлечение Анной Ивановной переросло в сильное чувство, которого Дмитрий Иванович, чуждый мелких ухищрении, не хотел скрывать. Не на шутку встревоженная этим Екатерина Ивановна поспешила снять небольшую квартиру, куда в ноябре и переселились Капустины вместе с Анной Ивановной. Но переезд этот уже не мог ничего изменить…
В жизни Дмитрия Ивановича начался мучительно трудный, переломный период. И действительно, прежние научные идеи и интересы исчерпались, а новые еще не сложились. Прежний уклад жизни пошатнулся, а на пути к созданию новой семьи, нового быта стояли огромные препятствия. И препятствия эти были не только внешнего характера.
С Феозвой Никитичной Дмитрия Ивановича связывала долгая, хотя и не очень счастливая, жизнь, связывали дети, при мысли о которых сжималось сердце этого немного сентиментального, как все сильные и добрые люди, человека. К юной Анне Ивановне его влекло могучее чувство, но оно не было лишено сомнений. Разум и житейский опыт 43-летнего человека подсказывали Дмитрию Ивановичу: разница в годах столь велика, что, в сущности, освобождает Анну Ивановну от ответственности за ее решения. И быть может, именно поэтому он написал письмо ее отцу. Тот сразу почувствовал всю необычность и серьезность происходящего и через несколько дней приехал в Петербург. Он долго беседовал с Екатериной Ивановной и Дмитрием Ивановичем и, конечно, поступил так, как поступил бы любой отец или мать: просил Дмитрия Ивановича ради проверки своего чувства к Анне Ивановне перестать видеться с ней. И так велика была растерянность Дмитрия Ивановича, что он такое обещание дал.
Он явно переоценил свои силы. Зимой 1878 года, когда Анна Ивановна вернулась на занятия в Академию художеств из Полтавской губернии, где она гостила у подруги, ее ожидало нечто непредвиденное. «Дмитрий Иванович не мог сдержать слово и все-таки встречал меня в залах Академии и даже у ворот Академии, откуда ученики и ученицы выходили после вечерних классов. К тяжести всего переживаемого прибавилось еще много досадных беспокойств. Сделалось известно в университете об увлечении Дмитрия Ивановича, о котором, как всегда в таких случаях, толковали вкривь и вкось… Все это было досадно и больно…»
Этому мучительному состоянию положил конец отъезд Дмитрия Ивановича за границу, куда его командировали на целый год. Все лето он прожил в Париже, а сентябрь — в любимом им Биаррице на Бискайском побережье. Осенью, ненадолго приехав в Боблово, он заболел плевритом. Сергей Боткин осмотрел Менделеева и велел уехать на зиму в теплые места. Дмитрий Иванович с радостью воспринял совет знаменитого врача: «Мне думалось, что там успею отвыкнуть от Анны Ивановны».
Поначалу Ницца произвела на Менделеева удручающее впечатление. Знаменитая Promenades des Anglias оказалась пародией на бульвар: жалкие пальмы, имевшие вид веников, не давали никакой тени. Горы вокруг голые, белесоватые. Единственное достоинство — живописные окрестности, но и то, как съязвил Салтыков-Щедрин, живший примерно в то же время в Ницце, вид этот «как-то холодно великолепен, не так, как в Бадене, где за каждой елью словно еда чуется. Здесь на этот счет очень подло и в гостиницах кормят скверно». Даже прославленный воздух Французской Ривьеры на первых порах действовал на Дмитрия Ивановича гнетуще: днем он был до такой степени блестящ, что очень сильно утомлялись глаза, а по вечерам курортника, обманувшегося дневным теплом, прохватывал свежий ветерок с моря. Однако встретившиеся Менделееву в Ницце петербургские знакомые успокоили его тем, что на всех новоприезжих климат Ниццы производит такое действие, но что потом все проходит и самочувствие сразу улучшается. И в самом деле, через несколько дней Дмитрий Иванович смог приступить к работе, ради которой его командировали за границу.
«Во время восточной войны, — писал он в работе «О сопротивлении жидкостей», — было предложено так много проектов применения воздухоплавания к военным целям, что стало необходимым ориентироваться в этом вопросе, постановка которого сложна и еще далеко не ясна… Я получил от морского и военного министерств поручение собрать сведения о современном состоянии воздухоплавания…»
Едва ли кто-нибудь мог сделать эту работу для русских военных лучше, чем профессор Менделеев. С ним адмирал Дюпюи де Лом, создатель первого в мире броненосца и главный строитель французского флота, обсуждал таинственные явления, возникающие при движении быстроходных боевых кораблей. Ему согласился выслать редчайшие отчеты о своих исследованиях Вильям Фруд, основоположник теории волнового сопротивления и создатель первого в мире опытового бассейна. Для него французские и английские ученые разыскали и предоставили в его распоряжение уникальные мемуары Кулона, Дюбуа, Бофуа и других исследователей XVIII века.
Лето, проведенное в Париже, ушло на сбор материалов, а осенью 1878 года в Ницце он начал писать книгу «О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании».
Тем, кто занимается методологией научного творчества, следовало бы пристально изучать эту книгу Менделеева. В ней очень ясно видно, как Дмитрий Иванович осваивает новую, незнакомую еще ему область знания. Пораженный разнобоем гипотез, экспериментов, мнений, формул и цифр, он прежде всего ищет источник этого разнобоя, стремится понять, какие причины его вызвали. «Мне кажется… что здесь более, чем во всех других частях физико-механических знаний, ясно сказалось такое обстоятельство, которое часто проходит незамеченным при изучении точных знаний: применение математического анализа к разработке мало исследованной области знаний придаст ей лживый образ некоторой законченности, отбивающей охоту от изучения предмета опытным путем, потому что людям, привыкшим искать в опытном методе решения задач… таким людям, нередко слабо владеющим математическим анализом, кажется он способным охватить всю сложность природного явления, и думается, что после него… весь интерес опыта состоит только в проверке или опровержении теории. Лица же, владеющие математическим анализом, редко имеют способность и склонность сочинить и выполнить опыт, могущий дать дельный ответ на вопрос, заданный природе. Приложение этих соображении видно по всей истории занимающего нас предмета».
По современным представлениям гидромеханика состоит из двух разделов — гидростатики, трактующей о покоящихся жидкостях, и гидродинамики, трактующей о движении жидкостей и их взаимодействиях с твердыми телами. Казалось бы, эти разделы охватывают все механические действия, производимые жидкостями. И тем большее удивление вызывает существование еще одного раздела гидромеханики — гидравлики — науки о течении жидкостей в трубах и каналах. В самом деле, разве течение в трубе не есть частный и притом простейший случай взаимодействия потока и твердого тела? Есть ли смысл искусственно выделять и отчасти даже противопоставлять гидравлику гидродинамике?
Но, оказывается, такое выделение было обусловлено серьезными историческими причинами. Оно как бы дань той, можно сказать, героической роли, которую сыграла скромная инженерная наука гидравлика в низведении всей гидродинамики с заоблачных высот математической отрешенности к решению важнейших практических задач современной техники. Вплоть до последних десятилетии прошлого века гидродинамика и гидравлика, в сущности, почти не имели точек соприкосновения. Если первой занимались самые высокие теоретики-математики, то второй — самые приземленные практики-инженеры. Математиков И. Ньютона, Ж. Даламбера, Л. Эйлера, М. Остроградского интересовали изящные математические задачи, задаваемые обтеканием тел струями жидкости. Инженеров, оставшихся, в большинстве случаев безвестными, интересовали менее изящные, но гораздо более насущные вопросы: силы, оказываемые водяными струями на берега каналов и устои мостов, и сопротивление, испытываемое движущимися кораблями и текущими в трубах жидкостями. Так вот потому и выделилась гидравлика, потому и оказалась противопоставленной гидродинамике, что между формулами и цифрами математиков и инженеров не оказалось ни малейшего сходства, ни малейшего совпадения. Это разительное несовпадение и породило не лишенную ядовитости мысль, будто гидродинамики разделяются на инженеров-гидравликов, которые наблюдают то, чего нельзя объяснить, и на математиков, которые объясняют то, чего нельзя наблюдать.
К тому времени, когда Дмитрий Иванович начал заниматься сопротивлением жидкостей, многое в этой науке уже было сделано: Г. Галилей, Дж. Ричиолли, Э. Мариотт и Ф. Ла-Гир в XVII веке уже установили, что сопротивление зависит от поперечного сечения движущегося тела, от плотности жидкости и от скорости движения. Великий Ньютон уже выдвинул свою инерционную теорию, согласно которой сопротивление приписывалось только преодолению инерции частиц жидкости, раздвигаемых движущимся телом. Французский морской офицер Ш. Борда своими экспериментами опроверг все теоретические предсказания Ньютона, хотя сам и не выдвинул никакой гипотезы взамен. Сделал это в 1764 году другой француз — Э. Дюбуа, который в предисловии к своим «Началам гидравлики» писал: «Мы считаем себя счастливыми уже тем, что нам удалось разложить сопротивление, испытываемое движущимся телом в жидкости, на два различных усилия, одно, действующее как давление на переднюю часть тела, а другое — как недостаток давления сзади». Величайшая заслуга Дюбуа, высоко оцененная Менделеевым, состояла в том, что он первый показал, какую большую роль в сопротивлении играет форма кормовой оконечности тела, роль, которую полностью отрицал сам Ньютон.
Инерционные теории сопротивления, модные в XVIII веке, привели к понятию об идеальной жидкости, то есть жидкости, лишенной трения, лишенной вязкости.
Эксперименты, проведенные в 1780 году французом Ш. Кулоном — тем самым, который открыл фундаментальный закон электростатики, — показали, что пренебрегать трением, как это делали до него, нельзя, что сопротивление складывается из двух составляющих — инерционного и фрикционного сопротивлений. В XIX веке началось увлечение фрикционными теориями, которые были особенно популярны в Англии, где именно такие теории разработали В. Ренкин и Дж. Скотт-Рассел, где провел свои крупномасштабные эксперименты М. Бофуа и где начал систематические исследования знаменитый Вильям Фруд.
Но все это английское великолепие произвело на Менделеева не очень большое впечатление. Опыты Бофуа обошлись в 50 тысяч фунтов стерлингов, почти в полмиллиона рублей. Опыты Фруда потребовали громадных средств английского адмиралтейства, поскольку для них было устроено здание над длинным водоемом, установлен мощный двигатель и целая система измерительных приборов. И тем не менее все эти колоссальные средства, затраченные Англией на изучение сопротивления, принесли малые плоды.
Гораздо большее значение для науки представляли внешне не столь впечатляющие опыты, произведенные во Франции в 1840–1850 годах. Здесь Г. Гаген и Ж. Пуазейль установили, что сопротивление жидкости, текущей в трубе, прямо пропорционально скорости. А. Дарси пришел к иному заключению: сопротивление пропорционально квадрату скорости. Придирчивая проверка показала, что эксперименты и Гагена — Пуазейля и Дарси безукоризненны. Выходит, вода в трубах вела себя лукавым озорником, подчиняясь иногда одному закону, а иногда другому. Чутье подсказывало Менделееву, что в этом несовпадении таятся гораздо более фундаментальные зависимости, чем в грандиозных экспериментах англичан. «До сих пор нет достаточно прямых опытов для твердого суждения об этом предмете, — писал он, — хотя он имеет, можно сказать, капитальнейшее значение для многих частей гидродинамики…»
В 1878 году, работая в Ницце над проблемами гидродинамики, Менделеев был убежден, что «время для изложения и средства для издания… найдутся»… Но увы! Работам Менделеева по изучению сопротивления жидкостей не суждено было быть завершенными: в 1880 году выходит первый выпуск этого труда, оказавшийся последним. О нем Дмитрий Иванович на склоне лет писал так: «Книга вышла полна разного интереса (тогда я уже любил Анну Ивановну), но на ее окончание личных средств не стало (они пошли на дела семейные), а казенных не дали — оттого и не продолжал».
Об этом можно только пожалеть, ибо уже тогда, в 1878 году, он настолько глубоко проник в суть дела, что совершенно правильно указал на тот узловой вопрос, разрешение которого стало стержнем развития в последующие десятилетия. «Внутреннее трение, — писал он, — будет поглощать еще больше силы и работы тогда, когда явятся вихри (вьюны, водовороты), как это случится яснее всего при движении угловатого… тела или тела с шероховатой поверхностью». Чтобы оценить всю многозначительность этих слов, следует вспомнить о том, что именно образование вихрей стало главным содержанием гидродинамики: вплоть до наших дней.
И кто знает, найдись у русского морского ведомства в 1878–1880 годах несколько свободных тысяч рублей, и, быть может, вся история становления современной гидродинамики оказалась бы иной.
В начале 1879 года заболел сын Менделеева — Владимир, и Дмитрий Иванович поспешил в Петербург к своему любимцу. Конечно, он не утерпел, повидался с Анной Ивановной. Встреча показала им обоим, что в их отношениях ничего не изменилось. И Дмитрий Иванович со стесненным сердцем снова уехал в Париж. Здесь нагрянул к нему старый приятель Петр Капитонович Ушков, которому в свое время Дмитрий Иванович помог поставить большое химическое производство в Елабуге на Каме, и соблазнил Менделеева ехать в Неаполь и Сицилию…
Путешественники с готовностью окунулись в водоворот неаполитанской жизни. По вечерам, гуляя по набережной, они любовались Везувием: вершина вулкана, рисовавшаяся темной массой на небе, светилась красивым огненным пятном; по временам это пятно увеличивалось, загоралось ярче, и тогда были видны клубы освещенного внутренним пламенем дыма. Днем они осматривали городской музей, катакомбы, раскопанную Помпею, паровые пещеры и знаменитый Собачий грот. Собаки, имеющие неосторожность забежать в этот грот, погибают от удушья, ибо выделяющиеся из почвы пары нефти и углекислота образуют над полом грота смертоносным слой толщиной в несколько десятков сантиметров.
Потом небольшой колесный пароход доставил Менделеева и Ушкова в «благородную» Мессину на остров Сицилия. И Дмитрий Иванович уговорил своего спутника поехать в Патерно, небольшой городок у подножия Этны, неподалеку от которого за несколько месяцев до того произошло большое извержение грязи и газов.
И все-таки, несмотря на обилие и яркость впечатлении, цель, которую поставил перед собой Менделеев, отправляясь в путешествие, не была достигнута. Он не мог забыть Анну Ивановну. Интерес к сицилийским красотам пропал, и Дмитрий Иванович заторопился в Рим, где 9 апреля 1879 года открылся второй конгресс метеорологов. Но, как назло, съезд этот оказался малоинтересным, и раздосадованный Менделеев морем возвратился в Ниццу, а оттуда домой, в Петербург.
Сенсацией столичной жизни в 1879 году стала VII Передвижная выставка, на которой выставил три свои картины Архип Иванович Куинджи. «Публика приветствует их восторженно, — писал об этих пейзажах Н. Крамской, — художники же (то есть пейзажисты) в первый момент оторопели… долго стояли с раскрытыми челюстями и только теперь начинают собираться с духом…»
Из всех изящных искусств Дмитрий Иванович больше всего любил и понимал живопись. Он посещал все выставки, был дружен с Н. Крамским, И. Шишкиным, И. Репиным, Н. Ярошенко, А. Куинджи. Разговоры о выставке передвижников отвлекли его от тяжких раздумий и натолкнули на мысль об устройстве так называемых сред, на которых собирались бы художники, ученые, литераторы, молодежь. Конечно, это намерение преследовало и тайную цель: он надеялся, что на такие встречи будет приходить и ученица Академии художеств Анна Ивановна Попова. И действительно, когда юная художница вернулась с каникул, она была введена в кружок знаменитых мастеров кисти, запросто собиравшихся в просторной профессорской квартире. Здесь за чаем с бутербродами и фруктами узнавались последние новости, рассматривались иллюстрированные издания, демонстрировались изобретения, разгорались споры, а иногда устраивались всевозможные мистификации и дурачества. Как-то раз Менделеев приехал к своей сестре, у которой снова поселилась Анна Ивановна, и предложил ехать к Куинджи смотреть «Ночь над Днепром». Эта картина наделала тогда много шума, и, конечно, Анна Ивановна с восторгом согласилась. Извозчик быстро домчал их на Малый проспект Васильевского острова, к угловому, ничем не примечательному снаружи дому. Дверь открыла жена Куинджи. Она провела гостей в небольшую комнату и просила подождать. Потом за дверью, ведущей в мастерскую, раздался громкий голос художника: «Да где же он? Да куда же он?» Двери распахнулись, и Архип Иванович, крупный, плотный, плечистый, с шапкой длинных волнистых волос и курчавой бородой, появился перед Дмитрием Ивановичем и его юной спутницей. Одет он был по-домашнему, в поношенный серый пиджак, из которого как будто вырос. Художник провел гостей в мастерскую, и все вместе они долго сидели перед картиной…
Этот визит к Куинджи навсегда запомнился Анне Ивановне, ибо тогда она впервые услышала менделеевскую импровизацию — дар, всегда изумлявший людей, знавших Дмитрия Ивановича. Иногда он начинал рассуждать о предметах, о которых никогда раньше специально не думал. И тогда будто сама необходимость говорить исторгала из головы Менделеева мысли, которые потом новизной и глубиной, возможно, удивляли его самого. Так случилось и на этот раз. К счастью, Анна Ивановна и Куинджи, пораженные его необычными рассуждениями, убедили его записать то, что он говорил. И в списке трудов Дмитрия Ивановича появилась статья с непривычным для его трудов названием: «Перед картиною А. И. Куинджи».
«В древности, — писал в этой статье Менделеев, — пейзаж не был в почете, хотя существовал. Даже у великанов живописи XVI века пейзаж если был, то служил лишь рамкою. Тогда вдохновлялись лишь человеком… В науке это выразилось тем, что ее венцом служили математика, логика, метафизика, политика… Время сменилось. Люди разуверились в самобытной силе человеческого разума, в возможности найти верный путь, лишь углубляясь в самих себя, в людское. Стали изучать природу, родилось естествознание, которого не знали ни древние века, ни эпоха Возрождения. Наблюдение и опыт, индукция мысли, покорность неизбежному, его изучение и понимание скоро оказались сильнее и новее, и плодотворнее чистого, абстрактного мышления, более доступного и легкого, но не твердого… Венцом знания стали науки индуктивные, опытные, пользующиеся знанием внешнего и внутреннего, помирившие царственную метафизику и математику с покорным наблюдением и с просьбой ответа у природы.
Единовременно… с этою переменою в строе познания родился пейзаж. И века наши будут когда-нибудь характеризовать появлением естествознания в науке и пейзажа в искусстве… Еще крепка, хотя и шатается, старая вера в абсолютный человеческий разум, еще не выросла новая — в целое, где человек есть часть законная; оттого и кажется иным, что исчезающее ничем не заменяется, но сила естествознания и пейзажа убеждает в могуществе народившегося. Как естествознанию принадлежит в близком будущем еще высшее развитие, так и пейзажной живописи — между предметами художества. Человек не потерян, как объект изучения в художеств, но он является теперь не как владыка и микрокосм, а как единица в числе».
Куинджи был человеком со странностями. После 1883 года он вдруг перестал выставлять свои картины, и до самой его смерти их могли видеть лишь немногочисленные друзья художника. Среди этих друзей был, конечно, и Дмитрий Иванович. Что-то влекло друг к другу этих ярких, самобытных людей, из которых каждый был могуч в своем деле. Что-то в душе, в мастерстве, в личности Архипа Ивановича продолжало волновать Дмитрия Ивановича, заставляло с неизбывным интересом всматриваться в творения замечательного пейзажиста.
Уже на склоне лет Куинджи как-то пригласил Дмитрия Ивановича в свою мастерскую. Одну за другой он показывал гостю свои изумительные картины. И по мере того как Менделеев смотрел, он приходил во все большее и большее восхищение.
И когда его глазам открылся берег с полевыми цветами и чертополохом, река, уходящая в безграничную даль, серебристые, чуть розовые облака в предрассветном небе и над берегами и рекой заструился легкий утренний туман, Дмитрий Иванович даже закашлялся от волнения.
— Что это вы так кашляете, Дмитрий Иванович? — улыбнулся Куинджи.
— Я уже шестьдесят восемь лет кашляю, — весело ответил профессор, — это ничего, а вот картину такую вижу в первый раз.
Архип Иванович установил новый холст, и Менделеев увидел знаменитую куинджевскую березовую рощу с ручейком, солнцем и голубыми небесами на заднем плане…
— Много секретов есть у меня в душе, — задумчиво проговорил Менделеев, — но не знаю вашего секрета…
1879 год оказался дли Менделеева неплохим годом. Осенью Л. Нильсон открыл скандий, дав еще одно убедительное подтверждение периодического закона. Дмитрий Иванович много работал по подготовке гидродинамических экспериментов, читал лекции. В работе, во встречах с художниками и коллегами, в надеждах прошли осень и зима. И незаметно подошел самый, может быть, тяжелый год в жизни Менделеева — 1880-й.
Он начался с того, что в очередном номере немецкого химического журнала «Berichte» Дмитрий Иванович обнаружил статью Лотара Мейера. После открытия скандия ревность стала терзать германского химика. Предоставляя Менделееву первенство в установлении главных основ периодического закона, Мейер, однако, настаивал на том, что он до Дмитрия Ивановича выработал некоторые частности, которые-де послужили для Менделеева отправной точкой. А вот теперь, спустя десять лет, Мейер решил посчитаться и выделить из менделеевского открытия ту часть, которую он считал своей. При этом он по простоте душевной счел нужным успокоить Дмитрия Ивановича: «По отделении скромной доли моего участия в развитии периодического закона… заслуга Менделеева остается еще весьма большою…»
С самого начала своей научной деятельности Дмитрий Иванович проявлял поразительное равнодушие к приоритетным спором. «Если сделанное мною, — писал он Зинину в 1869 году, — присваивается другими (например, мною в 1856 г. дано объяснение аномалий в плотности паров, дана формула плотности — Копп через два года сделал то же, мною установлено понятие о пределе — его присваивают Кекуле, Вюрц) — я не говорю ни слова, потому что не имею грубого и вредного для науки самообольщения и потому что споры о приоритете презираю». Уже одно это великолепное презрение свидетельствует о том, что Менделеев шел своей дорогой, относился благожелательно к успехам и славе других и не вступал в унизительные для него споры о научном первенстве перед лицом многочисленной и малообразованной публики.
Ясно представляя себе структуру науки, Дмитрий Иванович понимал, что она, как всякий живой организм, представляет собой диалектическое единство сосредоточения в развитии, статики и динамики. Действительно, наука состоит не только из добытых у природы точно установленных данных, «не только из совокупности общепринятых точных выводов, но и из ряда гипотез, объясняющих, выражающих и вызывающих еще не точно известные отношения и явления». Всемирная, общечеловеческая в своей статике, то есть в результатах, и уже добытом оформившемся знании, наука национальна в динамической своей части — в гипотезах, в выборе проблем, в методах поиска. Сильно проявляясь в процессе становления, в процессе формирования новых научных открытий и представлении, эти национальные черты утрачиваются полностью, как только научная истина окончательно установлена и вошла составной частью в мировую, общечеловеческую науку. «Стараясь познать бесконечное, — писал Менделеев, — наука сама конца не имеет и, будучи всемирной, в действительности неизбежно приобретает народный характер, даже более или менее единоличные оттенки».
Вот эти-то самые «единоличные оттенки» (читай: пятнадцатилетние непрерывные, титанические усилия такого мощного ума, каков был ум Менделеева), не нашедшие никакого отражения в классической простоте периодической системы, и ввели в заблуждение претендентов. Но Дмитрий Иванович знал, какая гигантская глыба труда подпирает эту кажущуюся простоту его открытия, и смотрел снисходительно на все споры о приоритете. По мнению Менделеева, великое открытие ни украсть, ни присвоить нельзя. Украсть можно только то, что посильно каждому. Каждый может смахнуть в карман золотую монету, но надо быть гигантом, чтобы унести десятипудовый слиток золота. Вот почему самые горячие споры из-за первенства разгораются там, где речь идет отнюдь не о крупных открытиях. Великое же открытие — это тяжесть, которая по плечу лишь немногим. Такое открытие, такое деяние не завершается в тот момент, когда оно окончательно созрело в голове ученого. «…Творцом научной идеи должно того считать, кто понял не только философскую, но и практическую сторону дела, сумел так его поставить, что в новой истине все могли убедиться и она стала всеобщим достоянием. Тогда только идея, как материя, не пропадает».
При таких воззрениях нетрудно понять, почему Менделеев преспокойно предоставлял самому времени решать приоритетные споры. «Настоящий автор, — пишет академик Б. Кедров, разъяснял позицию Менделеева, — обнаруживается сразу по его отношению к данному открытию, ибо он заботится прежде всего не о том, чтобы выставлять свою персону и кричать о своем приоритете, а о том, чтобы сделанное им открытие было признано другими учеными за истину, чтобы оно тем самым утвердилось в науке… Напротив, мнимого автора все это мало интересует; он готов довольствоваться тем, что его признают соавтором чужого открытия».
Почему же Менделеев, всю жизнь пренебрегавший приоритетными спорами, вдруг сел писать статью в «Berichte», защищая свое первенство от притязаний Лотара Мейера? Почему же Менделеев, который не уставал повторять, что «приоритетные вопросы мало меня интересовали всегда», что «эту полемику приоритетов я терпеть не могу», решил отвечать на притязания Мейера?
«…Я не мог оставить без ответа статью г. Л. Мейера, — писал он в «Berichte», — тем более что ему угодно было лично послать мне особый оттиск своей статьи. На письмо я бы ответил письмом, на статью отвечаю статьей, на таблицы — таблицами, на 1870 год 1869, на декабрь — мартом и августом, потому что не могу считать чем-либо иным, как ошибкою, заявление, сделанное столь известным ученым, каков Лотар Мейер… Мне лично, я могу то доказать другими примерами, не нужно присвоение научного приоритета, мне дороже всего признание истинности периодического закона и его дальнейшее развитие… Но зато
Но, кроме личных мотивов, в деле о приоритете Менделеева оказались и общественные мотивы. И с ними ему довелось столкнуться семь месяцев спустя — в ноябре 1880 года…
7 февраля 1880 года впервые за все время существования Русского химического общества не состоялось очередное заседание: русская химия понесла тяжелую утрату — почти одновременно умерли два ее патриарха — А. Воскресенский и Н. Зинин. И с этого момента начался инцидент, которым в списке «академических прегрешений» А. М. Бутлерова — Александр Михайлович составил себе такой перечень, как он говорил, «для памяти» — числился под номером пять. Всего в этом списке было тридцать два «прегрешения», но, как показали последующие события, пятое оказалось самым серьезным, ибо Бутлеров выдвинул на вакансию академика по технологии и прикладной химии кандидатуру Дмитрия Ивановича Менделеева…
Президентом Академии наук был тогда известный путешественник граф Ф. Литке. Но он мало вникал в академические дела, и всем заправлял непременный секретарь К. Веселовский. Он пользовался полным доверием Литке, то есть делал все, что ему вздумается. Веселовский начинал как специалист в политической экономии и статистике и в молодости не был даже чужд либерализма. Но, вовремя спохватившись, он отошел от политэкономии и предпочел заняться более безопасными для карьеры разделами — метеорологической статистикой и климатологией. Академия при более чем 30-летнем правлении Веселовского отмежевывалась от университетов, отгораживалась от жизни и ее запросов, и на протяжении 1870–1885 годов история учреждения, торжественно провозглашенного «первенствующим ученым сословием Российской империи», отмечена рядом печальных происшествий.
Главным героем этих событий был Александр Михайлович Бутлеров — человек глубоко порядочный и принципиальный.
Благодаря заботим и хлопотам Бутлерова и Зинина членами-корреспондентами Российской академии были избраны многие университетские профессора, в том числе и Менделеев. С другой стороны, Бутлеров никогда не стеснялся указать на малую пригодность некоторых кандидатов, которых стремился провести в академию Веселовский. И все это до такой степени раздражило непременного секретаря, что однажды, когда собрание академии забаллотировало его очередную кандидатуру, он, не в силах сдерживаться более, набросился на Александра Михайловича:
«Это все вы виноваты!.. Вы хотите, чтобы мы спрашивали позволения университета… для наших выборов. Этого не будет. Мы не хотим университетских.
Если они и лучше нас, то нам все-таки их не нужно. Покамест мы живы — мы станем бороться».
И вскоре Бутлеров убедился, что это были не пустые слова.
В марте 1880 года согласно уставу собралась комиссия для составления списка кандидатов на освободившуюся после смерти Зинина академическую кафедру. Бутлеров предложил И. Бекетова и Д. Менделеева, в противовес ему два других члена комиссии выдвинули Ф. Бейльштейна. Поскольку на вакантное место следовало выставлять только одного кандидата, а комиссия не пришла к согласию, ее распустили. И через полгода, как предусматривал устав, группа академиков, предводительствуемая Бутлеровым, снова выдвинула Менделеева. Этому выдвижению, состоявшемуся в октябре 1880 года, предшествовали события, проливающие свет на те отношения, исполненные благородства и взаимного уважения, которые установились между Н. Бекетовым и Менделеевым.
Когда в марте этого года Бутлеров обратился к Дмитрию Ивановичу, чтобы испросить его согласие на баллотировку, у него уже было письменное согласие Бекетова, работавшего тогда в Харьковском университете. Узнав об этом, Дмитрий Иванович отказался баллотироваться. «Вы прямо сказали, что Вы считаете двух равными и от одного имеете письменное согласие, — писал он Бутлерову. — На Ваше желание получить его от меня я, по существу дела, должен был смотреть как на мое искательство встать другому на дороге… И этого другого я люблю и уважаю. Я инстинктивно разобрал дело так: Вы спрашиваете моего отказа, а не согласия… Если Вам нужен отказ — не представляйте». Со своей стороны, и Бекетов, узнав о сложившейся обстановке и не желая стать на пути Менделеева, поспешил снять свою кандидатуру, хотя получение академического звания было для него единственной возможностью «попасть в лучшую обстановку».
Результаты выборов ни у кого не вызывали сомнения, ибо вся русская общественность готова была бы подписаться под словами, которые Бутлеров произнес 8 октября 1880 года, представляя физико-математическому отделению Академии наук заслуги Дмитрия Ивановича. «Профессор Менделеев, — говорил Александр Михайлович, — первенствует в русской химии, и мы смеем думать, разделяя общее мнение русских химиков, что ему принадлежит по праву место в первенствующем ученом сословии Российской империи… Присоединением профессора Менделеева к своей среде Академия почтет русскую науку, а следовательно, и себя самое как ее верховную представительницу».
Но, увы, не пожелала императорская академия почтить «себя самое». Ошеломленный Бутлеров прямо на повестке, приглашавшей его на заседание 11 ноября 1880 года, набросал результат выборов: «Забаллотирован: 10 черн., — 9 белых. Очевидно — черные: Литке (2), Веселовский, Гельмерсен, Шренк, Максимович, Штраух, Шмидт, Вильд, Гадолин. Белые: Буняковский, Кокшаров, Бутлеров, Фамицын, Овсянников, Чебышев, Алексеев, Струве (!), Савич».
Сразу же после того, как стал известен результат выборов, делопроизводитель Русского химического общества Н. Меншуткин разослал многим членам общества текст протеста, предназначавшегося для помещения в газетах. «Бесспорность заслуг кандидата, — говорилось в этом протесте, — которому равного русская наука представить не может, известность его за границей делают совершенно необъяснимым его забаллотирование». Почти все химики, к которым обратился Меншуткин, с готовностью подписали протест.
Академические выборы состоялись после ноябрьского заседания РХО, поэтому у коллег Менделеева было достаточно времени, чтобы к следующему заседанию общества подготовить настоящее чествование Дмитрия Ивановича. Он был избран почетным членом общества, и ему был преподнесен адрес, в котором, между прочим, говорилось: «Настоящее приветствие и предложение Вас в почетные члены получило лишь внешний толчок от общего волнения, вызванного известным событием 11-го ноября, но каждый из нас уже давно чувствовал нравственную обязанность признать и венчать пророка и в отечестве своем».
Возбуждение, внесенное академическими выборами 1880 года в жизнь русского общества, оказалось столь сильным, что не могло уже быть удержанным в рамках ученой корпорации и научных учреждении. Поэтому последствия, забаллотирования Менделеева оказались гораздо серьезнее, чем мог даже предполагать Веселовский, затевая свою интригу. Так, воспользовавшись тем, что имя Менделеева было у всех на устах, газета «Голос» открыла подписку на премию имени Менделеева. Подписка прошла успешно, и уже в феврале 1881 года редакция передала химическому обществу 3505 рублей. Но Дмитрий Иванович просил при его жизни премий его имени не присуждать, поэтому пожертвованный капитал приращивался процентами и к 1907 году составил около 15 тысяч рублей. Премии имени Менделеева начали присуждаться с 1910 года, и в числе ученых, награжденных ею, мы встречаем имена Д. Коновалова, Н. Курнакова, А. Думанского, В. Хлопина и других.
Из всех химиков, к которым обратился Меншуткин, отказался подписать протест один лишь Бейльштейн. И это обстоятельство наряду с тем, что он отчасти противопоставлялся Менделееву как кандидат, дало повод некоторым газетам причислить его к так называемой «немецкой партии».
С другой стороны, и некоторые из академиков нерусского происхождения позволили себе высказывания, которые лучше было бы оставить при себе. Один из них подлил масла в огонь, простодушно удивляясь поднявшейся полемике: «Да ведь Академия вовсе не русская; она — Императорская Академия!» Другой имел неосторожность публично заявить Бутлерову, что академическое большинство верит не ему, русскому академику, а верит боннскому профессору Кекуле; и что, вообще-то говоря, академия неподсудна русским ученым… Случилось то, чего опасался Бутлеров. Вместо разговора о реакционности академии, о ее оторванности от живого развития русской науки, о ее самоизоляции получился разговоре борьбе «русской» и «немецкой» партии, о немецком засилье и так далее. Тогда выходило: Менделеев не был избран потому, что был русским, а не потому, что его неукротимая энергия и передовые по тому времени общественные взгляды угрожали тлетворному духу, насаждавшемуся в академии Веселовским. Тогда выходило: Бейльштейн устраивал Веселовского только потому, что происходил из немцев, а не потому, что он обладал тихим, покладистым характером и никогда бы не вступил в конфликт с академическим начальством.
Сейчас, когда злоба дня отлетела от этих давно минувших событий, мы с гордостью можем отметить, что лучшие представители отечественной науки не унизились до такого националистического толкования академического конфликта 1880 года. Сам Бутлеров, центральная фигура конфликта, не уставал повторять: «В своем научном развитии я многим обязан западноевропейской науке и привык относиться, к ней с должным уважением. С другой стороны, с прошедшим пашей Академии связаны столь блестящие имена, чужие по звуку, но родные нам по великим заслугам пред Россией, что нельзя не преклониться пред ними с полным уважением. Я был поэтому весьма далек от каких-либо скороспелых выводов, основанных на внешности…» Александр Михайлович не допустил также и нападок на Бейльштейна только за то, что тот был нерусского происхождения. Он все время подчеркивал, что Бейльштейн заслуженный трудолюбивый ученый, но, «отводя в нашей науке г-ну Бейльштейну почетное место, вполне им заслуженное, нет надобности принижать для этого других ученых, стоящих выше его…».
Нужно отдать должное и поведению самих профессоров, которые волею судеб оказались в положении соперников. Дмитрий Иванович продолжал высоко ценить Бейльштейна, а тот, в свою очередь, не раз говорил: «У нас в России больше нет талантов таких же могучих, как Менделеев».
Дмитрий Иванович воспринял забаллотирование довольно спокойно, но поднявшаяся газетная шумиха и письма с выражением соболезнования доставили ему немало неприятных минут.
«Выбора в академию я не желал, им оставался бы недоволен, — объяснял он свое состояние одному из друзей, — потому что там не надо, что я могу дать, а мне перестраивать себя уже не хочется. Ни важности заморской, ни солидной устойчивости в объекте занятий, ни напускного священнодействия в храме науки — ничего этого во мне быть не может, коли не было. И пришлось бы мне сталкиваться, а теперь противно мне это, пропала былая охотка. Оттого и рад был.
Тяжело же стало тогда, когда посыпались телеграммы вроде Вашей… Тяжесть облегчилась по добром размышлении, когда пришла верная догадка — ведь я лишь повод, подходящий случай, чтобы выразилась на мне охота ветхое заменить чем-то новеньким, да своим. Просветлело на душе, и я… готов хоть сам себе кадить… чтобы основы академии преобразовать во что-нибудь новое, русское, свое, годное для всех вообще и, в частности, для научного движения в России».
Оглядываясь на события 1880 года, Дмитрий Иванович с удовлетворением мог остановить свои взгляд лишь на одном из них — поездке на Кавказ. И возможно, именно поэтому в автобиографических заметках, составленных буквально за несколько месяцев до смерти, под цифрой 1880 он записывает всего одно событие этого года: «4 нюня командирован на 3 месяца… Ездил с Володей (была и Анна Ивановна) по Волге».
Еще во время пребывания в Америке, осматривая с любезным Гетчем нефтеносные провинции Пенсильвании, Дмитрий Иванович задумался о происхождении нефти. Хотя Гетч не был геологом и хотя ему не хватало широты знании, он оказался для Менделеева настоящей находкой, ибо держал в голове сотни цифр, фактов и наблюдений, касающихся практики нефтяного дела. Поэтому Дмитрий Иванович смог очень быстро проверять и уточнять возникающие в его голове гипотезы. Для этого ему надо было лишь выводить из своих построений всевозможные следствия, а Гетч тут же говорил ему, наблюдается что-нибудь подобное в действительности или нет. И постепенно соображения и наблюдения Дмитрия Ивановича начали складываться в стройную гипотезу, совершенно по-новому объясняющую происхождение нефти.
В то время считалось, что, будучи смесью органических веществ — углеводородов, нефть могла произойти только из органических остатков некогда живших на земле животных или растении. Но во время своих поездок с Гетчем Дмитрий Иванович обратил внимание на то, что нефть добывается из таких древних геологических образований, что в них не могли встречаться в больших количествах живые организмы. Попасть же на такую глубину с поверхности они тоже не могли, ибо нефть, более легкая, чем вода, может перемещаться лишь из глубоких пластов в верхние слои, но никак не может опускаться вниз.
«Мне стало очевидно, — писал Дмитрий Иванович, — что нефть образовалась в пластах более глубоких, чем самые древние слоистые образования… и я составил гипотезу, объясняющую происхождение нефти проникновением воды в трещины земли до внутреннего земного ядра, в котором можно предположить, на основании многих данных, существование углеродистого железа… От действия протекающей воды на сильно накаленное внутреннее металлическое ядро должны были образоваться, по моему мнению, углеродистые водороды, тождественные с нефтью». Разумеется, мистер Гетч не мог ответить, что получится при взаимодействии раскаленного чугуна с водой, да Менделеев и не ожидал от него ответа. В каком-то уголке памяти у Дмитрия Ивановича сохранились сведения о том, что в гренландском метеорите было обнаружено около 10 процентов углерода и органического вещества. Зато Гетч сообщил Менделееву другой очень важный факт: в пенсильванской нефти никогда не было обнаружено остатков органических тканей.
В 1876 году, возвращаясь в Петербург, Дмитрий Иванович держал к голове готовый план исследований. Исследовав под микроскопом свежую нефть, он не нашел в ней следов органических тканей. А обработав водой чугун, очень богатый углеродом, он убедился, что образуются вещества, близкие к тем, из которых состоит нефть. Позднее французский ученый Клоэз показал, что действительно сильно науглероженный чугун способен давать продукты, почти тождественные с природной нефтью.
Но главным доводом в пользу своих предположений Дмитрий Иванович считал то, что нефтяные источники как в Пенсильвании, так и на Кавказе расположены вдоль линий, параллельных направлению горных хребтов. Выпираемые изнутри могучими силами, эти хребты должны были проламывать напластованные сверху породы, и через образовавшиеся трещины внутрь земли устремлялись струи воды. Достигнув раскаленного углеродистого железа и других металлов, вода давала целую гамму химических соединений. Превращенные внутриземным жаром в пар, они устремлялись по трещинам и ходам в верхние слои, охлаждались, конденсировались и образовывали в принимавших их слоях нефтяные залежи.
Гипотеза Дмитрия Ивановича произвела такое впечатление на немецкого геолога Р. Абиха, который двадцать лет занимался изучением геологии Кавказа, что он счел необходимым перевести менделеевскую статью на немецкий язык и опубликовать перевод в отчетах Венского геологического института за 1879 год. Эта неожиданная поддержка авторитетного геолога и оживление русского нефтяного дела после отмены акциза возбудили в Дмитрии Ивановиче горячее желание самому поехать на Кавказ и лично осмотреть новые месторождения. Весной министерство финансов дало средства для поездки Менделеева и его сотрудника А. Потылицына на Кавказ.
Для Дмитрия Ивановича эта поездка была особенно волнующей. Во-первых, начальство Морского корпуса, где учился его сын, разрешило Володе поехать на Кавказ вместе с отцом. А во-вторых, с ними отправилась в путешествие и Анна Ивановна. Она ехала на летние каникулы на Дон, к родителям, и Дмитрию Ивановичу не стоило больших трудов уговорить ее ехать вместе до Нижнего Новгорода поездом, а дальше до Царицына пароходом. В Царицыне они расстались, и все остальное путешествие Дмитрий Иванович проделал с Володей. Анна Ивановна никогда и нигде не говорила о том, что летом 1880 года путешествовала по Волге с Дмитрием Ивановичем.
Много позже в своих воспоминаниях, изданных в 1928 году, она пишет так, будто осенью 1880 года они встретились впервые после долгого перерыва и будто тут только чувства их вполне проверились. В смятении она написала письмо отцу, и тот предложил ей немедленно уехать на несколько месяцев за границу.
«Я уезжала одна (в начале декабря 1880 г.), — вспоминала Анна Ивановна. — Дмитрий Иванович провожал меня, помогал сам укладывать красивый кофр, купленный для этого путешествия; был и особый замок с буквами, который отпирался на слове Roma».
8 февраля 1881 года на университетском акте, где присутствовал министр народного просвещения В. Сабуров, студент Л. Коган-Бернштейн, поднявшись на хоры, произнес обличительную речь против министра и бросил в зал пачку прокламаций центрального студенческого кружка, незадолго до того организованного исполнительным комитетом «Народной воли». Произошло замешательство, воспользовавшись которым несколько студентов протискалось к первому ряду, где сидел Сабуров, и один из них нанес ему удар…
Предвидя новые затяжные волнения и разбирательства, Дмитрий Иванович решил оставить университет. «На университетском акте, — писал он впоследствии, — министра Сабурова хотел ударить Коган-Бернштейн… Беспорядки и волнения шли. Устал я и к Анюте хотелось. Подал в отставку, а меня уговорили — на отпуск (Бекетов был ректором). 17 февраля простился с университетом, отправился 26 февраля в Рим к Анне Ивановне, которая приняла ласково, хотя и шутливо, однако кротко пошла за меня 2/14 марта».
«Мы уехали из Рима вместе. Я даже не успела ни с кем проститься, — вспоминала Анна Ивановна. — Мы поехали в Неаполь, потом на Капри, чтобы обсудить наше положение. В Риме было слишком много знакомых, а нам было не до них. Дмитрий Иванович предложил так: пока дело о разводе идет, поехать на Волгу, на нефтяной завод Рагозина, куда его давно приглашали… Теперь это приглашение было кстати… До лета нам оставалось еще полтора месяца, и он захотел показать мне Париж и Испанию, в которой и сам еще не был».
В Париже Дмитрий Иванович встретился с Рагозиным и договорился с ним о приезде в Константиново, на Волге, где находился рагозинский нефтеперерабатывающий завод. На этом парижские дела были закончены, и молодые отправились в путешествие по Испании — одно из немногих путешествий Дмитрия Ивановича, не преследовавшее научных целей.
Путешественники, хорошо знающие Испанию, отмечают, что в пейзажах, природе этой страны есть некоторое сходство со степной Россией. И однажды Менделеев и Анна Ивановна испытали точно такое впечатление. Ночью им пришлось ожидать поезда на станции, одиноко стоящей в поле. Они молча сидели на ступенях лестницы и задумчиво смотрели в степь. «Яркие звезды, теплый ветерок, тишина, нарушавшаяся только треском кузнечиков, — писала Анна Ивановна, — и вдруг вспомнилась мне такая же станция в степях, такой же ласковый ветерок там далеко, далеко. Ночная темнота дополняла иллюзию. Я сказала Дмитрию Ивановичу о своих думах, и вдруг нас обоих потянуло, захотелось домой в Россию».
Из Толедо они заехали в безлюдный — не сезон — Биарриц, где пробыли десять дней. А после Биаррица отправились в Россию. Здесь очень ненадолго остановились в Петербурге, потом в Москве — и на Волгу.
Эта короткая остановка в Петербурге принесла Дмитрию Ивановичу немало треволнений.
«Я с утра ждала его звонка, — вспоминает дочь Дмитрия Ивановича, — и бросилась в переднюю ему навстречу, а мать оставалась у себя в комнате. Отец вошел очень тихо… Я подбежала к нему и поцеловала, и вдруг у него на левой руке я увидела новое обручальное кольцо, надетое на среднем пальце. Раньше этого кольца у него не было. У меня екнуло сердце, и я, быстро повернувшись, убежала к матери, оставив отца одного в передней, и, вбежав в ее комнату, сказала: «У папы обручальное кольцо».
Мать дала согласие на развод, так как Анна Ивановна Попова должна была стать матерью, отец был за границей с ней».
Возбудив дело о разводе, Дмитрий Иванович уехал в Константиново. Нефтяной завод Рагозина стоял на крутом берегу Волги, вокруг него были разбросаны многочисленные постройки и деревянные домики для служащих, а в отдалении на горе огромный дом с садом и оранжереями, где жил сам Рагозин. «Мы заняли один из домиков, — вспоминает Анна Ивановна. — В нем было пять небольших комнат с очень простой обстановкой и кухней. С балкона открывался вид на Волгу… Дмитрий Иванович был очень занят в своей лаборатории на заводе. Я все время была дома. Одиночество меня не томило».
Лето 1881 года Феозва Никитична с дочерью провела в Боблове, куда Менделеев этим летом не приезжал, а потом они въехали в новую квартиру, которую Дмитрий Иванович сам им снял и полностью обставил. Поэтому, когда наступил учебный год, Дмитрий Иванович с Анной Ивановной поселились в университетской квартире. К концу года развод был оформлен. Но консистория, рассматривавшая это дело, наложила на Дмитрия Ивановича епитимью — запрещение вступать в брак в течение семи лет. Ветхие церковные уложения вошли в непримиримое противоречие с законами жизни: 29 декабря в университетской квартире Анна Ивановна родила дочку Любу…
Когда на склоне лет, комментируя свою книгу «О сопротивлении жидкостей», Дмитрий Иванович писал, что личные средства, предназначенные для ее окончания, «пошли на дела семейные», он имел в виду 10 тысяч рублей — сумма, за которую священник церкви Спиридония в Адмиралтействе согласился обвенчать его с Анной Ивановной, невзирая на епитимью. Венчание состоялось сразу же по окончании великого поста — 22 апреля 1882 года. И хотя священник был немедленно расстрижен, он счел 10 тысяч рублей вполне достаточной компенсацией за утраченный сан.
1 марта 1881 года, когда на Екатерининском канале в Петербурге бомбой народовольцев был убит император Александр II, Дмитрий Иванович спешил в Рим. И, проведя в прекрасном далеке около трех месяцев, он не знал и не мог знать о тех важных событиях, которые последовали за смертью царя. Он не знал, что 12 марта Исполнительный комитет «Народной Воли» опубликовал письмо новому царю — Александру III, в котором революционеры наивно предлагали монарху добровольно созвать «представителей от всего русского Народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни». При выполнении этого требования народники обещали прекратить свою революционную деятельность, самораспуститься и посвятить себя культурной работе на благо народа.
«Итак, Ваше Величество, — решайте. Перед Вами два пути. От Вас зависит выбор», — писали члены Исполнительного комитета, не подозревая, что выбор уже сделан. За четыре дня до опубликования этого письма на заседании совета министров мрачный вдохновитель реакции обер-прокурор святейшего синода К. Победоносцев, обращаясь к Александру III, говорил: «В такое ужасное время, государь, надобно думать не об учреждении новой говорильни, в которой произносились бы новые растлевающие речи, а о деле. Нужно действовать!»
Поначалу характер этих действии не был понят русским обществом. Так, в конце 1881 года распространились слухи, что президент Академии наук престарелый Литке будет заменен. Это побудило Бутлерова в феврале 1882 года опубликовать в газете «Русь» большую статью «Русская или только императорская Академия наук в С.-Петербурге?», в которой он подверг уничтожающей критике заскорузлые академические порядки и действия предводительствуемого Веселовским большинства. Возможно, что именно статья Бутлерова склонила Менделеева к мысли высказать и свое мнение на этот счет. Но верный своему принципу, согласно которому критиковать гораздо легче, чем предлагать что-нибудь взамен критикуемого, Дмитрий Иванович решил поговорить о том, «какая же академия нужна России?». Именно так должна была называться статья, которую он начал диктовать стенографистке в феврале 1882 года.
По мнению Менделеева, академия была задумана Петром I как учреждение, которое, с одной стороны, должно готовить национальные кадры для русской науки, а с другой — изучать естественные богатства России, ее географию, историю, климат, флору и фауну. И в течение ста лет после своего образования Академия наук с этими задачами справлялась. Хотя академики, выписанные из-за границы, не создали вокруг себя крупных научных школ, но они обучили и подготовили русских ученых, которые оказались способными такие школы создать. Так, академики Г. Гесс и К. Клаус были учителями основоположников русской химии — Воскресенского и Зинина. Успешно была выполнена и вторая задача: первые научные сведения о географии, истории, геологии России были добыты либо академиками-иностранцами — К. Бэром, Г. Миллером, П. Паласом, — либо их русскими учениками — И. Лепехиным, С. Крашенинниковым.
Призванная к живому делу, несущая на себе важные общественные задачи, академия была отличной почвой и для процветания чистого знания, олицетворявшегося в математиках Л. Эйлере и Д. Бернулли. Но к середине XIX века положение изменилось. Изучением России гораздо успешнее, чем академия, начали заниматься общества естествоиспытателей и географическое; подготовка ученых сосредоточилась в университетах; видные ученые тоже стали тяготеть к университетам, и вне стен академии оказались такие корифеи отечественной науки, как Н. Пирогов, И. Сеченов, С. Боткин, А. Столетов, да и сам Менделеев.
«Монастырь, Академия, Университет, — диктовал Дмитрий Иванович, — вот те последовательные ступени науки, которыми характеризуются близкие прошлые века».
А что дальше? Каким должно быть научное учреждение, вызванное к существованию новыми практическими потребностями жизни? Каковы, наконец, сами эти потребности?
За таким научным учреждением, считал Менделеев, за Академией наук нового типа, того, который нужен России, «останутся двоякие обязанности: во-первых, центрального ученого общества, которое было бы действительно центром действительных научных сил страны; во-вторых, центрального ученого комитета, в распоряжение которого должны перейти и предприятия практического государственного значения…».
Тот, кто хоть немного знаком со структурой Академии наук СССР, может убедиться, что многое из того, о чем говорил Менделеев 90 лет назад, осуществилось на деле. По старым правилам академик должен был жить обязательно в столице. Дмитрий Иванович считал, что это неверно, что академиком может быть избран ученый, живущий в любом городе России. Он считал, что академия должна иметь свои лаборатории, обсерватории и мастерские, что ее филиалами должны быть университеты и научные общества страны. Он считая, что в академию должно избирать не только ученых, но и крупных инженеров и конструкторов, которые предъявляют не опубликованные статьи, а воплощенные в металл мосты, здания и машины. Он считал, что академия должна не только заниматься научными исследованиями, но и быть консультантом государства по всем без исключения научным вопросам.
Можно лишь сожалеть, что никто из современников Дмитрия Ивановича так никогда и не прочитал этой статьи. Больше 80 лет пролежала стенограмма в архиве, пока в 1905 году ее не удалось расшифровать.
В чем же дело? Почему Дмитрий Иванович вдруг утратил интерес к волнующей его теме и оборвал диктовку на полуслове?
Оказывается, именно в это время стали известны причины, по которым Ф. Литке смещали с поста президента Академии наук. Для нового царствования он оказался недостаточно реакционным и недостаточно попирающим устав академии. Так, он мог избежать скандала с неизбранием Менделеева, наложив как президент вето на предложение Бутлерова. Но, «сколько ни толковал я это непонятливому старику, — со злобой вспоминал Веселовский, — он никак не соглашался, говоря: «Да на каком же основании могу я не позволить Бутлерову внести в Академию его предложение?» Как я ни бился с ним… ничего не помогло; баллотировка состоялась». И вот теперь недостаточно гибкий реакционер Литке должен был покинуть пост президента…
Но не удаление Литке стало причиной охлаждения Менделеева к статье. Просто он узнал, что вместо Литке президентом Академии наук будет назначен министр внутренних дел граф Д. Толстой. Дмитрий Иванович давно знал графа, был о нем весьма невысокого мнения и называл его не иначе, как «образцовым, умелым бедокуром и смутьяном». Поэтому 23 февраля Менделеев прервал диктовку на полуслове и перестал думать об академии, а 26 февраля в той же тетради появилась стенограмма следующей его статьи «О топливе и его заводском применении».
Мысли о заводском деле начали всерьез интересовать Менделеева еще в 1861–1862 годах, когда он вернулся из заграничной командировки с кучей долгов. Перебирая различные планы устройства своей жизни, он все чаще и чаще начал задумываться о том, чтобы учредить собственный завод. Вот почему он с радостью согласился на рождество 1861 года поехать осмотреть завод, принадлежавший его коллеге по Технологическому институту А. Рейхелю.
«…Мысль моя та, — записал он в дневнике накануне отъезда, — чтоб теперь осмотреть завод Рейхеля, с которым еду вместе, — потом осмотреть также заводы за границею и потом добыть денег да и приняться за практику. Устроивши завод, хочу остаться пока в Петербурге — уплатить занятые деньги и, когда окупится, поселиться на заводе — это было бы отлично…»
Тяга к науке одержала верх. Дмитрий Иванович не стал заводчиком, не стал разорять своего «душевного хозяйства» соприкосновением с капиталами. Но тяга к реальному заводскому делу не пропала бесследно. Она властно дала о себе знать в зрелые годы, и в литературном наследии Менделеева объем работ, посвященных промышленности, технике и экономике, втрое превосходит объем чисто химических работ. Провозвестницей того, что Дмитрий Иванович вплотную подошел к разработке проблем фабрично-заводской промышленности, стала речь, произнесенная им на промышленном съезде в Москве в 1882 году.
В наши дни с удивлением убеждаешься, что меньше ста лет назад было немало образованных и влиятельных людей, искренне считавших фабрично-заводскую промышленность не более чем новомодным увлечением, чуждым и даже вредным для такой якобы исконно земледельческой страны, как Россия. И мнение этих людей выглядело тем более основательным, что оно как будто подтверждалось и подкреплялось вековой традицией. Так, в начале своего царствования Екатерина II не только переписывалась с Дидро и Вольтером, но даже пригласила в Россию на предмет консультаций известного французского экономиста-физиократа М. де ла Ривьера. Но, увы, рекомендаций этого специалиста императрица не смогла бы выполнить при всем своем желании. «В России, — считал де ла Ривьер, — еще все необходимо устраивать. Чтобы выразиться лучше, в России все необходимо уничтожить и затем вновь создать». Но хотя Екатерина поспешила отделаться от такого советчика, экономическая доктрина, проповедником которой он явился в Россию, глубоко импонировала императрице.
Землевладелец — вот истинный распределитель щедрот земных, вот истинный кассир промышленности — это утверждение физиократов полностью устраивало Екатерину II, крупнейшую землевладелицу Европы. И в своем знаменитом «Наказе» она не уставала повторять: «Земледелие есть первый и главный труд, к которому поощрять людей должно». И так прочно укоренилась эта мысль в головах не только русских высокопоставленных чиновников и помещиков, но и западноевропейских теоретиков, что даже учение Адама Смита, направленное против учения физиократов, непостижимым образом оказалось согласным с ним, когда дело дошло до судеб России. В противоположность физиократам Смит считал основой народного богатства не землю, а труд. Ему, в частности, принадлежит тот знаменитый пример, который вошел во все учебники политэкономии: о том, как разделение труда при изготовлении швейных игл даст колоссальный выигрыш в производительности. По-видимому, этот пример навел Смита на мысль о том, что во всечеловеческом ансамбле целые государства могут играть роль своего рода специализированных работников. Так, в одной стране может быть особенно выгодно производить избытки железа, в другой — тканей, в третьей — хлеба. Тогда каждая из них может не развивать у себя производство всех видов продукции, а обменивать произведенный в избытке продукт на те изделия, которые в избытке изготовляют соседние страны.
«Спеша к практическим выводам… — писал Менделеев, — А. Смит и особенно его последователи чересчур развили понятие о пользе специализации труда, и дело дошло до того, что между странами думали видеть потребность специализации усилий. Оттуда и родилось учение о том, что Россия есть страна «земледельческая» и даже специально «хлебная». На этом, в сущности, и основывается вся русская промышленная отсталость».
На первый взгляд в таком рассуждении была логика: выгоды специализированного производства, снижение себестоимости, товарный продукт. Да и практика отчасти подтверждала эту логику — львиную долю российского вывоза издавна составлял хлеб, и, казалось, не было видимых причин менять установившиеся обычаи и порядки. Но Менделеев был слишком опытным экономистом, чтобы не понимать: кончились те времена, «когда можно было с истощенной земли переходить на другую, свежую… когда страдный труд в немногие летние месяцы был достаточен для снискания насущного хлеба миллионам народа, когда провозглашена была Россия житницей Европы и считалась исключительно страною земледельческою…». Эти времена кончились, ибо Западная Европа стала покупать дешевый хлеб из других стран, а это снижало цену русского хлеба до того, что вести рентабельное сельское хозяйство стало почти невозможно. Секрет такого удушения русского сельского хозяйства крылся к самой природе хлебного рынка, который по необходимости ограничен. Поэтому оптимальная, наивыгоднейшая для производителя цена на хлеб устанавливается тогда, когда его произведено ровно столько, сколько готовы купить потребители. Малейшее перепроизводство мгновенно сбивает цену на всю массу хлеба, что приводит к кризису, губительному для чисто земледельческой страны. После отмены крепостного права ориентация правящих кругов России преимущественно на земледелие привела к тому, что «русский мужик, переставший работать на помещика, стал рабом Западной Европы и находится от нее в крепостной зависимости, доставляя ей хлебные условия жизни».
Если в екатерининскую эпоху никакие рекомендации не могли свернуть Россию с сельскохозяйственных рельсов на промышленные, ибо не созрели еще на то объективные условия, то во второй половине XIX столетия объективные же условия настоятельно требовали учреждения заводов и фабрик. Промышленность, зачастую сама создающая все новый и новый спрос и быстро изменяющая ассортимент выпускаемой продукции, дает населению устойчивый, в принципе неограниченный заработок. Менделеев подсчитал, что в США в те годы сельское хозяйство давало населению всего лишь 5 процентов дохода, а промышленность — 95 процентов! И в этом секрет тех периодических голодовок, которые время от времени поражают преимущественно сельскохозяйственные страны, у населения которых просто нет денег, чтобы в неурожайный год прикупить хлеб на стороне.
Вот почему ориентация России на одно только земледелие, по мнению Менделеева, была равнозначна ориентации на бедность, на экономическую зависимость, на систематическое отставание, на утрату исторического имени. «Без заводов и фабрик, развитых в большом количестве, — писал Дмитрий Иванович в 1884 году в журнале «Вестник промышленности», — Россия должна или стать Китаем, или сделаться Римом, а то и другое по приговору истории опасно. Либо народность сохранится, да силы ослабнут до того, что горсть французов может завоевать полумиллиардный народ, как это было с Китаем, либо, как в Риме, и народность не сохранится, и вандал все возьмет, что хочет, все истребит, что ему не нравится.
Заводы и фабрики, таким образом, исторически необходимые, сами собой, однако, не вырастут… Надо сознание, необходимо историческое понимание, нужна последовательная связь с прошлым, превращенная в волю, хотя необходимые зародыши уже имеются в готовности, уже носятся в воздухе времени».
Предчувствие близящихся перемен и подвигнуто Менделеева на то, от чего за 115 лет до него в панике отказался де ла Ривьер: он взялся сформулировать условия и предложить рекомендации для развития заводского дела в России. Если его предшественника повергла в отчаяние пассивность крепостных крестьян, их незаинтересованность в усовершенствованиях, то Дмитрий Иванович столкнулся с иным явлением. В среде малообразованного крестьянства, мещанства и купечества отношение к фабрично-заводскому делу было гораздо более зрелым, чем в образованной дворянско-чиновничьей среде, более склонной «к слащавым тужениям об идиллии чисто сельскохозяйственных наших прошлых отношений».
Эту склонность Дмитрий Иванович объяснял отчасти тем, что вся система высшего образования отвращала учащихся от практического, промышленного дела. «Спрашивалась и продолжает спрашиваться государством, обществом и литературою от нашей образованности, — говорил он на промышленном съезде в 1882 году, — начитанность, служба административная, да подвиги самоотвержения ради общего дела — и наша образованность дала, что спрашивали: ученых, литераторов, художников, военных героев, администраторов, лиц, интересующихся политикою, и между ними лиц, фанатически самоотверженных… Мы не искали… лиц, понимающих практическую деятельность, — их и не является, потому что нужда жизни еще не успела настоятельно сделать этого вызова».
Вот почему первым главным препятствием к развитию в России заводского дела Дмитрий Иванович считал не просто недостаток предприимчивости, но недостаток предприимчивости, подкрепленной настойчивостью и знанием, а вторым — недостаток капиталов.
Тогда же на съезде Менделеев предложил несколько мероприятий, долженствующих содействовать возбуждению заводского дела в стране. Прежде всего он предлагал систему среднего и высшего образования реформировать так, чтобы она готовила людей не только образованных, но и знающих, способных к практическому заводскому делу; чтобы она прививала учащимся представление о заводе и фабрике как о неизбежном условии движения страны вперед и залоге ее экономической независимости; чтобы вместо мечтательности и чиновничьей инициативы она возбуждала в учащихся инициативу экономическую и трудовую.
Учреждение новых промышленных предприятий Дмитрий Иванович считал нужным предельно упростить, устранив бездну пустых стесняющих формальностей. А для того, чтобы будущим заводчикам и деятелям промышленности дать возможность подкрепить свою предприимчивость знанием, Дмитрий Иванович предложил немедленно приступить к изданию общей химической технологии (в последний раз такое руководство вышло за 20 лет до менделеевского выступления) и к подготовке практической русской энциклопедии промышленности.
Особенно много внимания Менделеев уделил взаимоотношениям государства и промышленности. В отлично от де ла Ривьера, находившегося под обаянием физиократической доктрины, Дмитрий Иванович понимал, что первые шаги русской промышленности были вызваны давлением военных нужд. В петровские времена расходы на армию и флот достигали иногда 96 процентов государственного бюджета! Вот почему «реальный толчок всякому общему и важному народному делу определяется у нас во всех отношениях высшим государственным почином. Частной инициативы в России вообще мало, и к ней одной нельзя питать большого доверия, да притом она, без опоры во власти, во многом действительно окажется бессильною».
В качестве практической меры, которая наиболее ярко показала бы отношение правительства к фабрично-заводской промышленности, Менделеев выдвигал создание министерства промышленности — учреждения нового, небывалого еще типа. «Не особое канцелярское ведомство промышленности нужно теперь… — писая Дмитрий Иванович в статье «О возбуждении промышленного дела в России». — Нужна активная сила, могущая возбуждать в огромном теле России новую склонность, почти не существующее стремление к заводско-промышленной инициативе и энергии… Надо возбудить то, что не возбуждалось до сих пор, а потому и министерство нужно иное, чем ныне…» По мысли Менделеева, в структуре нового министерства должно было сочетаться начало чиновное — министр и его сотрудники, назначаемые правительством и представляющие государственный интерес, — и начало выборное — земские и городские деятели, хорошо знающие местные условия и представляющие интересы различных губерний.
Что же касается недостатка капиталов в стране, то здесь Дмитрий Иванович видел спасение в учреждении малых и средних заводов. «Я думаю, что ныне два десятка рассеянных по России нефтяных заводов, обрабатывающих по 100 тыс. пудов сырой нефти, принесут в сумме почти вдвое больший доход, чем одни завод на 2 млн. пудов нефти…» Такое утверждение на первый взгляд противоречит широко распространенному мнению, согласно которому производство тем выгоднее, чем крупнее его масштабы. Но здесь надо оговориться: Менделеев четко различал деятельность фабричную и деятельность заводскую. В то время как первая характеризуется преимущественно механическими превращениями веществ, вторая связана с химическими изменениями добытого сырья. Поэтому фабричное дело очевиднее и доступнее для так называемых самородков-техников, нежели дело заводское, в котором химические превращения скрыты, невидимы в своем механизме уму, не озаренному светом знания. Многие металлообрабатывающие, текстильные, прядильные, кожевенные и другие фабричные предприятия были учреждены энергичными самоучками, но у истоков химических производств, заводов всегда стоял крупный ученый или инженер, которому лишь подражали малообразованные последователи. Вот почему Америка, где техническое и научное образование в прошлом веке находилось не на высоте, смогла сильно двинуть вперед дело фабрично-механической обработки и не смогла развить в широких масштабах химических производств.
Предложение Дмитрия Ивановича сводилось к тому, чтобы ввиду недостатка капиталов в стране поначалу развивать именно заводское, а не фабричное дело. «Это последнее, требуя сильных двигателей, часто может быть выгодно и хорошо ведено только в больших размерах, потому что таковы условия многих основных механизмов. Заводское же, т. е. по преимуществу химическое дело… совершаясь одинаково в больших и малых массах, вовсе не обуславливается размерами производства в большинстве случаев… В этом — великое преимущество заводского дела. Развитие многих малых заводов взамен одного большого… разольет блага заводской деятельности на большую массу народа и представляет более шансов… привлечения к заводскому делу массы жителей».
Изучая экономические труды Менделеева, нетрудно убедиться, что в речи на Московском промышленном съезде в 1882 году в зародыше содержались почти все те направления и проблемы, которые составили главный предмет его занятий в последующее двадцатилетие. Не случайно в списке своих трудов он подчеркнул номер, под которым значилась брошюра «Об условиях развития заводского дела в России», тремя черточками — так, как он подчеркивал номера лишь тех статей, которые он считал самыми важными. «Считаю, что с этого момента мое отношение к промышленности в России получает ясную определенность…»
Когда радостная, вбежавшая в переднюю Ольга увидела на руке отца новое обручальное кольцо и, сразу погаснув, молча повернулась и побрела от него прочь, вина пронзила Дмитрия Ивановича. И хотя голос разума говорил: произошло то, что должно было произойти, сердце Менделеева разрывалось от печали.
Во всем деле с разводом Дмитрий Иванович вел себя в высшей степени достойно. Он предоставил Феозве Никитичне все свое университетское жалованье, взял на себя все хлопоты по подысканию и устройству квартиры для нее и для дочери, а позднее построил им дачу на берегу Финского залива в Ораниенбауме. «Тогда мне показалось, — вспоминала его дочь, — что этой заботой о нас отец просил у нас прощенья. Он навещал нас по нескольку раз в неделю, выказывая при этом столько внимания и ласки, что мне каждый раз было глубоко жаль его».
По-видимому, этот мучительный, затянувшийся разрыв с прошлым выводил из себя Анну Ивановну. Мудрый такт, требующийся в таких случаях от женщины, мог быть порожден либо глубоким пониманием и сочувствием, либо такой силой чувства, при которой женщина становится равнодушной к мнению всего света.
«Философски ко всему по молодости лет я еще не умела отнестись», — писала она много позднее. Тогда же, когда такое, как говорила Анна Ивановна, «философское отношение» было необходимо, как воздух, она, по-видимому, не упускала случая намекнуть Дмитрию Ивановичу на то, что он слишком уж печется об оставленной семье и что он не должен делать для нес больше, чем для семьи новой. Так, узнав о его намерении построить для Феозвы Никитичны дачу в Ораниенбауме, она потребовала, чтобы он и в Боблове за чертой парка на открытом месте построил новый дом. И Дмитрию Ивановичу пришлось хлопотать о продаже леса и вести переговоры с подрядчиками, чтобы исполнить эту, в сущности, прихоть.
Такие выражения неудовольствия выводили Менделеева из себя и было, по всей вероятности, частой темой долгих неторопливых бесед с Феозвой Никитичной. «Однажды… — вспоминает его дочь, — долго оставаясь у матери в комнате, отец вышел очень тихим и как бы робким и, завидя меня, подошел ко мне, наклонился, крепко прижался головой к моей голове и сказал сквозь слезы:
— Когда ты вырастешь, ты все поймешь и простишь меня».
По-видимому, взаимонепонимание и разочарование, начавшие развиваться сразу после женитьбы, достигли наивысшего предела в 1883–1884 годах. Об этом свидетельствует письмо, написанное Дмитрием Ивановичем, своим детям от первого брака 19 марта 1884 года. «…Берегите мать, берегите ее, берегите. Заботьтесь и друг о друге и о себе… Женитесь и выходите замуж по сердцу и разуму вместе. Если сердце претит — дальше, если разум не велит — тоже бегите.
Отец ваш был слаб, был уродлив в этом отношении, не понимал того, что хочет вам сказать. Выбирайте сердце и труд, сами трудитесь и будьте с сердцем, а не с одним умом».
Весь тон этого письма, глухие намеки на близкую кончину, слова «в последний раз», «прощайте», «берегите память отца» говорят о крайне мрачном, угнетенном состоянии духа Дмитрия Ивановича. Об этом же говорит и надпись на конверте: «Прошу вскрыть не ранее, как после смерти моей и не ранее 1888 года». Но мельница жизни неумолимо делала свое дело. В 1883 году родился сын Иван, а спустя еще три года — близнецы Мария и Василий.
Новые научные проблемы привлекли к себе его внимание, настало время для изучения растворов, давно уже интересовавших Менделеева. Новые обязанности поглотили массу времени, на него возложили руководство сначала пороховой лабораторией, а потом Главной Палатой мер и весов. И вдруг Менделеев обнаружил, что все личные неурядицы если не исчезли, то как-то улеглись, и сложился тот новый быт, тот новый уклад жизни, о котором спустя много лет так верно и так жестоко написал зять Дмитрия Ивановича поэт Александр Блок.
«Тема для романа. Гениальный ученый влюбился буйно в хорошенькую, женственную и пустую шведку. Она, и влюбясь в его темперамент и не любя его (по подлой, свойственной бабам двойственности), родила ему дочь Любовь… умного и упрямого сына Ивана и двух близнецов… Ученый по прошествии срока бросил ее физически (как всякий мужчина, высоко поднявшись, связавшись с обществом, проникаясь все более проблемами, бабе недоступными). Чухонка, которой был доставлен комфорт и средства к жизни, стала порхать в свете (весьма невинно, впрочем), связи мужа доставили ей положение и знакомства… она и картины мажет, и с Репиным дружит, и с богатым купечеством дружна, и много.
По прошествии многих лет. Ученый помер. Жена его (до свадьбы и в медовые месяцы влюбленная, во время замужества ненавидевшая) чтит его память «свято»… Ей оправдание, конечно, есть: она не призвана, она — пустая бабенка, хотя и не без характера («характер» — в старинном смысле — годов двадцатых), ей не по силам ни гениальный муж, ни четверо детей, из которых каждый по-своему… незауряден…»
Незадолго до смерти, составляя биографические заметки, Дмитрий Иванович из многочисленных событий своей жизни в 1886 году счел достойным упоминания лишь два: рождение близнецов Муси и Васи да пребывание в Баку. «Был в Баку два раза, — писая он, — в мае один и в августе с Лелей». Обычно в своих трудах и отчетах Менделеев довольно подробно описывал обстоятельства путешествий, но на этот раз он почему-то поскупился. И детали последней поездки Дмитрия Ивановича на Кавказ остались бы неизвестными, если бы для восемнадцатилетней Ольги этот вояж с отцом не стал одним из самых ярких и хорошо запомнившихся событий в жизни.
Самочувствие у Дмитрия Ивановича было неважное, но, не желая испортить дочери ее первое в жизни большое путешествие, он решил немного шикануть. И тут очень кстати подвернулись два попутчика-француза, путешествовавших по России и ни слова тем не менее не говоривших по-русски.
Вскоре после отхода поезда от Рязанского вокзала в Москве мсье Жантен и мсье Монтиньи с любопытством стали приглядываться к необычайно живописному и странному спутнику и его молоденькой дочери. А когда поезд подходил к Рязани, они уже были настолько очарованы, что решили отказаться от намеченного маршрута и ехать туда, куда надо ехать их необычному и интересному попутчику. А Дмитрий Иванович не уставал подливать масла в огонь. В Ростов он дал телеграмму, и, когда поезд подошел к перрону, ошарашенные французы с изумлением увидели, как их соседа по вагону, такого любезного и общительного, вышел встречать сам начальник станции, который потом лично провел всех в ресторан, где их ждал отлично сервированный стол на четыре прибора.
В Кисловодске Менделеевы остановились у известного художника-передвижника Николая Александровича Ярошенко, у которого там была дача, а французы поселились в гостинице. Николай Александрович и Дмитрий Иванович были так рады встрече, что в конце концов Ярошенко решил ехать с Менделеевыми в Баку. Три дня спустя путешественники прибыли во Владикавказ. Дмитрий Иванович уже бывал во Владикавказе, когда путешествовал с сыном Владимиром. Теперь ему хотелось показать и дочери Военно-Грузинскую дорогу, Казбек и Эльбрус, Дарьяльское ущелье…
Поначалу лошади бежали быстро и подъем почти не ощущался. Но постепенно горы становились выше и круче. Они все решительнее надвигались на дорогу, прижимали ее все плотнее к бурливому Тереку, пока наконец на полпути между Балтой и Ларсом дорога и река не оказались бегущими рядом на дне знаменитого Дарьяльского ущелья. Сразу стало холодно, как в погребе. Ни один луч солнца не достигал дна ущелья. Кучер инстинктивно придержал лошадей, а спутники вдруг замолчали.
Экипаж неожиданно выехал из мрачного ущелья, проехал по узкому мосту, и перед путешественниками открылась живописная картина: плоская долина, зажатая между круто уходящими ввысь скалами, и приземистая русская крепостца, примостившаяся у подножия этих скал. Несоответствие громадных гор и неказистого квадратного строения с круглыми башенками по углам было так очевидно, что в памяти Дмитрия Ивановича мелькнула вычитанная где-то фраза: «Окружающие горы господствуют над Дарьяльским укреплением, но никакой противник не сможет установить орудие на склонах этих гор». «Разве что он воспользуется для этого аэростатами», — усмехнулся Дмитрий Иванович.
Сделали небольшую остановку. Французы, задрав головы, рассматривали скалу с руинами, оставшимися от замка царицы Тамары. Оля с Николаем Александровичем спустились к Тереку. Дмитрий Иванович не выходил из экипажа.
Переночевав на станции «Казбек», путешественники прибыли в Тифлис. На следующий день вечером еще не пришедшие толком в себя и отчасти все еще недоумевающие мсье Жантен и мсье Монтиньи устроили прощальный ужин. Они после этого отправлялись налево — в Батум, а Менделеевы и Ярошенко — направо — в Баку. «Из окон поезда, проснувшись наутро, — вспоминает Ольга Дмитриевна, — я увидела неприглядную желтую выгоревшую степь с далекими горами на юге и караваны верблюдов, нагруженных товарами. Верблюды шли мерным, качающимся шагом. Было жарко и пыльно в вагоне, и окон открыть было нельзя… В Баку для нас было приготовлено заказанное по телеграфу в лучшей гостинице большое помещение. Через час к отцу стали приходить посетители по нефтяному делу, для которого он и приехал в Баку».
Дмитрий Иванович провел на Апшеронском полуострове неделю. Он собирал самые последние данные по нефтедобыче, по производительности заводов, узнавал цены на сырую нефть и нефтепродукты. Два раза он выезжал с Ольгой на нефтепромыслы в Балаханы и Сураханы. «Меня поражало, — писала потом дочь, — что Дмитрия Ивановича знает такая масса народа; везде нас встречали и провожали, в пути были люди, желавшие его видеть и говорить с ним, в поездах как-то узнавали, что едет Менделеев. От этого он уставал и теперь, в Баку, желая избежать многолюдных проводов и устав от официальных обедов, вдруг решил уехать раньше срока морем, а не сухим путем. Мы уехали незаметно на пароходе «Михаил», отходящем в Астрахань».
Волга встретила возвращающихся путешественников неприветливо. Погода стояла серая, холодная, дождливая. Подверженный простудам, Дмитрий Иванович не уберегся и на этот раз. Горло болело так, что он не мог ни разговаривать, ни есть. Раздраженный, нервный, он сидел в каюте и пил мелкими глотками горячее молоко. От Царицына до Москвы ехали поездом; и Дмитрий Иванович так устал, что через площадь с Рязанского вокзала на Николаевский его пришлось перевезти в коляске. На следующий день Менделеев был уже дома. Не откладывая дела в долгий ящик, он немедленно приступил к работе. Его отчет «Бакинское нефтяное дело», изданный в том же 1886 году, стал, по сути дела, его последним крупным исследованием по нефти, которой он так интересовался и так много занимался в течение целого десятилетия.
В конце прошлого века бурно развивавшееся нефтяное дело соединяло в себе черты, привлекательные одновременно и для золотоискателя, и для спортсмена, и для хирурга, и для механика, и для азартного игрока. Подобно золотоискателю, нефтедобытчик мог напрасно потратить месяцы на поиски нефти и мог неожиданно обнаружить ее у себя под ногами. Подобно спортсмену, он мог почти достичь успеха и в следующий момент потерять все. Подобно хирургу, он с помощью хитроумных инструментов должен был почти вслепую выполнять сложнейшие операции, руководствуясь лишь изощренным чутьем и знанием объекта, в теле которого он производит свою операцию. Подобно механику, он должен был все время изобретать новые, более совершенные орудия добычи. И подобно игроку, он должен был отдаваться азартной биржевой игре.
Дмитрий Иванович был свидетелем интересного процесса, сопровождавшего развитие русского нефтяного дела. Постепенно исчезали нефтепромышленники, совмещавшие в одном лице все эти функции, и появлялись люди, специализирующиеся в чем-нибудь одном. Так, выросли в нефтяном деле специалисты по геологии нефти, опытные буровые мастера, блестящие конструкторы — создатели нефтяного машиностроения. И постепенно за людьми, которые некогда зачинали нефтяное дело, осталась лишь одна функция — функция эксплуатации других людей и богатств земных, функция наживы, не стесняющейся никакими средствами, функция разорения конкурентов и ограбления потребителей, функция забвения общенародных интересов в угоду личным.
Дмитрий Иванович лично знал почти всех зачинателей русского нефтяного дела, а со многими из них его связывали дружеские отношения. Все они поддерживали его, когда он боролся против откупов, против акциза, за таможенные пошлины на ввозимые в страну иностранные нефтепродукты. Но когда все эти мероприятия, необходимые для развития дела, но и небезвыгодные для нефтепромышленников, были проведены в жизнь, их отношения с Менделеевым начали портиться.
Будучи естествоиспытателем, Дмитрий Иванович подспудно усвоил себе такое же отношение к промышленности как к объекту изучения, какое сложилось у него к природе. «В деле изучения природы, — считал он, — набег никогда не удается, потому что природа, во-первых, не враг, а во-вторых, не дремлет. Она раскрывает и отдает в распоряжение все свои силы… только тогда, когда за ней долго ухаживают…» Точно так же и промышленность, по мнению Дмитрия Ивановича, только тогда могла дать прочный завоевательный успех, когда в ней поощряется и культивируется знание дела, трудолюбие, честность, способность общий интерес поставить выше уродливо раздутых барышей. И поначалу люди, с которыми он вышел ставить на твердую ногу нефтяное дело, представлялись ему людьми, удовлетворяющими этим требованиям. И вдруг из уст этих самых людей он услышал слова, заставляющие поневоле вспомнить отчаянный вопль Салтыкова-Щедрина: «Отечеству нужно служить, а не жрать его!»
Да и какая еще могла быть реакция на такое, например, соображение бакинского заводчика Амирова, который не постеснялся заявить на съезде нефтепромышленников, что «девиз России — гореть, а потому на какие-нибудь лишние несколько сот тысяч рублей потери от пожаров, причиняемых исключительно керосином в одной только Москве в течение одного года, не стоит обращать внимание». Поэтому неудивительно, что начиная с 1880 года Менделеев пребывал в состоянии непрерывной ожесточенной полемики то с одним, то с другим, а то и со всеми разом нефтепромышленниками.
Первым ополчился на Дмитрия Ивановича Л. Нобель[3], который к техническим рекомендациям Менделеева прислушался раньше всех и первым начал строить нефтепроводы от источников к заводу, первым завел паровые шхуны и баржи для перевозки керосина наливом, первым стал строить железнодорожные цистерны и железные резервуары для нефти и керосина. Все это «делало для меня его имя чрезвычайно симпатичным, — писал Дмитрий Иванович. — Но уже там, в Баку, я был поражен тем неприязненным отношением, с которым г. Нобель встретил мою мысль о необходимости учреждения заводов внутри России для переработки нефти как на керосин, так и на смазочные масла».
Конечно, ничего удивительного в нобелевской неприязни к менделеевским советам не было. Заводчик понял, какая опасность для него таится в советах Дмитрия Ивановича. Затратив на создание своей «керосиновой империи» миллионы рублей, Нобель был убежден, что не найдется соперника, который смог бы собрать такие же капиталы, чтобы конкурировать с ним. Но… все это было бы верно лишь в том случае, если бы конкуренты принимали бой на нобелевском поле, то есть если бы они так же, как и он, брали за основу производство одного лишь керосина, единственного в то время нефтепродукта, имевшего широкий сбыт. Бензин и тяжелые остатки, получавшиеся при производстве керосина, считались в те времена бесполезными отходами и безжалостно сжигались — бензин просто в поле, а остатки — в топках котлов и перегонных кубов. И вот эти-то бросовые остатки Менделеев предлагал превращать в масла, которые в три-четыре раза дороже, чем керосин! Соперники могли обогнать Нобеля, не догоняя его! Соперники могли обойтись гораздо меньшими капиталами и не быть разоренными им!
Нобель поспешил печатно выступить против предложений Менделеева. «Вы, Дмитрий Иванович, стоите на высоте науки, — подначивал он. — Вся русская печать удостоверяет нас в вашей европейской известности; следовательно, мы должны вам верить… Но для этого нам недостаточно одних голословных советов; дайте точные научные указания о наилучших способах фабрикации из русской нефти керосина, смазочных масел и анилиновых красок. Осветите ярким лучом ваших знании ту темноту, в которой мы находимся…»
Но от Менделеева не укрылась неуклюжая попытки Нобеля свести разноречия экономические на разноречия технические, завуалировать денежный интерес техническими деталями. Один за другим разбив все доводы Нобеля, Дмитрий Иванович в заключение своего письма советовал заводчику «впредь не усложнять занимающее нас разноречие вопросами, к делу прямо не относящимися».
Во время этой полемики с Нобелем Дмитрия Ивановича крепко поддержал Виктор Иванович Рагозин. Он последовал всем менделеевским советам, учредил свой завод на Волге и начал полностью утилизировать нефть, получая, кроме керосина, отличные и более прибыльные смазочные масла. Рагозин помог Дмитрию Ивановичу и тогда, когда тот начал вести работы по получению из бакинской нефти бакуоля — осветительного масла, более тяжелого и менее опасного, чем керосин. Именно Рагозин по просьбе Менделеева предоставил в распоряжение Русского физико-химического общества 1000 рублей в качестве премии тому, кто предложит лучшую конструкцию лампы, сжигающей не керосин, а соляровые масла.
И вот прошло каких-нибудь пять лет, и Дмитрий Иванович видит Рагозина в числе тех нефтепромышленников, которые требуют от государства установления 15-копеечного налога на пуд сырой нефти, стоящей в Баку 1,5 копейки! Конечно, требование его не голословное, оно подкрепляется вескими основаниями. И казна-то-де получит колоссальный доход. И нефть-то будет утилизироваться более полно. И истощение-то, которого грозные признаки уже налицо, отодвинется-де на десятки лет. Казалось бы, трудно возразить, благородные мотивы, но как далеки они от мотивов действительных! Участвуя в заседаниях комитета «Общества для содействия русской промышленности и торговли», проходивших в течение марта 1886 года, Дмитрий Иванович с грустью понимающего дело человека слушал горячие заводчиковы речи.
«Не выступит на свет божий, вероятно, то главное, что заставляет именно крупнейших заводчиков предлагать налог, — думал он, — им думается, что от налога погибнут им соперничествующие — мелкие заводчики… Зная, что налог на нефть убьет много мелких заводов, причинит и массу другого зла в развитии сей промышленности — стою, где могу и как умею, против налога, столь желательного крупным предпринимателям».
Менделеев резко выступил против Нобеля и Рагозина. Доказывая вред налога, он составил формулу, выражающую зависимость цены готовых нефтепродуктов от цены нефти, рабочей силы, транспорта. На одном из совещаний с помощью этой формулы он показывал: предлагаемый заводчиками налог невыгодно отразится на развитии промышленности и потребителях…
Доклад получился длинным и утомил слушателей. Этим ловко воспользовался Рагозин. Он начал едко нападать и высмеивать Менделеева. Дмитрий Иванович не выдержал и сделал замечание. Тогда Рагозин обратился к нему и резким, вызывающим тоном, отчеканивая каждое слово, сказал:
— Когда вы о своих «альфа» да «фи» говорили, я молчал, так дайте же мне теперь о нефтяном деле говорить.
Дмитрий Иванович смолчал. Закончил свое выступление Рагозин так:
— Нам все говорят: ничего вы не понимаете, ничего не умеете. Да мы не о тех будущих знатоках говорим, которые пишут на бумаге, мы о себе, дураках, говорим. Ведь если мы к каждому аппарату по профессору поставим, так этого никакая промышленность не выдержит.
Все затаили дыхание, ожидая, что сейчас Дмитрий Иванович вспылит. Но он сидел молча и задумчиво глядел в окно.
— Ведь он мой характер знает и нарочно дразнил, чтобы я глупостей наговорил, — нехотя объяснил он потом причину своего молчания. — А я это понял.
«Измена» Рагозина глубоко огорчила Дмитрия Ивановича и, по-видимому, сыграла свою роль в эволюции его взглядов на капитализм. «…Моя мысль… — писал он несколько лет спустя, — временно мирится с капитализмом и только стремится найти пути для освобождения от его всесильного влияния и способы к обуздайте его подчас неумеренных аппетитов». И занятая им в 1886 году позиция по отношению к налогу на нефть показала, что это были не пустые слова.
Вскоре после бурных заседаний комитета министр государственных имуществ командировал Менделеева в Баку, поручив ему собрать там сведения о настоящем положении бакинской нефтяной промышленности и изложить предложения о мерах для ее дальнейшего развития. В своем отчете «Бакинское нефтяное дело в 1886 году» Дмитрий Иванович с гордостью писал об успехах отечественной нефтедобычи. 160 бакинских скважин давали почти столько же нефти, сколько в Америке давали 24 тысячи(!) скважин. Но такому колоссальному богатству Апшеронского полуострова совершенно не соответствовали средства вывоза нефти с Кавказа, и, добывая столько же, сколько Америка, Россия экспортировала в шесть раз меньше нефти и нефтепродуктов. В этой слабости вывозных средств видел Менделеев причину падения цены на сырую нефть до 1,5–3 копейки за пуд. Повышать ее до 20 копеек, обложив налогом, он считал противоестественным решением. Гораздо выгоднее для страны увеличить спрос на нефть в других городах России, что можно достичь несколькими железными дорогами, связывающими Баку с местами потребления. Но самое главное — надо проложить закавказский нефтепровод Баку — Батум, по которому каспийская нефть хлынет к берегам Черного моря, а оттуда — во все страны Европы.
История промышленного развития страны нередко находит яркое, а то и курьезное отражение в биографиях людей, весьма далеких от хлопотливого мира техники и производства. В том, что философ и рантье Герберт Спенсер гордился своими патентами на электрический мотор и способ насаживания мух на рыболовный крючок, отразилось традиционное для английской промышленности пренебрежение к научной подготовке инженеров, убежденность в превосходстве практического опыта над теоретическим знанием. В том, что знаменитый профессор-астроном С. Лэнгли изобрел астрономическую систему поверки времени на трансконтинентальных железных дорогах, проявился свойственный американской промышленности дух предприимчивости и культ успеха. И в том, что в России даже ученые, даже инженеры сплошь и рядом не патентовали самые настоящие, представляющие огромную ценность изобретения, сказалось многовековое пренебрежение образованных слоев русского общества к промышленно-заводской деятельности.
Считалось просто неприличным, чтобы офицер, чиновник, профессор, получающий жалованье от государства, вдруг начал бы изобретать, хлопотать о получении патента, налаживать производство. Ведь это означало бы, что он становится на одну доску с мещанами и купцами, то есть людьми, занимавшими гораздо более низкую ступень в иерархии чиновническо-помещичьего государства. В течение всей своей жизни Менделеев боролся с этим вредным для русского народа предрассудком. Но сила этого предрассудка была такова, что даже сам Дмитрий Иванович не избежал его влияния.
Уже умудренным жизнью старцем он вспоминал свою первую поездку в Баку в 1863 году. Тогда его рекомендации позволили Кокореву настолько поправить дело, что некогда убыточный фотонафтилевый завод в Сураханах уже на следующий год принес владельцу 200 тысяч рублей чистого дохода. «Приезжает ко мне тогда В. А. Кокорев и предлагает поехать править его дело в Баку, в год получать по 10 тысяч рублей да 5 % с чистого дохода… Ни минуты не думая, отказался, чего, конечно, не сделал бы на моем месте ни англичанин, ни француз, ни немец. Стал меня умница Б. А. Кокорев допрашивать о причинах отказа, опроверг все мои доводы (о пенсии, о возможности работать для науки и т. и.) или отговорки и очень верно заключил, что все это барские затеи, от которых России очень плохо двигаться вперед».
Спустя 20–30 лет положение сильно изменилось. Россия твердо стала на путь капиталистического развития. По всей стране строятся заводы и фабрики, железные дороги проводятся со стремительностью, незнакомой Западной Европе, возникают новые отрасли промышленности. И в этом бурно растущем хозяйстве требовались не узкие специалисты, способные решать хоть и важные, но локальные задачи, а люди редкой универсальности и широты кругозора. Люди, способные выявить наиболее перспективные направления для целых отраслей промышленности, способные правильно разместить заводы, равно сильные в инженерных, экономических, технологических и отчасти даже дипломатических вопросах.
Естественно, что в этой ситуации таланты Менделеева нашли себе гораздо более важные применения, нежели изобретательство. Но при изучении его трудов легко убедиться, что в них между делом, мимоходом брошено столько мыслей, способных у другого стать темой диссертации, столько идей, способных у другого стать изобретением и делом всей жизни, что о Менделееве можно смело говорить как о крупном изобретателе, хотя за всю свою жизнь он не взял ни одного патента.
Нефтепроводы, нефтеналивные суда, масляные кубы для непрерывной перегонки нефти, пироколлодийный порох — все эти изобретения, разработкой которых занимался сам Дмитрий Иванович, известны довольно широко. Но в трудах Менделеева содержится огромное количество хотя и гораздо менее известных, но не менее интересных технических идей, причем здесь порой соседствуют предложения, в которых отдастся дань как уходящим, так и грядущим временам.
Скажем, у современного человека может вызвать улыбку предложение Менделеева выращивать некоторые сорта трав, чтобы выгодно заменить дровяное топливо травяным. Но не устаешь поражаться той ясности понимания, которая позволила Дмитрию Ивановичу в 1876 году, когда единственным ценившимся нефтепродуктом был керосин, а единственным применением керосина — освещение, увидеть новые горизонты нефтяного дела. «Мне рисуется в будущем… нефтяной двигатель, размерами и чуть-чуть не ценою немного превышающий керосиновую лампу. Не у одного ткача, токаря, кузнеца или вообще мастерового, а у ученого и неученого, у всякого — он родит движение, когда нужно. Если бы я имел денежные средства и свободное время, стал бы разрабатывать этот вопрос…» И действительно, во время поездки в Америку он тщательно собирал любые материалы об устройстве тогда еще только появившихся первых двигателей внутреннего сгорания. И так ясны были ему их свойства и особенности, что уже тогда, в 1876 году, он предвидел: «Для подводного плавания удобнее всего иметь именно такие машины, потому что движение сжатым воздухом или паровиком требует несравненно большего запаса сжатого воздуха». Оценить многозначительность этих слов поможет маленькая историческая справка: в 1900-х годах, то есть четверть века спустя, секрет удачности подводной лодки американца Дж. Голланда заключался только в том, что он установил на ней двигатель внутреннего сгорания…
В 1876 году, когда бензин считался бесполезным отбросом, Дмитрий Иванович писал о выгодности и удобстве двигателя, под поршнем которого взрывается смесь воздуха и летучих частей нефти, то есть бензина. А 40 лет спустя потребление бензина в Америке впервые за всю историю нефтяной промышленности превысило потребление керосина. Тогда-то и пришлось вспомнить о пиролизе, позволяющем увеличить выход бензина из нефти, о котором все в том же 1876 году писал Менделеев:
«…Должно разработать сведения о действии жара на тяжелые масла нефти. Тогда они претерпевают изменения и между продуктами, конечно, найдутся технически важные и полезные».
В записках и письмах Менделеева содержится немало идей, способных при разработке превратиться в ценные изобретения. Так, в 1901 году, извещая морского министра о том, что в Главной Палате мер и весов налажено в значительных количествах производство жидкого воздуха, Дмитрий Иванович предлагает морскому ведомству провести исследования взрывчатого вещества, состоящего из смеси угля и жидкого воздуха. «Взрывы льда, по моему мнению, могут оказать большую услугу при выводе кораблей из льдов, если последние по своей толщине будут препятствовать или задерживать ледоколы. Развитие опытов… может… много содействовать выяснению вопроса о применимости жидкого воздуха для действия орудий».
В 1904 году в записке министру финансов Менделеев предложил для орошения земель в южном Поволжье использовать силу ветра. «Ветряные двигатели уже сослужили свою громадную историческую службу, осушив и продолжая осушать для земледелия большие площади земли в Голландии, и, я думаю, русским лучше подражать этому старому примеру, чем особо гнаться за последним словом времени…» Чтобы избавиться от серьезного недостатка ветряных двигателей — ураганные ветры нередко разрушают их, — Дмитрий Иванович разработал горизонтальную турбину, которая гораздо меньше подвержена разрушительному действию ураганных ветров. «Такое приспособление, — писал он, — устроенное мною лет 20 тому назад в малом виде в моем имении, было выставлено, не помню кем, на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде и, сколько мне известно, уже действует исправно в разных местностях России».
Особенно поразительны рассыпанные в сочинениях Менделеева идеи, о которых он упоминает одной-двумя фразам. Так, в 121 дополнении к первому тому «Основ химии» Дмитрий Иванович сообщает о том, что из жидкого воздуха можно легко получать газ, богатый кислородом. «…Горением в таком газе, — продолжает он, — можно получить очень высокие температуры, полезные во многих (особенно в металлургии) применениях». Идея, которая через несколько десятилетии привела к появлению кислородного дутья в металлургии.
В 1867 году в отчете о Парижской выставке Менделеев писал: «Может быть, недалеко то время, когда найдется прием, позволяющий вводить в землю те условия или те вещества, которые заставят недеятельный азот воздуха превратиться в ассимилируемый аммиак и азотную кислоту». Прошло несколько десятилетии и, подтверждая правильность менделеевской идеи, появились бактериальные удобрения.
«При тесноте заведут и холодильные дома, как завели мы отапливаемые», — говорил Менделеев в 1899 году. Прошло полстолетия, и кондиционирование воздуха, по мнению экспертов, привело к быстрому росту крупных городов в таких районах, которые прежде считались вообще непригодными для поселений.
В 1885 году Менделеев писал: «Цемент… это находка новейшего времени и одно из тех многих завещаний, которые будущности оставит наш век… Не только стены и фундаменты, — полы и потолки, лестницы и переборки, даже подоконники и косяки легко и дешево могут изготовляться из цемента… Придет время — избы крестьян и те станут делать цементные». Чтобы в наши дни, спустя почти 90 лет после того, как Дмитрий Иванович написал эти слова, убедиться в их справедливости, достаточно взглянуть на любую из многочисленных новостроек нашей Родины.
Одной из технических сенсаций 1960-х годов было сообщение о том, что обтекатели космических ракет изготовляются из необычайно стойкого материала — ситалла, или пирокерама, который есть, по сути дела, не что иное, как закристаллизовавшееся стекло. С тем большим изумлением читаешь в менделеевском «Стекле и стеклянном производстве» поистине пророческие слова: «Весьма вероятно, что со временем расстеклованная масса найдет свое практическое применение…» И нашла… почти сто лет спустя!
Менделеев, как и многие ученые прошлого столетия, считал, что воздушные шары быстрее овладеют пятым океаном, нежели аппараты тяжелее воздуха. Поэтому он не уставал пристально изучать все детали воздухоплавательного дела. Так, убедившись в том, что главной причиной аварий аэростатов почти всегда оказывалась газопроницаемость и недостаточная прочность швов, Дмитрий Иванович предложил отказаться от сферической формы баллона и принять форму двойного конуса, высота которого в 1,73 раза больше радиуса. При этом, конечно, на изготовление оболочки потребуется больше материала, но резкое сокращение длины швов и увеличение их прочности и непроницаемости с лихвой компенсируют лишний расход.
Чтобы аэронавты могли безопасно для жизни достичь больших высот, Дмитрий Иванович предложил вместо открытой корзины герметическую гондолу, в которой можно поддерживать атмосферное давление. Ее конструкцию он представлял себе так: «Эллиптический резиновый баллон, крепко опутанный снаружи веревками и снабженный предохранительным клапаном от резервуара со сжатым воздухом, достаточен для этого условия. Наблюдатель таким образом… сможет вне всякой опасности делать свои наблюдения и управлять шаром».
По странному совпадению статья Менделеева была опубликована в Женеве в 1876 году, а спустя ровно 55 лет швейцарец Огюст Пикар совершил первый полет в стратосферу на аппарате с герметической гондолой.
Среди изобретений Менделеева большое место занимают всевозможные научные приборы. Из них наиболее интересна судьба дифференциального барометра — единственного изобретения Дмитрия Ивановича, которое он решил реализовать. В 1872 году, работая над упругостью газов, он изготовил прибор, настолько чувствительный к малейшим изменениям атмосферного давления, что с его помощью можно было измерять высоты столов, окон, ступенек лестницы. Это натолкнуло Дмитрия Ивановича на мысль положить такой барометр в основу высотомера. Несколько высотомеров было изготовлено, и в 1875 году группа офицеров генерального штаба воспользовалась ими для проведения нивелирования в Финляндии. Успех нивелирования и многочисленные запросы побудили было Менделеева взяться за производство высотомеров. Но вскоре это дело, связанное с производством и продажей, надоело ему, и он перестал им заниматься.
Однако, приступив к метеорологическим исследованиям, он поневоле должен был снова заняться проблемой измерении. Он считал, что в будущем для изучения стратосферы будут применяться беспилотные аэростаты. Для сбора данных в нижних слоях атмосферы — привязные аэростаты. Понадобятся и на земле многочисленные метеостанции. Раз так, то ежедневно придется производить тысячи измерении, из которых многие окажутся недостоверными из-за неизбежных ошибок при считывании показании приборов.
Для устранения этого недостатка Менделеев предложил заменить наблюдателя аппаратом: «Представим себе, что в некотором месте собраны все метеорологические приборы, — писал он в 1876 году в предисловии к книге Мона «Метеорология». — Поместим их шкалы примерно в одной плоскости; в той же плоскости повесим календарь с отрывающимися листками, указывающими день наблюдения. Повесим тут же часы, показывающие момент, когда фотографические изображения сняты… Если на определенном расстоянии… поместим фотографический прибор, то все дело наблюдателя будет состоять в том, чтобы через некоторые промежутки времени помещать… фотографическую пластинку». Дмитрий Иванович чувствовал, что напал на отличную мысль, и ему не терпелось испробовать ее на деле: «Если организуются предполагаемые аэростатические восхождения, я устрою для них такой прибор!»
Но, увы, когда через одиннадцать лет такая уникальная возможность представилась, обстоятельства сложились так, что Дмитрий Иванович не успел устроить такой прибор…
В 1870-х годах «гордая мысль» Менделеева подняться выше английского аэронавта Глешера не осуществилась. Заинтересовать воздухоплаванием ученые и технические общества ему тогда не удалось, а продажа книг[4], доходы от издания которых Дмитрий Иванович намеревался вложить в постройку аэростата, не только не дала никакой прибыли, но принесла одни расходы. Книги остались лежать у Менделеева, потом другие дела привлекли к себе его внимание. И, может быть, аэронавтический опыт Дмитрия Ивановича так и ограничился бы подъемом на привязанном аэростате Жиффара на Парижской выставке 1872 года, если бы не возбуждение, охватившее русское общество в связи с приближением солнечного затмения 1887 года.
Причину этого возбуждении не так уж трудно понять: за всю историю существования Москвы ее жители могли видеть полное солнечное затмение всего два раза: 7 июня 1415 и 25 февраля 1476 года. И вот теперь по мере приближения 19 августа 1887 года (7 августа по старому стилю) интерес к затмению возрастал все больше и больше. Ученые и жители Московской губернии горели желанием увидеть своими глазами космическое событие, повторения которого надо было бы ожидать два с половиной столетия.
По счастливому стечению обстоятельств бобловская усадьба должна была оказаться в полосе полного солнечного затмения, и Дмитрий Иванович деятельно готовился к приему друзей и коллег, вместе с которыми собирался сделать ряд наблюдений и измерении. И вдруг все расстроилось. За восемь дней до затмения, в ночь с 29 на 30 июля, товарищ председателя Русского технического общества М. Герсеванов прислал Менделееву телеграмму с предложением наблюдать затмение с аэростата, снаряжаемого обществом в Твери.
Эта мысль пришла в голову С. Джевецкому, талантливому инженеру и изобретателю, создавшему одну из первых русских подводных лодок. Узнав, что все приготовления к наблюдению редчайшего природного явления могут пропасть понапрасну, если в момент затмения облако закроет солнце, Джевецкий предложил техникой победить природу, подняв наблюдателя и приборы на аэростате выше облаков. Воздухоплавательный отдел технического общества предоставил в распоряжение Джевецкого воздушный шар, который решено было запустить из Твери, где находился газовый завод, необходимый для заполнения аэростата светильным газом. И когда встал вопрос о том, кто должен лететь, инициаторы дела сразу же вспомнили о Менделееве, который был известен как человек, давно занимающийся проблемами воздухоплавания.
Дмитрия Ивановича поразила идея Джевецкого и увлекла представляющаяся возможность совершить полет. Тверской газ может дать неудачу, — телеграфировал он Герсеванову, — просите военного министра отпустить в Клин команду лучшего водородного шара не медля испытаем тогда поеду глубоко благодарен».
Телеграмма Дмитрия Ивановича характеризует его как человека, хорошо знающего и воздухоплавание, и психологию военного министра. С одной стороны, он понимал, что светильный газ вчетверо менее грузоподъемен, нежели водород. С другой — ему было ясно, что военное ведомство, в распоряжении которого находились водородные аэростаты, не устоит перед его доводами. Ибо он предлагал получить практический опыт в деле быстрой отправки аэростата, перевозки его на далекое расстояние и полной подготовки к определенному моменту. Во время воины такой случай мог бы представиться в любой момент, поэтому расходы, необходимые для менделеевского полета, с лихвой должны были окупиться опытом, который приобретало бы военное ведомство.
В том, что план его удался блестяще, Дмитрий Иванович убедился на следующий же день, получив телеграмму от секретаря технического общества: «Поднятие военного водородного шара из Клина… устроено шар 700 метров легко поднимет обязательного военного аэронавта Кованько вас и если разрешите Джевецкого от технического общества…»
Астрономы считают, что если во время солнечного затмения можно ожидать потерю булавки, то наблюдатель должен репетировать потерю и замену ее новой. В справедливости этого правила Дмитрий Иванович убедился, готовясь к предстоящему восхождению. Он сделал из бумаги изображение солнца с короной и, поставив его на такое расстояние, чтобы угол зрения соответствовал бы действительному угловому диаметру солнца, убедился: в течение полминуты можно было произвести четыре измерения и четыре соответствующие записи. Следующие полминуты Дмитрий Иванович назначил на вычерчивание формы короны. Еще полминуты нужно было для спектроскопических наблюдений. За этими репетициями Дмитрия Ивановича и застала телеграмма Джевецкого, сообщавшего, что он предпочитает лететь из Твери на шаре технического общества.
4 августа, во вторник, Менделеев поехал в Клип и, убедившись, что груз из Петербурга уже начал прибывать, поспешил в Обольяново, имение графа Олсуфьева, где большая группа членов физико-химического общества готовилась к наблюдениям солнечного затмения. Эту поездку Дмитрий Иванович предпринял, чтобы посоветоваться с коллегами, какие еще наблюдения, не пришедшие ему на ум, он мог бы сделать во время поднятия.
Проскакав 70 верст по проселочным дорогам, Менделеев вернулся из Обольянова в Боблово. Здесь его ожидала телеграмма о выезде А. Кованько и команды из Петербурга в Клин. И когда в четверг, 6 августа, Дмитрий Иванович со своим старым другом профессором К. Краевичем и художником И. Репиным приехали из Боблова в Клин, работа шла полным ходом. Кованько распоряжался у шара, механик занимался приготовлением водорода, суетились солдаты гальванической роты: одни качали воду, другие тащили бутыли с серной кислотой, третьи ставили заграждения от ветра. Неподалеку стояла не привязанная еще корзина, с которой свисали веревки.
Рении пристроился рисовать рядом с несколькими фотографами, снимавшими приготовления к полету, а Дмитрий Иванович, зайдя за ограждение, вдруг увидел своего сына Володю, специально приехавшего в Клин. Несмотря на обещание ни во что не вмешиваться, Менделеев все время порывался его нарушить, поэтому Краевич поспешил увести его в дом клинского городского головы, предоставившего им ночлег. Вечером Дмитрий Иванович еще раз проверил приборы, карту, время и, попросив разбудить его в четыре часа утра, заснул. Утром, пробудившись за несколько минут до четырех часов, он сразу же бросился к окну: как погода. Но, увы, погода была скверная, пасмурно, туманно, моросил мелкий дождь. Будучи неблагоприятной для полета, такая погода зато оправдывала все усилия, затраченные на подготовку наблюдения солнечного затмения с аэростата.
Пока Дмитрий Иванович отдыхал перед полетом в доме городского головы, в Клин прибывали поезда, битком набитые москвичами, желавшими наблюдать затмение. Приезжавшие тут же направлялись в поле, где вокруг воздушного шара, покачивавшегося в воздухе на фоне темного неба, постепенно собиралась огромная толпа. Суетился бойкий мужичок, торговавший трубками для наблюдения затмения, хлопотали солдаты саперной роты. В 6 часов утра небо на востоке окрасилось розоватыми солнечными лучами, хотя у поверхности земли все еще держался туман. Командир аэростата поручик А. Кованько отдал команду:
— Крепить корзину!
В 6 часов 25 минут за загородку, окружавшую воздушный шар, вошел Менделеев. При его появлении в толпе раздались аплодисменты, приветственные крики. Кованько и Менделеев поспешно забираются в корзину. До затмения остаются считанные минуты, а намокший за ночь аэростат никак не может начать подъем. Зрители с недоумением видят, что небо уже начинает темнеть, а аэронавты о чем-то спорят. Потом Кованько поспешно что-то объяснил Менделееву, выпрыгнул из корзины и скомандовал солдатам:
— Отдавай!
Шар рванулся кверху и под крики «ура!» устремился в темное уже небо.
«Не видел и не слышал, что происходило внизу, — писал Дмитрий Иванович о начале полета. — Стрелка анероида так медленно двигалась, что нужно было тотчас же бросить песок… Но песок не сыпался, потому что он образовал один сплошной комок, слипшись от воды в компактную массу. Пришлось поставить обратно на дно корзинки мешок с песком и черпать руками мокрый песок для того, чтобы выбрасывать его за борт… Подъем стал возрастать».
Шар вышел из облака внезапно, и взгляду Менделеева открылся свинцово-тяжелый, гнетущий вид. Было такое ощущение, будто облака, плывшие где-то высоко над аэростатом, заслонили солнце. Дмитрий Иванович инстинктивно начал искать, что бы еще выбросить за борт, но тут только он сообразил, что солнце скрыто от него не облаком, а луной, что оно находится уже в полной фазе затмения.
Шар, продолжая подниматься, медленно вращался, и Менделееву приходилось поворачиваться в корзине, чтобы ни на секунду не упустить из виду солнце. «То, что я видел, можно описать в очень немногих словах, — вспоминал он. — Кругом солнца я увидел светлый ореол… чистого серебристого цвета… Ни красноватого, ни фиолетового, ни желтого оттенка я не видел в «короне». Она была вся цвета одного и того же, но напряженность, интенсивность или яркость света уменьшалась от черного круга луны… Размеры «короны»… были неодинаковы по разным радиусам. В самом широком месте толщина кольца была не более радиуса луны. Никаких лучей, сияний или чего-нибудь подобного венчику, который иногда рисуют для изображения «короны», мои глаза не видели… Никаких звезд я не заметил…»
Хотя зрелище было менее величественным, чем ожидал Дмитрий Иванович, оно настолько поразило его, что он не мог оторваться от его созерцания секунд пятнадцать. Потом, спохватившись, он торопливо открыл корзину и начал доставать из нее приборы и устанавливать их. Все это он делал на ощупь, не отрывая глаз от темного диска, закрывавшего солнце. И вдруг, взявшись уже за угломерный прибор, он с ужасом увидел, что маленькое облако надвигается на солнце… «Сперва облако было редкое и туманное, так что сквозь него еще мелькала «корона», но скоро край большого массивного облака заслонил вполне солнце, и я тотчас увидел, что мне больше уже не увидать «короны» и, следовательно, наблюдать и мерять теперь было нечего».
Воспользовавшись вынужденным перерывом, Дмитрий Иванович взглянул на барограф и отметил про себя высоту — 1,5 версты. Потом стал рассматривать облако, которое заслонило солнце и оказалось как бы экраном, по которому бежала тень луны. «Переход от сумерек к рассвету… был почти моментальный, сравнительно резкий, и когда тень проскользнула, наступила полная ясность облачного дня». Так в 6 часов 42 минуты 7 августа 1887 года затмение кончилось, и начался полет Менделеева на аэростате, о котором он потом говорил как об одном из примечательных приключений своей жизни.
Решив записывать все происходящее с ним в полете, Дмитрий Иванович прикрепил веревочкой записную книжку и карандаш к петле пальто, начал снимать показания приборов и тут только обнаружил, что температура окружающего воздуха минус 1,2 градуса Цельсия. Это его удивило, ибо он не только не испытывал ощущения холода, но и не заметил образования видимых паров при выдыхании воздуха. Потом, он сообразил: все дело в отсутствии ветра, ибо аэростат несется с такой же скоростью, с какой и несущий его ветер.
После полета на страницах журнала «Северный вестник» он вспоминал: «Чтобы перенести читателя в эту обстановку, надо представить себя одного в полной и совершеннейшей тишине. Ничто не шелохнется. Кругом веревки, а за ними виден горизонт на том уровне, на котором находишься сам, а под ногами и наверху облака… Общее впечатление состояло в том, что находишься в центре двояковыпуклой чечевицы, т. е. между двумя сводами, один обычный выпуклый, другой снизу вогнутый, как чаша. Ее поверхность белая, ровно матовая, а верхняя в разнообразных формах, подобных формам обычных облаков».
Когда созерцание этого монотонного вида наскучило, Дмитрий Иванович стал осматривать все приспособления аэростата и с досадой обнаружил, что с борта корзины свисают перепутавшиеся при отлете канаты и что на веревке от клапана, с помощью которой газ выпускается из оболочки, тоже получилась запутка, лишающая аэронавта возможности действовать клапаном. С трудом втянув пудовые перепутанные канаты в корзину, Дмитрий Иванович начал распутывать веревку от клапана, причем, когда он начал карабкаться к кольцу, корзина угрожающе наклонилась и начала раскачиваться. «Увидев это, я попробовал, могу ли без головокружения оставаться в висячем положении в воздухе. Для этой цели, приподнявшись из корзинки, я стал глядеть прямо вниз, направив корзину давлением и своим отклонением в сторону так, чтобы она была сбоку. Пробыв в таком положении некоторое время, я увидел, что никакого головокружения у меня нет. Бродя прежде по Альпам, я знал это, но думал, что с течением времени и в особых условиях у меня не сохранилось это свойство».
Когда все было приведено в порядок, Дмитрий Иванович почувствовал усталость и присел отдохнуть на оставшийся мешок с песком. И вдруг в корзине с приборами он обнаружил булку и бутылочку с тепловатым еще чаем, незаметно положенные друзьями при отлете…
Аэростат постепенно сох, становился легче и непрерывно поднимался все выше и выше. Наконец в 7 часов 20 минут далеко на горизонте появился из-под облаков темный, еще неясный край земли. В записной книжке Менделеев отмстил это так: «Иду от земли». Но впечатление это оказалось обманчивым. В действительности облачность редела, земля становилась виднее, и вскоре вместо узкой полосы под аэростатом появился большой отрезок земли. Около 8 часов шар окончательно высох и достиг наивысшей точки — около 3,5 версты. Облака исчезли, и теперь аэростат плыл над местностью, довольно населенной, хотя нередко можно было увидеть леса и болота. Пашни казались сверху разноцветными полосами, с разными оттенками очень мягких цветов. Вспаханные места имели фиолетовый отлив. Сжатые полосы, полосы овса, гречихи и других хлебов, скошенные или оставшиеся под травою полосы резко отличались друг от друга оттенками и образовывали пестрый ковер, лежавший внизу.
Если во время полета в облаках тишина была полнейшая, то теперь Дмитрий Иванович с удивлением убеждался в том, что на высоте 2–3 верст атмосфера насыщена земными звуками. «Я совершенно ясно слышал не только мычание коров, ржание лошадей или удары топора… но слышал даже и пение петухов, а когда я начал опускаться, то на высоте 2 верст стали слышны уже и голоса людей, которые мне кричали… В одной деревне, с жителями которой я… разговаривал, меня позвали есть свежую рыбу. Кричали: «Спущайся, свежая рыба есть».
В 8 часов 45 минут прямо под аэростатом проплыло большое торговое село Талдом. Шар, хотя и медленно, но неуклонно снижаясь, пронесся над лесом в заболоченной низине, потом над озером. Менделеев стал искать подходящее место для посадки. Пролетая над одной деревней, он написал записку, чтобы собирали народ, и бросил сложенный вдвое листок с аэростата. К его великому удивлению, бумажка не падала, а неслась все время рядом. Так рядом с шаром она и долетела до места приземления, и, когда Дмитрий Иванович ехал в село Спас-Угол, он увидел ее на дороге, подобрал и сохранил на память.
С высоты примерно четверти версты Дмитрий Иванович заприметил деревню, за ней лесок, а дальше — поляна без хлебов и изгородей. Чтобы попасть на эту поляну, нужно было перелететь лесок. «Все мое внимание направилось именно сюда… Выбросив часть песку, увидел, что перелетаю лесок, тогда схватился за веревку клапана и его открыл во всю силу. Тут уж народ бежал по направлению к шару, и особенно мое внимание привлек один здоровый молодой крестьянин… Его я выбрал посредником спуска. Вижу, он бежит, а гидроп уже близок к тому, чтобы коснуться земли… Я ему кричу: «Держи веревку и замотай…» Крестьянин успел схватить веревку, как только она коснулась земли. Его приподняло над землей, но он держался крепко и, когда шар снова коснулся земли, успел привязать конец гидропа к дереву. Аэростат прикоснулся к земле нежно, подпрыгнул на несколько сажен и мягко опустился снова. Дмитрий Иванович, вцепившись в веревку клапана, выпускал из оболочки водород. Но ветер, увлекший за собой быстро опадающий шар, заставил корзину лечь боком.
Первым подбежал к Менделееву мальчик лет шестнадцати.
— Можешь ты тянуть веревку, только крепко и все время? — спросил его Дмитрий Иванович.
— Буду, буду, все время буду тянуть, — ответил тот. Передав веревку от клапана мальчику, Менделеев выбрался из-под веревок корзинки и очутился в толпе крестьян, сбежавшихся смотреть на спустившуюся с неба диковину. Став на землю, прежде всего снял шапку, перекрестился, поздоровался с народом и услышал поздравления с благополучным окончанием воздушного путешествия.
В своем отчете о полете, опубликованном в «Северном вестнике», Менделеев счел необходимым особенно подробно объяснить мотивы, побудившие его лететь, несмотря ни на что. «Немалую роль в моем решении, — писал он, — играло… то соображение, что о нас, профессорах и вообще ученых, обыкновенно думают повсюду, что мы говорим, советуем, но практическим делом владеть не умеем, что и нам, как щедринским генералам, всегда нужен мужик для того, чтобы делать дело, а иначе у нас все из рук валится. Мне хотелось демонстрировать, что это мнение… несправедливо в отношении к естествоиспытателям, которые свою жизнь проводят в лаборатории, на экскурсиях и вообще в исследованиях природы. Мы непременно должны уметь владеть практикой, и мне казалось, что это полезно демонстрировать так, чтобы всем стала когда-нибудь известна правда вместо предрассудка. Здесь же для этого представился отличный случай».
Случай для такой демонстрации представился действительно отличный. Внимание всего русского общества было приковано к этому аэростатическому восхождению, оно совершалось при огромном стечении публики. А когда еще намокший, отяжелевший шар не смог поднять двух аэронавтов, Дмитрий Иванович понял: он должен лететь обязательно; он должен доказать, что принципы, которыми он руководствуется в науке, должны привести к успеху и в практическом деле; он должен показать, что настоящему ученому править неизвестной лошадью труднее, чем аэростатом. Мастерски подняв и посадив аэростат, Менделеев выполнил, все эти задачи с таким блеском, что об удачности единственного в его жизни полета стали говорить просто как о стечения счастливых случайностей. Он никак не мог согласиться с таким объяснением. «Я, — писал он, — невольно припоминаю ответ Суворова: «Счастье, помилуй бог, счастье», да надо что-то и кроме него. Мне кажется, что всего важнее… спокойное и сознательное отношение к делу… Когда один и командуешь, и исполняешь, тогда сознаешь ясно, что пыл и фанатизм надо оставить разве для рук и ног, а в голове и в руководительстве следует сохранить полное самообладание и рассудительность. Эти мысли в аэростате были со мной и здесь меня не оставляют, потому что выработались давно и уложились».
В таком подходе к полету как к научному эксперименту, в таком отношении к воздушному шару как к обычному физическому прибору, с которым привык иметь дело в лаборатории, проявилась одна из замечательных особенностей менделеевского гения — практичность. Всю жизнь не устававший повторять, что надо ставить «на первое место не красоту идеи самой по себе, а согласие ее с действительностью», Дмитрий Иванович может служить прекрасным опровержением того широко распространенного мнения, согласно которому гениальный ученый непременно рассеян, беспомощен в практической жизни и, будучи занят абстрактными построениями, может путаться в таблице умножения.
Менделеев был, быть может, одним из самых искусных расчетчиков в России. О. Озаровская, работавшая под началом Дмитрия Ивановича в Главной Палате мер и весов, вспоминает, как однажды из менделеевского кабинета донесся его тягучий голос; «У-у-у! Рогатая! Ух, какая рогатая! Кх-кх-кх! (это смех). Я же одолею, я тебя одолею. Убью-у!»
Старые сотрудники уже знали — Дмитрий Иванович бьется над неуклюжей математической формулой, которую он непременно превратит в коротенькую, изящную, удобную для расчета. Он внимательно следил за всеми новинками, появляющимися в математике, и быстро брал на вооружение новые приемы и методы расчетов. Говоря как-то раз об одном из методов П. Чебышева, он скакал, что по всей России, кроме него, Менделеева, этим методом овладели, может быть, человек пять. Но хотя Дмитрий Иванович был недюжинным математиком, эта наука оставалась для него не самоцелью, а мощным методом решения тех задач, которые жизнь ставила перед его могучим мозгом: от расширения ртути при нагревании до прироста народонаселения и деревьев.
В этом пристрастии Менделеева к числовому счету нетрудно увидеть ту высшую практичность, которая дает возможность гению охватить, понять и оценить с помощью конкретных чисел явления и процессы, зачастую не поддающиеся решению в общем виде с помощью аналитических методов. Дмитрия Ивановича, считавшего, что «теоретическое представление, которое не равно и не соответствует действительности… есть или простое умственное упражнение или даже простой вздор», не могло волновать, корректно или некорректно построено такое представление, строго или не строго выведены следствия, действительности не соответствующие.
Наделенный даром не находить трудности, а преодолевать их, Менделеев мастерски владел всем арсеналом научного познания. Каждая новая задача как будто бросала вызов его способности быстро охватить проблему со всех сторон, отбросить детали, поймать суть. Он оживлялся, сталкиваясь с новым, незнакомым еще делом. Его мозг лихорадочно строил основную схему явления, непрерывно добавлял в нее все новые и новые связи, одновременно изменяя, уточняя и проверяя всю структуру в целом. Людям, работавшим с Менделеевым, казалось, что он работает наскоком, быстро схватывает предмет и очень быстро отвлекается. Иногда Дмитрий Иванович входил в лабораторию и говорил лаборанту, чтобы тот слил в колбу такие-то и такие-то вещества и быстро измерил температуру. Когда требуемое сообщалось ему, он говорил: «Ага! Все ясно», — и быстро уходил к себе, оставляя лаборанта в полном недоумении.
И постепенно каждодневные размышления, научные эксперименты, редактирование технических трудов и энциклопедий, чтение лекций, общение с выдающимися учеными, инженерами, промышленниками и государственными деятелями привели к тому, что количественное накопление знаний привело к изменению их качества. В голове Менделеева сложился необычайно сложный и цельный образ — отражение реального мира, и Дмитрий Иванович обрел дар понимать даже те вопросы и проблемы, которые никогда не обдумывал специально. Когда в 1890 году германский химик Курциус открыл азотистоводородную кислоту, многим химикам она показалась соединением неожиданным и непонятным. Для Дмитрия же Ивановича здесь не оказалось никакой загадки: он сразу же после появления сообщения об открытии этой кислоты выступил с докладом, объяснил ее состав и свойства и ответил на все вопросы. И очень скоро эксперименты других исследователей подтвердили правильность менделеевских рассуждений.
Нередко, задумчиво глядя на соблазнительные формулы, предлагаемые ему сотрудниками, он говорил: «Ну, знаете ли, по соображениям эта реакция должна идти так, как вы говорите, только тут что-то не так, я чувствую, что не так, не пойдет…» И почти всегда оказывался прав.
Секрет той поразительной быстроты, с которой Дмитрий Иванович осваивал новые для него области знаний, таится именно в этом колоссальном объеме накопленной за много лет научной информации. Его мозг был постоянно сосредоточен на работе, и все, что отвлекало от нее, что ослабляло титаническое напряжение, раздражало и нервировало Менделеева. Естественно, он старался оградить себя от всяких неудобств и непроизводительных затрат времени. Когда появилось электрическое освещение, Дмитрий Иванович не пожелал отказаться от привычной керосиновой лампы, хотя по всем квартире было проведено электричество. Так же не выносил он и телефона и никогда не говорил по нему: «Если бы я завел телефон, — объяснял он причину своей неприязни, — то у меня не было бы свободной минуты. Мне никто не нужен, а кому я нужен — милости просим».
Зная, как много пустословия, лености ума и некомпетентности кроется порой за самыми высокими репутациями и званиями, он стремился свести к минимуму бессмысленные и бесцельные разговоры, нередко прерывая собеседника, когда тот начинал говорить не по делу. И отсюда, по-видимому, пошла молва о вспыльчивом и нетерпимом характере Менделеева. В действительности же он просто стремился сэкономить бесценное для него время тем, что требовал беспрекословного послушания и быстрого выполнения своих распоряжений. Если же случались здесь со стороны окружающих промахи, он легко раздражался, кричал, но быстро отходил и зла в душе не таил.
Современники, встречавшиеся с Дмитрием Ивановичем тогда, когда он уже достиг зрелого и даже преклонного возраста, отмечали, что его присутствие было сразу ощутимо в любой компании. Даже люди, далекие от науки, при появлении Менделеева в комнате вдруг начинали чувствовать, что рядом с ними происходит что-то многозначительное, и непонятность этой многозначительности вызывала у них ощущение тревоги.
«…Он давно все знает, что бывает на свете, — писал Александр Блок о том впечатлении, которое произвел на него Дмитрий Иванович. — Во все проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает. У него нет никаких «убеждений» (консерватизм, либерализм и т. д.). У него есть все. Такое впечатление он и производит. При нем вовсе нестрашно, но всегда неспокойно, это оттого, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это всепознание лежит на нем очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всем вместе; ничего отдельного или отрывочного у него нет — все неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех…»
Как-то раз зимой 1886 года В. Тищенко, допоздна засидевшийся за корректурными листами «Журнала Русского физико-химического общества», вдруг услышал громкий крик, донесшийся из-за стены из кабинета при университетской лаборатории. Он знал, что в эту лабораторию переселился из своего домашнего кабинета Дмитрий Иванович и вот уже целый год работает там с утра до позднего вечера. Обеспокоенный криком, Тищенко выглянул в окно и с ужасом увидел, как ярко сияет снег университетского сада, освещенный сильнейшим светом, льющимся из окна менделеевской лаборатории. Подумав, что у Менделеева пожар, Тищенко поспешил к нему. «А Дмитрий Иванович сидит на своем обычном месте, никакого пожара нет — это был свет от сильной лампы. Спрашиваю, что нужно Дмитрию Ивановичу.
— Да вот велел Алеше чаю принести, а он не несет.
— Дмитрий Иванович, да ведь уже пятый час утра!
— О господи…»
Результатом такого напряженного трехлетнего труда стало «Исследование водных растворов по удельному весу». Знаменито это исследование тем, что из всех менделеевских трудов именно на его долю выпала судьба самая необычная и самая странная.
Б то время как некоторые крупные физико-химики считали эту менделеевскую работу основополагающей в количественном изучении растворов, другие, не менее крупные специалисты утверждали, что у нее нет серьезной теоретической основы и что ей еще предстоит доказать свое право на существование. В то время как при жизни Дмитрия Ивановича бытовало мнение, что его гидратная теория безнадежно запоздала появиться на свет, спустя десятилетие после его смерти считалось, будто гидратная теория родилась на 20–30 лет раньше, чем в ней почувствовалась необходимость. Конечно, и с тем и с другим мнением можно спорить, но верно то, что трудно было найти год, менее подходящий для появления на свет гидратной теории, чем 1887-й.
В 1865 году, заканчивая свою докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», Дмитрий Иванович считал, что он расстается со своими читателями лишь на то сравнительно небольшое время, которое понадобится ему для завершения очередного этапа в исследовании растворов. «Выводы, какие можно было сделать… а также и нахождение более точной и простой формулы, — заключил он свою диссертацию, — оставляю до другого раза, когда справедливость некоторых замеченных мною особенностей подтвердится над другими растворами, к изучению которых и полагаю вскоре приступить».
Мы уже знаем, какие события почти на двадцать лет отвлекли Менделеева от исполнения его намерения. Но какими бы интересными и важными ни представлялись эти события Дмитрию Ивановичу, они в его сознании лишь отодвинули растворы на второй план, но никогда не вытеснили их полностью. И в годы самой напряженной работы над другими научными проблемами Менделеев нет-нет да и публиковал одну-две заметки о растворах. Но как только проблемы, важность которых заставляла Дмитрия Ивановича уделять им свое время и внимание в первую очередь, исчерпались, он немедленно вернулся к своей любимой теме.
Такой пристальный и устойчивый интерес к растворам характеризует Дмитрия Ивановича как чрезвычайно проницательного химика, безошибочно чувствующего, где находятся узловые проблемы этой науки.
«Тела не взаимодействуют, пока не растворены», — не уставали повторять алхимики и фармацевты средних веков.
«Химики ставят растворитель на первое место среди всех вспомогательных средств и гордятся тем, что с его помощью они могут совершать все чудесные действия своего искусства», — писал известный в XVIII веке химик Г. Бургаве. А другой химик, Гийтон де Морво. в конце того же XVIII века заявлял: «Так как химия не действует иначе, как при помощи растворения, таковое должно быть нитью при изложении химии». Морво пребывал под таким обаянием этой мысли, что предложил даже разделить химию на главы: растворение огнем, растворение воздухом, растворение водою, растворение кислотами и т. д.
Показывая, какую важную роль играют растворы в химии, эти высказывания говорят о том, какая путаница царила в головах ученых XVIII века относительно механизма растворения. Но, как ни далек был XVIII век от этой зрелости в понимании предмета, которая обычно предшествует его количественному изучению, он передал веку грядущему глубокое ощущение того, что растворитель есть не безразличная среда, в которой разрежается растворяющееся тело, но активно действующий, изменяющийся в процессе растворения реагент и что растворение есть процесс не механический, но химический. Этим-то обстоятельством объясняется тот парадоксальный факт, что в первой половине XIX века сложная химическая гипотеза растворов большинству специалистов казалась естественнее и проще, нежели неизмеримо менее сложная механическая теория, рассматривающая растворы как простые механические смеси. И среди ученых, разрабатывавших в этот период химическую теорию растворов, мы видим славные имена ученых французских — К. Бертолле, Ж. Гей-Люссака и Ж. Био; германских — И. Поггендорфа, Г. Гмелина и Г. Коппа; российских — Г. Гесса и Д. Менделеева.
Когда в начале 1860-х годов Дмитрий Иванович приступил к своим физико-химическим экспериментам, он открыл любопытную психологическую закономерность. Оказывается, когда в науке выдвигается новая гипотеза, никто не верит в нее, кроме самого автора. Но когда сообщается о новом экспериментальном факте, все относятся к нему с гораздо большим доверием, чем сам экспериментатор. «Опыт доказывает»… «эксперименты подтверждают»… — такие фразы уверенно говорят люди, не знающие об этом опыте и об этих экспериментах ничего, кроме окончательных чисел. Но сам экспериментатор, знающий, чего стоят его приборы, его установка, его ассистенты, называет полученные им цифры не так уверенно, как окружающие. Подтверждения такого положения дел Дмитрий Иванович обнаруживал на каждом, шагу. Анализируя данные, полученные многими предшественниками, он снова и снова убеждался, как опасна «покорная доверчивость к так называемым фактам». И этот урок, усвоенный в 1860-х годах, не прошел даром.
В 1883 году, приступая к всестороннему исследованию водных растворов, Менделеев вложил в эту работу весь накопленный за двадцать лет опыт, применил новейшие измерительные методы и приборы, использовал для обработки полученных данных все новейшие математические приемы. «Мое исследование, — писал он, — стремится отыскать в массе «фактов» те наблюдения, с которыми стоит считаться, то есть оно относится к ним с требованиями о их достоверности».
Сначала Дмитрий Иванович собрал материалы по растворам, накопленные его предшественниками почти за целое столетие. Затем, чтобы сделать все эти цифры сравнимыми между собой, он пересчитал их, приведя удельные веса к взвешиванию в пустоте, отнеся их к воде при наибольшей плотности и сличив при одинаковом составе. Одновременно велась выработка новых, более точных приемов и методов измерений и измерялись удельные веса растворов, либо вовсе не изученных предшественниками, либо изученных с недостаточной точностью. В своем труде Дмитрий Иванович рассматривает растворы в воде 233 химических веществ при различных концентрациях и температурах. «Критический сборник всех отдельных измерений удельного веса водных растворов, не имеющий… аналога в литературе других народов» — так много лет спустя оценивал книгу Дмитрия Ивановича академик П. Вальден.
Ученые 1860-х годов вовсе не случайно и не слепо придерживались химической точки зрения на растворы. Их убеждал в справедливости такой позиции ряд наблюдений и прежде всего то, что при растворении многих веществ — спирта, серной кислоты, аммиака — выделяется теплота. А выделение теплоты издавна считалось характернейшим признаком химической реакции — достаточно вспомнить горение угля в воздухе или растворение цинка в соляной кислоте. И вот что интересно: в результате таких химических реакции объем получившихся продуктов всегда оказывается меньше, чем объем вступивших в реакцию веществ. Другими словами, исходные реагенты как бы сжимаются в получившемся в результате реакции продукте. А это значит, что удельный вес продукта возрастает по сравнению с удельным весом вступающих в реакцию веществ. Вот почему удельный вес, то есть чисто механическая характеристика раствора, дает возможность заглянуть в глубь его молекулярного строения, вот почему именно эту характеристику растворов, доступную весьма точному измерению, Дмитрий Иванович положил в основу своего капитального труда. И он не обманулся в своих ожиданиях…
Серная кислота получается при растворении газообразного серного ангидрида — SO3 — в воде. Этот процесс сопровождается выделением тепла и сжатием раствора. Исследования Дмитрия Ивановича показывали, что из бесчисленного множества растворов серной кислоты в воде можно выделить пять, при образовании которых сжатие было наибольшим. В первом из них на одну молекулу SO3 приходится точно одна молекула воды, во втором — две, в третьем — три, в четвертом — семь и в пятом — сто пятьдесят одна. Эти пять растворов ясно выделялись и по другим физическим свойствам: по температуре плавления, электропроводности, вязкости и химической активности. Подобные зависимости были получены также для растворов многих других веществ.
Эти удивительные закономерности настолько увлекли Дмитрия Ивановича, настолько сильно было его желание разгадать их секрет, что он решил обратиться за помощью к математиком. Поставленная им задача гласила: при каком соотношении числа шаров, имеющих разные диаметры, достигается наибольшее сжатие. Астроном Геофизической обсерватории И. Клейбер, к которому обратился Дмитрий Иванович, не смог дать общее решение этой задачи. И изобретательный Менделеев, не чуждый механических моделей, если они дают возможность оценить явление, ускользающее от точных методов, в течение некоторого времени пытался найти ответ на свою задачу, используя различные смеси гороха и проса. Но, конечно, центральным вопросом Дмитрий Иванович считал вопрос о механизме образования раствора.
Большинство предшественников Менделеева, отдавая дань механицизму, считало, что молекулы воды, соединяясь в строго определенных пропорциях с молекулами вещества, образуют сначала концентрированный раствор, механическая смесь которого с водой и даст уже раствор разбавленный. Дмитрию Ивановичу этот процесс представлялся иначе. Он считал, что, соединяясь с молекулами вещества, молекулы воды образуют множество гидратов, часть которых настолько, однако, непрочна, что тут же распадается — диссоциирует. Продукты этого распада вновь соединяются с веществом, с растворителем и другими гидратами, часть вновь образовавшихся соединений снова диссоциирует, и процесс идет до тех пор, пока в растворе не установится подвижное — динамическое — равновесие.
Менделеев ожидал от своего «Исследования водных растворов по удельному весу» большого резонанса в научных кругах: «Растворы представляют для меня самый общий случай химического взаимодействия, определяемого сравнительно слабыми средствами, а потому представляют собой плодовитейшее поле для дальнейшего успеха химических умений и достойны внимательнейшей разработки частностей». Но, увы, его труд был опубликован в том же году, когда появились осмотическая теория Я. Вант-Гоффа и электролитическая теория С. Аррениуса.
Выдающийся голландский ученый, первый нобелевский лауреат по химии Якоб Вант-Гофф сделал смелое предположение: молекулы растворенного в жидкости вещества можно уподобить молекулам газа, занимающего тот же объем, что и данный раствор. Если это так, то к раствору можно приложить отлично разработанный для газов математический аппарат термодинамики. Сделав все это, Вант-Гофф связал в стройную систему множество разрозненных наблюдений, считавшихся прежде не связанными между собой, дал мощный импульс развитию физико-химических исследований. Но вот что любопытно: формулы Вант-Гоффа давали прекрасные результаты для органических веществ и «не срабатывали», когда дело касалось электролитов — солей, кислот и щелочей, растворы которых проводят электрический ток.
Решение этой трудности нашел шведский химик Сванте Аррениус. Он заявил, что при растворении электролитов в жидкости происходит разложение — диссоциация — молекул электролита на положительно и отрицательно заряженные частицы — ионы. Поэтому электролиты при растворении дают гораздо больше частиц, чем их было бы при отсутствии диссоциации. Объединение теорий Вант-Гоффа и Аррениуса оказалось весьма плодотворным. В 1890-х годах они были легче для всеобщего восприятия и таили в себе зародыши быстрого и мощного развития. Немалую роль в торжестве учения об ионах сыграла пропагандистская деятельность шумливого и сноровистого В. Оствальда — способного физико-химика, печально прославившегося увлечением энергетизмом. А в результате спустя каких-нибудь пять лет одно из любимых детищ Менделеева в трудах германских авторов пренебрежительно именовалось «так называемой гидратной теорией».
Как отнесся к этим событиям сам Дмитрий Иванович? Если теорию Вант-Гоффа он встретил доброжелательно, то теория Аррениуса вызвала у него резко отрицательное отношение. Хотя Аррениус и назвал ее теорией электролитической диссоциации, это была совсем не та диссоциация, которую имел в виду Менделеев. Дмитрий Иванович называл диссоциацией распад нестойких гидратов, Аррениус же подразумевал под этим термином расщепление прочнейших молекул электролитов при попадании их в воду. Поначалу различие между атомом и ионом было проведено не очень четко. Было неясно, за счет каких сил происходит расщепление прочных молекул, и неудивительно, что многие химики не могли примириться с новой теорией.
Верный своим принципам, Менделеев не ввязался в шумные споры и диспуты, которые велись в те годы между сторонниками физической и химической теорий растворов. Но несколько замечаний, брошенных между делом в его трудах, показывают: он ясно понимал сокровенную сердцевину дела и ясно видел трудности, до понимания которых не дозрели «ионисты». По мнению Дмитрия Ивановича, общая единая теория должна охватывать как разбавленные, так и концентрированные растворы. Физическая теория Вант-Гоффа и Аррениуса справедлива лишь для слабых растворов, химическая теория Менделеева имела своим объектом крепкие растворы. Следующим шагом должно было стать объединение обеих теорий. Но опыт подсказывал Менделееву, что время для такого объединения еще не настало.
В 1889 году появилась последняя заметка Дмитрия Ивановича, посвященная гидратной теории. И больше он никогда не возвращался к этой проблеме. Но незадолго до смерти, комментируя свои труды, он, дойдя до «Исследований водных растворов по удельному весу», твердо написал: «Это одно из исследований, наиболее труда стоившее мне… Мои мысли смолоду были там же, где тут и где теперь — грани нет между этими явлениями и чисто химическими. Рад, что успел их тут сказать довольно четко».
История показала, что Менделеев, хотя и допустил некоторые увлечения в частностях, оказался прав в главном. Через двадцать лет после выхода в свет менделеевских «Исследований водных растворов по удельному весу» сам Аррениус заявил, что гидратная теория заслуживает подробного изучения, ибо именно она может дать ключ к пониманию самого трудного вопроса электролитической диссоциации. Вопроса о том, какие таинственные силы разрывают молекулы электролитов на ионы. Последователи Менделеева — Д. Коновалов, Д. Кистяковский, П. Вальден, Д. Флавицкий — доказали: образование ионов невозможно без гидратации молекул. Но сам Дмитрий Иванович уже в 1890-х годах охладел к теории растворов. Как будто предчувствуя грядущие и уже недалекие события, он заключил предисловие к «Исследованию водных растворов по удельному весу» пророческими словами: «Научный труд безграничен, никогда не закончится, всегда возбуждает, а жизнь оставляет, так или иначе, но часто за штатом, лишает свободы выбора, ограничивает и требует непреклонно и решительно кончать незаконченное, даже переходить от одного привычного и любезного к другому, быть может, неприветливому, а во всяком случае, еще незнаемому».
Прошло всего три года, и Дмитрию Ивановичу пришлось искать себе новое дело — «неприветливое и незнаемое», — навсегда оставив Санкт-Петербургский университет…
На протяжении тридцатитрехлетней педагогической деятельности в Петербургском университете Дмитрий Иванович трижды был близок к тому, чтобы покинуть это учебное заведение. И каждый раз его намерение было связано с очередным попранием университетских прав, которые некогда великому М. Ломоносову удалось оговорить в уставе Московского университета.
Когда в XVIII веке Вильгельм Оранский в награду за услуги, оказанные городом Лейденом в войне за независимость Нидерландов, предложил горожанам на выбор — отмену налогов или основание университета, ответ лейденцев был лаконичен: «Не заботьтесь о налогах, давайте университет». Взяв за основу устав именно Лейденского университета, Ломоносов всю меру своего влияния приложил к тому, чтобы, как он выразился, «привести в вожделенное течение университет, откуда могут выйти бесчисленные Ломоносовы». Ради этой далекой цели Михаил Васильевич настойчиво добивался, чтобы университет «имел власть производить в градусы», то есть давать ученые степени; чтобы «студентов не возить в полицию, но прямо в академию»; и наконец, чтобы «духовенству к учениям, правду физическую для пользы и просвещения показующим, не привязываться, а особенно не ругать наук в проповедях». И хотя Ломоносову не удалось провести полностью «несовместные вольности Лейденские», Московскому университету при учреждении были дарованы немалые привилегии.
В 1804 году для Московского и вновь открытых Харьковского, Казанского, Виленского и Дерптского университетов был разработан новый устав. Составленный либеральными вольнодумцами, забравшими большую силу в начале царствования Александра I, устав этот, казалось бы, не оставлял желать ничего лучшего. Он взял под защиту русскую науку, бережно доверив ее не чиновникам, а самим ученым, объединенным в самоуправляющуюся корпорацию. В нем искусно сочетались интересы самой науки и ее служителей, и он сам по себе мог гарантировать успехи высшего образования в России. Но, увы, устав 1804 года остался мертвой буквой. И когда в 1835 году был утвержден новый устав, он, по сути дела, лишь констатировал существующее положение дел: ликвидацию автономии и практически полное подчинение университетов попечителям и инспекторам.
Французская революция 1848 года, можно сказать, заморозила русскую университетскую жизнь. «
Начало царствования Александра II породило в студенческой среде немало преувеличенных надежд на восстановление духа вольных университетов. Когда же вместо этого министр адмирал Е. Путятин повысил плату за обучение и ввел новые стеснительные правила, среди студентов началось глухое брожение. В такой-то малоподходящий момент появилось правительственное предписание применять вооруженную силу, чтобы разгонять студенческие сходки. Ответом на это распоряжение и явилась сходка, состоявшаяся в Петербургском университете 23 сентября 1861 года.
Вечером на квартиру к Дмитрию Ивановичу пришел из университета солдат, сообщил, что лекции прекращаются с 24 сентября до объявления, и вручил повестку: на следующий день со всеми другими преподавателями университета быть у министра просвещения.
«Я не пошел, ибо это официальная явка, такая, каких я не терплю… Да нехай его, пускай меня найдут теперь, а не я их буду искать. Ведь и он, поди, подписывал протоколы о стрельбе и т. п.».
Лекции в университете были возобновлены 11 октября, и, поскольку студенты продолжали протестовать против унизительных правил Е. Путятина, были вызваны войска и полиция. «Тут произошла сцена, — записывая в своем дневнике Дмитрий Иванович, — которой тягостнее и не видел, разве что припомнить впечатление обозов раненых, которых везли из Севастополя. Выводят студентов, окруженных огромным количеством солдат… В это время наскакивает сперва один взвод, потом другой взвод жандармов — топчет, давит, рубит, окружает. Это дело двух секунд. 3 или 4 раненых. Недоставало крови — теперь она на них лежит пятном, которого не смоют. Обуяет внутри мерзость какая-то. Видишь себя бессильным, слабым…»
Впервые в голове Менделеева мелькнула мысль: уйти из университета. Не видеть пошло-хладнокровных профессоров, рассуждающих о том, что студентов-де следует теперь усмирять не словами, а штыками. Не видеть солдат, жандармов, городовых и пожарных, стянутых к университету и своим присутствием молчаливо угрожавших его стенам. «Взволнованный, убитый всеми этими мыслями — иду, чтобы подать в отставку. В профессорской комнате написал прошение к ректору об отставке… Написал просьбу и пошел в правление — там Плетнев, Воскресенский, Срезневский, Мурашкин. Плетнев не берет, они все уговаривают, говорят опять о законности. О том, что если мы будем подавать в отставку, то они скажут, что профессора противу студентов. Вот выдумывают. Но я взял — бог знает, что говорило во мне: чувство ли самосохранения, привязанность ли к званию, надежда ли на поправку обстоятельств впереди, что ли другое — не знаю, но взял. Скверное время, низкое время — все чахлое какое-то, кроме молодежи».
После ареста и препровождения нескольких сот студентов в Петропавловскую крепость занятия в университете снова прекратились. И этот исход волнений 1861 года долго не давал Дмитрию Ивановичу покоя.
Студенческие волнения 1861 года показали и правительству, на каких неблагополучных основаниях держится жизнь российских университетов. Е. Путятин на посту министра просвещения был заменен Л. Головниным, который немедленно приказал приступить к разработке нового университетского устава. По этому уставу, утвержденному в 1863 году, главным органом университетского управления становился совет, который с утверждения министерства выбирал ректора, деканов, проректора или инспектора и профессоров. Причины же студенческих беспорядков считались устраненными введением университетской автономии и профессорского суда. Но студенческая жизнь была уже так тесно связана с мощными общественно-социальными процессами 1860-х годов, что одним уставом прекратить периодически вспыхивающие волнения было уже невозможно.
29 августа 1878 года Совет Петербургского университета получил инструкции министерства просвещения, отменявшие явочным порядком многие положения устава 1863 года. В них, в частности, запрещались какие-либо студенческие сборища, сходки, публичные концерты и т. д. И когда 27 ноября около полутораста студентов Петербургского университета собрались, чтобы потолковать о событиях, происшедших в Харьковском университете, к ним были применены новые инструкции, и волнения вспыхнули с новой силой.
В связи с этими событиями петербургский генерал-губернатор, герой русско-турецкой войны генерал И. Гурко вызвал к себе ректора университета А. Бекетова. Зная чересчур деликатный характер ректора, Дмитрий Иванович поехал к генералу вместе с ним. Когда профессора вошли, генерал встретил их криком. Сначала профессора слушали генерала молча, но потом вдруг Менделеев тряхнул своей львиной гривой и стал кричать на Гурко. «Кричали оба, — вспоминал В. Поссе, один из очевидцев этой «беседы», — но скоро голос генерала стал ослабевать, и слышны были только менделеевские громы:
— Как вы смеете мне грозить? Вы кто такой? Солдат, и больше ничего. В своем невежестве вы не знаете, кто я такой. Имя Менделеева навеки вписано в историю науки. Знаете ли вы, что он произвел переворот в химии, знаете ли вы, что он открыл периодическую систему элементов? Что такое периодическая система? Отвечайте!
Генерал смутился: он не имел ни малейшего понятия о периодической системе. Возникла пауза. И тогда Менделеев, распахнув двери, спокойно и внушительно сказал Бекетову: «Пойдемте. Он теперь не пойдет разносить университет».
Волнения, вызванные инструкциями 1879 года, продолжались в течение всего следующего года, и тогда-то Дмитрий Иванович снова решил подать в отставку. Но, как мы уже знаем, коллеги отговорили его от этого шага, выхлопотали ему отпуск, и он уехал в Рим к Анне Ивановне. А вскоре вступление на престол реакционнейшего Александра III ознаменовалось утверждением устава 1884 года, ввергнувшего русские университеты в состояние хронических беспорядков. В начале весны 1890 года начались волнения в Петровской академии в Москве. Полиция арестовала 175 человек, и 30 человек были отданы в дисциплинарный батальон. Петровцев поддержали студенты Московского университета, а 13 марта Дмитрий Иванович, которому студенты доверяли, узнал о готовящихся сходках в Петербургском университете. Вечером к нему пришли А. Иностранцев и Р. Докучаев и уговаривали вместе с другими профессорами попытаться успокоить студентов.
На следующий день, переговорив с профессорами и студентами, Дмитрий Иванович заехал вечером к министру просвещения И. Делянову и говорил с ним о студенческих волнениях, передал просьбы студентов. Разговор был мирный, лишенный всякой запальчивости. 15 марта студенты вручили Дмитрию Ивановичу петицию, и поскольку все остальные профессора поспешили уклониться от участия в передаче петиции министру, Дмитрий Иванович решил отвезти ее одни, движимый лишь желанием «сохранить покой университета, хотя бы с личною расплатою». Вечером, поехав к Делянову, Менделеев его не застал и оставил пакет с петицией, приложив к нему свою записку. Каково же было негодование и гнев Дмитрия Ивановича, когда на следующий день пакет был возвращен ему с сопроводительным письмом следующего содержания: «По приказанию Министра народного просвещения, прилагаемая бумага возвращается действительному статскому советнику, профессору Менделееву, так как ни Министр, и никто из состоящих на службе Его Императорского Величества лиц не имеет права принимать подобные бумаги…»
На этот раз решение Дмитрия Ивановича покинуть университет было непоколебимым. 17 марта он лично выразил Делянову свой протест против оскорбительных для него действии министра, а спустя два дня почти насильно заставил исполняющего обязанности ректора университета принять прошение об отставке. Даже обращение университетского совета не склонило его переменить свое решение.
Свою последнюю в жизни университетскую лекцию, прочтенную 22 марта 1890 года, Менделеев посвятил разъяснению основной задачи университетского образования, которую он видел в стремлении «к пониманию истины во всей ее чистоте и совершенстве». «Желаю вам постигать истину самым спокойным образом и покорнейше прошу не сопровождать мой уход аплодисментами по множеству различных причин» — так закончил он свою лекцию. И, как вспоминает Б. Вейнберг, один из слушателей этой исторической лекции, «подчиняясь воле властителя наших дум, мы, как один человек встали и с тяжелым сердцем и чуть не со слезами на глазах в полном молчании вышли из аудитории».
Вторая женитьба Менделеева наделала в свое время много шума и, как говорят, послужила даже поводом для знаменитого каламбура, сорвавшегося с языка Александра III. Некий генерал просил царя дать ему разрешение на второй брак, в чем царь упорно отказывал. И тогда, исчерпав все доводы, генерал решил напомнить Александру III о том, что вот есть же-де вторая жена у Менделеева. Но император сразу же поставил генерала на место: «Это верно, что у Менделеева две жены, — сказал он. — Да Менделеев-то у меня один».
И тем не менее факты свидетельствуют о далеко не столь идиллических отношениях между царями и их чиновниками и Дмитрием Ивановичем Менделеевым.
История с неизбранием в академию, история ухода из университета показывают, что единственной защитой Менделеева от дерзости чиновников была не его всесветная слава, а тот великолепный иммунитет, который выработал в себе Дмитрий Иванович и который защищал его лучше всякой монаршей благосклонности. Когда в 1801 году в поисках места и заработка он по совету друзей пошел на прием к директору департамента сельского хозяйства, унизительные обстоятельства этого визита совершенно выбили его из колеи. «Не могу почти слова сказать, — записывал он в дневнике, — скверность обуяла, и теперь вся грудь дрожит — отравил он меня. Сам, конечно, виноват… Не привык я ни носу задирать, ни шеи гнуть, а у них надо и то и другое делать, средина исключена. Пусть их царство и цветет — не нам место там — унизительно, опошлеешь с ними — скверно, и плакать хочется, и злоба берет».
Много лет спустя выходку Делянова, заставившую его покинуть университет, он воспринял почти добродушно и на соболезнования друзей отвечал: «Э, да что там. Вон Прометей не нам был чета, а как поступили с человеком». В таком-то благодушном настроении Тищенко нашел Дмитрия Ивановича весной 1890 года. Дмитрий Иванович с художником Иваном Ивановичем Шишкиным сидели в кабинете за маленьким столиком и вкривь и вкось записывали на листе бумаги какие-то слова.
«Задумал издавать большую газету, — радостно сообщил Дмитрий Иванович. — А вас, конечно, в редакцию. Вот мы с Иваном Ивановичем придумываем, какое название дать газете».
Независимость Менделеева, упорно не шедшего на поклон, по-видимому, сильно задевала Делянова. Потому что, когда Тищенко через некоторое время спросил о газете, Дмитрий Иванович ответил: «Деляныч не разрешил. Да я и рад. Это дело не по мне: ведь это ни днем, ни ночью покоя не было бы».
Тому, что Дмитрий Иванович действительно мало переживал запрещение издавать газету, можно поверить, ибо он в это время работал над таможенным тарифом, думал об издании технической энциклопедии и вообще был по горло завален заказами и заданиями. Но, несмотря на всю свою занятость, он не нашел в себе сил отказать посетителю, появившемуся у него летом 1890 года.
Об Иване Михайловиче Чельцове злые языки говорили, что он пороха не выдумает. Утверждать это было по меньшей мере неосторожно, ибо именно Чельцов спроектировал и построил первый в России пироксилиновый завод, читал лекции по технологии взрывчатых веществ и именно ему морской министр поручил организовать лабораторию по исследованию порохов и взрывчатых веществ. Чельцову позарез был нужен консультант-химик с большим именем, и, когда он зашел по-приятельски посоветоваться к Тищенко, тот назвал ему имя Менделеева. О таком консультанте Чельцов даже не смел мечтать. Поэтому его первая реакция была: «А вы думаете, он пойдет?..»
Дмитрий Иванович дал Чельцову лишь принципиальное согласие. Поэтому вскоре — летом 1890 года — в кабинете Менделеева появился чиновник морского ведомства, которому министр поручил согласовать все детали. Каково же было его изумление, когда на вопрос об окладе, который удовлетворил бы профессора Менделеева на посту консультанта пороховой лаборатории, последовал быстрый решительный ответ: «Как можно меньше!» Заметим замешательство на лице посланца, Дмитрий Иванович смягчился:
— Ну хорошо, а как у вас получают члены технического совета?
— Они, как генералы, получают две тысячи рублей в год.
— Ну и мне, как генералу, две тысячи рублей.
Все это настолько не вязалось с инструкциями, которые чиновник получил от самого морского министра, что он решил действовать напрямик и назвать сумму, назначенную начальством, — 30 тысяч рублей в год.
— Нет, — отрезал Менделеев. — Две тысячи! Тридцать тысяч — это кабала, а две тысячи — тьфу, и уйду!
Эту угрозу ему пришлось привести в исполнение через четыре года, но за этот сравнительно короткий срок Менделеев сумел «выдумать порох», что всюду «считается делом важным, трудным и исключительным». Это достижение тем значительнее, что пороходелие никогда не страдало от недостатка талантов. В XVIII веке внесли свою лепту в изучение порохов знаменитый А. Лавуазье и К. Бертолле. В XIX веке целое созвездие профессоров украсило своими именами историю взрывчатых веществ: Ф. Абель и Дж. Дьюар в Англии, М. Бертло — во Франции, А. Собреро в Италии, Ч. Мунро — в Америке, И. Шимоза — в Японии. Самые удачливые и одаренные изобретатели приложили свои способности к изобретению порохов — А. Нобель, П. Вьель, X. Максим. «Принадлежа к числу ратников русской науки, я на склоне лет и сил не осмелился отказаться от разбора задач бездымного пороха» — так объяснял свое решение принять предложение морского ведомства профессор Менделеев.
Он начал с посещения английских и французских пороховых лабораторий — этих «дальнозорких орудий войны». Позднее увлекающиеся выдумщики сочинили целую легенду, по которой Менделеев, не получив от французов интересующие его сведения, придумал хитрый трюк. Изучив статистические сведения о грузах, перевозимых по железной дороге к одному из французских пороховых заводов, он будто бы разгадал секрет изготовляемого там бездымного пороха. В действительности все было гораздо прозаичнее и гораздо труднее. Внешняя политика России тогда уже твердо ориентировалась на Францию и Англию. Знаменитый профессор Менделеев был поэтому принят с доверием, приличествующим сложившейся обстановке. Французы не только посвятили его в суть дела, но даже официально вручили двухграммовый образец своего бездымного пороха.
Располагая крошечным кусочком пороха, Менделеев ухитрился сделать точный анализ и справился с задачей, которая оказалась не по силам изобретателю динамита А. Нобелю и группе германских химиков, «косвенным путем» добывших несколько килограммов французского пороха. После этого он тщательно изучил все, что можно было найти о бездымных порохах, получивших тогда распространение в Европе: порохах Вьеля и Максима, баллистите Нобеля, кордите Абеля и Дьюара. И уже первое впечатление, вынесенное из этого знакомства, не только чрезвычайно характерно для Менделеева, но и проливает свет на суть творческого метода нашего знаменитого химика.
Больше всего он остался недоволен отсутствием обобщений и теоретических соображений, которые бы вносили ясность и целенаправленность в поиски новых взрывчатых веществ. Его раздражала царящая, в пороходелии неуверенность, неопределенность, ожидание новых открытий. «Бездымных порохов придумали много, легко их получить еще множество», но где гарантии, что очередная новинка — наилучшее, оптимальное решение?
Порох Менделеева может считаться классическим образцом изобретения, сделанного на научной основе. Дмитрий Иванович отказывается от поисков вслепую и разрабатывает теорию идеального бездымного пороха.
Что такое взрывчатое вещество? Это твердая, жидкая или студенистая субстанция, способная более или менее стремительно разлагаться, прекращаясь в газ. Оно тем мощнее, чем больше объем газов, образующихся при таком разложении. Чтобы оценить силу взрывчатых веществ, Менделеев предложил характеристику — V 1000 — объем газов, образующихся при разложении тысячи весовых частей взрывчатого вещества.
Введение этого параметра сразу выявило главное направление для дальнейшего совершенствования бездымных порохов: при их разложении должны выделяться только газы, не разрушающие материала орудия. А это сводит количество элементов, пригодных для порохов, до четырех: водорода, азота, кислорода и углерода. Перебирая вещества, содержащие эти элементы, Менделеев постепенно развертывает свою мысль, внося ясность и порядок в пеструю сумятицу случайных находок и интуитивных открытий, царивших тогда в пороходелии.
Прежде всего он находит верхний теоретический предел для химических взрывчатых веществ: из них самым сильным был бы полимер водорода, если бы он мог существовать, ибо для него V 1000 равно рекордно большой величине — 1000! Такой же полимер для азота гораздо слабее: его V 1000 всего 71,4.
Из химических соединении простейшие взрывчатые вещества — соединения азота с водородом. И точно, азотистоводородная кислота — сильнейшая взрывчатка с V 1000 = 93, а ее аммиачная соль еще сильнее: V 1000 = 133,3. Однако эти материалы, говорит Менделеев, не годятся для бездымного пороха, ибо разлагаются не постепенно, а сразу всей массой: детонируют. Свойством же «последовательно гореть» обладают лишь смеси и соединения, содержащие одновременно горящие (водород, углерод) и сжигающие (кислород) элементы. В каких бы сочетаниях ни входили эти элементы в органические нитросоединения, V 1000 для таких материалов, по подсчетам Менделеева, не может быть меньше 71,4 и больше 111,1. Последовательно рассматривая затем целые классы нитросоединений, Дмитрий Иванович оценивает массу открытых к тому времени взрывчатых веществ и называет ряд материалов, которые, по его мнению, должны были быть, и оказались в действительности, хорошими взрывчатками. Но главного успеха на ниве пороходелия он достиг тогда, когда применил свои метод к исследованию нитроклетчатки.
С тех пор как в 1846 году германский химик X. Шенебейн обработал обычную вату смесью крепкой серной и азотной кислот и получил первые образцы нитроклетчатки, это вещество не давало покоя пороходелам, ибо при сильном ударе оно производило мощный взрыв. Однако все попытки приспособить для стрельбы пироксилин — так назвал Шенебейн это соединение — оканчивались неудачей. Пироксилин оказался бризантным — дробящим — взрывчатым веществом.
Столь непохожий на привычный черный порох, пироксилин привлек к себе внимание многих исследователей, которые в скором времени выяснили, что при нитровании клетчатки — ваты или других растительных волокон — получается неоднородный продукт. Часть ваты превращается в нитроклетчатку с малым содержанием азота; растворенная в смеси спирта и эфира, она образует отличный клей — коллодий. Другая часть содержит много азота — это собственно пироксилин, нерастворимый в спирто-эфирной смеси.
Французский инженер Вьель первым нашел способ превращения бризантного пироксилина в бездымный порох. Если обработанную серной и азотной кислотами вату опустить в спирто-эфирную смесь, коллодий растворится, а волокна пироксилина — нет. Высушив такую массу, нетрудно получить полупрозрачное роговидное вещество, в котором пироксилин более или менее равномерно перемешан с коллодием. Такое вещество горит по поверхности, без детонации, выделяя совершенно прозрачные газы.
«Секрет мой. Суть дела при получении пироколлодия: количество разбавляющей воды должно быть равно количеству воды гидратной». За эту запись, появившуюся в одной из рабочих тетрадей Менделеева, фабриканты взрывчатых веществ отдали бы миллионы. В одной фразе заключается секрет получения химически однородной нитроклетчатки. Погруженная в спирто-эфирную смесь, она полностью растворяется в ней, как коллодий, а по взрывной силе не уступает пироксилину. Поэтому Менделеев и назвал ее «пироколлодий» — огненный клей.
Если рыхлую, высушенную массу пироколлодия смешать с небольшим количеством спирто-эфирной смеси, он полностью растворяется в ней и превращается в однородную желеобразную массу. Высушив ее, Менделеев и получил свой знаменитый пироколлодийный порох, порох неизменного химического состава и совершенно однородный. Применив к новому пороху разработанную им теорию, Менделеев сделал еще одно важное открытие. До него считалось, что чем сильнее нитрована клетчатка, чем больше азота она содержит, тем выше ее взрывчатая сила. Дмитрий Иванович доказал, что это не так, что существует оптимальная промежуточная степень нитрации, при которой углерод, содержащийся в порохе, окисляется не в углекислый, а в угарный газ, дающий на единицу веса больший объем. И оказалось, что у пироколлодия как раз оптимальная степень нитрации!
Растворяясь в спирто-эфирной смеси, пироколлодий, однако, был совершенно нерастворим в чистом спирте, и это натолкнуло Менделеева еще на одно важное изобретение. Он предложил отказаться от традиционной сушки рыхлой влажной массы пироколлодия с помощью теплого воздуха в обычных сушильнях и заменить этот взрывоопасный процесс вымачиванием влажной массы в спирте, который жадно поглощает воду и таким образом высушивает пироколлодий. Это изобретение Менделеева было быстро принято во всем мире и надолго стало классическим технологическим приемом в пороходелии.
5 июня 1893 года впервые в мировой практике была произведена стрельба бездымным порохом из 12-дюймовых морских орудии. И это важное событие подвело итог испытаниям, показавшим: пироколлодийный порох равно применим и в ружьях, и в пушках любых калибров. После поздравительных телеграмм адмирала С. Макарова Менделеев счел свое дело законченным. «Никто не осмелится сказать, — писал он позднее, — что мы лишь слепые подражатели; всякий выстрел пироколлодийным порохом будет говорить, что русская наука доросла до самостоятельности на благо родине и для укрепления мира. Это и одушевляло усилия Научно-технической лаборатории, потому что деятели этого учреждения, набранные из служителей русской науки, проникнуты убеждением, что посев научный взойдет на пользу народную».
К началу 1893 года научные проблемы изготовления пироколлодийного пороха были разрешены, и на повестку дня встал вопрос о заводском производство нового взрывчатого вещества. Для этого Дмитрий Иванович с несколькими сотрудниками научно-техническом лаборатории был летом 1893 года командирован на Бондюжский завод к своему старому другу П. Ушкову, который, согласился изготовить по заказу морского ведомства первую крупную партию пироколлодия с тем, чтобы выяснить экономические и технические стороны заводского производства этого вида нитроклетчатки.
Буквально за несколько дней до отъезда в Елабугу к Ушкову Менделеев узнал, что Главное артиллерийское управление военного министерства, заинтересованное в бездымном порохе для вооружения армии, обратилось к морскому ведомству с просьбой передать ему на испытание образцы пироколлодийного пороха и технические условии на его изготовление. Морской министр адмирал Н. Чихачев удовлетворил эту просьбу, и в конце 1893 года Охтенским пороховым заводам, принадлежавшим военному ведомству и с 1880 года изготовлявшим обычный пироксилин, были переданы образцы пироколлодийного пороха и часть документации. А 29 января 1894 года Дмитрий Иванович с изумлением, переходящим в возмущение, читал «Журнал комиссии, образованной по приказанию начальника Охтенских пороховых заводов для рассмотрения докладной записки профессора Менделеева».
Подписавшие этот журнал капитаны и штабс-капитаны, самые имена которых давно уже канули в Лету, снисходительно признавали заслугу Менделеева в том, что он придумал новое название вещам, давно уже известным охтенским умельцам. «Охтенские пороховые заводы с самого начала стремились к приготовлению растворимого пироксилина, близкого к тому, который профессор Менделеев называет пироколлодием, и в настоящее время вполне владеют способами приготовления пироксилина, совершенно тождественного с пироколлодием…»
«Что касается собственно до способа фабрикации пороха из пироколлодия… то этот способ должен быть всецело приписан охтенским пороховым заводам…»
«Что же касается до сушки спиртом, то идея этого способа принадлежит оберфейерверкеру Охтенских пороховых заводов Захарову, который еще в 1891 году предложил сушить пироксилин спиртом… Б настоящее время способ этот, без всяких указании со стороны профессора Менделеева, изучен во всех деталях Охтенскими… пороховыми заводами…»
«В Записке приведены… соображения экономические. По поводу этих соображении можно сказать, что все они основаны не на опыте, а на предположениях, не имеющих практической подкладки».
Журнал оказался последней каплей, переполнившей чашу менделеевского терпения. 4 февраля 1894 года он написал подробное письмо Чихачеву, где шаг за шагом с указанием точных дат и обстоятельств изложил историю разработки пироколлодийного пороха. Особенно подробно он остановился на степени причастности к этим разработкам охтенских умельцев, которые, как явствовало из журнала, не различали обычной растворимой нитроклетчатки — коллодия — от менделеевского пироколлодия и которые умолчали о том, что впервые услышали о сушке пироксилина спиртом в 1800 году от самого Менделеева.
«Не свой приоритет имею в виду ныне, — писал Дмитрий Иванович, — он мне уже перестал быть дорогим, когда в этом деле русской пользы я встречаю лишь затруднения разного рода, я имею в виду успех перевооружения, зная, что то, что найдено и совершенно изучено нами, легко может под влиянием происходящих пререканий, в руках людей менее осведомленных, повести к множеству напрасного труда и разных погрешностей…»
Несколько лет спустя он так объяснял свой уход с поста консультанта морского министерства в 1895 году: «Сделав свое посильное дело, оставил и самую службу по этому делу, когда убедился в невозможности избежать дрязг при расширении дела от тысячепудового — в год — производства к 10-ти и 100-тысячному». Но, кроме этих неприятностей, кроме того, что не милы были менделеевскому сердцу «все эти взрывные дела», было еще одно обстоятельство, побудившее его ускорить уход из научно-технической лаборатории.
Слухи о том, что Менделеев навсегда оставил университет, распространились по Петербургу с быстротой молнии, и, быть может, никого они не обрадовали так, как министра финансов И. Вышнеградского. Еще по совместной учебе в Главном педагогическом институте он знал Дмитрия Ивановича как человека, для которого не существует невозможного. В этом он неоднократно убеждался впоследствии, получая от Менделеева решения самых разнообразных, самых головоломных и самых неожиданных задач, с которыми ему, Вышнеградскому, доводилось сталкиваться в многотрудном министерском ремесле и которые он поручал Дмитрию Ивановичу. В 1890-х годах министра финансов очень беспокоило дело, постановка которого — он ясно это видел — далеко не соответствовала той роли, которую начинала играть Россия на мировой арене.
Центральным учреждением, долженствующим ведать мерами и весами в империи, считалось Депо образцовых мер и весов, а высшим авторитетом в этих вопросах — ученый хранитель мер и весов. И уже музейный характер самих терминов — депо, хранитель — давал ясное представление о состоянии русской метрологии. Действительно, научная сторона дела развивалась сама по себе, а гигантское хозяйство России с ее непрерывно возраставшими торговыми оборотами развивалось тоже само по себе. И хотя ученые-хранители, возглавлявшие депо, — академик А. Купфер и генерал В. Глухов — достигли выдающихся для своего времени успехов в точных измерениях, эти успехи никак не отразились в упорядочении и выверке аршинов, фунтов, ведер, пудов, обращающихся в стране.
Вышнеградский понимал, что во главе центрального метрологического учреждения такой страны, какова Россия, должен стоять крупный ученый, и, как никому другому, министру было ясно: во всей России не сыскать человека, который более подходил для этой роли, чем Менделеев. В метрологии в один узел сплелись все проблемы, для изучения которых в Менделееве как будто специально было подобраны необходимые таланты. Здесь требовалась и его любовь к тонким измерениям, и к точным расчетам, и к придумыванию новых приборов. Метрология давала пищу для размышлений философскому уму Менделеева. Метрология отвечала насущнейшим нуждам любимой Менделеевым промышленности и техники. Метрология, наконец, давала простор для организаторских талантов Менделеева. Поэтому в 1892 году, оставаясь консультантом научно-технической лаборатории, он с готовностью принял предложение Вышнеградского не только возглавить Депо образцовых мер и весов, но и разработать комплекс мероприятий, необходимых для преобразования депо в метрологическое учреждение нового типа.
В 1893 году с Вышнеградским случился удар, и его на посту министра финансов сменил С. Витте. «Я не либерал и не консерватор, — любил говорить о себе новый министр, — я просто культурный человек». Будучи монархистом до мозга костей, Витте, как крупный государственный деятель, как хитрый и тонкий политик, понимал, какими грозными последствиями для царизма может обернуться «порядок вещей, при котором великая нация находится в вечных экспериментах эгоистической дворцовой камарильи». Попав в Петербург из провинции и не имея никакой поддержки со стороны этой самой камарильи, Витте был вынужден искать толковых, знающих дело людей, на которых он мог бы опереться.
«Я, конечно, не мог не оцепить того обстоятельства, — вспоминал он, — что управляющим… палатой мер и весов состоит такой выдающийся ученый, как Менделеев. Поэтому как самому Менделееву, так и учреждению, находящемуся в его ведении, я оказывал всяческую поддержку. Мне удалось поставить это учреждение на ноги, конечно, благодаря только Менделееву, так как я сам в научную часть этого дела не вмешивался и не мог вмешиваться по неимению надлежащих для этого познаний». И действительно, летом 1893 года Депо образцовых мер и весов было по представлению Витте преобразовано в Главную Палату мер и весов, а Менделеев из ученого хранителя сделался управляющим Главной Палатой, обязанности которого очень скоро настолько поглотили его внимание, что он счел невозможным для себя оставаться консультантом научно-технической лаборатории морского министерства.
На Парижской выставке 1867 года павильон с образцами мер, весов и монет, обращавшихся в разных странах, занимал место в буквальном смысле слова центральное. Он находился в самом центре выставочного здания, там, где перекрещивались пути, ведущие от экспозиций разных стран. И хотя этот круглый, сделанный наподобие храма обширный павильон был битком набит экспонатами, многие посетители отмечали, что в нем собраны далеко не все меры, весы и монеты, имевшие тогда хождение в странах Европы и Америки. В сущности, одна только Германия могла бы легко заполнить этот павильон, если бы решила выставить все те локти, футы, фунты, граны, ведра, которые были в ходу в многочисленных германских княжествах и королевствах.
Менделеев осматривал выставку спустя полтора года после защиты докторской диссертации, и в его памяти еще свежи были воспоминания о кропотливой и долгой работе по приведению к единообразию всех данных по алкоголометрии, полученных разными исследователями в разных странах. И в его представлении павильон с разнокалиберными эталонами, находившийся на перекрестке путей, связывающих экспозиции различных стран, стал как бы символом тех препятствии, на которые натыкалось международное сотрудничество в науке, в промышленности и в торговле из-за отсутствия единой для всего мира системы мер и весов.
Мысль эта настолько поразила тогда Дмитрия Ивановича, что на первом съезде русских естествоиспытателей, начавшемся в конце того же 1867 года в Петербурге, он счел необходимым выступить с «Заявлением о метрической, системе».
«Число, выраженное десятичным знаком, — говорил он, — прочтет и немец, и русский, и араб, и янки одинаково, но живое значение цифр для них чересчур разнообразно… Так, фунт неодинаков — английский, рейнский, венский, валахский, испанский, китайский, даже и рижский, ревельский, курляндский. Давно стремятся установить однообразие в этом отношении… Система, пригодная для этой цели, должна быть прежде всего десятичною, потом вес меры в ней должны одна от другой происходить… Такова метрическая система, составленная во времена первой республики французскими и иностранными учеными».
Указав, что метрическая система уже принята Францией, Бельгией, Голландией, Испанией, Италией, Португалией, Грецией, Мексикой, Чили, Бразилией и другими республиками Южной Америки, Дмитрий Иванович выразил уверенность в том, что и Россия рано или поздно последует их примеру. Поэтому он призвал участников съезда широко применять метрическую систему в своих научных исследованиях и всячески пропагандировать ее в своей педагогической деятельности. Но тридцать лет спустя, когда его мнение о достоинствах той или иной системы мер и весов было в России, по сути дела, решающим, он высказывался в пользу метрической системы уже не так категорично, как в молодости. «Я великий поклонник метрической системы, — писал он в 1896 году, — но еще больший поклонник русского народа и его исторических условий… Я знаю, что казенное ведомство может очень легко приказать циркуляром такую-то систему употреблять. Но дело в том, как вот народ к этому отнесется».
Занявшись в 1892 году метрологией по долгу службы, изучив историю дела, вникнув в достоинства и недостатки различных систем, Дмитрий Иванович понял, что введение новой системы мер и весов — вопрос не только научный и технический, но и экономический, политический и даже дипломатический. В наши дни, когда мы привычно произносим «килограмм», «сантиметр», «литр», трудно представить себе те мучительные, драматические обстоятельства, в которых рождалась метрическая система.
XVIII век, устами энциклопедистов кичливо провозгласивший себя веком разума, остался верен себе даже в выработке системы мер и весов. Обычай королей давать подданным эталоны, исходя из длины своей ступни или локтя, был смешон рационалистам XVIII столетия. Они считали, что система должна быть естественной, то есть построенной на единице, взятой из природы. Скажем, почему бы за единицу длины не принять, длину секундного маятника — маятника, период одного колебания которого равен одной секунде? Именно такой принцип установления системы мер предлагал в XVII веке голландский ученый X. Гюйгенс — великий знаток маятников. Его современник француз Г. Мутон предлагал другую естественную единицу — часть дуги меридиана с разбивкой ее на десятые, сотые, тысячные и т. д. доли. Именно эти две идеи были предложены Национальному собранию революционной Франции.
Поначалу дело клонилось к выбору секундного маятника, но к 1790 году уже было известно, что период колебания такого маятника зависит от географической широты, на которой он находится, от формы земного шара и некоторых других трудно учитываемых факторов. Поэтому в конечном итоге выбор комиссии Французской академии наук остановился на предложении Мутона. 26 марта 1791 года Национальное собрание, считая, что единственный способ распространить универсальную систему мер и весов среди других нации — «это избрать единицу, которая в своем определении не содержала бы ничего произвольного к ничего говорящего об особом положении какого-либо народа на земном шаре», постановило отправить научную экспедицию для измерения части дуги парижского меридиана между Дюнкерком и Барселоной.
Пока крупнейшие математики и астрономы сооружали приборы и производили геодезические съемки на уже охваченных войной территориях, хозяйство и торговля Франции задыхались от неурядиц с мерами и весами и готовы были согласиться на принятие любых, самых произвольных мер емкости и поверхности, лишь бы они были едиными для всей страны. 1 августа 1793 года в Конвенте проходит декрет о метрической системе, в котором невнятно и глухо говорится о ее теоретических достоинствах, главный же упор делается на то, что она призвана сплотить Францию в единое целое, положить конец спекуляции на старых мерах и уничтожить «ненавистные остатки тирании». Система была в теории разработана очень логично. За единицу длины принимался метр — одна сорокамиллионная часть парижского меридиана. За единицу массы — килограмм — масса одного кубического дециметра дистиллированной воды при 4 градусах Цельсия и при взвешивании в вакууме.
Но, увы, под декретом Национального собрания не было прочного фундамента практической подготовки, не было системы эталонов, не было кадров квалифицированных поверителей и нужного количества точных приборов. Лишь к 1799 году изготовленные платиновые прототипы метра и килограмма утверждены в качестве основных эталонов и сданы в архив на хранение. И хотя завершение всей этой гигантской работы было увенчано гордым девизом «На все времена и для всех народов», не только другие народы, но и сами французы не очень-то торопились принять метрическую систему, которая в скором времени оказалась почти забытой. Надо сказать откровенно, причина такого забвения крылась не только в практических трудностях введения новой системы в повседневную жизнь. Теоретические достоинства, обещанные ее учредителями, оказались в принципе недостижимыми. Так, германский математик Ф. Бессель обнаружил ошибку, допущенную при обработке градусных измерений 1790–1793 годов: длина одной четверти парижского меридиана оказалась равной не 10000000 архивных метров, а 10002286! Это заявление Бесселя вдруг обнаружило те подводные камин, которые таились в «естественности» метрической системы. Ведь по мере возрастания точности геодезических измерений в «естественной» системе необходимо каждый раз заново переделывать все прототипы и вносить неразбериху в промышленность и хозяйство. А если не делать этого и принять архивный метр и килограмм за основные единицы, то от «естественности» системы не оставалось и следа и архивный метр оказывался ничем в принципе не примечательнее мерки, снятой с королевской ступни или локтя.
Далее, предоставив Франции исключительное право хранения архивного метра и килограмма, учредители метрической системы ставили другие страны в зависимость от их дипломатических отношений с Францией. Государства, желающие изготовить точные копии с прототипов для потребностей науки и промышленности, должны были производить сравнения либо через французских чиновников, либо посылать своих ученых с громоздким измерительным оборудованием в Париж. Наконец, неудачным оказался и выбор мягкой, легко стирающейся платины для изготовления эталонов.
Но к 1860-м годам потребность в единой, пускай и не «естественной», системе мер и весов в большинстве стран ощущалась уже так остро, что этот вопрос снова и снова ставится на повестку дня, и внимание ученых снова и снова обращается к метрической системе, обладающей колоссальным достоинством — десятичным делением… На Парижской выставке 1857 года впервые собралась комиссия по мерам и весам, в которую вошли представители от разных наций, и петербургский академик Б. Якоби предложил создать постоянное, прочно поставленное международное бюро для сравнения мер, содержащееся на средства всех стран-участниц. В 1872 году в Париже собралась международная конференция, постановившая создать комиссию, которая должна была изготовить прототипы метра и килограмма как для Международного бюро мер и весов, так и сличенные с ними копии для всех стран-участниц. С 1 января 1876 года в Париже начало функционировать такое бюро, а международная комиссия приступила к долгой и кропотливой работе создания прототипов.
Эталоны метрической системы пришлось изготовлять в консервативной Англии, которая и до сих пор отказывается заменить свои ярды и фунты на метры и килограммы. Искусные мастера фирмы «Джонсон, Маттен и К°» по методу французского химика А. Сент-Клер-Девилля изготовили более твердый и прочный, чем платина, сплав из 90 процентов платины и 10 процентов иридия; сделали из него цилиндры и линейки икс-образного сечения и передали ученым для сличения их с архивными прототипами и между собой. К сентябрю 1889 года 34 эталона метра и 43 эталона килограмма были готовы. Из них один эталон метра и один эталон килограмма были узаконены в качестве международных прототипов, и вместе с двумя контрольными к каждому из них были помещены в подвалах Бретейльского павильона в Сен-Клу близ Парижа, где разместилось Международное бюро мер и весов. Остальные прототипы были разосланы в разные страны в качестве национальных эталонов.
Хотя Россия подписала метрическую конвенцию и получила по жеребьевке причитающиеся ей платино-иридиевые эталоны метра — № 11 и № 28 — и килограмма — № 12, — мысль о переходе страны на метрическую систему никто всерьез не воспринимал. И когда и 1892 году Менделеев приступил к разбору перешедшего в его распоряжение хозяйства, он ясно понял, почему невозможен этот переход.
От внимания Менделеева не ускользнуло то обстоятельство, что метрическую систему с готовностью приняли страны со сравнительно малым объемом промышленного и сельскохозяйственного производства. Крупные же державы — Англия, США, Россия, хотя и участвовали в работе международных конференций и комиссии, но воздерживались от ее обязательного немедленного применении. Секрет этого упорства прост: в силу ряда причин эти страны разработали свои собственные системы мер и весов задолго до того, как метрическая система твердо стала на ноги. И к 1890 году во всем мире на серьезной научной основе были разработаны три системы: метрическая, английская и русская.
В основе русской системы лежала сажень, разделенная на 3 аршина, или 48 вершков, и фунт, разделенный на 96 золотников. Причем именным указом Петра I русская система была связана с английской тем, что одна сажень должна была быть равна точно 7 английским футам. Все это очень ясно и просто выглядело в теории, но какой разительный контраст теории являла практика отечественной метрологии.
На протяжении столетий охранение верности мер и весов возлагалось на духовенство. Потом оно перешло к приказам, а после преобразования последних в коллегии — к коллегиям. Первая попытка централизации поверочного дела была предпринята еще в царствование Анны Иоанновны; особый комитет, учрежденный для этой цели в 1747 году, изготовил образцовый русский фунт и определил нормальную величину аршина. Но дальше этого дело не пошло, изготовление всех вообще мер было передано казенным чугунолитейным заводам, которые сами выверяли и клеймили эти меры. Лишь в 1827 году комиссия образцовых мер и весов, возглавляемая крупным метрологом академиком А. Купфером, приступила к разработке системы российских мер. Установив в качестве основных мер сажень, фунт, ведро и четверик, Купфер изготовил и соответствующие прототипы: платиновый фунт, тщательно сверенный с фунтом 1747 года, сажень, ведро и четверик. 11 октября 1835 года разработанная комиссией система мер была узаконена и было учреждено Депо образцовых мер и весов, для которого неподалеку от Монетного двора в Петропавловской крепости в 1841 году было выстроено особое здание.
В 1865 году после смерти Купфера депо возглавил генерал В. Глухов, при котором для депо в 1879 году было выстроено новое здание на Забалканском проспекте. Это здание было хорошо приспособлено для метрологических работ: оно было удалено от ближайшей улицы на 46 саженей, и в нем были сделаны для установки точных приборов каменные устои, покоившиеся на сваях, забитых в землю до твердого грунта, и отделенные от окружающей почвы глубокими и широкими рвами. Центральные помещения депо были термоконстантными — перепады температуры в них не превышали 0,1–0,2 градуса Цельсия. И тем не менее, несмотря на многие достижения предшественников, Дмитрия Ивановича не могла не поразить запущенность дел в центральном метрологическом учреждении страны.
Прежде всего выяснилось, что золоченый фунт Монетного двора, изготовленный в 1747 году, утерян. Две его копии, изготовленные академиком А. Купфером из медного сплава, оказались в весьма плохом состоянии. Правда, платиновый купферовский прототип, бережно хранящийся в плотном латунном футляре, выложенном внутри плюшем, представлял все гарантии своей полной неизменности. Но, наготовленный в начале века, когда еще не умели плавить сразу большие количества платины, он был неоднороден по плотности, и даже на поверхности его было немало мелких раковин, в которые могла набиваться пыль. Что касается прототипов сажени, то Купфер изготовил их целых шесть в виде шести платиновых полос, вложенных в прорези на поверхности медного цилиндра. Но, не говоря уже о том, что ни одна из этих полос не была выбрана в качестве основного прототипа и что из-за чрезмерной длины они были неудобны в пользовании, условия храпения этих прототипов вызывали сомнения в их полной неизменности с 1835 года.
Постепенно, по мере разбора имущества, доставшегося от предшественников, в голове Дмитрия: Ивановича складывался план грандиозной программы работ, которые должны были пронизать всю народнохозяйственную жизнь страны. И начинать эту работу надлежало с создания русской системы эталонов.
«…Я считаю своим первым долгом, — писал он в 1893 году директору департамента торговли и мануфактур В. Ковалевскому, — заявить о том, что основные прототипы мер и весов империи требуют немедленного возобновления для приведения их в состояние возможно прочной неизменности. Для сего следует: 1) Изготовить новые образцы прототипов фунта и аршина и хранить оные вне применения, т. е. пользоваться ими лишь весьма редко и при соблюдении особых, нарочито указуемых, предосторожностей; 2) новые прототипы привести в полное возможное согласие с ныне узаконенными и 3) устроить узаконенные копии прототипов, коими пользоваться при установлении единства мер и веса в Империи».
Осуществление предложенных Дмитрием Ивановичем работ заняло целых семь лет его жизни.
У елгавской гимназии, учрежденной в 1775 году, есть свои исключительные заслуги перед русской метрологией. Здесь с самого основания преподавал математику В. Бейтлер, известный своими работами по землемерному делу. Здесь позднее служил М. Паукер, удостоенный в 1832 году Демидовской премии за фундаментальное исследование системы русских мер. Здесь у Паукера учился будущий академик и первый ученый хранитель образцовых мер и весов А. Купфер. Поэтому, узнав, что сотрудник профессора Н. Егорова по физической лаборатории Военно-медицинской академии Ф. Блумбах — выпускник елгавской гимназии, Менделеев пришел в восторг. Он давно уже обратил внимание на отличную научную подготовку и работоспособность Блумбаха. И теперь его, если так можно выразиться, «научное происхождение» окончательно убедило Дмитрия Ивановича: он нашел наконец то, что искал. А искал он человека, который был бы сведущ в металлургии, физике, химии, математике; который знал бы английский язык; который мог бы придирчиво и критически оценивать работу самых прославленных специалистов. Короче говоря, он искал человека, способного с талантом и тактом представлять Главную Палату мер и весов в фирме «Джонсон, Маттен и К°».
«Эта фирма выполнила все килограммы и метры для Международного бюро и, несмотря на массу представившихся трудностей, все это дело довела столь счастливо до конца, что Международная метрическая комиссия многократно публично высказывала ей признательность в своих постановлениях, — писал Дмитрий Иванович в отчете о ходе работ по возобновлению прототипов. — С декабря 1893 года Ф. И. Блумбах отправился в Лондон. Там он избрал из предложенных ему мер длины лучшие, а для гирь пришлось совершать неоднократную переплавку. К апрелю 1894 года в первой грубой отделке были готовы все прототипы, и следовало озаботиться об их дальнейшей обработке и окончательном выполнении». Для выполнения этих операций в апреле 1894 года министерство финансов командировало Дмитрия Ивановича в Англию.
Эта страна, ее обычаи, ее народ и особенно ее ученые всегда правились Дмитрию Ивановичу: «Хотя я не англофил, сколько себя понимаю», — оговаривался он. «Читая французские или немецкие химические исследования последнего времени, — писал Дмитрий Иванович в 1893 году, — всегда слышишь как бы уже знакомый голос, а свежую мысль, новый ее оборот чаще всего встречаешь у английских исследователей, чутких при этом ко всему свободному и самостоятельному… Мои личные воззрения в химических вопросах наиболее склоняются в ту сторону, в которой находятся английские, если можно разбирать в научных вопросах народные оттенки».
Англичанам с их умением ценить в людях оригинальность тоже глубоко импонировала своеобычная личность Менделеева. «Менделеев… был лично знаком со многими английскими химиками, для которых он всегда оставался желанным гостем, — писал профессор Торпе. — Его высокая внушительная фигура, красивая голова с длинными густыми волосами, его выразительные черты, гортанный голос, мудрая и оригинальная речь, проницательность и чувство юмора — все характеризовало его как сильную и необычную личность, и его присутствие было сразу ощутимо в любой компании. Менделеев обладал широкими либеральными взглядами и, несмотря на врожденную скромность, пользовался большим влиянием…
Каждая научная почесть, которую может оказать Англия, была Менделееву оказана, и он был глубоко тронут и благодарен за симпатию и оценку его заслуг».
В начале 1889 года Дмитрий Иванович получил письмо из Лондона. Британский королевский институт приглашал профессора Менделеева в одну из пятниц мая — июня 1889 года прочесть лекцию на тему, которую он сам выберет…
«Попытка приложения к химии одного из естественных начал философии Ньютона» — так решил назвать свою лекцию Дмитрий Иванович, с готовностью принявший предложение «вообще редкое и исключительное, а для русского ученого, если не ошибаюсь, даже первое». Едва лишь он успел отправить свой ответ, как из Лондона пришло новое приглашение: Британское химическое общество просило Дмитрия Ивановича в июне 1889 года прочитать «Фарадеевскую лекцию».
С тех пор как умер Фарадей, английское химическое общество, старейшее из всех химических обществ мира, время от времени устраивает собрания в память его великого имени. Центральным пунктом этих собраний считаются так называемые «Фарадеевские лекции», для прочтения которых приглашаются крупнейшие специалисты. До Дмитрия Ивановича фарадеевскими чтецами побывали лишь французы Ж. Дюма и А. Вюрц, итальянец С. Канниццаро и немец Г, Гельмгольц. «Призыв быть между чтецами «Faraday Lecture», — писал позднее Менделеев, — глубочайшим образом затронул меня не ради личного, но ради русского имени, которому выпала доля Международной научной почести». И, быть может, именно поэтому для Фарадеевского чтения он выбрал дорогую его сердцу «Периодическую законность химических элементов».
На эти чтения Дмитрий Иванович был приглашен с женой, и Анна Ивановна позднее составила свои непритязательные воспоминания о том, как все происходило. «Аудитория, в которой происходила лекция, очень велика. Кафедра лектора на высоте подмостков. Из дверей vis-a-vis к публике первым выходит президент… под руку с женой лектора; он ведет ее к центральному креслу в первом ряду и занимает место рядом с ней; за ним идет лектор с ассистентом. С Дмитрием Ивановичем шел Дьюар. Они взошли на возвышение, и Дьюар, став рядом с Дмитрием Ивановичем, начал чтение. После окончания лекции… выступил президент сэр Фридрих Абель с приветственной речью. Дмитрию Ивановичу предложили отвечать по-русски, и впервые стены Королевского института услышали настоящую русскую речь. Взволнованный Дмитрий Иванович был очень хорош со своим одухотворенным, вдохновенным выражением лица… По выражению присутствующих лиц, живости их оваций и привета, я думаю, что и все они поддались обаянию этого совершенно чужого для них человека».
Внезапное известие об опасной болезни малолетнего сына побудило супругов поспешно оставить Лондон, поэтому чтение в химическом обществе состоялось без Дмитрия Ивановича. Открывая торжества, председатель объяснил собравшимся причину внезапного отъезда лектора, и собрание тут же постановило: послать Дмитрию Ивановичу привет и выразить сочувствие в связи с постигшим его горестным событием. После того, как профессор Г. Армстронг зачитал лекцию, и после того, как выступили с речами Э. Франкланд и Ф. Абель, Г. Армстронгу была вручена для передачи Менделееву Фарадеевская медаль.
А через некоторое время выяснилось одно обстоятельство, которое очень озадачило руководителей химического общества. Казначей общества профессор Т. Торпе должен был еще до лекции передать Дмитрию Ивановичу причитающийся по уставу гонорар. «Деньги были вручены Менделееву в небольшом шелковом кошельке, вышитом русскими национальными цветами, — рассказывал коллегам казначеи. — Он остался очень доволен кошельком, особенно когда узнал, что это ручная работа одной леди, которая будет присутствовать на лекции, и заявил, что будет им пользоваться; однако высыпал соверены на стол, заявив, что никто не побудит его принять деньги от Общества, которое оказало ему высочайшую почесть, пригласив его почтить память Фарадея в месте, освященном его работами».
Сообщение казначея повергло руководителей общества в то мучительное состояние, причиной которого было невыполнение устава, гласящего: раз лекция прочитана, гонорар должен быть выплачен. Выход в конце концов нашелся. Было решено от имени общества послать Дмитрию Ивановичу подарок — кубок из самых драгоценных в то время металлов — золота и алюминия.
В 1894 году Оксфордский университет присудил Менделееву степень почетного доктора права, и он должен был быть официально возведен в почетную степень. Возведение состоялось 8 нюня 1894 года в библиотеке Оксфордского университета. Миссис Одлинг, жена Одлинга, у которых остановились Менделеевы, сидевшая вместе с Анной Ивановной довольно высоко в амфитеатре, деликатно предупредила, чтобы та не смущалась, если студенты будут кричать что-нибудь в адрес Дмитрия Ивановича. Такова традиция, объяснила она. В этот день студенты пользуются особой свободой. Обычно они поджидают момент, когда возводимый в степень ученый, выслушав обращенную к нему речь президента, подходит, чтобы получить из его рук свой диплом. Вот тут-то и летят в его адрес шуточки студентов. Досталось всем новоиспеченным докторам прав и на этот раз. Но вот идет Дмитрий Иванович. «Его необыкновенная голова, — вспоминала Анна Ивановна, — серьезное лицо, которому так шел средневековый костюм, вдруг произвели в остроумии и игривости студентов осечку, и он получил после сказанного ему президентом приветствия свои диплом при полном молчании ничем не нарушенной торжественной минуты…»
Еще до оксфордских торжеств стало известно: вслед за Оксфордским университетом избрал Дмитрия Ивановича почетным доктором прав и Кембриджский университет. Вся Англия была поражена этим известием, ибо из-за давнего соперничества между Оксфордом и Кембриджем установилось неписаное правило: человек, получивший степень в одном из этих университетов, навсегда лишался возможности получить ее в другом.
Вместе с Дмитрием Ивановичем в почетную степень доктора прав Кембриджского университета возводился и герцог Йоркский, который спустя 16 лет стал английским королем Георгом V. Когда он получал свой диплом, студенты кричали ему: «Ну, здравствуй, новый папаша!» (у герцога тогда только что родился сын) и «Посмотрим, каким-то ты будешь королем!» Когда за дипломом подошел Дмитрий Иванович и президент обратился к нему с речью, которая всегда говорится на латыни, кто-то из студентов крикнул: «Да будет вам, сэр, довольно латыни, говорите по-английски!»
Как ни милы, как ни деликатны были англичане, как ни дорожил Дмитрий Иванович оказанными ему почестями, жизнь вне России, вне дома не могла не стеснять его натуры. Когда поезд тронулся и Менделеевы вместо с Ф. Блумбахом остались в купе одни, Дмитрий Иванович разошелся. «Он бросался на диван, — пишет Анна Ивановна, — раскидывался, вскакивал, опять бросался на диван, наконец схватил из кармана какие-то мелкие английские деньги, сколько попало в руку, и вдруг выбросил их в окно, так ему нужно было отвести душу в каком-нибудь нелепом, не предписанном правилами поступке».
Восхищение англичан личностью Менделеева проливает свет на ту рекордную быстроту, с которой ему удалось восстановить русские прототипы. В самом деле, после пожара 1834 года англичанам понадобилось 24 года на возобновление национальных прототипов. А возобновление метрических прототипов для Международного бюро мер и весов потребовало 17 лет. Дмитрию же Ивановичу удалось возобновить русские прототипы всего за 6 лет. И секрет этой быстроты заключался не только в том, что сам Менделеев был прирожденным метрологом, что он смог привлечь к себе талантливых и преданных метрологическому делу сотрудников, но и в огромном обаянии менделеевского имени.
Весной 1894 года проездом в Лондон он заехал в Париж и исподволь навел справки о фирмах, которым можно было бы поручить окончательную отделку прототипов и нанести деления на прототипы длины. «Я пришел к заключению, — писал потом он, — что наилучшего результата можно было ждать от всемирно и давно известного лондонского ученого и мастера г-на Симмса… Узнав наши желания и приняв во внимание важную метрологическую цель предлагаемой работы, Г. Симмс, несмотря на свои преклонные годы и массу других заказов… взялся сам лично выполнить все требуемое».
Считая за честь оказать услугу Менделееву, Симмс просил оплатить только материалы и те работы, которые делали другие мастера его фирмы. Что же касается личной работы, то, как он сказал Дмитрию Ивановичу, он не желает брать за нее никаких денег, ибо ему довольно того, что ее оценит такой высокоуважаемый специалист, как Менделеев. Руководитель департамента стандартов — главного метрологического учреждения Англии — Г. Ченей предоставил в распоряжение Менделеева и Блумбаха все средства и все оборудование департамента и все свои знания и опыт. Сотрудники же Ченея с готовностью исполняли каждую просьбу работавших в департаменте русских метрологов. «С Ченеем и Блумбахом в Лондоне определял длину аршина, — писал потом Дмитрий Иванович в биографических заметках. — Отвезли прототипы. Симмсу и Ченею выхлопотал подарки от государя».
Эталоны веса — платино-иридиевые прототипы фунта, изготовленные начерно фирмой «Джонсон, Маттен», Менделеев передал известному лондонскому мастеру Эртлингу с тем, чтобы тот их обточил, отшлифовал и отполировал, оставив избыток веса в каждой из четырех гирь для окончательной пригонки. Работы эти были почти закончены ко времени его отъезда из Лондона, поэтому большую часть гирь Дмитрий Иванович взял уже с собою для того, чтобы труднейшую часть работы — окончательную отделку и выверку — произвести в самой палате. В Петербурге тем временем дела шли полным ходом. В феврале 1895 года из Вены были получены эталонные весы фирмы «Рупрехт» — точно такие же, какие были установлены в Международном бюро мер к весов в Париже.
Для весовой комнаты освободили одно из центральных помещений главного этажа; провели электрическое освещение от аккумуляторов, так как дневного света в таком замкнутом со всех сторон помещении не было. Благодаря массивным стенам и коридорам температура в помещении отличалась зимой и летом замечательным постоянством. Наблюдатель помещался в четырех метрах от весов за глухим теплоизолирующим экраном, в котором были сделаны отверстия для штанг, зрительных труб и шкал, уплотненные замшей. Гири устанавливались на чашках весов с помощью длинных штанг. Окончательное взвешивание производилось каждый раз лишь на другой день после установки гирь на чашках весов. Одновременно с помощью зрительных труб считывались показания точного термометра, психрометра и барометра, необходимые для вычислении удельного веса воздуха при приведении веса гирь к пустоте.
В результате точность взвешивания в палате в 1895 году достигла рекордной величины — тысячных долей миллиграмма при весе в 1 килограмм. Чтобы наглядно представить себе, что означает такая точность, Дмитрий Иванович приводил такой пример: при взвешивании 1 миллиона рублей в золотых монетах погрешность составила бы всего одну десятую долю копейки. «Такая погоня за всею возможною точностью может с первого взгляда показаться преувеличенною и в некоторой степени излишнею, — писал Менделеев. — При этом мы должны обратить внимание на следующее: прототип фунта употребляется лишь для выверки основных копий. С этими основными копиями сличаются рабочие копии для Главной Палаты мер и весов; с этими последними копии первого разряда для поверочных палаток торговых мер и весов, с перворазрядными копиями сличаются копии второразрядные и, наконец, с последними уже обиходные торговые меры. При такой цепи сличений, ошибка исходного прототипа может суммироваться и повлечь за собою уже заметную погрешность даже и в торговых мерах, тем более что и погрешность взвешивания по мере удаления от прототипа увеличивается примерно раз в пять при каждом переходе».
Достижения Главной Палаты в области сверхточного взвешивания основывались на знаменитом менделеевском исследовании колебания весов. Чисто метрологическая задача побудила его взяться за изучение этого вопроса. И оказалось, что в трудах даже выдающихся механикой содержится множество принятых на веру мнений. Рассеять эти заблуждения ему удалось замечательным экспериментальным исследованием «О колебании весов», о котором он с гордостью писал: «Много я тут работал и вложил души…»
В том же 1895 году, находясь в Петербурге, Ф. Блумбах, разговаривая по телефону, услышал ясно доносившееся откуда-то тиканье часов. Ему не составило особого труда найти причину этого явления: он понял, что телеграфная линия, по которой передавались сигналы из Пулкова, идет параллельно с телефонными проводами и прерывистые токи индуцируют точно такие же сигналы и в телефонной сети. Блумбах не замедлил поделиться с коллегами своим открытием — своеобразной службой времени, сигналы которой можно принимать по любому телефону. И возможно, именно этот эпизод навел Дмитрия Ивановича на мысль создать эталонную лабораторию времени, задача которой состояла бы в воспроизводстве третьей основной физической единицы — секунды.
«Я считаю необходимым… во вверенном мне учреждении содействовать изучению… теоретической стороны предмета, так как общеизвестно, что практическая сторона предмета находится в коренной зависимости от теоретических сведений, к ним относящихся». Решив руководствоваться этим принципом, Дмитрий Иванович снова и снова убеждался: измерить или взвесить какой-нибудь предмет с высокой точностью невозможно без привлечения едва ли не всех отраслей физики и математики. Казалось бы, какие уж там теоретические трудности могут быть во взвешивании: положим на весы груз, уравновесим его гирями. Но как все усложняется, когда речь идет о сверхточном взвешивании. Вот наблюдатель подошел к весам, и излучаемая им теплота, неравномерно нагрев коромысло, незримо искривила его. Вот наблюдатель положил на чашки груз и гири — и коромысло, деформировавшись, стало уже совсем не таким, каким его считают. Вот измеритель забыл записать показания барометра — и все его измерения пошли насмарку: выталкивающая сила воздуха, действующая на груз, уже не поддается учету. Вот почему для сверхточного взвешивания мало купить сверхточные весы, но надо еще купить или изготовить сверхточные термометры, барометры, психрометры и газоанализаторы. Мало освоить и изучить все самому, но надо еще найти, обучить, привить вкус к метрологии десяткам других людей. А это не просто.
В 1892 году, когда Менделеев возглавил Депо образцовых мер и весов, весь штат этого учреждения состоял из трех человек: ученого хранителя, его помощника и смотрителя здания. К 1895 году количество штатных служащих перевалило за десять, а объем работ продолжал нарастать с такой быстротой, что старое здание, построенное в 1879 году, не могло уже вместить всех служб. Поэтому в 1896 году министерство финансов отпустило средства на постройку рядом со старым нового просторного здания с башней для астрономической обсерватории. В 1897 году здание было построено, и Дмитрий Иванович с семьей переехал в казенную квартиру при Главной Палате на Забалканском проспекте.
К 1899 году фундаментальные работы по возобновлению прототипов были в основном завершены, и в деятельности Главной Палаты мер и весов начался второй период — приведение в единообразие всех мер и весов, обращающихся в стране. «Трудно в немногих словах изобразить то печальное состояние, в котором находятся меры и весы в России», — писал предшественник Менделеева на посту ученого хранителя генерал В. Глухов. И действительно, свинец, камни, песок применялись при взвешивании повсеместно. В некоторых городах для клеймения мер использовали гири двадцатилетней давности, утратившие свою истинную массу. Во многих губерниях клейма накладывались на приносимые купцами гири и аршины без всякой проверки. Поэтому хранителями образцовых мер и весов могли быть ученые с мировыми именами, их исследования могли всюду почитаться за образцы метрологической науки, но все это не имело ни малейшего влияния на состояние мер и весов в гигантском теле России. Требовался механизм, связывающий воедино центральное метрологическое учреждение страны с его высочайшими идеалами точности и добросовестности и каждую торговую и промышленную клеточку народнохозяйственного организма. И знаменитое Положение о мерах и весах, утвержденное 4 июля 1899 года, как раз и узаконило создание такой системы.
Во исполнение этого положения, текст которого Дмитрий Иванович написал сам, во всех частях России, включая Кавказ, Сибирь и Туркестан, с 1900 по 1906 год было открыто 25 поверочных палаток, во главе которых стояли заранее подготовленные поверители. Каждый из них в процессе обучения на курсах при Главной Палате получал знания по математике, физике и химии в объеме гимназического курса, осваивал приемы и методы поверки, изучал законы и инструкции, конструкцию и регулировку измерительных приборов. Поверители должны были в течение нескольких лет проверить, и наложить новые клейма на все обращающиеся в стране меры и весы и потом поверять их через каждые три года. Был также создан штат разъездных инспекторов, производящих внезапные ревизии измерительного хозяйства в разных промышленных и торговых учреждениях. За пять с лишним лет поверочная служба, созданная Менделеевым, поверила во всей стране 12 590 299 мер и весов, забраковав из них 464 804.
Эффективная работа поверителей в течение нескольких лет привела к единообразию мер и весов во всей стране и больше, чем самые совершенные метрологические исследования менделеевских предшественников, подготовила ее к принятию метрической системы, узаконенной декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 11 сентября 1918 года.
«В 90 году в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головой, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку. В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась одобрительно и протестующе волна негромких ворчливых возгласов. Я спросил: кто это? — Савва Морозов».
Это столкновение, описанное А. Горьким, — один из многих эпизодов той ожесточенной экономической полемики, которую Дмитрию Ивановичу пришлось вести на протяжении всех 1890-х годов. В этой полемике ему случалось допускать промахи, за которые ему доставалось от противников, но если говорить откровенно, то Менделеев был опытным и сильным бойцом, от которого немало потерпели «непонимающие ворчуны», то есть противники промышленного развития России, склонные к «гарцеванию и ничегонеделанию», склонные «ценить «свободу», понимаемую в виде «свободного халата». Но хотя ядовитой вежливости Менделееву занимать не приходилось, главное, что делало его страшным противником, это ясность понимания самой сердцевины, самой сути дела. Он не считал для себя зазорным изменить свою точку зрения, узнав новые факты. Но если оппонент не мог выдвинуть против него доводов такого чекана, то Менделеев был неумолим и беспощаден в своих атаках. Тем более грозных, что за ними стоял опыт более чем 20-летних серьезных занятий экономическими вопросами.
С 1870-х годов Дмитрий Иванович, можно сказать, все время держал ногу в экономическом стремени, и, когда настал момент приступить к разработке таможенного тарифа, этой святая святых экономической политики любого государства, ему не понадобилось много времени, чтобы быть способным приступить к этой грандиозной задаче.
К работам по коренному пересмотру таможенного тарифа было приступлено в 1887 году по распоряжению тогдашнего министра финансов Н. Вышнеградского. Он отдал приказание, дело канцелярское закрутилось, и как из рога изобилия посыпались сводки, таблицы, отчеты, ведомости. Громадные тома этих материалов поступили в распоряжение комиссии, составленной из профессоров Технологического института, которая за два года напечатала 10 записок. При составлении этих записок комиссия вызывала для консультации крупных заводчиков, рассматривала ходатайства частных лиц и учреждений, анализировала оклады таможенных обложений в других странах. Осенью 1889 года записки и некоторые другие материалы были уже напечатаны, и в этот-то момент в поле зрения Вышнеградского попал Менделеев.
«В сентябре 1889 г., — вспоминал Дмитрий Иванович, — заехал по-товарищески к И. А. Вышнеградскому… чтобы поговорить по нефтяным делам, а он предложил мне заняться таможенным тарифом по химическим продуктам и сделал меня членом Совета торговли и мануфактур. Живо я принялся за дело, овладел им и напечатал этот доклад к рождеству». Убедившись, что рассмотрение тарифов только по химическим продуктам без связи со всеми остальными разрядами производимых товаров, по сути дела, лишено смысла, Дмитрий Иванович в своем докладе предложил общую систему распределения товаров, в которой выступала бы их взаимная связь, и составил общий тариф всех товаров, который, по его мнению, наиболее полно отвечал тогдашнему положению русской промышленности.
«Этим докладом определилось многое в дальнейшем ходе как всей моей жизни, так и в направлении обсуждении тарифа, потому что цельность плана была только тут». И действительно, синтезирующая менделеевская мысль не затерялась в многочисленных замечаниях, она счастливо миновала все подводные камни на заседаниях Таможенной комиссии и пронизала новый таможенный тариф Российской империи, начавший действовать с 1 июля 1891 года.
Считая новый тариф законоположением величайшей важности для судеб русского народа, Дмитрий Иванович настаивал на том, чтобы труды Таможенной комиссии были как можно быстрее опубликованы. Но поскольку начальство решило от публикации воздержаться, то Менделеев надумал сам издать стройное и последовательное изложение своих изысканий. В 1892 году вышел в свет его знаменитый «Толковый тариф, или исследование о развитии промышленности России в связи с ее таможенным тарифом 1891 года». Сам Дмитрий Иванович был очень увлечен этой работой. «Какой я химик, — полушутя-полусерьезно говорил он друзьям, — я политико-эконом. Что там «Основы химии», вот «Толковый тариф» — это другое дело!» И отпечаток менделеевской увлеченности сохранился даже в такой по смыслу, казалось бы, долженствующей быть сухой и скучной книге, как «Толковый тариф».
«Громаднейшая равнина России, — писал Менделеев, — на которой… нет пунктов выше тройной высоты Исаакиевского собора… назначена самою природою для единого народа… Как ни враждовали меж собою части, кто ни пробовал отхватить доли, — все же общее единство водворилось твердо и прочно, а с ним начинает слагаться и промышленность». С этого момента начинается то многовековое непрестанное борение между купечеством русским и иноземным, между изделиями русского и заграничного производства. И без того непростые перипетии этого борения осложнялись еще больше интересами фиска, то есть интересами русской казны.
Главными статьями государственного дохода в России долгое время были доходы от продажи нитей и доходы от внутренних таможен. Существование этих таможен страшно стесняло развитие русской внутренней торговли, а следовательно, и промышленности, но их закрытие угрожало казне таким резким, ничем не возместимым сокращением доходов, что цари долго не могли решиться на этот шаг. Что касается внешней торговли, то поначалу ее вовсе запрещали, полагая все иноземное ненужною роскошью и «басурманством», а потом всячески затрудняли ее, облагая все ввозимые товары без исключения высокими пошлинами.
Иван Грозный первый оценил важность торговли с заморскими странами, и, стремясь упростить ее, он не нашел ничего лучшего, как даровать иностранцам такие привилегии, которые и не снились русским купцам. В результате вся внешняя торговля России оказалась в руках иностранцев, которые даже похвалялись низвести русских до торговли одними лишь лаптями. Так дело торговое, казалось бы, сугубо частное, вдруг обернулось делом политическим, делом, требовавшим вмешательства властной руки государства. И такое вмешательство не замедлило явиться.
В 1649 году в царствование Алексея Михайловича был дан первый стройный русский таможенный тариф, не только отменивший все привилегии иностранцам, но даже предписывавший с тех из них, кто желает торговать внутри России, взыскивать сборы большие, чем с русских купцов. Что же касается пошлин, то здесь права иностранных купцов приравнивались к правам русских: на пограничных таможнях как с ввозимых, так и с вывозимых товаров взыскивалась одинаковая 4—5-процентная пошлина. Но очень скоро выяснилось, что такое обложение иностранных товаров не приносило ни больших доходов казне, ни большой пользы развитию русской торговли и промышленности. И это побуждало русские власти постепенно увеличивать пошлины на иностранные товары, чтобы оказать покровительство-протекцию русской торговле. «Так от отрицательного протекционизма, то есть от покровительства иностранцам, внешнеторговая русская политика, — писал Дмитрий Иванович, — перешла к «свободной торговле», т. е. нулевому протекционизму, или уравнению иностранных товаров с русскими и перешла затем к протекционизму положительному».
Ни тарифы Ивана Грозного, ни даже Алексея Михайловича не способствовали развитию самодеятельной русской промышленности; и пушечное, чугунолитейное, доменное производства пришлось заводить прямо за казенный счет. И все-таки Менделеев считал внешнеторговую политику Алексея Михайловича «приличною времени его царствования». Он считал, что «Россия тогда росла и государственное ее значение возрастало… благодаря преимущественно умножению территории и храбрости русских воинов. Это эпоха иной жизни, подготовительная; собирание земли еще длилось, размежевание с соседями еще не кончилось. Тут не до промышленности; все забывается из-за капитала основного, т. е. земли и жителей». Особенно подробно Дмитрий Иванович останавливается на таможенной политике Петра I, который в 1724 году ввел первый настоящий покровительственный тариф. Этот тариф Менделеев считал образцовым, ибо в нем размер пошлины на тот или иной товар определялся в зависимости от степени развития отечественного производства, и этот принцип был правильным.
Если в хозяйстве страны ощущается потребность в каком-нибудь продукте, то есть два способа удовлетворить эту потребность: либо покупать готовый продукт за границей, либо наладить его производство внутри страны. Но вот беда: чтобы затеять полое производство, нужно сначала сильно потратиться на обзаведение, поэтому производимый товар поначалу получается очень дорогим. Иностранное же давно поставленное производство предлагает товар гораздо более дешевый, и сердце потребителя, естественно, склоняется к товару заморскому. Эта-то естественная склонность и становится главной причиной, которая не даст развиться отечественному производству. Но вопреки частным выгодам потребителей государство, преследуя более высокие и далекие цели, может защитить свою молодую промышленность от иностранной конкуренции и, обложив ввозной товар высокой пошлиной, поддержать внутри страны цены на уровне, при котором рентабельно отечественное производство.
Подробно разбирая петровский тариф, Менделеев не уставал подчеркивать, сколь благодетелен он был для развития русской промышленности. «Если бы протекционный тариф Петра Великого, — писал он, — не колебался множество раз после него… мы бы уже, наверное, были близки к эпохе промышленной зрелости». Целая плеяда петровских преемников, готовая на все ради пополнения быстро пустеющей казны, не уставала искажать его первоначальный замысел. За 70 лет после смерти Петра тариф радикально менялся шесть раз!
«При таких сменах, при такой исторической горячке событий промышленность расти не может. Она и не росла… Тогда стране еще не до промышленности. Орлы, а не товары России облетали Европу, себя показывали, людей глядели».
В начале царствования Александра I в большую силу вошел адмирал Н. Мордвинов. Будучи прекрасно образованным экономистом, он ясно понимал значение протекционизма для России и сумел провести при помощи М. Сперанского «Положение о торговле 1811 г.», целью которого было «преградить усиление непомерной роскоши, сохранить привоз товаров иностранных и поощрить, сколь можно, произведения внутреннего труда и промышленности».
«Манифест 1811 г., — писал Дмитрий Иванович, — поднял промышленность на должную ей высоту, — народного дела. Перелом совершился. Он сделан протекционизмом 1724 и 1811 гг. Но между ними протекло почти столетие, а крепко держались начатого всего лет по пяти, не больше». И действительно, с 1816 года опять начинается замена протекционных статей тарифа фритредерскими, опять иноземные товары заполняют русский рынок и опять иностранцы начинают похваляться тем, что заставят-де русских торговать лаптями. А лишь с 1822 года, когда Франция и Пруссия усилили свой протекционизм, начала меняться и внешнеторговая политика России. И на протяжении последующих двадцати лет, когда министром финансов был Е. Канкрин, «экономист самобытный, зрело охвативший… связь внутренней промышленности с национальным развитием», Россия последовательно и твердо проводила протекционизм.
Одним из важнейших и трагических для России противоречий царствования Александра II Менделеев считал противоречие между политическими и гражданскими реформами и экономической политикой нового царствования. Англоманство, охватившее тогда чиновно-бюрократический Петербург, достигло такой степени, что сам министр внутренних дел П. Валуев исчерпывал свою политическую мудрость из ежеутреннего чтения «Таймс». На беду русской промышленности немало нашлось английских поклонников и в экономических вопросах. «Смотрите! — говорили они. — Англичане перешли к свободной торговле, а ведь они не дураки. Значит, свободная торговли благодетельна для государства, раз такая передовая в промышленном отношении страна, как Англия, придерживается ее. Стало быть, и нам надлежит скорее начать действовать как англичане». К этому рассуждению теоретиков с радостью присоединился малочисленный, но весьма влиятельный в России слой — крупное чиновничество… «Говорят, и говорят громко, противу протекционизма люди, живущие на определенные средства и не хотящие участвовать в промышленности, — писал Дмитрий Иванович. — У них доходов не прибудет от роста промышленности, а от протекционизма им страшно понести лишние расходы, особенно если все их вкусы и аппетиты направлены к чужеземному. Помилуйте, говорят они, вы налагаете пошлины на шляпки и зеркала, а они мне надобны, и я не вижу никакого резона в ваших протекционистских началах; для меня протекционизм тождествен с воровством… Не в одних темных углах гостиных толкуют так. Литературы полны такою недодумкою».
Под влиянием таких далеких от государственных интересов соображении протекционный тариф Е. Канкрина постепенно искажался, пока наконец в 1868 году не был утвержден новый, вполне фритредерский тариф. «Всякий проживший 60-е и 70-е годы… по сумме личных впечатлении — если они не ограничивались гостиными и канцеляриями, — писал Менделеев, — чувствовал в 70-х годах, что страна не богатела, что ее достаток не возрастал, что надвигается что-то неладное. Корень дела был… экономический и связанный с ошибочною торгово-промышленною политикой, выражающеюся в необдуманном таможенном тарифе… Крепостная, т. е. в сущности экономическая, зависимость миллионов русского народа от русских помещиков уничтожилась, а вместо нее наступила экономическая зависимость всего русского народа от иностранных капиталистов. Вольный труд возбуждался, но ему поприще открыто не было…
Центры тяжести перемещались от непроизводительных классов в производящие, только не русские, а иностранные, ибо эти миллиарды рублей, ушедшие за иностранные товары, и этот русский хлеб кормили не свой народ, а чужие. Просвещение развивалось, а ему производительного приложения не оказывалось в ином месте, кроме канцелярий и резонерства классического строя. Отсюда, по моему мнению, вполне объясняется то поголовное отчаяние, в которое впала масса русских людей…»
Так что не случайно именно в 1870-х годах мучительные раздумья привели Дмитрия Ивановича к мысли о протекционизме. Но в отличие от великосветского обывателя, для которого протекционизм — это обложение пошлиной иностранного товара, а фритредерство — беспошлинный ввоз; для которого протекционизм — это дороговизна, а фритредерство — дешевизна; в отличие от банковского и чиновного люда, склонного рассматривать протекционизм как чисто финансовую акцию, Менделеев смотрел на протекционизм иначе. Он считал, что протекционизм — это не только покровительственный таможенный тариф, но это еще наличие в стране всех условий для развития покровительствуемой промышленности, то есть природные ресурсы и рабочая сила, это еще и государственные мероприятия, прямо стимулирующие инициативу, прилив капиталов и знающих дело людей в покровительствуемую отрасль.
Менделеев считал своим гражданским долгом противодействовать распространению фритредерских идей. «Если… представить себе, что ныне же все страны мира сразу согласились бы держаться «свободной торговли», то произошло бы, в конце концов, полное рабство земледельческих народов, т. е. порабощение их промышленными… Развить же у себя свою промышленность земледельческие страны не имели бы никакой возможности при полной свободе торговли, потому что иностранные промышленные их конкуренты сознательно губили бы всякие зачатки таких предприятий».
Что же касается возможности застоя в промышленности, защищенной от иностранной конкуренции высокими таможенными пошлинами, то Дмитрий Иванович снова и снова объяснял: «Промышленно-торговую политику страны нельзя правильно понимать, если разуметь под нею только одни таможенные пошлины. Протекционизм подразумевает не их только, а всю совокупность мероприятии государства, благоприятствующих промыслам и торговле и к ним приноравливаемых от школ до внешней политики, от дороги до банков, от законоположений до всемирных выставок, от бороньбы земли до скорости перевозки». Только при таком широко понимаемом протекционизме «дорогое, да свое, начатое с корня, может стать дешевым, а чужое… может из дешевого стать дорогим».
Менделеев предсказывал, что, когда в недалеком будущем другие страны догонят и обгонят Англию, этот оплот фритредерства рухнет, и Англия перейдет к протекционизму, — прогноз, оправдавшийся спустя несколько лет. Что же касается русской промышленности, то ей Дмитрий Иванович предрекал великое будущее.
«…Перечисление желаемого и ожидаемого невольно мешает правильно глядеть на достигнутое, выполненное, к чему и назначена нынешняя выставка, — писал он в 1896 году о Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. — Но нельзя не указать на то, что выставка показала давние… примеры попыток русского гения встать впереди на те же пути… научно-промышленного прогресса, на которые… нас насильно тянут современные обстоятельства… Не дожить мне до той выставки, которая покажет такой новый скачок русской исторической жизни, при котором свои Ползуновы, Петровы, Шиллинги, Яблочковы, Лодыгины не будут пропадать, а станут во главе русского и всемирного промышленного успеха…»
Дмитрий Иванович действительно не дожил до «нового скачка русской исторической жизни», но его усилия приблизить этот скачок были по достоинству оценены новой Россией — Советской. «Менделеев не считал себя марксистом, — писала в 1937 году «Правда». — Но… его выводы покоились на основах материализма. Менделеев никогда не был сторонником социализма — более того, он боялся и чурался этого слова, но его талант и светлая голова позволили ему разглядеть черты будущего».
19 декабря 1898 года в Мариинском театре должен был состояться дневной спектакль в честь съезда ученых в Петербурге. По такому случаю Дмитрию Ивановичу пришлось нарушить свое обыкновение и во фраке, при лентах и орденах отправиться в театр. Когда они с Анной Ивановной появились в ложе, по залу прокатился шорох. Спустя несколько минут в ложу вошел племянник Менделеева профессор Ф. Капустин и тихо сказал Анне Ивановне, что этой ночью умер Володя, первенец и любимец Дмитрия Ивановича, что сообщение о смерти опубликовано в утренних газетах, что всем присутствующим в театре известно об этом и что все изумлены, как может Дмитрий Иванович в такую тяжелую для него минуту находиться в театре.
Анна Ивановна побледнела: несколько писем, в которых сообщалось о болезни Володи, она скрыла от Дмитрия Ивановича под тем предлогом, чтобы не расстраивать его. И ей не приходило в голову, что дело может принять такой трагический оборот… Она обратилась к ничего не подозревавшему Дмитрию Ивановичу, с любопытством разглядывавшему разряженную публику, и сказала, что ей нездоровится и что она просит отвезти ее домой. На обратном пути в карете Дмитрий Иванович и узнал, что нет больше Володи…
Чтобы понять, каким страшным ударом для Менделеева была смерть сына, надо знать, как вообще относился к детям этот сильный, великодушный и мужественный человек. Когда читаешь его экономические труды, всегда поражаешься той страстной гневности, которая вдруг прорывается при упоминании о Мальтусе. «Мальтус… даже прямо требует воздержания от деторождения, — пишет Дмитрий Иванович в своем «Учении о промышленности». — Возмутительность такого учения тем явственнее, что все главные посылки его не верны… Одним из лучших стимулов всех успехов человечества служит… стремление обеспечить своих детей и… облегчить их жизнь… если даже от этого пострадает и собственная». По этой внезапной горячности нетрудно понять, что для Дмитрия Ивановича вопрос о потомстве, о детях был вопросом сердца. И в его глазах даже Мальтуса извиняло то, что этот добрый пастор не нашел в себе сил следовать своему суровому учению и оставил после себя двенадцать детей.
Великий человек умел видеть и понимать ту самостоятельную, синтетическую, непрерывно идущую в детских головах работу мысли, которая в каждом ребенке обнаруживает зачатки гениальности и которая поэтому так часто делает поступки детей недоступными пониманию взрослых. Редкая способность Менделеева понимать и уважать серьезность и важность детских мыслей, большинством взрослых почитаемых за пустяковые, иногда приводила окружающих в изумление.
Как-то раз к Дмитрию Ивановичу приехал из Сибири знакомый купец с усыновленным им мальчиком-китайцем, который был прямо-таки влюблен в своего названого отца. На следующий день купец отправился по делам и не появился к обеду. Обеспокоенный мальчик занял свое место за столом и с нетерпением ждал отца. И тут открылась дверь, вошел Дмитрий Иванович и сел в свое кресло за столом.
— Сядь на стул! — крикнул ему мальчик. — Здесь мой папа сядет!
К изумлению домочадцев, Дмитрий Иванович, сделав им знак молчать, покорно пересел на стул.
— Для него, — объяснил он потом, — самый почетный и самый хороший человек — его отец. Это уважать надо!
У детей с их изумительным чутьем Дмитрий Иванович, который многим взрослым казался суровым, грозным, занятым и нетерпеливым человеком, пользовался общей любовью, что может служить еще одним подтверждением старой истины: не может быть плохим человек, которого любят дети.
В. Тищенко довелось быть свидетелем того, как однажды вечером к работавшему в кабинете отцу пришла попрощаться перед сном маленькая дочка. Дмитрий Иванович сразу отвлекся от дел, расцеловал ее и пошел уложить в постель. Через несколько минут он вернулся размягченный и растроганный и, помолчав, вдруг сказал Тищенко: «Много испытал я в жизни, но не знаю ничего лучше детей».
Будучи очень занятым человеком, Дмитрий Иванович не относился к числу отцов, которые все свое свободное время уделяют детям. Они всегда робели, оказываясь в его кабинете, но зато они чувствовали и знали, что сердце его открыто для них, что он всегда поймет их беды и горести и, не занимаясь мелочной опекой, не вникая в малозначащие тонкости, во всем действительно серьезном и важном всегда поможет им. И умение Дмитрия Ивановича не делать трагедий из пустяков, умение видеть и правильно оценивать то, что действительно важно, ярче всего, пожалуй, проявилось во время сватовства Александра Блока к его дочери.
Люба потом так описывала своему жениху состоявшееся дома объяснение: «Началось это очень плохо: мы с мамой стали ссориться… Вдруг входит папа. Мама (очень зло, по правде сказать) предлагает мне сказать все сначала папе, а потом уже строить планы. Я и рассказала. А папа совсем по-прежнему, спокойно и просто все выслушал и спросил, на что ты думаешь жить, я сказала, и папа нашел, что этого вполне довольно, потому что он может нам давать в год 600 рублей… Мы-то думали ведь, что папу будет труднее всех уговорить, а он смотрит так просто и видит меньше всех препятствии».
О таком же спокойно-уважительном отношении Менделеева к детям рассказывает и его сын Иван: «И не помню, чтобы он, горячий и часто несдержанный по отношению к взрослым и сильный человек, возвысил когда-нибудь на нас голос, сказал жесткое слово. Он обращался всегда исключительно к нашей разумной и высшей стороне, никогда ничего не требовал и не приказывал, но мы чувствовали, как он был бы огорчен всякой нашей слабостью, — и это действовало сильнее уговоров и приказаний».
У Дмитрия Ивановича было шестеро детей, но самым любимым был Володя. Похоже на то, что Менделеев питал особую слабость к своему первенцу. Когда он хотел сказать, что ценит что-нибудь особенно высоко, он говорил: «Как Володю люблю». И любовь эта была взаимной. По-видимому, Володя больше, чем кто-либо из других детей, понимал и ценил отца, искрение восхищался им. В непростых и мучительных перипетиях менделеевской жизни Володя был всегда на стороне отца. Ни разу слово осуждения не сорвалось с его языка. Он всегда оказывался рядом в самые трудные и тяжелые минуты. И Дмитрий Иванович очень ценил эту твердую и молчаливую поддержку. «Володя меня ни разу ничем не обидел», — сказал он однажды, и такое признание проливает свет на отношения отца и сына.
Для Володи Дмитрий Иванович готов был делать и делал то, чем не стал бы заниматься ни для кого другого. Так, в тяжелые для него 1880-е годы он выкроил время, чтобы прочесть курс лекции по химии для Володи и его друга по Морскому корпусу Езопа — так прозвали у Менделеевых будущего кораблестроителя академика А. Крылова. Будучи посвящен в самые сокровенные тайны своего любимца, Дмитрий Иванович знал о глубокой душевной драме, постигшей Володю в 1889 году: девушка, которую он любил, неожиданно вышла замуж, нарушив данное Володе слово. И чтобы облегчить переживания сына, помочь ему забыться, Дмитрий Иванович пересилил себя и пошел на поклон к шефу русского флота великому князю Алексею Александровичу и к морскому министру Н. Чихачеву. Ему удалось добиться своего: Володю назначили на полуброненосный фрегат «Память Азова», на котором наследник престола должен был совершить путешествие на Дальний Восток.
Фрегат уходил из Кронштадта осенью 1890 года. В день ухода с моря дул сильный ветер, разогнавший большую волну. На рейде сильно качало, но ничто не могло удержать Дмитрия Ивановича и Феозву Никитичну от намерения проститься с сыном. Дочь Ольга, заехавшая вечером этого дня к отцу, застала его грустным, одиноко сидящим в своем кабинете: он почему-то был уверен, что не дождется возвращения Володи и никогда больше не увидит его. Но предчувствия обманули его. Володя во время плавания часто писал отцу. «Его письма очень занимательны», — с удовольствием говорил Менделеев, снова и снова перечитывал обстоятельные письма сына с описаниями Греции, Египта, Индии, Цейлона, Батавии, Японии.
Плавание на «Памяти Азова» открыло перед Володей пути к быстрой карьере, но в 1893 году резкое столкновение с Г. Чухниным, будущим адмиралом, печально прославившим себя расстрелами в 1905 году, побудило его оставить военную службу и посвятить себя делу развития русского торгового флота. Володя всегда был готов по просьбе отца провести то или иное химическое исследование, сделать нужные отцу расчеты, собрать литературу по интересующему отца вопросу. Должность инспектора мореходных классов была ему тем более приятна, что в эти годы Дмитрия Ивановича продолжали интересовать способы поощрения мореходства и судостроения в России, которыми он начал заниматься еще в 1891 году.
В начале 1898 года Володя объехал училища, расположенные по берегам Белого моря, — убедился, что на севере можно создать мореходные училища, которые сильно помогли бы быстрому росту русского морского торгового флота. В октябре и ноябре 1898 года он объехал мореходные училища Азовского моря и восточных берегов Черного моря. 8 декабря он, еще не подозревая, что легкое недомогание кончится смертельным воспалением легких, делился с отцом впечатлениями о поездке… И вот через каких-нибудь десять дней «не стало моего милого сына… Погиб мой умница, любящий, мягкий, добродушный сын — первенец, на которого я рассчитывал возложить часть своих заветов, так как знал неизвестные окружающим высокие и правдивые, скромные и в тоже время глубокие мысли на пользу родины, которыми был он проникнут».
По-видимому, после смерти Володи для Анны Ивановны навсегда захлопнулось сердце мужа. Он не мог простить ей того, что она утаила письма. «Я все могу вынести, что суждено, — крикнул он ей. — Как мне не сказали сразу, разве я так слаб? Я бы застал Володю еще живым!»
Смерть сына так сильно потрясла Дмитрия Ивановича, что он не смог даже быть на похоронах. Когда вернувшаяся с кладбища Ольга вошла к нему в кабинет, когда он увидел ее, он быстро закрыл лицо руками и заплакал. «Я, здороваясь с ним, прижалась к его голове, и мы долго молчали, — вспоминала дочь. — Потом он провел по моей голове рукой, нежно задержав ее, и нервно откинулся всем туловищем на спинку кресла. «Теперь уж Володе хорошо, — сказала я, — он прошел все самое страшное и знает все, чего мы не знаем, ему там будет легко». Отец опустил глаза и тихо произнес: «А есть ли там что-нибудь, кто знает?..»
В 1896 году Володя женился на Варваре Кирилловне Лемох, дочери довольно известного тогда художника К. Лемоха. Спустя год у них родился сын, названный в честь деда Дмитрием. И вот, 24 декабря, через пять дней после смерти Володи, Менделеев решается написать невестке такое письмо:
«Милая, родная Варвара Кирилловна!
Отдайте мне Митюшу, Христа ради. Это была бы радость моя, и мне кажется, все бы устроилось наилучшим образом. Буду лелеять его как сына. Вы самостоятельны. Приезжайте, пожалуйста. Устроим сразу.
Дай бог, чтобы душа Ваша откликнулась на зов душевно преданного вам
21 декабря 1898 г. Поздравляю Вас с праздником, сделайте и мне его».
По-видимому, просьба Дмитрия Ивановича возбудила амбиции в старике Лемохе, который счел для себя возможным вмешаться в переписку дочери и тестя, и вмешаться самым бестактным и бесцеремонным образом. Сохранилось ответное письмо Дмитрия Ивановича Лемоху. Читать его страшно: такая боль, такая душевная мука сочится из каждой строки.
«Вступать с Вами в дальнейшие переговоры я бы не желал, — писал Менделеев, — и если Вам угодно скорее все выяснить, то просите Варвару Кирилловну пожаловать…
Не Вам, а ей, ей одной без Вас я объясню все, а Вам, как я уже писал, не следует стоять между… Дед Митюши, припомните, со стороны отца, имеет права не меньше ваших. Я дорожу родственными узами, но я человек и старик, которого Вам угодно не понимать… Между мной и Митей Вы стоять не должны, а может быть только Варвара Кирилловна. Ее прошу отпустить Митюшу ко мне». Лемохи не отдали и не уберегли Митю: трех с половиной лет он умер от приступа аппендицита. И старость великого человека, так нежно любившего детей, была украшена только внучкой Наташей, дочерью Ольги. «Моя единая», — называл Дмитрий Иванович Наташу, которой позволялось много такого, на что не решались другие дети. Когда она без всякого стеснения вбегала в кабинет, где работал Дмитрий Иванович, он отодвигал книги, снимал очки, и между дедом и внучкой начинался разговор, заканчивавшийся обыкновенно изучением большого стеклянного шкафа, в котором хранились фрукты и сласти для гостей.
С адмиралом С. Макаровым Дмитрий Иванович лично познакомился еще в 1890 году. Адмирал был тогда главным инспектором морской артиллерии и часто встречался с Менделеевым по делам бездымного пороха. Ученый и флотоводец высоко ценили друг друга. Но получилось так, что их дружная совместная работа положила начало новому и важному для России делу, которое спустя несколько лет стало поводом для их размолвки.
Затевая разработку пушечного бездымного пороха, морское министерство рассчитывало потратить на эту проблему оказавшуюся в его распоряжении «остаточную сумму» в полтора миллиона рублей. Но Дмитрий Иванович сумел уложиться в полмиллиона, и, когда стал вопрос, на что истратить еще один оставшийся миллион, Менделеев вспомнил о своих занятиях сопротивлением жидкостей и предложил Н. Чихачеву построить опытовый бассейн. Ему не понадобилось долгой подготовки, чтобы объяснить морскому министерству те колоссальные выгоды, которые принесет бассейн русскому кораблестроению и которые «выразятся в избежании многих переделок и ошибок в проектировании кораблей, в уменьшении расходов на топливо судов и т. п.». В конце 1891 года в Англию в Торкей, где находился опытовый бассейн В. Фруда, был командирован корабельный инженер А. Грехнев, и к концу 1893 года сооружение первого в России бассейна было завершено, и одним из первых крупных исследований, проведенных в опытовом бассейне, было испытание модели ледокола «Ермак».
«Мое участие в «Ермаке» было немалое… — вспоминал Дмитрий Иванович. — Чрез меня С. О. Макаров у Витте получил возможность сделать заказ». Действительно, Менделеев сразу оценил и горячо поддержал идею мощного ледокола, которую выдвинул в начале 1897 года адмирал Макаров… «Ваша мысль блистательна, — писал он Степану Осиповичу, — и рано или поздно неизбежно выполнится и разовьется в дело большого значения». Когда Макаров во всех своих попытках добыть у разных ведомств денег на постройку ледокола потерпел неудачу, Дмитрий Иванович предложил адмиралу поговорить с Витте. Такая встреча состоялась 29 мая 1897 года, и Макаров два с половиной часа объяснял министру финансов, что мощный ледокол будет сильно содействовать процветанию русской торговли, ибо продлит на несколько недель навигацию и свяжет порты в устьях Енисея и Лены с северными портами европейской России.
В результате этого разговора 14 ноября 1897 года на строительство ледокола было отпущено 3 миллиона рублен, 28 декабря Макаров заключил в Англии контракт на постройку судна, 19 февраля 1899 года он поднял на ледоколе русский торговый флаг; 4 марта, легко проложив себе путь во льдах Балтийского моря и Финского залива, «Ермак» пришел в Кронштадт. А спустя полтора месяца — 18 апреля 1899 года — к величайшему ущербу для русской науки произошла нелепая размолвка между адмиралом Макаровым и профессором Менделеевым. Размолвка эта произошла в кабинете Витте при обсуждения вопроса о том, как удобнее и надежнее пройти на Дальний Восток к Сахалину из северных портов европейской России. Дмитрий Иванович считал, что нужно пройти к Северному полюсу, пересечь его, а потом спуститься на юг к Берингову проливу. Более опытный в мореплавании Макаров настаивал на плавании вдоль северного побережья Сибири.
«Между этими двумя выдающимися лицами, — вспоминал потом Витте, — произошло в моем присутствии довольно крупное и резкое разногласие, причем оба эти лица разошлись и затем более уже не встречались…»
О том, какого накала достигло это разногласие между адмиралом и профессором, можно судить по записи, сделанной в дневнике Макарова, который писал, что Менделеев «вел себя вызывающим образом, говоря иногда, что он не желает знать моих мнений и т. д.». А Дмитрий Иванович в этот же день писал Витте: «Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство уволить меня от экспедиции в Ледовитый океан, предначертанном на сей год. Причиной моего отказа служит требование адмирала Макарова, чтобы я и избранные мною помощники во все время экспедиции находились в его полном распоряжении и исполняли… приказания г. адмирала, как единственного начальника экспедиции».
«Отказываясь, я желал всякого успеха его предприятию», — писал потом Менделеев. И действительно, на протяжении нескольких лет, пока Макаров руководил летними полярными экспедициями «Ермака», Дмитрий Иванович ни в частных, ни в официальных разговорах ни единым словом не обмолвился о своем несогласии с макаровской программой арктических исследований. Он просто считал себя не вправе бросить малейшую тень на человека, который первым выдвинул новую идею и принял на себя тяжкое бремя ее практического осуществления. Лишь после того, как другие обязанности побудили Макарова окончательно оставить полярные плавания, Дмитрий Иванович решился возобновить переговоры об осуществлении своей программы исследования Арктики. В конце 1901 года он подал Витте обстоятельную записку «Об исследовании Северного полярного океана», в которой он снова поднимает вопрос о высокоширотной полярной экспедиции.
Он обращал внимание министра на то, что путь через Северный полюс, во-первых, в два раза короче, чем путь вдоль сибирского побережья, а во-вторых, благодаря большим глубинам доступен для прохода самых больших кораблей. Далее, Дмитрий Иванович, исходя из накопленных к тому времени наблюдении, доказывал, что в летние месяцы в центральной части Арктики должна быть свободной ото льда по крайней мере одна треть океанской поверхности. Поэтому сильный ледокольный корабль, искусно лавируя, а не идя сквозь льды напролом, как предлагал Макаров, сможет всегда найти себе путь, свободный от мощного океанского льда. Если же плаванию будут препятствовать торосы, которые не под силу кораблю, то следует устранять их с пути с помощью взрывов.
Суть просьбы Менделеева заключалась в том, чтобы на лето 1902 года в его распоряжение предоставили бы ледокол «Ермак», который он предлагал приспособить для полярного плавания: перевести котлы на жидкое топливо для уменьшения числа кочегаров и утеплить жилые помещения на случай зимовки во льдах. Но Витте уже учуял: отношение «верхов» к полярным исследованиям изменилось. Поэтому он, не желая портить с Дмитрием Ивановичем отношении, выразив ему полное свое сочувствие и согласие с проектом, просил все-таки заручиться поддержкой великого князя Александра Михайловича — шефа русского торгового флота.
Менделеев не захотел сам ехать на поклон к великому князю и уговорил директора департамента торговли и мануфактур В. Ковалевского отвезти проект. Пока Ковалевский ездил к Александру Михайловичу, Менделеев сидел у камина в кабинете, с нетерпением дожидаясь его возвращения, одну за другой курил свои знаменитые «крученки», и, когда Ковалевский вернулся, Дмитрий Иванович так и бросился к нему: «Ну что?»
С болью в сердце директор департамента рассказал ему о том, как несочувственно отнесся к просьбе великого ученого «великий» князь: «Такому дерзкому человеку, как Менделеев, я помочь отказываюсь».
«Тут же Менделеев молча бросил все экземпляры своего проекта в камин, — вспоминал потом Ковалевский. — Во всяком случае, сколько мне известно, после его кончины ни одного экземпляра проекта не оказалось».
К счастью, здесь Ковалевский оказался прав лишь отчасти. В архиве Менделеева сохранилась не только копия записки, но даже более позднее к ней примечание самого Дмитрия Ивановича: «Записку эту после моей смерти, кажется, полезно было бы публиковать». Но что оказалось утраченным безвозвратно, так это чертежи разработанного Менделеевым ледокола, о котором он пишет в записке так: «Если бы я имел возможность организовать совершенно вновь, всю сначала, полярную экспедицию… то построил бы легко (как «Фрам») поворотливый паровой ледокол не в 8 тыс. т на 10 тыс. сил, как у «Ермака», а всего лишь в 2–3 тыс. т и на 3–4 тыс. сил, с сильным стальным остовом и креплением и с двойною обшивкою — из стали снаружи и из дерева внутри, — стоимостью примерно в 500 тыс. руб., при нефтяной топке».
Лишь в 1965–1966 годах советский исследователь А. Дубравин по сохранившимся в рабочей тетради черновым эскизам и по подробным расчетам Менделеева сумел восстановить теоретический чертеж ледокола, собственноручно спроектированного нашим великим ученым. По восстановленному А. Дубравиным чертежу была построена и испытана в бассейне модель, показавшая, что Дмитрию Ивановичу удалось спроектировать прекрасное судно, не уступавшее лучшим ледоколам того времени.
В 1897 году на Забалканском проспекте рядом со зданием, сооруженным еще для Депо образцовых мер и весов, хлопотами Менделеева были построены два дома для служащих Главной Палаты, и Дмитрий Иванович решил переехать с частной квартиры на Кадетской линии, что на Васильевском острове, в новую казенную квартиру. Расположенная на третьем этаже (Дмитрий Иванович не выносил, когда кто-то ходил над головой в то время, как он работал), эта квартира состояла из нескольких сравнительно небольших комнат. Лишь для кабинета было отведено обширное помещение, чтобы можно было расставить все полки и шкафы для книг и бумаг.
Палатский быт отличался от быта университетского. Здесь не было шумных толп студентов, не было горячки экзаменационных сессии и торжественных собраний в актовом зале. Здесь было тише, размереннее, устойчивее, и раз заведенный распорядок жизни почти не менялся с течением времени. Обычно по утрам Дмитрий Иванович гулял во дворе палаты. Летом в сером, своеобразного покроя пальто и в фуражке, закрывавшей всю голову, зимой — в шубе и в глубоких галошах, он не спеша обходил территорию, на которой размещались все здания и службы Главной Палаты. Завидев знакомого, он махал рукой или кланялся. Если дело было зимой и знакомый заговаривал с ним, Дмитрий Иванович прикладывал палец ко рту или быстро произносил: «Я на улице не разговариваю».
После прогулки Дмитрий Иванович появлялся в палате, заходил в канцелярию, садился на диван и, положив ногу на ногу, доставал табакерку. Здесь, скручивая и выкуривая одну папиросу за другой, он выслушивал своих сотрудников, отдавал распоряжения, иногда рассказывал что-нибудь, а потом уходил к себе в кабинет. Иногда, завидев в канцелярии Ф. Завадского, сотрудника палаты, хорошо игравшего в шахматы, Дмитрий Иванович подходил к нему, подмигивал и говорил: «Ну как, Фома Петрович?» А тот ему в ответ: «Ладно, ладно…» И все знали: Дмитрий Иванович приглашает Завадского вечером играть в шахматы, и тот соглашается прийти…
Когда работы было немного, Менделеев засиживался за шахматами до 4–5 часов утра, на следующий день спал до 11–12 часов дня и в палате появлялся поздно. Но вот новая идея, новая мысль завладевали его вниманием, и в этом дряхлеющем старческом теле внезапно пробуждался неукротимый дух творчества. Прочь расслабленность, прочь шахматы и прогулки, прочь сон… Сотрудников вызывают к управляющему в ранние утренние часы, и они с изумлением видят, что он совсем не ложился спать. «Приходишь, а он сидит согнувшись, — вспоминает М. Младенцев, — спешно пишет, не оборачиваясь, протяжным голосом скажет: «Да-а-а… погодите»… а сам, затягиваясь папироской… не отрываясь, двигая всей кистью руки, пишет и пишет… Но вот папироса ли пришла к концу, или мысль запечатлена на бумаге, а может быть, пришедший нарушил течение его мысли, откинувшись, он скажет: «Здравствуйте, а я всю ночь не спал, интересно, очень интересно… Сейчас немного сосну, а потом снова, очень все интересно…» Объяснит, зачем звал: «Ну и ладно, довольно, пойду прилягу». Не успеешь от него уйти, как снова Дмитрий Иванович зовет к себе. Приходишь, а Дмитрий Иванович восклицает: «Нет, не могу спать, где же, надо торопиться. Ох, как все это интересно!» И снова сидит и пишет».
Еще сильнее Менделеев преображался в то время, когда в лабораториях Главной Палаты проводились исследования и измерения. Подготовка к ним занимала иногда несколько недель, а то и месяцев, и, когда все было подготовлено, к делу приступал сам Дмитрий Иванович…
Сотрудники, не занятые в эксперименте, узнавали о том, что управляющий руководит работой, как только переступали порог палаты. Голос Менделеева гремел по всему помещению:
— Не умеют сторожа самовара поставить! Не умеют, не умеют! Сам сейчас пойду поставлю самовар… Не умеют!..
— Не пролей! А-а-а! Пролил, пролил!
Потом раздавалось какое-то невнятное бубнение: это делопроизводитель объяснял, что ему для подписания счета нужен Блумбах.
— Не трогать Федора Ивановича! — несся грозный крик Менделеева. — Он человек горячий. Вы его счетом собьете, он у меня тут напутает… Не трогать Федора Ивановича!
У Блумбаха, так никогда и не привыкшего к львиному рыку Менделеева, начинали от волнения дрожать руки, за что Дмитрий Иванович всегда называл его «горячкой».
Как-то раз во время эксперимента одна сотрудница уронила барабан хронографа, что мгновенно вывело Дмитрия Ивановича из состояния равновесия:
— Пропал барабан! Согнулся! И зачем дали ей?
Он выскочил в другую комнату, и через несколько секунд оттуда раздался опять его крик:
— Эй! Кто-нибудь! Барышня барабан уронила! Подите к ней скорей: она перепугалась! Успокоите ее. Плачет, должно быть!
Такие бурные изъявления чувств могли произвести неприятное впечатление на нового человека, но не на сотрудников Главной Палаты. Они прекрасно изучили характер своего начальника, любили его, гордились им, восхищались его изумительным мастерством в измерениях и преклонялись перед его гениальностью.
Обычно, когда готовился опыт и случались перерывы в работе, сотрудники палаты собирались в канцелярии, из окна которой была видна каменная дорожка, ведущая к подъезду, где находилась квартира Дмитрия Ивановича. Вот быстро прошел по дорожке и через минуту появился в канцелярии М. Младенцев. С разных сторон вопросы:
«Ну, как настроение у Дмитрия Ивановича?»
«Валенки и камни», — хмуро бросит Младенцев, и все знают: лучше сейчас к Менделееву не ходить — не в духе.
Лишь делопроизводитель А. Кузнецов рискнет пойти с совсем уж неотложными бумагами, вернется грустный, скажет со вздохом: «Нагрубил». И все понимают: Дмитрию Ивановичу нездоровится, он раздражен и раскричался… Ничего не поделаешь, надо ждать других — светлых минут.
Как всякого одаренного человека, Дмитрия Ивановича особенно увлекали задания, о которых кто-нибудь отозвался как о невыполнимых. Такие заявления необычно раззадоривали Менделеева, и в нем внезапно просыпалось озорное молодое желание блеснуть талантами, изумить, поразить людей, которые, увы, далеко не всегда могли даже понять и должным образом оцепить трудность и значимость содеянного. В 1904 году Дмитрий Иванович был у Э. Плеске, только что назначенного министром финансов. Вернулся он в радостном возбуждении, собрал сотрудников и сказал: «Ну, я в баню, и вы в баню, три дня не выходить за ворота. Обещал министру написать в эти три дня докладную записку о дальнейшем развитии Главной Палаты и напечатать. Министр высказал сомнение, что это можно сделать в такой короткий срок. Но мы ему докажем!»
И доказали: трое суток, не выходя из палаты, работал Дмитрий Иванович со своими сотрудниками, и записка была представлена в обещанный срок. Вот эту-то готовность к труду, знание дела и редкую квалификацию, которую каждый новый человек получал, работая в палате, хорошо знал и высоко ценил Дмитрий Иванович в своих сотрудниках. Явственнее и ярче всего его уважение и любовь к ним, забота управляющего о своих подчиненных проявились в 1900 году.
После завершения работ по возобновлению прототипов в деятельности Главной Палаты начался новый период, когда большую роль стала играть организационная работа по созданию сети поверочных палаток на территории всей страны. За выверку и наложение клейм на гири, аршины и измерительные приборы купцы и промышленники должны были вносить определенную плату. Постепенно деятельность Главной Палаты начала приносить все больший и больший доход, и как-то раз в распоряжении Менделеева оказалась довольно большая сумма денег для премирования сотрудников. И вот Дмитрий Иванович вместо выдачи премий задумал отправить всех своих служащих на Всемирную выставку в Париж.
Когда Витте увидал список командируемых, он ахнул: в списке числилось 16 человек, включая палатского слесаря и столяра. «Отказать», — тут же начертал министр на прошении. Узнав об этом, Дмитрий Иванович поехал к Ковалевскому и вручил ему прошение об отставке. Расстроившийся Ковалевский, как мог, успокоил Менделеева и, выбрав минуту, озабоченно спросил у Витте:
— Сергей Юльевич! Если бы дама, которую вы любите, сказала вам: «Купи шестнадцать аршин ленты, а то я из окошка выброшусь», что бы вы сделали?
— Разумеется, купил бы, — усмехнулся Витте.
— Ну, вот эта дама, которую мы оба очень любим, — Дмитрий Иванович Менделеев, подаст в отставку, если мы не пошлем в Париж шестнадцать его служащих, в том числе и слесаря и столяра. Он ничего не уступает, и его прошение об отставке у меня в кармане, а вот его ходатайство с вашей резолюцией.
Витте рассмеялся, зачеркнул «отказать», написал «исполнить», и вся менделеевская «команда», лишь вернувшись из Парижа, узнала, чем рисковал управляющий, добиваясь командировки. Это только один случаи, запомнившийся всем сотрудникам Менделеева. А сколько было других случаев, о которых, кроме самого Дмитрия Ивановича, знал лишь тот, с кем приключилась беда!
Василия Дмитриевича Сапожникова в Главной Палате прозвали «валерьяновыми каплями» — так успокаивающе действовал он на Дмитрия Ивановича. Бывало, нет Сапожникова, Менделеев сам не свой, сердится, грозится его уволить. Но стоило только Сапожникову появиться на пороге, и Дмитрий Иванович весь оживал: «Ах это он! Василии Дмитриевич, только не уезжайте сегодня».
И вот с Сапожниковым-то и случилась страшная беда: у него тяжело заболел единственный четырехлетним ребенок. Лечение потребовало больших средств, которых у Василия Дмитриевича не было, и тогда он в полном отчаянии решился истратить менделеевские деньги. Дело в том, что Дмитрий Иванович доверил Сапожникову продажу «Основ химии» для студентов, отчета долго не спрашивал, и у того накопилась изрядная сумма, которая и ушла почти вся на лечение. Василий Дмитриевич переживал страшно, думал о самоубийстве, но наконец решился и сказал все Менделееву.
Дмитрия Иванович вскрикнул, схватился за голову, прикрыл рукой глаза. Не поднимая головы, спросил:
— Вы знаете, как это называется?
— Дмитрий Иванович! Знаю, потому вам и сказал, — выдавил из себя Сапожников. — Ведь Митя умирал, Дмитрий Иванович!
Менделеев даже застонал, замахал руками, чтобы Сапожников не продолжал. Потом после долгого молчания сам нашел выход. В то время Демаков, владелец типографии, где Менделеев печатал свои труды, отстранялся от дел и продавал типографию своему управляющему Фролову. И вот что предложил Сапожникову Дмитрий Иванович: «Я должен буду отдать Демакову две тысячи рублей. Поговорите с Фроловым, не согласится ли он долг перевести на вас с рассрочкой».
Фролов согласился, и Сапожников был, можно сказать, возвращен к жизни.
В 1898 году в штат Главной Палаты впервые была зачислена женщина — О. Озаровская, написавшая потом воспоминания, очень живо воссоздающие образ Менделеева в последние годы жизни. Первое знакомство с грозным управляющим Главной Палатой состоялось в его кабинете.
— Будете декременты вычислять, — объяснял он. — Возьмете бумагу квадраченую, сошьете… э-э-э, тетрадь примерно в писчий лист, станете писать элонгации… э-э-э… А! Черт побирай! Если я все объяснять должен, так мне самому легче вычислить!
— Ничего, Дмитрий Иванович, — не оробела Озаровская, — я посмотрю и все пойму.
— Я вас к Василию Дмитриевичу направлю, — мирно сказал Менделеев. — Он для вас будет значить примерно то же, что я для него. А сам я разговаривать с вами не буду: я ведь корявый. Заплачете, пожалуй, краснеть будете… Я не могу! Через него все! Все через него-с. Когда думаете-с начать?
— Завтра.
— Не надо-с! Тяжелый день. Во вторник приходите.
«На пятый день моей работы, — пишет Озаровская, — Дмитрий Иванович позвал меня к себе.
— Надо сглаживать ряды наблюдений. Изволили заметить, давал вам формулы сглаживания Скипарелли. Это недостаточно. Надобен метод Чебышева. Мало кто им владеет. Кроме меня, может быть, пять человек в России. Так вот, если бы вы им овладели, были бы ценным человеком. Вот-с возьмите, тут в моей книжке найдете об этом способе, а вот мои расчеты. Может быть, поможет. Исчислите формулу для двадцати пяти случаев наблюдений. Одолеете? А?»
Озаровская одолела и на следующий же день была зачислена в лаборанты Главной Палаты. Когда она спросила у делопроизводителя А. Кузнецова, какие нужно представить документы, тот только горестно махнул рукой:
— Говорил ему, а он нагрубил. У меня, говорит, не полицейский участок, чтобы документы разбирать. Мне работники, говорит, нужны, а не их документы.
Спустя месяц в штат палаты была зачислена вторая женщина-лаборант, и Дмитрий Иванович так высоко ценил успехи своих сотрудниц, что как-то раз сказал, когда кто-то поинтересовался расчетами:
— А если что вычислять по формулам Чебышева, так это вы обращайтесь к барышням, к барышням, они на этом уж…
«Дмитрий Иванович должен был докончить «собаку съели», — вспоминает Озаровская, — но, должно быть, подумал, какой это неделикатный образ для деликатных существ, и закончил:
— Собачку скушали!»
Много позднее, желая похвалить ее подругу, он однажды сказал Озаровской:
— А ваша подруга на вас походит, вроде вас… э-э… Не редькой голова-с. Не редькой!
«Я тогда же поняла, — пишет Озаровская, — что это большой комплимент, и обрадовалась форме своей головы».
Через несколько дней после появления Озаровской в Главной Палате Дмитрий Иванович убеждал профессора Чельцова:
— Возьмите к себе барышню в лабораторию. Я так смотрю, что это полезно для смягчения нравов. Обо всем ведь приходится думать. И сейчас заметно уж у нас: пятый день не ругаемся. Чище как-то стали.
Но, откровенно говоря, «смягчение нравов» если и учитывалось Менделеевым при приеме на работу женщин, одна не могло всерьез рассматриваться в качестве главной причины. Дмитрий Иванович преследовал гораздо более основательные, можно даже сказать, государственные цели. Спустя четыре года после приема Озаровской и нескольких ее подруг на службу в Главную Палату он в официальном письме Ковалевскому так объяснял истинные причины своих действии:
«Участие образованных лиц женского пола в выверке мер и весов, на основании опыта в Главной Палате, где имеется 5 лаборантов женского пола, я считаю во всех отношениях благоприятным и желательным, так как от доверителей требуется, прежде всего, большая аккуратность, а она женщинам очень свойственна…
На основании вышесказанных соображений имею честь покорнейше обратиться к вашему превосходительству с просьбой официально и окончательно выяснить вопрос о возможности зачисления местными и запасными поверителями… лиц женского пола…»
Вот почему Дмитрий Иванович проявлял горячий интерес к работе сотрудниц Главной Палаты. Однажды, направляя ревизию в один из торговых участков, Дмитрий Иванович включил в число ревизоров двух женщин. Поздно вечером, когда комиссия вернулась, первым вопросом Менделеева было:
— Ну, главное, как к барышням-то, к барышням торговцы отнеслись? Удивлялись? Нет?
— Да совершенно так же, как и к нам, — ответил инспектор. — Ничуть не удивлялись, попросту.
— Да, верно, в торговом сословии попросту, у них ведь у самих бабы торгуют. Это верно. Я ведь сибиряк, а у нас в Сибири бабы каким угодно мужским делом ворочают… У нас в Сибири на это дело просто смотрят.
Человек 60-х годов, Дмитрий Иванович глубоко сочувствовал начавшемуся тогда движению за раскрепощение женщин. Он лично был знаком с первыми русскими женщинами-врачами — Н. Сусловой и М. Боковой, которая стала потом женой Сеченова, читал лекции по общей химии на Высших женских курсах в 1879–1880 годах и после смерти Бутлерова в 1886–1887 годах. Он лично знал С. Ковалевскую, Ю. Лермонтову, А. Волкову и многих других русских женщин-ученых, интересовался их работами, как мог поддерживал их. И тем не менее он не мог не видеть, что дело женского равноправия далеко не столь ясно и просто.
«Женщина в настоящее время при научных занятиях делается
Женщины-барыни, женщины-дамы — прямая противоположность женщин-аскетов — были еще менее симпатичны Менделееву. «Они убеждены, — говорил он, — что все на свете должно делаться только для них, для их радости, счастья, спокойствия… Они думают, что все мужчины не по них, что они имеют право выбирать мужей и ничего не делать самим. «Пусть, подлец, кормит, одевает, обувает»… Детей сдает нянькам и боннам, и ладно, а сама в гостиный двор, в театр».
Преодоление этих крайностей, считал Менделеев, выходит за рамки декларативно провозглашенного равноправия мужчин и женщин. «Если женщина займет со временем все места и права мужчин, то не будет гармонии, потому что по самой различности природы мужской и женской занятия их не могут быть одинаковы. Женщина должна заниматься искусством, как и исторически всегда занималась. Актеры и актрисы равны поэтому по силе таланта. Тут женщина не потеряет человеческого, потому что искусство
Дело должны найти для себя женщины — вот в чем видел Дмитрий Иванович сердцевину модного тогда «женского вопроса».
— Противны мужчины-шалопаи, — говорил он, — противны также и женщины-шалопаи… Не стремление к равноправию, а желание не шалопайничать, работать — в этом все и хорошее в женском вопросе.
Каждое лето менделеевская семья выезжала в Боблово. В новом доме, построенном по бумажному макету самого Дмитрия Ивановича, самой большой комнатой был его кабинет. Здесь стояли полки с книгами, узкая деревянная кровать, письменный стол, большое кресло, несколько стульев, да в углу на полу навалены были яблоки, которые разрешалось брать всем, кто сколько пожелает.
Обычно в Боблове Дмитрий Иванович отдыхал, не писал, а только читал, гулял, сидел в «колонии» — так назывался уголок сада, обрабатываемый младшими детьми. Но больше трех недель такой жизни он не выдерживал и уезжал либо в Петербург, либо за границу. Как-то раз в его отсутствие гостившая в Боблове Озаровская, перебирая книги на полке в кабинете Менделеева, с изумлением обнаружила детективные романы с «ужасами»: «Фиакр № 113», «Огненная женщина» и т. п. Тогда она впервые подумала о странности литературных вкусов Дмитрия Ивановича. А он в скором времени подлил масла в огонь: вернувшись из-за границы, радостно сказал ей:
— Что я из Парижа привез! Всего Дюма купил!
Близкие давно знали, что Дмитрий Иванович увлекается романами с приключениями. «Терпеть не могу этих психологических анализов, — говаривал он. — То ли дело, когда в пампасах индейцы снимают скальпы с белых, следы отыскивают, стреляют без промаха… Интерес есть… Или Рокамболь… Думаешь, он убит… А он, глядишь, воскреснет, и опять новые приключения». Знали они и его обычаи вставлять свои замечания, когда кто-нибудь читал ему эти романы вслух.
Но для Озаровской этот обычай Менделеева оказался ошеломляющей неожиданностью. Привезенного из Парижа Дюма ей очень скоро довелось читать больному Дмитрию Ивановичу вслух:
— «В это мгновение рыцарь поднялся, взмахнул мечом, и шесть ландскнехтов лежали распростертые на полу таверны…»
— Ловко, — одобряет с детским восторгом Дмитрий Иванович. — Вот у нас, — плаксиво продолжает он, намекая на «Преступление и наказание» Достоевского, — убьют человека и два тома мучений, а здесь на одной странице шестерых убьют, и никого не жалко…
— «— Прелестная Сюзанна! — воскликнул рыцарь, — продолжает читать Озаровская, — моя награда в ваших руках!»
— Поцелует, поцелует! Сейчас поцелует! — на высоких нотах кричит Дмитрий Иванович.
— «— Один поцелуй ваших прелестных уст вознаградит меня за все опасности, которым я подвергался…»
— Ага! Ловко! Что я сказал? Поцеловал! Поцеловал! Молодец!.. Отлично! Ну, дальше…
А когда чтение было окончено, Дмитрий Иванович, прощаясь, говорил:
— Ну вот и хорошо, все благополучно кончилось. Спокойно и уснуть можно. Много убийств, самоубийств, все хорошо кончается, люблю такие романы.
Затеяв с Дмитрием Ивановичем разговор о любимых писателях и книгах, Озаровская пришла в еще большее смущение: кроме Дюма, он назвал автора Рокамболя, Жюля Верна и Майн Рида. А на вопрос о Льве Толстом и Достоевском он простонал: «Мученья, мученья-то сколько описано! Я не могу… Я не в состоянии!»
Обо всем о том Озаровская писала, как бы краснея за Дмитрия Ивановича, стараясь смягчить могущее сложиться о нем неблагоприятное впечатление упоминанием о его любви к поэзии Тютчева. И было ей невдомек: дело не просто в том, чтобы читать великих писателей, но в том, чтобы читать их в соответствующем возрасте.
Трудно представить себе книгу, которая могла бы перевернуть жизнь, резко изменить взгляды или серьезно повлиять на мысли семидесятилетнего человека. Но в жизни 20—30-летнего человека прочитанное произведение великого писателя часто оказывается могучей силой, формирующей его мировоззрение, меняющей его взгляды, поступки и действия, помогающей по-новому увидеть и понять мир. Поэтому, говоря о литературных вкусах и интересах выдающегося человека, надлежит говорить не столько о книгах, которые он читал в старости, сколько о книгах, прочитанных им в молодые и зрелые годы.
«В молодости, — вспоминает сын Дмитрия Ивановича Иван, — отец читал художественную беллетристику и «классических» авторов. Но в более зрелые годы он сознательно к ним охладел…» Кроме этой, была и еще одна причина, из-за которой искаженные представления о литературных вкусах Менделеева распространились особенно широко. Об этой причине Иван Менделеев писал: «Отец… не любил профанировать высшие свои переживания и в грубой среде целомудренно как бы прикрывал их более элементарной оболочкой базаровских настроений «шестидесятника»… Но это была только видимость. Как только отец замечал, что находит понимание, перед слушателем раскрывался другой человек… Иногда отец вдруг цитировал наизусть целое стихотворение, в котором отражалась какая-нибудь малодоступная, выспренняя деликатная идея, которая, чтобы быть подмеченной, требовала глубокого сочувственного понимания». Способность к такому пониманию проявилась, быть может, ярче всего в том, что он, сумев ощутить огромную глубину и многозначительность поэзии А. Блока, даже и не принимаемой им полностью, не раз защищал поэта от нападок. «Отец, — писал Иван Менделеев, — читал… всю жизнь с жадностью путешествия, — например, Нансена, Норденшельда, Стэнли, Ионина… и любил некоторых древних авторов, особенно Плутарха и Платона… Таких писателей, как Шекспир, Гёте, Шиллер, Байрон, отец уважал, но считал во многом их все же отжившими, не отвечающими уже современной психологии, — ценными, но отнюдь не вечными. Но Сервантеса и Гоголя выделял на особое место, говоря, что они переживут тысячелетия… Отец не любил особенно Золя, Мопассана, Флобера, Дюма-сына, недолюбливал романы Л. Толстого и отчасти Достоевского за ложное, как он говорил, понимание жизни и искусства».
Отношение Дмитрия Ивановича к этим величайшим русским писателям было довольно сложное. Он преклонялся перед их могучим художественным даром и в своих трудах часто называл их «живописцами», «князьями слова». Но согласиться с ними во всем не мог.
Когда стало известно о смерти Ф. Достоевского, Дмитрий Иванович, испытавший на себе могучее влияние этого великого мастера, появился в университетской аудитории глубоко потрясенный и расстроенный этой смертью. Он долго расхаживал перед доской молча, а потом, поднявшись на кафедру, начал говорить о Достоевском. «Говорил он так, — вспоминал один из слушателей этой необычной лекции, — сделал такую характеристику, что, по словам студентов, не было ни до, ни после глубже, сильней и проникновенней. Пораженные студенты… тихо-тихо разошлись и навсегда сохранили память об этой лекции, на которой гений говорил о гении».
Менделеев не только читал книги Достоевского, но и лично был знаком с писателем. В период борьбы со спиритизмом они часто встречались, беседовали, и у Дмитрия Ивановича осталось какое-то двойственное впечатление от этих встреч.
В 1887 году, готовясь к полету на аэростате, Дмитрий Иванович познакомился с молодым графом Д. Олсуфьевым. В именин графа разместилась тогда большая экспедиция ученых для наблюдения солнечного затмения, и Менделеев перед полетом заезжал туда для консультации.
Полуторачасовой визит Дмитрия Ивановича произвел огромное впечатление на Олсуфьева, только что закончившего университет по курсу естественных наук. На следующее лето он зачастил в Боблово, и, когда к нему по-приятельски заехал сын Льва Толстого Сергей, Олсуфьеву не стоило труда уговорить его ехать к Менделееву.
«…Я подпал под его влияние… — описывал свою встречу с Дмитрием Ивановичем С. Толстой. — Виден был большой ум, чувствовалась большая жизненная энергия. Он любил говорить и говорил горячо и образно, хотя не всегда гладко. Он крепко верил в то, чем в данное время увлекался, и не любил возражений на свои, иногда смелые парадоксы. Этим и некоторыми другими чертами он мне напоминал моего отца. Между прочим, он жалел, что мой отец пишет против науки… Ваш отец, — говорил он, — воюет с газетчиками и сам становится на одну доску с ними. Он духа науки не понимает, того духа, которого в книжках не вычитаешь, а который состоит в том, что разум человеческий всего должен касаться; нет области, в которую ему запрещено было бы вторгаться…»
По всей вероятности, во время этих бесед он живо вспомнил свои встречи с Ф. Достоевским и побоялся, что личное знакомство с Л. Толстым произведет на него такое же двойственное, тревожащее впечатление. И спустя много лет, вспоминая о визите двух молодых естественников, он написал: «Олсуфьев сводил с Л. Н. Толстым, но я уклонился».
Но никакие опасения не могли умалить того огромного впечатления, которое всегда производило на Менделеева творчество Толстого. Произведения этого писателя глубиной наблюдения жизни, правдивостью ее изображения потрясали Дмитрия Ивановича. О том, как пристально он читал произведения Толстого и какую неожиданную пищу давали они его уму, можно судить по такому факту. В своих экономических статьях Менделеев уделяет много внимания различию между трудом и работой. О необходимости различать эти понятия много писал в своих набросках к «Диалектике природы» Ф. Энгельс, указывавший, что с помощью килограммометров нельзя оценивать квалифицированный труд. Дмитрий Иванович разработал эту проблему во всех деталях. «
И вот, чтобы получше объяснить эту разницу, Дмитрий Иванович привел пример, показывающий, как внимательно и вдумчиво читал он Толстого: «Труд, хотя бы и самый ничтожный по числу затраченных килограммометров, хотя бы состоящий только в одном
Люди, которым доводилось слышать Менделеева, утверждали, что грамматической усложненностью его речь напоминала чем-то речь Льва Толстого. «Он говорил, точно медведь валит напролом сквозь кустарник, — пишет литератор В. Ветринский, не раз слушавший лекции Дмитрия Ивановича, — так он шел напролом к доказываемой мысли, убеждая нас неотразимыми доводами. Впечатление, какое на меня производили всегда его лекции, я могу сравнить только с впечатлением от последних сочинений Льва Толстого: та же безграничная убежденность в том, что говорит каждый, и то же глубокое пренебрежение к внешней стороне фразы».
«Пренебрежение к внешней стороне фразы» и у Толстого и у Менделеева приводило к некоторой грамматической неправильности речи, но неправильность эта была такого рода, что она позволяла выражать нужную им мысль самым коротким образом.
Создается впечатление, что неокругленность, «корявость» у обоих авторов есть следствие свободного владения языковым материалом. Толстой не стеснялся, когда ему это нужно, писать: «
Литературные особенности произведений Дмитрия Ивановича заслуживают того, чтобы их изучением занялись специалисты-языковеды. Его язык, навсегда сохранивший нечто от тех исторических и критических разборов и от тех выписок из сочинений Ломоносова, Державина и Карамзина, которыми в годы своего студенчества в Главном педагогическом институте Дмитрий Иванович занимался у профессора российской словесности Лебедева, современному читателю покажется, возможно, несколько тяжеловесным, отдающим стариной. Но когда преодолеешь первое предубеждение, чтение захватывает, и тогда начинаешь понимать, что некоторая старомодность языка придает произведениям Дмитрия Ивановича терпкий и тонкий привкус той добротности, которой, увы, не избалован современный читатель.
Можно только поражаться гармоничности развития личности Менделеева, который всегда ухитрялся интересоваться и делать то, что надо, вовремя — ни раньше и ни позже. Студент Главного педагогического института Дмитрий Менделеев был заядлым меломаном. На склоне лет он признавался своему сыну Ивану, что в первый раз кровь пошла у него горлом после того, как он неистовствовал на галерке, вызывая какую-то знаменитую итальянскую певицу. По-видимому, среди приятелей Дмитрия Ивановича этот факт, как и его увлечение оперой, были хорошо известны, ибо в переписке уехавшего к Симферополь, а потом в Одессу Менделеева сохранилось немало упоминаний об опере и театре.
К тридцати годам интерес Менделеева к опере начал пропадать. В 1862 году после возвращения из Гейдельберга он записал как-то раз в дневнике: «…поехал посмотреть на Ристори — она играла на Мариинском театре в роли Беатрисы… роль трудная, но не говорит душа — недоволен театром». Позднее Дмитрий Иванович окончательно охладел к опере. Но могучее действие музыки на душу Менделеева сохранилось до последних дней его жизни.
В 1886 году обстоятельства сложились так, что Дмитрий Иванович смог наслаждаться очередным и высочайшим триумфом периодического закона всего лишь полгода: предсказанный им германий был открыт в феврале, а уже в сентябре Крукс произнес в Бирмингеме свою знаменитую речь «О происхождении химических элементов». Эта речь всколыхнула давние, затихшие было споры о единстве материи и положила начало той полемике, которая, то усиливаясь, то ослабляясь, тянулась несколько десятилетий, отравив последние годы жизни великого «генерализатора химической науки».
С тех пор как в химии было окончательно установлено представление о простейшем веществе — элементе, — вопрос о том, сколько должно быть элементов, считать ли их самостоятельными, неизменными сущностями или разновидностями некой единой субстанции, не переставал волновать химиков.
Поначалу эти споры велись на почве чисто умозрительных гипотез. И А. Лавуазье был прав, когда говорил: «Все, что можно сказать о числе и природе элементов, это, по моему мнению, только метафизические рассуждения, это значит браться за неопределенные проблемы, которые могут быть разрешены на бесчисленное количество ладов, причем, вероятно, ни одно решение не соответствует природе вещей».
Атомистическая теория Джона Дальтона позволила перевести разговор на язык цифр: стало возможным характеризовать элементы одним числом — атомным весом. И как только накопились соответствующие измерения, появилась гипотеза У. Праута…
Праут, практикующий лондонский врач, любительски занимавшийся химией, в 1815 и в 1816 годах опубликовал две статьи, в которых заявлял о том, что атомные веса элементов должны быть в точности кратны атомному весу водорода, что никаких дробных значений атомных весов быть не может и если они есть, то, значит, измерения произведены недостаточно точно; что, наконец, должен существовать «протил» — единая первичная материя, из которой состоит все сущее. Идеи Праута разделили химиков на дна лагеря. Одни поддерживали его идею о единстве материи, другие отрицали. И наконец, в 1860-х годах бельгийский химик Ж. Стас проводит серию кропотливейших исследований, долженствующих прямым опытным путем установить, существуют или нет дробные атомные веса. Результаты этих опытов нельзя было бы назвать эффективными — небольшая табличка сотни раз перепроверенных чисел. Но эта табличка Стаса оказалась многозначительной для химиков того времени: атомные веса многих элементов были дробными…
Много занимаясь сопоставлением свойств различных элементов, Менделеев до появлении работ Стаса был склонен думать, что в гипотезе Праута что-то есть. Но, как естествоиспытатель, привыкший снова и снова пересматривать свои умозрительные соображения, каждый раз приводить их в соответствие с опытными данными, он сразу оцепил достоверность таблички Стаса.
Приняв измерения Стаса и вытекающие из них последствия: множественность и взаимную непревращаемость элементов, положив эти идеи в основу периодической системы, Дмитрий Иванович спустя 15–20 лет, естественно, не считал нужным ни с того ни с сего отказаться от принципов, давших такие плодотворные результаты, и принять ничем еще не прославившуюся идею единства материи.
В множественности элементов Дмитрия Ивановича убеждало и то, что никто еще не наблюдал превращения одного элемента в другой и что спектральное изучение космических тел неизменно свидетельствовало: элементы распространены до отдаленнейших светил и выдерживают, не разлагаясь, самые высокие космические температуры.
Бирмингемское выступление У. Крукса, воскресившее в обновленном виде праутовский «протил», вывело Дмитрия Ивановича из себя. Безукоризненному предшествующему опыту всей химии Крукс противопоставлял туманные аналогии, вроде распространения дарвиновской идеи об эволюции на химические элементы.
Выступление Крукса широко обсуждалось в русских научных кругах. Как-то раз после оживленного заседания в физическом обществе Дмитрий Иванович, А. Столетов и К. Тимирязев проспорили до поздней ночи о единстве материи. Наконец Дмитрий Иванович, исчерпав все свои доводы и разгорячившись до предела, буквально простонал:
«Александр Григорьевич! Клементий Аркадьевич! Помилосердствуйте! Ведь вы же сознаете свою личность. Предоставьте же и Кобальту и Никелю сохранить свою личность».
«Мы переглянулись, — вспоминал потом Тимирязев, — и разговор быстро перешел на другую тему…»
Десятилетие, последовавшее за 1886 годом, было относительно спокойным для периодической системы, хотя, кроме умозрительных споров о единстве материи, Дмитрия Ивановича продолжали беспокоить «три предмета, касающиеся периодического закона и до сих пор с ним не согласованные». Предметами этими были: кобальт, который, несмотря на меньший атомный вес, был помещен Менделеевым перед никелем, теллур, помещенный перед более легким йодом, и необычное положение редкоземельных элементов, которые все пришлось расположить как бы в одной клетке таблицы. Дмитрий Иванович понимал, что за этими мелкими на первый взгляд неправильностями могут крыться как неточности измерений, так и глубокие фундаментальные противоречия. Однако на первых порах исследования, ведущиеся в этом направлении рядом химиков, не предвещали угрозы целостности менделеевского детища.
Но Дмитрий Иванович ощущал приближение серьезнейших испытаний для периодического закона. И чувства его были настолько обострены, что по первым коротким и невнятным сообщениям он безошибочно угадал важность открытий, которым было суждено подвергнуть решительному испытанию периодический закон…
Когда 13 августа 1894 года английский химик У. Рамзай на заседании Британской ассоциации в Оксфорде сделал первое сообщение об открытии в воздухе нового газа, более инертного, чем азот, оно было встречено хотя и с интересом, но без особого доверия. Воздух изучали так давно и так основательно, что трудно было поверить, будто в нем удалось обнаружить нечто новое. Но поскольку Рамзай и Д. Рэлей в течение нескольких последовавших месяцев сделали ряд докладов и сообщений, в которых доказывалось, что открытый ими газ — они назвали его аргоном — есть новый элемент, среди ученых вспыхнули горячие дискуссии. Одни считали, что аргон — элемент, другие — что он сложное тело, возможно, надеятельная разновидность азота, состоящая из трех атомов.
Дмитрий Иванович, никогда не допускавший мысли о возможности существования элементов, не ложащихся в периодическую систему, тоже поначалу склонялся ко второму мнению. 12 февраля 1895 года он телеграфировал Рамзаю: «Поздравляя открытием аргона, думаю, молекула содержит три азота, образуемые выделением тепла». Сразу поняв всю глубину душевного волнения Менделеева, Рамзай поспешил заверить Дмитрия Ивановича: «Периодическая классификация совершенно отвечает его (аргона) атомному весу, и даже он дает новое доказательство закона периодичности». Успокоенный Менделеев 2 марта 1895 года на заседании Русского физико-химического общества твердо заявил: все свидетельствует в пользу того, что аргон — элемент. Но поскольку в письмах Рамзая не указывалось, «каким именно образом… получено упомянутое соглашение атомного веса аргона с периодическою законностью», Дмитрий Иванович немедленно поручил Блумбаху, находившемуся в то время в Лондоне по метрологическим делам, узнать у Рамзая подробности открытия.
По поручению Менделеева Блумбах посетил Рамзая в его лаборатории, где англичанин любезно сообщил ему еще не опубликованные данные об аргоне. В частности, Рамзай сообщал, что «аргон» встречается в минерале клевеите вместе с «гелием».
«Когда я осмелился повторить в вопросительном тоне слово «гелием», — вспоминал Блумбах, — то получил короткое выразительное замечание: «Сейчас увидите у меня в лаборатории спектр гелия». Через полчаса Рамзай показал мне в спектроскопе желтую спектральную линию».
Известие о том, что Рамзай открыл, точнее переоткрыл, гелий, в короткое время стало сенсацией. Еще в 1868 году французский астроном П. Жансен и английский астрофизик Н. Локьер независимо друг от друга обнаружили в спектре солнечной короны яркую желтую линию, которую они приписали новому, не обнаруженному на Земле элементу. Четверть века гелий — солнечный — так предложил Локьер называть новый элемент — оставался загадкой — гипотетическим элементом, существование которого связывалось только с солнцем. И вот теперь Рамзай мог, как говорится, потрогать гелий на ощупь… Письмо Блумбаха заставило Дмитрия Ивановича поторопиться, и, когда весной 1895 года он приехал в Лондон, в научных кругах только и было разговоров, что о гелии и об аргоне.
И вот что удивительно: если до поездки в Лондон, основываясь на первых скупых сообщениях, Дмитрий Иванович был склонен уверенно говорить об аргоне и гелии как о новых элементах, то после пребывания в Англии у него вдруг появляется какая-то неприязненная неуверенность в этом. «Предмет мало продвинулся вперед», «материала для его разрешения мало», «дело представляется неясным» — вот характерные обороты его послелондонских выступлений и публикаций. Думается, что в такой перемене отношения сыграл большую роль визит к Локьеру, который с самого начала считал гелий первичной материей, из которых построены все элементы. «Локьер, — вспоминал Менделеев об этом визите, — руководимый идеями астрономического свойства и мечтательными представлениями о первичной материи, стал искать новых газов в минералах. Его лаборатория вся установлена рядами пробирок с газами… Вот что особенно красиво говорит Локьер, справедливо или нет — вопрос второй. В солнечном спектре известно около 3000 фраунгоферовых линий; из них лишь около 1000 принадлежат известным элементам; Локьер думает, что линия спектров газообразных тел из минералов и суть недостающие спектральные линии солнца. Доказывает это первичную материю, как полагает Локьер, или нет, во всяком случае, надо думать, что его исследование расширяет наши познания о химических элементах».
Но, пожалуй, самую главную роль в перемене его отношения к гелию и аргону было то, что первоначальные мысли Рамзая о месте аргона в периодической системе элементов не оправдались. Во время визита в его лабораторию Менделеев застал там Марселена Бертло. Рамзай показывал гостям свои установки для выяснения природы аргона и с грустью признался: он решительно не знает, что такое аргон.
В ученых кругах поползли слухи о низвержении периодической системы, не могущей вместить вновь открытые элементы, и эти разговоры в течение трех лет доставляли Дмитрию Ивановичу неприятные волнения. Но вот в течение трех месяцев 1898 года Рамзай открывает три новых элемента: криптон, неон и ксенон. Его новое открытие разом изменило всю ситуацию, ибо пять инертных газов, обладающих нулевой валентностью, составили целую группу периодической системы элементов.
Это была победа, вырванная из поражения, — настоящий триумф периодического закона. «По образцу учителя нашего Менделеева, — вспоминал Рамзай, — я описал, поскольку возможно было, ожидаемые свойства и предполагаемые отношения газообразного элемента, который должен был заполнить пробел между гелием и аргоном. Я мог бы предсказать также еще два других элемента, но предполагал, что нужно быть очень осторожным при предсказаниях».
Любопытно, что Дмитрий Иванович еще в 1869 году на основе только что установленной им периодической зависимости предугадывал, что должны находиться какие-то элементы между фтором и натрием, калием и хлором, водородом и литием. Черновой набросок с соответствующими расчетами в 1950-х годах был обнаружен в архиве ученого. Но он, по-видимому, совершенно забыл об этой догадке, так как спустя 33 года даже не вспомнил о ней, когда писал: «Сопоставление ат. весов аргоновых элементов с ат. весом галоидов и щелочных металлов словесно сообщил мне 19 марта 1900 года проф. Рамзай в Берлине… Для него это было весьма важно как утверждение положения вновь открытых элементов среди других известных, а для меня как новое блистательное утверждение общности периодического закона».
Итак, открытие Рамзая, так обеспокоившее Дмитрия Ивановича в 1895 году, еще раз подтвердило могущество принципов, заложенных в основу периодической системы. Но последние годы великого химика были отравлены тем мучительным разладом, который вносили в его представления быстро развивающиеся исследования в области радиоактивности, начавшиеся в 1896 году…
«…Мне лично, как участнику в открытии закона периодичности химических элементов, — не раз говорил Менделеев в своих спорах со сторонниками первичной материи, — было бы весьма интересно присутствовать при установке данных для доказательства превращения элементов друг в друга, потому что я тогда мог бы надеяться на то, что причина периодической законности будет открыта и понята». И эти слова объясняют, почему в его статьях, написанных в конце девяностых годов, такое неоправданно большое место отведено «аргентауруму» Эмменса.
С тех пор как химия окончательно стряхнула с себя шелуху алхимии и стала настоящей наукой, получение золота из других металлов, казалось, навсегда удалилось в область преданий. И хотя даже в XIX веке не было недостатка в компаниях вроде «Общества для превращения свинца в золото при помощи пара», в научных кругах считалось уже просто неприличным всерьез говорить о такой возможности. И вдруг весной 1897 года стало известно, что американский химик С. Эмменс создал синдикат «Аргентаурум» (термин составлен из латинских названий серебра — аргентум — и золота — аурум). А в последовавших затем корреспонденциях сообщалось, что в течение нескольких месяцев синдикат получил из серебряных мексиканских долларов девятнадцать золотых слитков, из которых восемнадцать после тщательных анализов приобрело казначейство США, а девятнадцатый — синдикат английских капиталистов.
Газеты подняли вокруг «Аргентаурума» огромный шум, и это удивляло Менделеева. Эмменс очень удачно выбрал момент: весь мир тогда волновался вопросом о преимуществах и недостатках чистого золотого и двойного денежного обращения, при котором золото и серебро считались равноправным денежным материалом. Для экономиста Менделеева не составляло большого труда понять истинный смысл эмменсовского предприятия. Сообщение о дешевом способе превращения серебра в золото очень на руку владельцам серебряных рудников…
Взяться за перо Менделеева побудили не столько сами корреспонденции об авантюристе от науки, сколько реакция на них части русского общества. Он с грустью убеждался: достаточно нескольких газетных заметок, и люди, называющие себя образованными, готовы принять на веру самые дикие алхимические утверждения и осыпать науку попреками и намеками. Он с раздражением читал письма дилетантов, которые от него или требовали объяснении, или прямо указывали на необходимость оставить существующие в науке представления о непревращаемости химических элементов друг в друга. Он с гневом выслушивал химиков, которым эмменсовское открытие «было очень на руку по их излюбленному представлению о единстве материи и о эволюционизме вещества элементов». Именно эти причины побудили его резко выступить против Эмменса, а позднее и против сообщений о превращении фосфора в мышьяк. И, отражая эти лобовые атаки на периодический закон, Дмитрий Иванович поначалу не оценил той угрозы, которую несли его детищу другие сенсационные открытия тех лет, и в первую очередь исследования А. Беккереля и супругов П. и М. Кюри.
Первое сообщение о том, что в 1896 году французский физик А. Беккерель обнаружил таинственные лучи, испускаемые солями урана, прошло почти мимо внимания Менделеева. Но два года спустя он получил письмо, приведшее его в состояние крайнего возбуждения. Давний сотрудник Дмитрия Ивановича И. Богусский, тот самый, с которым он в 1870-х годах занимался разреженными газами и который потом поехал профессорствовать в Варшаву, писал об интереснейших работах своей кузины Марии: «Сестра моя г-жа Кюри-Склодовская… открыла два элемента: радий и полоний. Первый несомненный, я получил уже рисунок его спектра, но второй (полоний) труднее изолировать… Может быть, он окажется экасурьмой. Радий похож на барий… а все его соединения испускают огромное количество вторичных лучей X».
Упоминание об Х-лучах заставило Менделеева поморщиться. Давно ли Крукс, открывший катодные лучи, носился с идеями четвертого состояния вещества и единой материи, а совсем недавно, в 1897 году, другой английский физик, Дж. Томсон, из исследования этих самых катодных лучей сделал даже вывод о существовании мельчайших заряженных частичек — «электронов». Да еще не удержался и заявил, не имея к тому достаточно веских оснований, будто электроны и есть первичная материя и будто химические элементы отличаются друг от друга лишь количеством электронов, из которых состоят их атомы… «Признание распадения атомов на «электроны», — грустно размышлял Менделеев, — на мой взгляд, только усложняет и ничуть не выясняет дело, столь реальное со времен Лавуазье…»
Исследования радиоактивности вызывали у Дмитрия Ивановича противоречивые чувства. С одной стороны, открытие радия, полония, актиния давало периодическому закону новое блистательное подтверждение. Но очень уж его смущали эти таинственные лучи… Жизненный опыт старого человека подсказывал ему: где таинственность — там свобода умозрениям, туманным рассуждениям о первичной материи, о четвертом состоянии вещества… И предчувствия не обманули его.
В начале 1900 годов стало известно, что англичанин Э. Резерфорд в Канаде обнаружил странный радиоактивный газ (Резерфорд назвал его эманацией), излучаемый в окружающую атмосферу соединениями тория. Почти одновременно с ним Дорн в Германии обнаружил эманацию, испускаемую соединениями радия. По истечении некоторого времени в спектрах этих эманации начинали появляться линии недавно открытых инертных газов, в частности гелия. В научных кругах заговорили о самопроизвольном распаде радиоактивных элементов и о превращении их в другие элементы.
Обеспокоенный не на шутку Менделеев во время очередной заграничной поездки весной 1902 года решил посетить лаборатории Беккереля и супругов Кюри. Он был принят очень любезно. «Все, что можно, радиоактивное видел», — с удовлетворением записал он в своей записной книжке. И действительно, коллеги показали ему все — и приборы, и бесценные препараты, и наиболее интересные эксперименты. Беккерель даже продемонстрировал Дмитрию Ивановичу язву — страшный след, оставленный на его теле препаратом радия, легкомысленно положенным в жилетный карман. Когда Дмитрий Иванович рассматривал микроскопические препараты, все его чувства восставали против того, что эти ничтожные крупицы радия таят в себе смертельную, как ему казалось, угрозу стройности периодической системы. Но конечно, с любезными хозяевами он ни словом не обмолвился о том, что его мозг лихорадочно искал другие объяснения их опытам и наблюдениям.
«По моему мнению, — писал он через несколько месяцев после своего визита, — в настоящее время радиоактивность можно считать свойством или состоянием, в которое могут прийти довольно разнообразные… вещества, подобно тому, как некоторые тела могут быть намагничены, и на радиоактивные вещества можно глядеть как на такие, которые способны приходить в такое состояние». И здесь давний оппонент Дмитрия Ивановича Крукс как будто даже подтверждал соображения Менделеева своими экспериментами: он заявлял, что ему удалось получить уран, совершенно лишенный радиоактивности.
Уезжая из Парижа, Дмитрий Иванович увозил воспоминание о поразившем его опыте, показанном супругами Кюри. Прибор состоял из двух колб, соединенных трубкой с притертым краном. В одной — студенистая масса сернистого цинка, в другой — раствор радиоактивного вещества. Поворот крана, и сернистый цинк в колбе начинает сиять ярким фосфоресцирующим светом. Новый поворот, и свечение медленно-медленно начинает гаснуть, возобновляясь при новом открытии крана. У Менделеева сложилось впечатление, что из радиоактивного вещества истекает нечто материальное, «что в радиоактивное вещество входит и из него выходит особый тонкий эфирный газ (как комета входит в солнечную систему и из нее вырывается), способный возбуждать световые колебания…».
В октябре 1902 года Дмитрий Иванович приступил к работе над статьей «Попытка химического понимания мирового эфира». Великие механики и оптики XVII века, стремясь решить проблемы тяготения и распространения света, видели в эфире некую субстанцию, «откликавшуюся» только на свет и тяготение и лишенную каких-либо других свойств. Подход Менделеева к вопросу об эфире был совсем иным. «Уже с 70-х годов у меня назойливо засел вопрос, — писал он, — да что же такое эфир в химическом смысле?.. Сперва я полагал, что эфир есть сумма разреженнейших газов в предельном состоянии… Но представление о мировом эфире как предельном разрежении паров и газов не выдерживает даже первых приступов вдумчивости…»
В самом деле, эфир должен быть всюду однообразен: должен быть весом, но с легкостью должен проницать все тела и при этом не вступать с ними в химическое взаимодействие; наконец, он должен сжиматься под действием высоких давлений. Пары и газы, даже в разреженном состоянии, не способны удовлетворить этим требованиям. Но им, по мнению Дмитрия Ивановича, мог удовлетворить легчайший из всех инертных газов.
«В 1869 году… у меня мелькали мысли о том, что раньше водорода можно ждать элементов, обладающих атомным весом менее 1, но я не решался высказываться в этом смысле по причине гадательности и особенно потому, что тогда я остерегся испортить впечатление предполагавшейся новой системы… Теперь же… мне кажется невозможным отрицать существование элементов более легких, чем водород».
Основываясь на числовых закономерностях периодической системы и привлекая ряд астрономических соображений, Дмитрий Иванович попытался описать свойства двух инертных газов, предшествующих в таблице водороду и гелию. Первый из этих газов, обозначенный буквой У, был, по мнению Менделеева, тем самым «коронием», спектр которого наряду со спектром гелия Локьер обнаружил в короне солнца еще в 1869 году. Его атомный вес, по оценке Дмитрия Ивановича, должен был быть около 0,4. Атомный вес второго инертного газа, обозначенного буквой X, должен был быть близким к 0,0000001, а средняя скорость его атомов — 2250 м/сек. Вот этот-то элемент (Дмитрий Иванович предлагал называть его «ньютонием») и следовало, по его мнению, рассматривать как мировой эфир.
Будучи весомыми, атомы «ньютония», хотя и заполняют все пространство, но преимущественно скапливаются близ больших центров притяжения. В мире светил это Солнце и звезды, в мире атомов — атомы тяжелейших элементов. «Это не будет определенное соединение, которое обуславливается согласным общим движением, подобным системе планеты и ее спутников, — писал Менделеев, — а это будет зачаток такого соединения, подобный кометам — в мире небесных индивидуальностей… Если же допустить такое особое скопление эфирных атомов около частиц урановых и ториевых соединении, то для них можно ждать особых явлении, определяемых истечением части этого эфира…»
Конечно, Дмитрий Иванович не мог не чувствовать, сколько натяжек, сколько туманных аналогий, сколько не подтвержденных опытом гипотез содержится в таком объяснении радиоактивности. Его статья наполнена оговорками, как бы извинениями за ту смелость, с которой он предсказывает гипотетические элементы; подчеркиваниями трудности и запутанности вопроса. «Я бы охотно еще помолчал, но у меня уже нет впереди годов для размышления и нет возможностей для продолжения опытных попыток, а потому решаюсь изложить предмет в его незрелом виде, полагая, что замалчивать — тоже неладно».
Широкую публику подкупила эта откровенность и смелость менделеевской статьи. Каким-то внутренним чутьем читатели уловили, что за этими оговорками и извинениями кроется драматическая борьба великого ума за сохранение выстраданного и глубокого научного мировоззрения. «Попытку химического понимания мирового эфира» много читали, о ней много толковали. «Ее потом воспроизвели даже на эсперанто, — писал Дмитрий Иванович, — а я считаю неважною».
Видимо, желая с максимальной ясностью высказать свои взгляды, он в очередном — седьмом — издании своих «Основ химии» писал: «Мне кажется, что радиоактивность связана со свойством вещества поглощать из окружающего пространства и выделить в него особое, еще неизвестное вещество, быть может, близкое к тому, которое образует мировой эфир и проницает все тела. Особым указанием в этом последнем отношении служат два обстоятельства: во-первых, то, что в урановых и торцевых минералах найдены гелий, аргон и т. п. газы… а эти газы, по-видимому, составляют своего рода переход к веществу, наполняющему небесное пространство; и, во-вторых, то, что г. Кюри и др. при накаливании природных урановых соединений получили газ, обладающим радиоактивными свойствами, но их теряющий».
Создается впечатление, что с 1902 года Менделеев перестал пристально следить за появляющимися в изобилии новыми работами по радиоактивности. По-видимому, он не мог всерьез воспринимать утверждения о превращениях элементов, и в 1904 году в письме к одному из своих коллег он с раздражением пишет о том «полуспиритическом состоянии, в которое ныне хотят вовлечь нашу науку». Кончается это письмо словами: «Нам надобно ее отстаивать, покуда еще можем действовать».
И Менделеев действовал. В 1903–1904 годах в Главной Палате начали проводиться первые в России исследования радиоактивности. А Дмитрий Иванович готовился к новым работам. «Чтобы идти далее в познании самих атомов, — писал он, — неизбежно выяснить опытным путем исходные понятия о массе, о притяжении и об «эфире»…» Для выполнения этой задачи в Главной Палате сооружалась железная труба высотой 35 метров, был заказан золотой шар стоимостью в 75 тысяч рублей для изготовления маятника, с помощью которого Менделеев собирался изучать законы тяготения. Но, увы, осуществить эту смелую программу исследований Дмитрию Ивановичу не пришлось…
Радиоактивность, электроны, взаимопревращения элементов доставили творцу периодической системы немало переживании и тягостных раздумий. Но ни на единый миг не усомнился он в своем детище. «Периодическому закону, — твердо написал он за полтора года до смерти, — будущее не грозит разрушением, а только надстройки, и развитие обещается». И последовавшие события подтвердили его правоту.
Они показали, что периодическую систему к какой-то степени можно считать произведением искусства. Располагая недостаточной информацией, не зная высшего закона, управляющего периодической изменяемостью химических элементов, Дмитрий Иванович возвел стройное и совершенное здание периодической системы по вдохновению, как создает свои шедевры великий ваятель или художник. Вдохновение и интуиция не обманули его. Он сделал все абсолютно правильно, и ни одно последующее открытие не внесло в периодическую систему сколько-нибудь серьезных изменении. Более того, все беспокоившие его на склоне лет угрозы одна за другой обернулись новыми триумфами периодического закона.
Все это произошло уже после смерти Менделеева, но тогда, на переломе столетий, он не мог даже предполагать, что открытия, доставившие ему столько волнений и переживаний, есть начало блестящих успехов в решении, той главной задачи, которую он сформулировал еще в 1889 году. «…Периодическая изменяемость простых и сложных тел, — писал он в пятом издании «Основ химии», — подчиняется некоторому высшему закону, природу которого, а тем более причину, ныне еще нет средства охватить. По всей вероятности, она кроется в основных началах внутренней механики атомов и частиц».
Рентгеновские лучи, радиоактивность, первые опыты взаимопревращении элементов положили начало стремительному развитию той области знании, где химия тесно сплетена с «внутренней механикой атомов и частиц», где периодическая система неизменно оставалась надежным путеводителем для исследователей и где каждое новое открытие, обращенное на саму систему, постепенно все яснее и яснее раскрывало тот «высший закон», который управляет периодичностью свойств элементов.
Столетие — отличный срок для подведения итогов. И трудно сыскать в истории науки открытие, которое, подобно периодическому закону, все время оставалось бы в центре научных интересов человечества на протяжении целого столетия. «Каждая гениальная работа характеризуется двумя чертами, — говорил на X юбилейном съезде в сентябре 1969 года английский химик Ч. Коулсон, — в ней говорится о большем, чем известно в данное время, и она может плодотворно развиваться в направлениях, которые еще нельзя предвидеть. По обоим этим признакам периодическая система является работой гения».
И действительно, периодическая система за прошедшие с момента ее открытия сто лет показала колоссальную способность к развитию, которое постепенно изменяло и уточняло даже самую формулировку периодического закона. Советский химик профессор В. Семишин считает, что в изменении формулировок периодического закона можно выделить три этапа, отражающих глубину наших знаний и представлений о структуре материн. И, как ни удивительно, при переходе от одной формулировки к другой система становилась все стройнее, и одна за другой исчезали все те шероховатости, противоречия и нарушения, которые так долго беспокоили Дмитрия Ивановича.
Начало первому — химическому — этапу положила формулировка самого Менделеева:
Система по этому принципу строится очень просто: все элементы, от легчайшего водорода до тяжелейшего урана, располагаются в порядке возрастания их атомного веса. Поскольку свойства элементов через определенный период повторяются, их можно разбить на восемь групп, каждая из которых характеризуется одинаковой максимальной валентностью. Мы уже знаем, как удачно еще при жизни Менделеева разрешился вопрос с инертными газами, составившими еще одну — нулевую — группу.
Но сколько непонятного содержится в периодической системе на
Исследования, к которым с такой тревогой присматривался Менделеев, шли и шли своим чередом, пока в 1913 году ряд открытий не убедил ученых в том, что атомы — это не однородные упругие шарики, а сложные системы, состоящие из очень плотного, положительно заряженного ядра и движущихся вокруг него электронов, образующих так называемую электронную оболочку атома.
И оказалось: заряд ядра в точности равен порядковому номеру, под которым тот или иной элемент стоял в периодической системе. Ничего не зная о сложном строении атома, не подозревая о существовании ядер и электронных оболочек, Дмитрий Иванович расположил все элементы в точном соответствии с возрастанием заряда их ядра. Вскоре были открыты изотопы — элементы с одинаковым зарядом ядра и разными атомными весами. С этого момента менделеевская формулировка периодического закона стала звучать иначе:
Новая формулировка объяснила многое, что прежде было неясным: теперь можно было смело утверждать: между водородом с зарядом ядра, равным 1, и гелием с зарядом ядра, равным 2, не может быть промежуточных элементов. Между водородом и ураном можно разместить лишь те 90 элементов, которые указал Менделеев, поэтому никакой фундаментальной перестройки внутри периодической системы в будущем не предвидится. Наконец, нашло исчерпывающее объяснение помещение более тяжелых аргона, кобальта и теллура перед более легкими калием, никелем и йодом: заряд ядра первых ровно на единицу меньше, чем у вторых. Интуиция позволила Менделееву пренебречь тем случайным фактом, что в природных аргоне, кобальте и теллуре содержится тяжелых изотопов больше, чем в природных калии, никеле и йоде.
И тем не менее новая формулировка не отвечала на вопрос, почему при монотонном возрастании атомного веса и заряда ядер свойства элементов меняются периодически. Ответ на этот вопрос дало изучение электронных оболочек атомов, которые оказались построенными по строгим математическим законам. Так, атом водорода состоит из ядра и вращающегося «округ него одного-единственного электрона. В атоме гелия — 2 электрона, вращающихся примерно на одном уровне. Переход к литию добавляет еще одна электрон. Но стоп! Первый, ближайший к ядру уровень может содержать лишь 2 электрона, поэтому в литии третий электрон открывает счет на более далеком от ядра втором уровне. В отличие от первого этот уровень для насыщения требует 8 электронов, и постепенный переход от лития, с одним электроном на втором уровне к неону с восемью дает нам второй период из восьми элементов. Третий уровень может содержать еще 8 электронов — так возникает третий период системы от натрия до аргона. Примерно такая же картина и в пятом периоде, содержащем еще 18 элементов.
В шестом периоде картина усложняется еще больше. В него входят редкоземельные элементы, у которых на внешнем — шестом уровне находятся два электрона, а число электроном на четвертом уровне последовательно растет с 18 до 32, поэтому в шестом периоде содержится уже 32 элемента.
Конечно, реальная картина неизмеримо сложнее приведенного здесь схематического описания, но даже его достаточно, чтобы оценить глубину формулировки менделеевского закона на новом, электронном, этапе:
…Однажды на полях личного экземпляра «Основ химии» Дмитрий Иванович написал: «Естествознание учит, как форма, внешность отвечает внутренности… Так кристаллическая форма и вид соли отвечают их внутреннему виду… Это равновесие внешнего с внутренним проявляется, когда мы музыкою, игрою лица, живописью узнали внутреннее, — это секрет знания».
«Электронная» формулировка периодического закона дает почти исчерпывающее описание химической внешности элементов. Но разгадка самих электронных структур потребовала проникновения в еще большие глубины строения материи. Было выяснено, что электронные оболочки атомов есть внешнее отображение внутренней структуры их ядер, состоящих из положительно заряженных протонов и не несущих заряды нейтронов. Эти частицы, из которых состоят ядра атомов, называют нуклонами. Именно количество и соотношение нуклонов в ядре полностью определяют его строение.
Ясное понимание этого факта открыло новый — ядерный — этап в развитии периодического закона, который формулируется теперь так:
Вся глубокая индивидуальность атома оказалась спрятанной в его ядре. Вот почему из рук химиков периодическая система в 1930-х годах окончательно переместилась в руки физиков-ядерщиков, внесших за последнее десятилетие колоссальный вклад в открытие новых элементов.
За 38 лет, прошедших со дня открытия периодического закона до смерти Менделеева, было открыто химическими методами 23 элемента. В последующие тридцать лет усилиям химиков поддались еще три элемента — протактиний, гафний и рений. И к 1937 году между водородом и ураном остались незаполненными всего четыре клетки — 43, 61, 85 и 87.
Открытие этих элементов можно считать настоящим торжеством науки, ибо они, строго говоря, не были открыты. Они были созданы искусственно: № 43 — технеций — в 1937 году, № 87 — франций — в 1939 году, № 85 — астат — в 1940 году, № 61 — прометий — в 1947 году.
В ходе этих синтезов были получены еще более фантастические результаты: физики-ядерщики получили нептуний и плутоний — элементы с большим атомным номером, чем у урана, который во времена Менделеева замыкал периодическую систему. Вслед за этими элементами американские ученые синтезировали семь трансурановых элементов, не существующих в природе. В их числе оказался и элемент № 101. В 1958 году в распоряжении физика Г. Сиборга было всего 100 атомов этого доселе невиданного металла. И, поддерживая лучшие научные традиции XIX века, которым всегда следовал Дмитрий Иванович, американские ученые нарекли новый элемент «менделевием». «В знак признания пионерской роли великого русского химика Дмитрия Менделеева, — писал в своей статье Сиборг, — который первым использовал периодическую систему для предсказания химических свойств еще не открытых элементов, — принцип, который послужил ключом для открытия последних семи трансурановых элементов». А в 1964 году группа советских физиков, возглавляемая академиком Г. Флеровым, синтезировала элемент, открывающий четвертую группу седьмого периода, названный в честь выдающегося советского физика «курчатовием».
Все эти блестящие открытия снова и снова заставляют ученых поражаться тому, что было сделано Дмитрием Ивановичем более ста лет назад. «Наиболее сильное впечатление, — говорил на юбилейном Менделеевском съезде в сентябре 1969 года Г. Сиборг, — производит то, что, хотя Д. И. Менделееву не были известны такие общепринятые теперь понятия, как атомная структура и изотопы, связь порядковых номеров с валентностью, электронная природа атома, периодичность химических свойств, определяемая электронной структурой… он был в состоянии создать периодическую систему элементов, которая за прошедшее столетие, несмотря на огромные достижения науки, не претерпела сколько-нибудь заметных изменений».
Последние годы жизни Менделеева текли в привычном проторенном русле. Так же, как и прежде, он любил посидеть на клеенчатом диване в канцелярии Главной Палаты, держа дымящуюся «крученку» между прокуренными до желтизны пальцами левой руки. Так же, как прежде, увлеченный новой идеей, новой мыслью, он ночи напролет работал в своем кабинете. Так же, как и прежде, выполняя задания различных ведомств, он по нескольку месяцев в году проводил в разъездах по России и по Европе.
Как-то раз, сидя в канцелярии, Дмитрий Иванович сказал сослуживцам: «Германский император выразил желание, чтоб я был на двухсотлетнем юбилее Германской Академии наук». И, помолчав, простонал: «Два часа без курева!»
Как он и предчувствовал, на берлинском торжестве произошла-таки неловкость именно из-за курения. Во время торжественного обеда, где Дмитрий Иванович сидел рядом с председательствующим Вант-Гоффом, он вдруг поднялся с места. Все притихли, ожидая, что он сейчас произнесет приличествующую случаю речь, но Дмитрий Иванович начал тянуть, с трудом подбирая французские слова: «Э… э… Permettez-moi.. э… fumer!»
Любезный председатель («Милый Вант-Гофф», как часто называл его Менделеев), конечно, сразу же такое разрешение дал и, чтобы не подчеркивать экстравагантности русского гостя, тут же закурил сам. Хозяева были шокированы поведением председателя и сделали потом Вант-Гоффу выговор: можно разрешить сибирскому сумасброду курить среди обеда, но не должен же сам председатель подавать тому пример.
Летом 1900 года в Париже должна была открыться 11-я Всемирная выставка в честь окончания XIX века, и когда Дмитрий Иванович вернулся с берлинских торжеств, он узнал, что командируется в Париж в качестве эксперта министерства финансов. Это лето для Менделеева оказалось очень хлопотливым. В феврале он купил земельный участок в Петербурге и начал строить на нем два доходных дома. Строительство требовало постоянного присмотра, и Менделееву в течение лета пришлось то и дело из Парижа наезжать в Петербург. Несмотря на это, от внимательного эксперта министерства финансов не ускользнули даже те экспонаты, которые он «находил иногда в темных уголках, в скромной обстановке и среди утомительного однообразия обыденных предметов».
Таким экспонатом оказалась на выставке вискоза — искусственный шелк, о котором Дмитрий Иванович поспешил известить русскую читающую публику через газету «Россия». «По словам лиц, заинтересованных в деле… — писал Менделеев, — пуд готовых волокон обойдется дешевле, чем пуд сырого хлопка. В этом одном уже видна великая будущность, так как для производства волокна не надо будет полутропического хлопка, и наши обычные хозяйства, разводящие хлеб и не знающие, куда девать солому… могут стать производителями превосходного и дешевого волокна». Эта статья Дмитрия Ивановича была первой статьей об искусственных волокнах на русском языке.
Поразительна легкость, с которой Менделеев — уже почти 70-летний старик — совершает частые и далекие путешествия. Осенью 1900 года он снова проводит два месяца за границей. В августе следующего года он едет в Москву для установки прототипов русских мер и весов в Оружейной палате, а в октябре — в Париж на конгресс мер и весов. В феврале 1902 года он на съезде виноделов в Москве. Затем длительная командировка в Берлин, Париж, Вену, Будапешт по делам Главной Палаты. В декабре он представляет палату на 100-летнем юбилее Дерптского университета.
Спустя месяц, в январе 1903 года, назначенный Витте председателем экзаменационной комиссии, Менделеев едет экзаменовать первых выпускников Киевского политехнического института. В феврале он уезжает на месяц в Канн, Йену, Париж, а летом с младшими детьми совершает поездку по Волге до Самары. В августе вышла замуж за Блока Люба. Они венчались в церкви деревни Тараканово, лежащей на полпути между Бобловом и Шахматовом. Молодые были очень взволнованы, долго молились, и распорядители собрались уже напомнить им, что пора начинать. И тогда Дмитрий Иванович с его редкой способностью понять значимость и торжественность минуты, кратко и веско сказал: «Не мешайте им». Во время венчания в церкви Дмитрий Иванович растрогался, заплакал и успокоился и даже развеселился только за свадебным столом.
Люди, встречавшиеся с Дмитрием Ивановичем в эти годы, находили, что он хотя и постарел, но оставался по-прежнему бодр и поражал редкой в его возрасте нервной подвижностью. Но годы уже начинали брать свое. Нередко сотрудники Главной Палаты, приходя для доклада в его кабинет, заставали его лежащим на диване.
«Простите, что буду слушать вас лежа, — говорил он, — докладывайте».
Потом, тяжело поднимался, подходил к столу, говорил: «Уж вы меня извините, пожалуйста». Здоровался, подписывал бумаги, спрашивал о делах.
Однажды Младенцев, принесший управляющему на подпись бумаги, заметил: Дмитрий Иванович, скрывая, что он плохо видит, и подписывая бумаги наугад, ставит свою подпись не там, где нужно. Младенцев взял руку Дмитрия Ивановича и, поставив ее на бумагу, сказал: «Пишите так». Дмитрий Иванович молча взглянул на него благодарным взглядом. И потом, подписывая бумаги, спрашивал: «Так?»
У Дмитрия Ивановича, как и у его отца, была катаракта, и левый глаз его почти не видел. Для снятия катаракты следовало дождаться, чтобы она созрела. И осенью 1903 года, когда это произошло, доктор И. Костенич решил приступить к операции. Дмитрий Иванович не хотел ложиться в больницу, поэтому решено было приспособить для операции палатную квартиру и обстановку. 27 ноября 1903 года Костенич сделал очень удачную предварительную операцию. После нее Менделееву пришлось несколько недель носить повязку на глазах. Лишенный зрения, Дмитрий Иванович очень томился. Дети и знакомые, чтобы облегчить ему коротание времени, попеременно читали вслух детективы и приключения, а сам он приспособился клеить на ощупь чемоданы, рамки, столики. Делал он это с большим искусством и любовью.
— Посмотрите, как правильно все измерено, — говорил он Озаровской, — а ведь я ничего не вижу-с. Я вам нарочно для того показал, чтобы вы видели, что могут сделать одни руки человека, если только он захочет.
Картонажным ремеслом Дмитрий Иванович увлекался и раньше. Он с удовольствием рассказывал об анекдотичном случае, приключившемся с ним однажды в Апраксином дворе. Обычно материалы он покупал у одного купца. И вот как-то раз, когда он выходил из магазина, один из покупателей, пораженный его необычным видом, спросил у продавца: «Кто это?»
Купец важно ответил: «А это известный, знаменитый чемоданных дел мастер».
1904 год начался для Дмитрия Ивановича удачно. 7 января Костенич окончательно снял с его глаз повязку. И радость и облегчение Менделеева по поводу восстановившегося зрения были так велики, что он даже с готовностью дал согласие на торжественное празднование его семидесятилетия. Лишь накануне юбилея, ясно вдруг представив себе, что предстоит ему на следующий день, он попенял Анне Ивановне:
— Я уж не знаю, матушка, как я выдержу. И зачем всю эту глупость затеяли? Знаю, знаю, скажешь, что не для меня это делается, а все-таки… Ну да делать нечего, теперь уж поздно. Я только заболеть боюсь. Ох-хо-хо!
27 января 1904 года в Главной Палате царило настроение праздничное и торжественное. «В химической лаборатории, — вспоминает Озаровская, — пили шоколад, сервированный барышнями по-химически: то есть в химических стаканах со стеклянными палочками, с фильтровальной бумажкой вместо салфеток… В лабораторию приходили по очереди все побывавшие в менделеевской квартире… Там в домашнем кабинете Дмитрия Ивановича, заставленном книгами и столами, с часу дня прибывавшие одна за другой делегации произносили приветственные речи. Даже Академия наук прислала своего делегата, который в своей речи признал мировое значение Менделеева и тем как бы облегчил тяготевшее над Академией обвинение в ее мертвенной важности».
Дмитрий Иванович стоял растроганный приветственными речами и удрученный опубликованным в утренних газетах сообщением: в ночь с 26 на 27 января японские миноносцы атаковали русскую эскадру на Порт-Артурском рейде. Семидесятилетие Менделеева совпало с началом русско-японской воины.
Для Дмитрия Ивановича движение России на восток было проявлением той «сказочной центробежности» русского племени, которая на протяжении столетий влекла его к выходу в открытые океаны. «Дошли мы первее всего до входа в свободные океаны на Белом море, — в «Заветных мыслях» писал он, — но тут свободу хода сдерживают и до сих пор льды… Ледовитого океана… Двинулись затем вниз по матушке по Волге, да не нашли выходов из ямы Каспия… Настал за этим славный… XVIII век, когда мы твердо сели у морей Балтийского и Черного… но тут оказались свои преграды в виде узких проливов, ведущих к свободным океанам, принадлежащих соседям, а не нам… И наши глаза стали искать иного выхода… Сибирские казаки дошли и доплыли до берегов Тихого океана немного разве после Магеллана… и первые из европейцев укрепились на берегах этого величайшего океана… Лишь долго потом… подвинулись мы на тех берегах к югу… Но и тогда, за кучей своих более близких домашних дел, мало кто у нас глядел в ту сторону и на те берега». Лишь в конце XIX века началось серьезное освоение Дальнего Востока.
Но авантюристическая политика царского правительства, подстрекаемого, как говорил Витте, «кровавым мальчуганством» придворных проходимцев; самоуверенность царя, заявлявшего: «Войны не будет, так как Я ее не хочу», в тот самый момент, когда дипломатические отношения между Россией и Японией были уже прерваны, сделали войну неизбежной.
Менделеев не сомневался в победе русского оружия. Он знал, конечно, что поначалу могут быть неудачи и даже поражения. Когда в 1877 году на праздновании 400-летия Упсальского университета в Швеции иностранные коллеги выражали удивление по поводу поражений русских под Плевной, он с удивившими всех спокойствием и уверенностью сказал: «Подождите только, когда мы начнем как следует». И теперь, четверть века спустя, Дмитрий Иванович по-прежнему считал, что главное — быстрее браться за дело как следует. «Бояться нам нужно, — писал он в одной из своих статей, — только рановременного окончания войны, вмешательства посредников и своего благодушия». Против него — этого благодушия — он не уставал бороться всю свою жизнь. В своих книгах и статьях он не уставал твердить: «Наша земля представляет великий соблазн для окружающих нас народов»; «Нам необходимо… быть начеку, не расплываться в миролюбии, быть готовыми встретить внешний напор, то есть быть страною… прежде всего военною»; «Разрозненных нас сразу уничтожат, наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия».
Но все шло не так, как ожидал Менделеев. Русско-японская воина не задела за живое душу русского народа, была непопулярна, ненавистна ему. Шли дни, недели, месяцы, а на смену сообщениям о поражениях не приходили вести о победах: погиб крейсер «Варяг», погиб на броненосце «Петропавловск» адмирал Макаров, пал Порт-Артур… Сообщения с театра боевых действий удручали Менделеева. Он пребывал в подавленном настроении, часто даже плакал. Говорил, что если японцы ступит на русскую землю, то и он пойдет воевать.
Сообщение о гибели русской эскадры при Цусиме в мае 1905 года произвело страшное впечатление на всю Россию. «Я была на Невском часа в три дня, когда эта весть разнеслась по городу и всюду продавались экстренно выпущенные телеграммы, — вспоминала дочь Дмитрия Ивановича Ольга. — Город сразу затих и умолк… Я сейчас же вернулась к отцу… Он по обыкновению был один, окруженный бумагами. Услышав мои шаги, Дмитрий Иванович снял очки и ждал меня, отложив бумаги в сторону. Когда я, насколько возможно осторожно, сообщила ему о случившемся, он откинулся назад в кресле, закрыл глаза, и из них тихо побежали слезы, затем, махнув рукой, проговорил: «Теперь все кончено». Потом привстал, весь вдруг осунулся, сгорбился и никого не велел принимать».
Нашлись люди, которые после окончания войны вздумали осыпать Менделеева упреками за то, что он при ее начале выражал уверенность в поражении Японии. Эти упреки глубоко уязвили Дмитрия Ивановича, и за несколько месяцев до смерти в своем последнем труде, так и оставшемся незавершенным, наш великий соотечественник с гневом отвечал им: «Войны я не одобрял и не одобряю, захвата Китая не вызывал и осуждать не переставал, посылку нашего флота к Цусиме считал и продолжаю считать совершенным неразумием… но, как русский, уверенность в силе своей страны питал, питаю и питать буду, и отпор нападающим… советовать не перестану, хотя все время пишу о том, что сперва надо все же свой домашний быт устроить».
А этот самый «домашний быт» царской России разваливался прямо на глазах. Армия — крестьяне в солдатских шинелях — 9 января 1905 года стреляла на улицах Петербурга в рабочих. Высшие учебные заведения непрерывно лихорадились студенческими волнениями. Бастовали заводы, фабрики, железные дороги. Страна неудержимо неслась к революции.
«…19 января Анна Ивановна уехала в Сибирь… на «питательный пункт» для воинов… — записывал Дмитрий Иванович в своих биографических заметках. — Ваня обзавелся штатским, потому что студентов хотели преследовать. Скончался муж Лели Трирогов… Из Клина в Москву, Варшаву, за границу 23 июля. Интерлакен, Шамони, Экс, Париж, Берлин в день заключения Портсмутского мира с Японией. 23 августа по 18 сентября СПб. Встречал Витте при возврате. У него был, но сей раз он мне не понравился… В ноябре… с Мусей с Блумбахом… в Лондон. Медаль Коплея… С декабря в Пензе у Лели скончалась Феозва Никитична. Осенью кончил последний выпуск «Заветных мыслей».
Однажды в споре Дмитрий Иванович обронил фразу: «Меня
Объясняя причины, побудившие его взяться за перо, Дмитрий Иванович писал в предисловии к «Заветным мыслям»: «Когда кончается седьмой десяток лет, когда мечтательность молодости и казавшаяся определенною решимость зрелых годов переварились в котле жизненного опыта, когда слышишь кругом или только нерешительный шепот, или открытый призыв к мистическому… тогда накипевшее рвется наружу, боишься согрешить замалчиванием и требуется писать «Заветные мысли».
Поначалу Дмитрий Иванович собирается создать размеренное и глубокое повествование, подводящее итог его размышлениям о росте человечества, о судьбах народов, о государствах, о промышленности, торговле, сельском хозяйстве. Но он не сумел удержаться на холодных вершинах отвлеченного разговора, и события дня придали его мыслям другое направление и необычайную полемическую страстность.
Не приемля идеи о классовой борьбе как движущей силе истории, будучи не в состоянии признать за революцией не только разрушительный, но и созидательный пафос, Менделеев мучительно и, как мы теперь понимаем, без надежды на успех искал коренную причину российских «домашних неурядиц». И больно видеть, как этот могучий ум, ограниченный шорами монархических взглядов, в качестве коренных причин приводит поверхностные следствия.
В самом деле, можно ли всерьез считать источником внутренней российской неустроенности то, что добрая половина русских государственных людей «в Россию не верит, России не любит и народ мало понимает, хотя все… действуют и мыслят без страха и за совесть»?.. Можно ли считать, что причиной народных волнений стали литераторы, вышедшие из помещиков, которые «пишут с неприглядной натуры, только стараясь быть ей верным, не зная никаких задач повыше простой точности типического образа»? Можно ли всерьез считать главной причиной непрекращающихся студенческих волнений тот факт, «что ныне в университеты поступают позже, чем следует»?.. Однако, сопоставляя эти высказывания, нетрудно уловить, что такая нить понятий неизбежно должна была привести Дмитрия Ивановича к проблемам и нуждам народного просвещения. Из девяти глав «Заветных мыслей» народному просвещению уделены две.
«После хлеба самое важное для народа — школа», — говорил один из видных деятелей французской революции, Дантон. Взятая во всеобщности, эта мысль кажется самоочевидной, но если попытаться руководствоваться ею в деле практической постановки народного образования, то она окажется совершенно бесполезной. В самом деле, какие школы нужны для народа? Чему в них учить? Как учить? В каком возрасте учить? Как отбирать учеников и как, что еще труднее, находить учителей?
Вот об этих-то проблемах и решился писать Менделеев в своей книге. «…Мысли свои берусь излагать отнюдь не наставительно, а лишь как свой посильный вклад в общее дело, — предупреждал он, — и только в виде набросков карандашом или картонов, без отделки подробностей и без красок».
По мнению Дмитрия Ивановича, развитие образования есть сколок, отражение развития отдельного человека и человечества в целом. Как в детстве преобладают животные и личные требования над требованиями, вызываемыми сношениями с другими людьми, как в общей истории личное предшествует общественному, так «в начальном и среднем образовании должно преследовать преимущественно развитие личное, а в высшем образовании общественное и государственное». Цели начального образования, его выгодность, его необходимость для преуспеяния в жизни понятны и доступны каждому, даже очень ограниченному человеку. Цели же высшего образования, предписываемые нуждами и потребностями государства, гораздо более сложны, часто требуют отречения от личных выгод и умения видеть за деревьями лес.
Вот почему «высшее просвещение для единоличного удовлетворения, без общественно-государственной деятельности» лишено всякого смысла. Вот почему дух начального образования одинаков во все времена и во всех странах, но дух образования высшего меняется от страны к стране и от эпохи к эпохе. Вот почему такими бедствиями может обернуться для государства подход к высшему образованию с требованиями и мерками образования начального: «…привилегии, доставляемые высшим образованием… зовут к себе многих, и никакому сомнению не подлежит, что многие из жаждущих — не образования, а привилегий, им доставляемых — не в силах вынести на своих плечах… тех общественных обязанностей, которые оно налагает на лиц, его получивших…» Вот почему, наконец, какой-нибудь реакционный министр просвещения, вроде Д. Толстого или И. Делянова, может нанести отечеству колоссальный ущерб, из-за предвзятых убеждении не приводя систему высшего образования в соответствие с коренными нуждами и потребностями государства.
«…Чтобы уцелеть и продолжать свой независимый рост, — писал Дмитрий Иванович, — нам… первее всего надобно скорее приняться за установление твердых начал всей нашей образованности, которая доныне, сказать правду, бралась лишь напрокат с Запада, а не делалась нашею благоприобретенною собственностью… Разговор и слова нужны, но они только начало, вся суть жизни — в делах, в уменьи перехода от слова к делу, в их согласовании. Начальное и даже все среднее общее образование должны иметь дело преимущественно со словом, а высшее — с делом, с жизнью, с общественными, так сказать, внеиндивидуальными отношениями».
Важнейшим вопросом в деле народного просвещения Дмитрий Иванович считал постановку среднего образования. Будучи переходной ступенью от начального обучения к высшему, оно должно быть рассчитано на учащихся того среднего возраста от 10 до 16 лет, когда юноша уже способен понимать философские начала избираемого им дела и когда он еще достаточно впечатлителен, чтобы испытать то чистое романтическое увлечение делом, которое, сохранившись на всю жизнь, делает из человека истинного специалиста, специалиста по призванию.
Другая деликатная тонкость среднего образования состоит в том, что оно двойственно по самому смыслу своему. Для одной части учащихся оно переходная ступень к образованию высшему. Для другой — основной духовный багаж, с которым учащиеся выходят в жизнь. И очень важно, чтобы эта вторая часть учащихся не ощущала себя вторым сортом; чтобы она не воспринимала свое непоступление в высшие учебные заведения как позорное клеймо; чтобы она была готова спокойно и с достоинством воспринять ожидающее ее жизненное образование.
«Не подлежит сомнению, — писал Дмитрий Иванович, — что действительная польза среднего образования для всей жизни и для прохождения высших учебных заведений весьма сильно зависит от качества учителей, т. е. от их влияния на учеников, а не от одного качества предметов и не от числа учебных часов… В заботах о подъеме нашего среднего образования начинать необходимо отнюдь не с программ, а с подготовки надлежащих учителей…»
Вычислив, что в год для России необходимо готовить не менее 600 учителей, Дмитрий Иванович писал: «Эта специальная потребность страны так важна для ее общего блага и будущности, что невозможно предоставить ее восполнение простой случайности и если нужны политехникумы для восполнения потребности в техниках, то не менее того нужно устройство Училищ для наставников или Педагогических институтов…»
Последний выпуск «Заветных мыслей» вышел из печати в октябре 1905 года, и, по всей видимости, идея об училище наставников заинтересовала Витте, который поручил Дмитрию Ивановичу разработать эту идею более подробно. Потом заинтересованность в проекте высказал в министр просвещения И. Толстой. И Дмитрий Иванович с увлечением приступил к более детальной разработке проекта…
С тех пор как у Менделеева стало слабеть зрение, ему много помогали сотрудники палаты А. Скворцов и В. Патрухин. Им он диктовал свои статьи и записки, они производили для него сложные громоздкие расчеты и вычерчивали нужные схемы, таблицы и графики. Помогали они ему и при составлении записки об училище наставников для И. Толстого.
«Петербург и Москва с их близкими окрестностями, а также и другие наши большие, особенно университетские города, — считал Менделеев. — не подходят дли устройств в них училища наставников. Для профессоров и ассистентов — это лишний повод для «совместительства»… Слушатели же, не видя примеров научного трудолюбия своих ближайших руководителей, нередко получают ложное понятие о развитии научных положений…» Местность в Центральной России, на берегах Волги или Оки, где-нибудь между Ярославлем и Костромой — вот где, по мнению Дмитрия Ивановича, должен был разместиться уникальный комплекс зданий будущего училища. Он очень торопился с расчетами, планами и сметами расходов, был очень возбужден и не раз радостно говорил Скворцову: «Ну вот, теперь мы скоро поедем на Волгу строить училище. И вы тоже поедете со мной». А узнав, что Патрухин на время отпуска едет к себе на родину в Ярославскую губернию, он поручил ему заехать на большой кирпичный завод близ станции Шестихино и переговорить с администрацией о возможности поставки нескольких миллионов кирпичей для постройки училища.
Но, увы, вся эта работа пошла насмарку: в 1906 году И. Толстой ушел в отставку, и дело заглохло. «Побудь граф еще хоть немножко министром, — в сердцах сказал Менделеев, — и дело было бы сделано».
Так на самом себе довелось Дмитрию Ивановичу испытать действие закономерности, о которой он за два года до этого писал в «Заветных мыслях»: «В стране с неразвитою… правительственною машиною и промышленностью нет спроса для истинного образования… и там, где господствуют вялость и формализм, самостоятельные специалисты с высшим образованном не находят деятельности в общественных и государственных сферах… Истинно образованный человек… найдет себе место только тогда, когда в нем, с его самостоятельными суждениями, будут нуждаться или правительство, или промышленность, или, говоря вообще, образованное общество; иначе он лишний и про него писано «Горе от ума».
Не достигшая цели записка об училище наставников все-таки сыграло важную роль: она подвигнула Менделеева написать книгу «К познанию России». Размышляя о выборе места для училища наставников, Дмитрий Иванович задумался о местонахождении центра России. Не центра ее геометрической поверхности, а действительного центра — центра населенности. В записке И. Толстому он набросал план вычислений этого центра, и, когда все его надежды на строительство училища рухнули, он решил выполнить необходимые расчеты. Из Центрального статистического управления ему домой доставили 100 томов всероссийской переписи 1897 года, и Скворцов с Патрухиным засели за расчеты.
«Целых два месяца мы корпели над материалами переписи, — вспоминает Скворцов, — пока не одолели их и не представили результаты… на рассмотрение Дмитрию Ивановичу. Я помню… сколько времени потребовало у меня составление только одной сводной ведомости всех цифровых выкладок. Ведомость заняла два листа чертежной ватманской бумаги, склеенных в длину. Мне приходилось влезать на большой чертежный стол и, лежа на столе, вносить цифры в соответствующие графы, которых было свыше 50. Длина этой сводной ведомости составляла 2 метра при ширине в 1 метр. Полностью в таком виде эта таблица не могла быть напечатана, ибо типография не располагала таким большим количеством цифрового шрифта…»
Дмитрий Иванович с нетерпением ждал результатов расчета, которые показали, что центр поверхности России лежит в диком, малопригодном для житья месте южнее Туруханска. Центр ее населенности в 1897 году находился в Тамбовской губернии между Козловом (ныне Мичуринск) и Моршанском. Центр ее поверхности, способной к расселению, находился тогда немного севернее Омска. По мнению Менделеева, в будущем именно в этом направлении должен перемещаться центр России — соображение, справедливость которого было бы небезынтересно проверить в наши дни, спустя почти 80 лет.
Дмитрий Иванович не рассчитывал на успех своей книги. «Напечатать-то я должен был, знаю, — говорил он родным, — но знаю, что читать едва ли будут». И никогда еще он не ошибался так сильно: «К познанию России» только за полгода оставшейся ему жизни вышла пятью изданиями!
«…Много работал над книгою «К познанию России», — писал Менделеев о важнейших событиях 1906 года. — Очень устал и, почти кончив печатание, уехал… чрез Интерлакен в Экс-ле-Бен, где опять купался. Оттуда к Леле и Наташе в Ланген-Швальбах…»
Потом Дмитрий Иванович уехал в Петербург, и дочь с внучкой увидели его снова через несколько недель. После короткой остановки в Петербурге они собрались в Москву, и Дмитрий Иванович пошел проводить их в переднюю. И когда в выходной двери Ольга Дмитриевна оглянулась, она увидела, как он растерянно махнул рукой и нетвердыми, слабыми шагами пошел в кабинет, придерживаясь за стены.
В сентябре Дмитрий Иванович перенес инфлюэнцу, очень ослаб и поехал лечиться в Канн. В конце ноября он вернулся в Петербург настолько поправившимся и окрепшим, что смог даже принять нескольких посетителей. И одним из них был известный революционер, шлиссельбуржец Николай Морозов.
«Мы с ним говорили… о дальнейшей обработке его периодической системы, — писал потом Морозов. — Я ему доказывал, что она представляет собою только частный случай среди многих периодических систем… Он мне ответил на это, что аналогия не есть доказательство… Я… старался убедить его общепризнанным теперь фактом выделения радием особой эманации, превращающейся постепенно в гелий. Но, к величайшему своему удивлению, я увидел, что Менделеев отвергал даже самый факт такой эманации, говоря, что, по всей вероятности, это простая ошибка наблюдателей вследствие малого количества исследуемого ими вещества.
«Скажите, пожалуйста, много ли солей радия на всем земном шаре? — воскликнул он с большой горячностью. — Несколько граммов! И на таких-то шатких основаниях хотят разрушить все наши обычные представления о природе вещества!»
Но… мое доказательство, с точки зрения эволюции небесных светил, показалось ему убедительным более всех других… Он некоторое время оставался в недоумении, но потом резко воскликнул: «Ну, тут вы меня застали врасплох! Я не принадлежу к тем людям, у которых на все готовые ответы. Вот придете потом, когда вернетесь из деревни, и тогда мы еще поговорим об этом».
Но поговорить им больше не удалось: когда 20 января 1907 года Морозов приехал из деревни, он узнал, что Дмитрия Ивановича не стало…
Как человек, много работавший всю свою жизнь, Менделеев не боялся смерти, бестрепетно ждал ее приближения, спокойно писал и говорил о близкой кончине, делал посмертные распоряжения. В августе 1906 года он записал в своих биографических заметках: «Стал приводить книги и бумаги в порядок. Это очень меня занимает — пред смертью, хотя чувствую себя бодро». Во время разбора бумаг ему попался чертеж, на обороте которого его собственной рукой была некогда сделана надпись: «План кладбища, где схоронена матушка, сестра Лиза, дочь Маша, сын Володя; там желал бы и сам лечь…» Дмитрий Иванович долго рассматривал схему, вздохнул и написал, рядом: «И мне там. Вписал 6 августа 1906 г.».
11 января 1907 года — это был четверг — Главную Палату осматривал министр торговли и мануфактур Д. Философов. Дмитрий Иванович сам показывал свои владения и два часа водил министра по лабораториям палаты. Когда гость уехал, Менделеев, очень довольный визитом министра, провел около часа в своем кабинете, отдал несколько распоряжений и отправился домой. Но визит так утомил его, что служитель должен был проводить его до квартиры, поддерживая под руку. На следующий день с утра Дмитрий Иванович почувствовал сильнейшее недомогание, и вызванный врач нашел у него начало сухого плеврита. В субботу больного мучил сильнейший кашель и боли в боку, но вечером он превозмог себя и сыграл в шахматы с одним, из сотрудников палаты, и эта игра была последней в его жизни.
В воскресенье самочувствие Дмитрия Ивановича продолжало ухудшаться, но он, пытаясь перебороть недомогание, заставил себя сесть за работу. Его сестра Мария Ивановна, приехавшая проведать заболевшего брата, нашла его очень ослабевшим. «Я вошла к нему, — рассказывала она потом, — он сидит у себя в кабинете бледный, страшный. Перо в руке.
— Ну, что, Митенька, хвораешь? Лег бы ты.
— Ничего, ничего… Кури, Машенька, — и он протянул папиросы.
— Боюсь я курить у тебя — вредно тебе.
— Я и сам покурю, — и закурил».
Она зашла к нему через некоторое время и увидела, что он еле-еле сидит в кресле, судорожно сжимая в руке перо. В этот вечер он пытался продолжать писать новую книгу «Дополнения к познанию России». На листе бумаги, лежавшем перед ним, осталась незаконченная фраза: «В заключение считаю необходимым, хотя бы в самых общих чертах высказать…» И это были последние написанные им слова.
В этот вечер родным удалось уговорить его лечь на диван. 15 января в понедельник к Дмитрию Ивановичу пришел с докладом Патрухин. Дмитрий Иванович лежал на диване лицом к стене. Услышав шаги Патрухина, он спросил не так громко, как говорил обычно: «Кто это?» И, услыхав ответ, начал медленно поворачиваться на диване, делать усилия, чтобы встать. Патрухин хотел помочь ему, поддержать, по Менделеев отстранил его руку и сказал: «Ничего, ничего, я сам». Потом с трудом поднялся и мелкими шажками стал тихонько переступать к своему креслу. Усевшись, он тяжело облокотился на стол, выслушал чтение принесенных бумаг. И это был последний принятый им доклад.
Потом он подписал бумагу в Казанскую поверочную палату по поводу отпуска ей дополнительного кредита. И это была последняя подписанная им бумага.
После доклада Патрухина Менделееву стало еще хуже, он дал уложить себя в постель, и вызванные к нему врачи установили катаральное воспаление легких…
В среду 17 января Дмитрий Иванович вызвал своего заместителя профессора Н. Егорова и продиктовал ему телеграмму туркестанскому генерал-губернатору о скорейшей отправке из края вагона палаты. И это была последняя в жизни телеграмма, отправленная от его имени.
В четверг мучительный кашель раздирал грудь больного. И в минуту затишья он вдруг явственно сказал сидевшей у его постели младшей дочери Маше: «Надоело жить, хочется умереть».
В пятницу 19 января Дмитрий Иванович почти все время был в забытьи, дышал очень тяжело и, когда приходил в себя, страдал от болей в груди. К вечеру, однако, ему ненадолго стало лучше. Он подозвал Михайлу, тихим шепотом велел подать ему гребенку, сам расчесал волосы и бороду. Потом велел положить гребенку в столик на место: «А то потом не найдешь», — прошептал он. Через некоторое время он приказал Михайле надеть ему очки. Напуганный бледностью больного, Михайла замешкался, и тогда проявился в последний раз характер властного старца: «Михайла, ты, кажется, собираешься меня не слушаться?»
В 2 часа ночи он ненадолго проснулся, и когда дежурившая у его постели сестра предложила ему выпить молока, он твердо сказал: «Не надо». И это были последние слова в его жизни.
20 января в 5 часов 20 минут остановилось сердце великого русского человека и великого ученого…
В день похорон ударила оттепель. Снег превратился в мокрую кашу. Фонари, увитые черным флером, тускло мерцали сквозь туманную дымку. Многотысячная процессия долго тянулась по улицам Петербурга к Волкову кладбищу. И когда все собрались у могилы, уже наступили ранние сумерки короткого северного дня.
«Великий учитель! Слава земли русской! — говорил на могиле Д. Коновалов, ученик Менделеева. — Твои заветы не умрут. Твой дух будет всегда жив между нами и всегда будет вселять веру в светлое будущее. Да будет легка тебе родная земля!»
Стало быстро темнеть. Толпа начала медленно расходиться, и вскоре на месте похорон осталось небольшое возвышение из мерзлой земли, утопавшее в цветах и венках. Рядом, прислоненная к стенке склепа, гордо возвышаясь над цветами, стояла картонная таблица с периодической системой, сорванная студентами Технологического института с аудиторной стены. И это необычное соседство серого тусклого картона с цветами и вывороченной землей придавало волнующую многозначительность и торжественность свершившемуся.
Ровно через год на могиле Менделеева собрались на панихиду родственники, друзья, коллеги. В скорбном молчании столпились они у слегка возвышающегося над землей цементного склепа, окруженного гранитными тумбами с железными цепями. Над могилой возвышалась гранитная глыба, увенчанная массивным крестом. Из-за сильных морозов каменщики успели выбить на граните только три слова: Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ.
Эта недоделка особенно смущала Анну Ивановну. И вдруг прямо за ее спиной кто-то произнес: «Как хорошо, что на памятнике нет ничего, кроме имени — Дмитрий Иванович Менделеев, — именно на этой могиле ничего другого и не нужно писать».
И на памятнике не появилось ни бюста Дмитрия Ивановича, ни барельефа, ни цитат, ни полного титула, которым он так никогда и не пожелал подписаться при жизни:
Д. МЕНДЕЛЕЕВ,
Доктор университетов: имп. С.-Петербургского, Эдинбургского, Геттингенского, Оксфордского, Кембриджского, Принстонского, Глазговского и Йельского; профессор С.-Петербургского университета и С.-Петербургского технологического института; член академий: Парижской, Датской, Венской, Краковской, Римской, Бельгийской, Прусской, Американской и Сербской; член Королевского общества в Лондоне и королевских обществ Эдинбургского и Дублинского; член Русского химического общества; Минералогического общества в Петербурге; Московского общества сельского хозяйства; Общества любителей естествознания; Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете; Немецкого химического общества; Общества биологической химии; Итальянского научного общества; член имп. Академии художеств; член Международного комитета мер и весов; член-корреспондент Петербургской Академии наук, Общества поощрения национальной промышленности, Роттердамского общества естествоиспытателей, Венгерской Академии наук, Королевского общества наук в Геттингене, Королевской Академии наук в Турине, Королевской Академии наук в Риме; почетный член Королевского института Великобритании; императорских университетов в Москве, Казани, Харькове, Киеве, Одессе, Юрьеве и Томске, имп. Медико-хирургической академии, Московского технического училища, Петровской земледельческой академии и Института сельского хозяйства в Новой Александрии; Петербургского политехнического института; Томского и Петербургского технологических институтов; почетный член Американской Академии искусств и наук в Бостоне, Ирландской королевской Академии, Шведской Академии наук и Академии наук Болонского института; почетный член Русского физико-химического общества; Американского химического; имп. Русского технического; почетный член Общества естествоиспытателей в Казани, Киеве, Риге, Екатеринбурге, Кембридже, Франкфурте-на-Майне, Гетеборге, Брауншвейге, Политехнического в Москве, Московского и Полтавского сельскохозяйственных обществ; почетный член Общества охранения народного здравия, Общества русских врачей, Медицинских обществ: С.-Петербургского, Виленского, Кавказского, Вятского, Иркутского, Архангельского, Симбирского и Екатеринославского и Фармацевтических обществ: Киевского, Великобританского и Филадельфийского; почетный член Общества физических наук в Бухаресте и почетный член Кембриджского и Американского философских обществ, Русского астрономического общества и проч. и проч.
На полированном граните навсегда остались только три слова, не нуждающиеся в дополнительных пояснениях:
1834, 27 января (8 февраля) — Родился в городе Тобольске, в Сибири.
1841, 1 августа — Поступил в первый класс тобольской гимназии.
1849, 18 июня — Окончил гимназию.
1850, 9 августа — Зачислен в Главный педагогический институт в Петербурге.
1855, 20 июня — Окончил Главный педагогический институт.
25 августа — Отъезд в Симферополь на службу старшим учителем естественных наук в гимназии.
14 ноября — Назначение старшим учителем физики и химии в Ришельевскую гимназию в Одессе.
1856, начало мая — Выезд из Одессы в Петербург для защиты магистерской диссертации.
1857, 9 января — Назначение на должность приват-доцента химии Петербургского университета.
1859, 14 апреля — Отъезд в заграничную командировку на два года.
1861, 14 февраля — Возвращение в Петербург из командировки.
1862, 29 апреля — Женитьба на Феозве Никитичне Лещовой.
1863, с 20 августа по 9 октября — Первая поездка на Кавказ, в Баку для изучения нефтяного дела.
1865, 27 феврали — Утверждение экстраординарным профессором Петербургского университета по кафедре технической химии.
7 декабря — Утверждение ординарным профессором технической химии Петербургского университета.
1867, 18 октября — Перемещение с должности профессора технической химии на должность профессора общей химии.
1868, октябрь — ноябрь — Участие в создании Русского химического общества.
1869. 17 февраля (1 марта) — Подписание к печати первого наброска периодической системы.
6 марта — Доклад Меншуткина на заседании Русского химического общества от имени отсутствовавшего Менделеева «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Первая печатная работа Менделеева о периодическом законе.
1875 — Работа в «Комиссии по изучению медиумических явлений» и разоблачение спиритизма.
1876, май — август — Поездка в США на Всемирную выставку в Филадельфии.
1882, 22 апреля — женитьба на Анне Ивановне Поповой.
1886 — Третья и четвертая поездки на Кавказ (в мае и августе).
1887, 7 августа — Полет на воздушном шаре из Клина во время солнечного затмения.
1888, февраль — апрель — Поездка в Донецкий бассейн для изучения экономики каменноугольной промышленности.
1890, 22 марта — Последняя лекция в Петербургском университете.
1891, 2 сентября — Назначение консультантом морского министерства по делам научно-технической лаборатории.
1892, 19 ноября — Назначение ученым хранителем мер и весов в Депо образцовых мер и весов.
1893, 1 июля — Назначение управляющим Главной Палатой мер и весов.
1894, июнь — Торжественное возведение в степень доктора Оксфордского и Кембриджского университетов.
1899, июнь — август — Поездка на Урал и в Сибирь для изучения металлургической промышленности.
1903, 27 ноября — Операция по удалению катаракты.
1904, 27 января — 70-летний юбилей Менделеева.
1905, 17 ноября (30 ноября) — Поездка в Лондон для награждения медалью Коплея — высшей наградой Лондонского Королевского общества.
1907, 20 января (2 февраля) — Менделеев скончался в 5 часов 20 минут от паралича сердца.
Собрание сочинений в 25 томах. М.—Л., 1934–1954.
Том I. Кандидатская и магистерская диссертации. 1937.
Том II Периодический закон. 1934.
Том III. Исследование растворов по удельному весу. 1934.
Том IV. Растворы. 1937.
Том V. Жидкости. 1947.
Том VI. Газы. 1939.
Том VII. Геофизика и гидродинамика. 1946.
Том VIII. Работы в области органической химии. 1948.
Том IX. Пороха. 1949.
Том X. Нефть. 1949.
Том XI. Топливо. 1949.
Том XII. Работы в области металлургии. 1949.
Том XIII–XIV. Основы химии. 1949.
Том XV. «Знания теоретические». Мелкие заметки. 1949.
Том XVI. Сельское хозяйство. 1951.
Том XVII. Технология. 1952.
Том XVIII–XXI. Экономические работы. 1950.
Том XXII. Метрологические работы. 1950.
Том XXIII. Народное просвещение и высшее образование. 1952.
Том XXIV. Статьи и материалы по общим вопросам. 1954.
Том XXV. Дополнительные материалы. 1952.
Д. И. Менделеев, Периодический закон. Основные статьи. «Классики науки». М., Изд-во АН СССР, 1958.
Д. И. Менделеев, Периодический закон. Дополнительные материалы. «Классики науки». М., Изд-во АН СССР, 1960.
Д. И. Менделеев, Растворы. «Классики науки». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1959.
«Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников», изд. 2-е. М., Атомиздат, 1973.
«Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской». Л., «Федерация», 1929.
О. Д. Трирогова-Менделеева, Менделеев и его семья. М., Изд-во АН СССР, 1947.
А. И. Менделеева, Менделеев в жизни. М., 1928.
М. Н. Младенцев, В. Е. Тищенко., Дмитрий Иванович Менделеев, его жизнь и деятельность. Т. 1. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1938.
П. В. Слетов, В. А. Слетова, Д. И. Менделеев. М., Журн. — газ. объед., 1933.
О. Н. Писаржевский, Дмитрий Иванович Менделеев. М., «Молодая гвардия», 1951.
Н. А. Фигуровский, Дмитрий Иванович Менделеев. М., Изд-во АН СССР, 1961.
«Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и труды». М., Изд-во АН СССР, 1957.
Научное наследство, т. 1–2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1948–1951.
Чугаев Л. А., Д. И. Менделеев. Жизнь и деятельность. Пг. ГНТИ, 1924.
Н. А. Морозов, Д. И. Менделеев и значение его периодической системы для химии будущего. М., 1907.
«Материалы по истории отечественной химии». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1959.
А. А. Макареня, Д. И. Менделеев и физико-химические науки. М., Атомиздат, 1972.
А. А. Макареня, Д. И. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов. Изд. 2-е, переработ, и доп. М., Атомиздат, 1965.
В. В. Козлов, Очерки истории химических обществ СССР. М., Изд-во АН СССР, 1958.
Д. И. Менделеев, Какая же академия нужна в России? «Новый мир», 1966, № 12.
В. И. Семишин, Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. М., «Химия», 1972.
С. Семанов, «Особое мнение» Д. И. Менделеева. «Исторический архив», 1966, № 6.
А. И. Дубравии, Заслуги Д. И. Менделеева в судостроении и арктическом мореплавании. «Судостроение», 1969, № 9.