Вера Смирнова-Ракитина
Авиценна
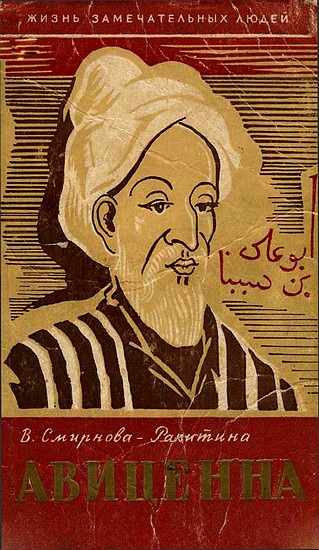
Всё мире покроется пылью забвенья Лишь о вое не знают ни смерти, ни тленья Лишь дело героя да речь мудреца Проходят столетья, не зная конца.
И солнце и бури — все выдержат смело Высокое слово и доброе дело.
Тысячу лет назад так же, как и теперь, поднималось на свежее утреннее небо сияющее солнце, так же блестела роса на травах, так же взлетали в голубые просторы жаворонки и пели свою вдохновенную хвалу молодому дню.
Солнце взошло где-то в неведомом океане, осветило горы, поля и пустыни Азии, заблестело в водах Волги, поднялось над просторами скифских и половецких степей, заглянуло в веселый языческий город Киев, пробилось сквозь густую сень лесов будущей Германии, согрело маленький поселок Париж, раскалило суровые скалы Бретани, приласкало оливковые и апельсиновые рощи в стране басков и снова засияло в синеве бескрайного океана.
На рассвете этого дня, когда косые оранжевые лучи начали разгонять ночную тьму, по торной караванной дороге, соединявшей Бухару с Самаркандом, мчался всадник. Копыта его коня глубоко уходили в мягкую желтовато-серую массу, которая, как густой дым, клубилась у ног лошади.
В полусвете раннего утра видно было, что всадник хорошо и нарядно одет, молод, недурен собою и явно принадлежит не к тем людям, которые уже копошились на тянущихся вдоль дороги полях или шли с кетменями на плечах навстречу, вздымая ногами тяжелую пыль.
Молодой ездок с интересом и вниманием приглядывался ко всходам джугары и пшеницы.
«Как плодородны наши поля, — думал он. — Эта желтая земля, которую иные чужеземцы готовы принять за пыль, — золотая почва. Она дает обильные урожаи… Когда есть вода… Ах, если бы только у нас была вода!.. Дожди, реки, ручьи, арыки — что угодно, только бы вода!.. А нынче? Ранняя весна, а земля уже много дней изнемогает от жажды. Ссыхается, трескается… Надо беречь каждый корешок… Арыки высыхают… Мираб[1] ни за какие деньги не хочет пускать драгоценную влагу на деревенские поля. Не выгодно ему… Дихканы[2] платят за воду больше… Что же я соберу со своих хармайсанцев, если у них и сейчас только прошлогодняя тыква да зеленый тутовник?.. Зима будет трудная… Тяжкая будет зима, ежели не смилуется аллах…»
Мысли всадника прервал конь, шарахнувшийся от куста, из-за которого вылетел перепелиный выводок. Всадник успокоил скакуна, ласково похлопав его по шее, и, привстав на стременах, окинул окрестности испытующим и горестным взглядом.
Несмотря на раннее утро, вся широкая равнина уже дышала зноем и, казалось, дрожала в легком мареве. Дорога, протоптанная сотнями караванов, вилась между бесчисленными мелкими полями, засеянными пшеницей, ячменем, джугарой, машем. Стебли злаков были уже желтоваты, листья вялы. Кое-как держалась одна только голенастая джугара — остальное никло, изнемогая от безводья. Арычек, тянувшийся вдоль дороги, не журчал, как обычно в хорошие времена, а тускло поблескивал мелкими лужицами, подсыхавшими на дне. Всадник вспомнил, что уже вчера с трудом напоил в нем коня.
«Трудный, трудный год… За всю весну — ни одного дождя…» Путник снова готов был вернуться к своим мыслям, но на этот раз их течение изменила дорожная встреча.
Истошно скрипя, плелись арбы, запряженные быками, а впереди каравана на тощих верблюдах важно качались два старика.
— О дорогой господин Абдаллах, — льстиво приветствовали они всадника, — салам алейкум!.. Как ваше здоровье? Как погуляли, как повеселились?..
Господин Абдаллах попридержал лошадь, вежливо, но несколько свысока отвечая на поклоны.
— Какое сейчас веселье?.. У всех одна мысль о дожде… Горит все…
— Это верно. Нынче не до гуляний… — поглаживая окладистую с сильной проседью бороду, заявил один из стариков. — Ну, да вам, молодежи, как не повеселиться…
Говоривший подмигнул и с улыбкой поглядел на Абдаллаха.
Тот усмехнулся.
— Не соберём с вас налог — пропишут мне гуляние.
— Соберете! — тряся крашеной жидкой бороденкой, вмешался — второй. — К вечеру дождь пойдет. Кости мои третий день гудят. Верная примета!..
— Да уж твои кости! — пренебрежительно махнул рукой его спутник. — Считается аллах с твоими костями.
— Считается или не считается, а дождь пойдет… — упрямо утверждал старик. — Попомните мое слово.
— Если твое пророчество исполнится, почтенный Джафар, все мы возблагодарим аллаха, а тебе поднесем теплые ичиги, чтобы кости не болели.
Абдаллах засмеялся, и его серьезное, несколько жестковатое лицо сразу стало молодым и веселым.
— Прощайте! — крикнул он, хлестнув лошадь. — Не забывайте про ичиги!..
Старики переглянулись, затем долго смотрели вслед стройному, нарядному всаднику.
— Он не хуже других управляет нашим селеньем, этот господин Абдаллах, — осторожно заметил Джафар.
— Все дерут, и он дерет, — мрачно ответил седобородый. — Никто не зевает. Что он, что мулла… Поглядим, как он поведет себя, если не пойдет обещанный тобой дождь и мы будем дохнуть с голоду… Небось последнее вынесет из дому, — старик неодобрительно покачал головой и сплюнул.
…Конь Абдаллаха какое-то время шел рысью по дороге, затем его разморил зной, он умерил свой бег, но всадник не обратил на это внимания, уйдя снова в мечты, на этот раз куда более веселые, чем ранее. Может быть, этому помогла маленькая надежда, которую заронил в нем Джафар. Лицо его оставалось спокойным и довольным. Суровая складка над бровями разгладилась. Перед его мысленным взором стояла не взывающая о дожде равнина, искромсанная межами и арыками, а прелестная Ситара, его невеста Ситара, дочка дехканина из Афшаны.
Абдаллах ибн Сина[3] долго ждал, пока Ситара вырастет и станет его невестой. Наконец дождался. Этой осенью можно было бы уже сыграть свадьбу, но засуха грозила множеством неприятностей молодому управителю Хармайсана — селения, расположенного близ Бухары.
Все его благосостояние зависело от урожая, от того, сколько его подручные соберут налогов и сколько от этого причтется на его долю. Сейчас, перед женитьбой, особенно нужны были деньги. Дорого стоили подарки, постоянные поездки в Афшану к отцу и братьям Ситары.
Конь лениво доплелся до русла высохшей речки, за которой начинался Хармайсан. Здесь Абдаллах легонько хлестнул его поводьями. Не полагалось ему, «первому лицу в селении, въезжать на полудохлой кляче. Конь приободрился, заржал, почуяв свое прохладное стойло, и весело зарысил по деревенской улице.
Серые глиняные дувалы и такие же серые глинобитные стены домов обступили с обеих сторон Абдаллаха. Не шелохнувшись, стояли за заборами пыльные шелковицы, покрытые темно-красными цветами высокие кусты гранатов, стройные зацветающие абрикосы. Кое-где на плоских кровлях алели огненные шары маков. Под тенью стен лениво копошились в пыли разомлевшие куры.
Абдаллах едва приподнял веки, ленивым оком оглядев пустую улицу. Все было давно знакомо ему и давно успело надоесть. Ведь изо дня в день, из месяца в месяц объезжал он то на коне, то на верблюде Хармайсан и селения, примыкавшие к нему. Не было поселка, улицы, дома в окрестностях, которых не знал бы и в которых не бывал бы господин Абдаллах.
Должность управляющего была выгодной, но опасной. Недаром предшественник Абдаллаха таинственно погиб, захлебнувшись в мелком, по щиколотку, арыке. Далеко не всегда стражники оказывались надежной охраной, и далеко не всегда крестьяне оставались спокойными и аккуратными плательщиками. То тут, то там начинались волнения, и тогда выручала Абдаллаха только его личная храбрость и находчивость.
…Во мгле веков скрыто от нас, был ли Абдаллах ибн Сина человеком добрым или злым, мягким или черствым, — знаем только то, что был он умен, толков, довольно образован для своего времени и, очевидно, не в пример многим своим современникам, понимал, что построенное на чужом горе и несчастье благополучие будет всегда шатким и непрочным. Очевидно, потому так рвался он из Хармайсана в Бухару, рассчитывая устроиться там на более спокойное, требующее меньше душевных сил место, которое принесло бы ему не только почет, но и покой.
До сих пор его задерживала здесь не одна служба, но и красавица Ситара, которую Абдаллах приметил тогда еще, когда она по малости лет не отворачивалась от мужчин, не закрывала лицо чачваном[4] и не старалась спрятаться на женской половине. Свататься к девочке Абдаллах долго не решался и терпеливо ждал, когда роза распустится. А до тех пор бороздил окрестности Хармайсана, выколачивая из крестьян земельный налог — харадж, тот самый налог, который составлял главный доход государства Саманидов.
Что же это было за государство, где жили Абдаллах ибн Сина, его будущая жена Ситара и где будут жить их потомки?
Десять веков назад, в те времена, когда в Хармайсане работал Абдаллах ибн Сина, Бухара была столицей Мавераннахра — Заречья — прекрасной плодородной области Средней Азии, раскинувшейся между реками Аму-Дарьей, называвшейся тогда Джейхун, и Сыр-Дарьей — Сейхун. В состав этого государства входили Хорасан, часть нынешнего Ирана, и Хорезм (нынешняя Кара-Калпакия).
Страной этой с IX века нашей эры управляли представители семейства местных феодалов Саманидов, которые вскоре после арабского завоевания стран Среднего и Ближнего Востока и повсеместного введения ислама были назначены халифом наместниками в районах Мавераннахра и Хорасана. Из этой семьи выдвинулся Исмаил Саманид, живший в конце IX — начале X века. Вместо того чтобы верно служить арабам, он использовал борьбу народных масс за независимость, чтобы объединить разрозненную войнами и междоусобицами страну и создать из Мавераннахра и Хорасана сильное государство, фактически независимое от халифа, признававшее его лишь как духовного главу мусульманского мира. В этой борьбе за объединение постепенно складывалось таджикское феодальное государство со своим единым языком дари (фарси).
Саманиды, искавшие поддержки своих соплеменников, культивировали родную речь, покровительствовали родной литературе, поддерживали науку. В их государстве арабский язык употреблялся только в официальных бумагах, в научных и религиозных текстах.
Как ни сильно было влияние мусульманского духовенства в Мавераннахре и Хорасане, оно не могло помешать культурному расцвету, наступившему после объединения страны Саманидами. В Бухаре, как и везде, где царил ислам, пять раз в день становились на молитву, соблюдали посты и обряды, платили десятину, подчинялись шариату и адату, были жестоки к еретикам, но вместе с тем при дворе поддерживали своих, вышедших из народа поэтов, ученых, художников, архитекторов, собирали библиотеки, обсуждали отвлеченные научные вопросы, такие, которые перепугали бы любого правоверного придворного багдадского халифа.
Столица Саманидского государства Бухара к X веку, ко времени правления эмира Нуха ибн Мансура Саманида была одним из самых больших и блестящих городов азиатского Востока.
Удивительно ли, что Адбаллаха ибн Сину тянуло из деревенской глуши в столицу, где он рассчитывал найти достойное применение своим талантам?
А тут эта засуха, которая может разрушить все его мечты, оттянуть женитьбу, помешать накоплению денег, ‘Нужных для переезда семьи в Бухару! Засуха, последствием которой обязательно будут голод и крестьянские восстания. Абдаллах хорошо помнил, каким тяжелым и страшным был позапрошлый год.
Эти мрачные мысли не оставляли Абдаллаха целый день. С ними он лег спать и долго метался, пока не забылся тревожным сном. А ночью проснулся от шума дождя, такого долгожданного и такого редкого в Средней Азии.
«Ну, надо покупать теплые сапоги Джафару», — с улыбкой подумал Абдаллах, повернулся и впервые за последние месяцы заснул спокойно.
После свадьбы Абдаллах ибн Сина переселился в Афшану, и там в 370 году хиджры[5] у его молодой жены Ситарабану родился сын Хусейн, будущий великий ученый. Через год появился второй мальчик — Махмуд. По неизвестным нам причинам семья Ибн Сины прожила в Афшане еще шесть-семь лет и перебралась в Бухару лишь тогда, когда стали подрастать мальчики и надо было серьезно подумывать об их обучении.
Абдаллах ибн Сина за эти годы, как видно, сильно продвинулся по административной лестнице. В Бухаре он сразу же попал на хорошую службу в диван муставфи[6] и приобрел в городе дом для своего становившегося многочисленным семейства.
Караван с домочадцами Абдаллаха ибн Сины прибыл в столицу поздней осенью, когда снят был последний урожай и вот-вот должны были начаться непогожие скучные дни промозглой среднеазиатской зимы.
Как ни малы были сыновья Абдаллаха, им на всю жизнь запомнилось первое впечатление от Бухары. А она легко могла поразить воображение любого провинциала, тем более детскую впечатлительную душу, широко открытую всем событиям мира.
Во главе каравана ехал сам Абдаллах.
Верблюд, на котором сидели мальчики вместе со своим дядькой Юлдашем, шел вторым; следом в удобных корзинах ехала мать с маленькой дочкой, а еще дальше скрипели огромные колеса арб, нагруженных имуществом и припасами. Небольшой отряд стражников сопровождал Абдаллаха с семейством. Как ни близко было от Афшаны до Бухары, но в степях Мавераннахра жили многочисленные кочевые тюркские племена, основным занятием которых считалось скотоводство, однако все знали, что они не гнушались разбоем и грабежами и не стеснялись совершать набеги на окрестности городов. Спокойнее было заплатить конвою, чем потом раздумывать и разбирать, кто напал на тебя и лишил имущества — каракитаи, чигили или кто другой.
Путники подъехали к Бухаре во время полуденной молитвы. Освещенные прорвавшимся из-за мокрых туч солнцем вставали навстречу им высокие могучие стены города. Жалкие домишки лепились у их подножья. Здесь жили огородники, могильщики и прочая беднота. Сам город начинался за воротами, проезд через которые надо было оплачивать.
Въезжали через северо-восточные ворота. Тут же начиналось торгово-ремесленное предместье — рабад. Узкие грязные улицы, наполненные смрадом разлагающихся отбросов и гнилой воды, заставили путников брезгливо поморщиться — эта вонь особенно была невыносима им, привыкшим к свежему степному воздуху селений.
За рабадом, ближе к центру города, пошли базары, полные шума и гама, заваленные пестрыми невиданными товарами, свезенными сюда со всех концов земли. Призывы зазывальщиков, вопли погонщиков ослов, крики менял, гомон толпы сливались со своеобразными, незнакомыми мальчикам звуками, доносившимися из расположенных тут же, по соседству, ремесленных мастерских. Звенели медники, выбивая сложный орнамент на чашах, тазах, кумганах, свистели пилы деревообделочников, монотонно выстукивали берда ткачей, стучали деревянные молоты шорников, разминающих кожи, громыхали расписные глиняные горшки и блюда. В одной из улочек в окне мастерской сверкнули на солнце какие-то удивительные прозрачные кубки, вазы, бутылки, расставленные на удивление прохожим.
— Стекло! — шепнул мальчикам дядька, сам глядевший на эту посуду, как на непостижимое чудо.
Стекло! Удивительное прозрачное вещество, о котором рассказывал отец Мальчики чуть не выскочили из своих хурджинов — так хотелось разглядеть его, потрогать, подержать в руках, но останавливаться было некогда, и верблюды Абдаллаха ибн Сины важно прошествовали мимо толпы покупателей, зевак, лавочек и мастерских. Острые мальчишечьи глаза едва успевали выхватывать какие-то отрывки впечатлений из того нового и невиданного, что раскрывал перед ними бухарский базар.
Наконец выехали на широкую, вымощенную плитами площадь.
— Это Регистан, — сообщил ребятам их всеведущий спутник.
В этот час народу здесь было. мало, и площадь проглядывалась из конца в конец. Воздух тут был чище, здания выше и наряднее, чувствовалось, что наконец-то они находятся в столице.
Путники долго не отрывали глаз от нарядной мечети, блиставшей красотой гармонических линий, стройностью колонн, нежными овалами куполов, узорами замысловатой резьбы арок и минаретов.
Но надо было поглядеть и в ту сторону, где высился Арк — укрепленная цитадель — дворец эмиров Бухары. Здание. поражало громоздкостью, вычурностью, мрачностью, толщиной крепостных стен. Казалось, осеннее солнце, так щедро изливавшее свои лучи на светлую мечеть, придававшее ей такую воздушность и легкость, никогда не касалось Арка. Но вот верблюды повернули куда-то направо, и вдруг многочисленные оконца дворца засверкали, заискрились многоцветными узорами решеток, мозаики, и Арк стал как-то сразу выше, стройнее, приветливее.
Близ цитадели, вдоль площади, выстроились здания диванов, ведавших государственным управлением.
— Вон там служит ваш отец, — сообщил мальчикам дядька Юлдаш, указывая на длинное низкое здание, ничем не выделявшееся среди остальных. — Это диван муставфи.
Для деревенских мальчиков и того, что они увидали, было много. Их занимали здания, редкие прохожие, одетые по-по-городки нарядно, а иной раз и пышно, долго глядели они вслед двум ловким всадникам в кольчугах, водоносу, увешанному кожаными бурдюками с колокольчиками, хромой старой женщине, похожей в своих черных одеждах на летучую мышь.
Они глядели жадно, не подозревая, как много еще им предстоит увидеть в этом богатом городе, на этой самой площади Регистан. Не раз еще они будут прибегать сюда, чтобы поглядеть то на шествие окруженного разряженными телохранителями эмира, отправляющегося в мечеть, то на парад наемных войск, то на встречу вернувшихся из похода военачальников, гарцующих на горячих лошадях, в то время как их воины будут нагайками прогонять через площадь толпы пленников, предназначенных в рабство, то на очередную казнь, одно из любимых бухарских зрелищ, когда ловкий палач так умело будет перерезать глотки, что на плиты площади не упадет ни капли крови, — вся она стечет в арычек, мирно журчащий у подножья плахи.
Здесь же между дворцом и мечетью будут справляться праздники.
С этой же площадью Регистан свяжутся для мальчиков воспоминания о горьких днях Бухары. Но это будет не скоро. Пока же верблюды углубляются в тихие улицы и несут их к новому отчему дому и никакая тень не омрачает разгоревшихся и веселых детских лиц.
…Абдаллах ибн Сина не зря перевозил своих детей в Бухару. Он был ими все более и более доволен. Особенно старший, Хусейн, радовал его сердце, тот самый Хусейн, которому — суждено впоследствии прославиться во всем мире под именем Абу-Али ал-Хусейна ибн Сины, или Авиценны.
Уже с пятилетнего возраста он начал удивлять окружающих своей сообразительностью и исключительными способностями к ученью. Этот сероглазый малыш, едва достигавший ко времени переезда семьи в Бухару пояса своего отца, знал уже по-арабски наизусть чуть ли не весь коран, священную книгу, с которой все мусульманские дети начинали свое обучение, а многие на ней же его и кончали в зрелом уже возрасте. Пока Хусейн был мал, его учителями могли быть, с грехом пополам, знакомые хармайранские и афшакские муллы, но с переездом в Бухару надо было подумать о более серьезных учителях.
По соседству с новым домом Абдаллаха торговал овощами и бакалеей некий купец. Он много ездил по белу свету и для лавочника был не плохо образован. Торговые дела его шли не особенно бойко, и для увеличения доходов он устроил маленькую школу, где обучал нескольких мальчиков арифметике по шестидесятеричной системе, называвшейся тогда индийским счетом. В эту школу отправили Хусейна. Но знаний у зеленщика, как видно, было не особенно много. Скоро отец понял, что такому парнишке, как его Хусейн, не обойтись знаниями первого попавшегося мудариса. К тому же денег в доме хватало, и не это было препятствием для найма хорошего учителя.
Абдаллаха ибн Сину в вопросе о наставнике для сыновей смущалодругое: он не знал, где найти человека, который отвечал бы его требованиям и разделял бы его взгляды.
Давно уже Абдаллах, человек наблюдательный, имевший немалый жизненный опыт, начал критически относиться к окружавшей его действительности. Но в те времена, если недовольство существующими порядками выражалось в высшем обществе дворцовыми переворотами, а в низах — путем бесперспективных разрозненных восстаний доведенного до отчаяния крестьянства, то в средних слоях общества сомнения в правильности пути, по которому вели их светские и духовные руководители, обычно принимали религиозно-философскую форму. Так возникли суфизм, карматство и им подобные движения. В свое время мы подойдем к суфизму, сейчас же остановимся немного на том, что такое карматство, так как идеология его оказалась близкой отцу Хусейна.
Критицизм Абдаллаха выразился в том, что он отошел от ортодоксального мусульманства, принятого в империи Саманидов, примкнув к секте исмаилитов, или карматов. Секта эта по тому времени была явлением сравнительно прогрессивным, так как выражала антифеодальные настроения городского населения и земледельцев.
Возникло карматство еще в IX веке как оппозиция чересчур строгим и ограниченным догмам правоверного ислама и растущему гнету крупных феодалов. Но с самого возникновения движение это оказалось глубоко противоречивым. Под знамена карматского вольнолюбия и свободомыслия собрались люди разных интересов. С одной стороны, карматство оказалось движением народных масс против феодальных порядков, с другой — движением знати против феодальных правителей. Так, при внешнем единстве, карматство раздиралось внутренними противоречиями, в которых сталкивались интересы народа с политиканством аристократии. Абдаллах ибн Сина не задумывался о политической сущности движения. Вслед за многими передовыми людьми своей эпохи он видел в карматстве опору против господствующего гнета и призыв к общественному равенству. Он с удовлетворением принимал карматскую проповедь возврата к укладу сельской общины с равенством свободных членов, не возражая против частичного сохранения рабства. Вслед за вождями карматства он считал, что народы, покоренные арабами, вправе освобождаться от власти последних, согласен был поддерживать местные феодальные династии и противодействовать назначенным из Багдада наместникам. Близка ему оказалась и философия карматов — их идеология мессианства, в которой объединялись элементы рационализма и античной философии с реакционным мистицизмом..
То, что карматы тяготели к самостоятельному государству, некоторое время существовавшему в‘Египте, и к своим исмаилитским халифам Алидам или Фатимидам, делало их подозрительными в глазах властей любой страны и в том числе в глазах Саманидов, хотя эта семья тоже в свое время отдала дань карматству.
Правоверное мусульманское духовенство преследовало карматов и сделало все, чтобы эта секта стала тайной и гонимой.
Абдаллаху ибн Сине ни египетский халифат, ни сами Фатимиды не были особенно нужны. Его интерес к карматству, очевидно, зависел не столько от религиозных и политических его взглядов, сколько от его деловых связей, от возможностей более свободного и широкого общения с предприимчивыми купцами-путешественниками, с менялами-банкирами, влияние которых распространялось далеко за пределы одного государства.
Абдаллах не был ни подвижником, ни искателем. Он вовсе не собирался бросить дом, семью, созданное его руками благополучие и пуститься в путешествия, но глаза его были широко открыты навстречу тому, что могло дать новое познание мира. Общение с карматами давало ему это.
Неудивительно, что он подыскивал для своих сыновей учителя-кармата или хотя бы человека близких к ним взглядов. В карматах Абдаллах видел людей более знающих, более философски образованных, с менее ограниченными религиозной догмой горизонтами. Кроме того, предчувствуя необходимость поселить будущего наставника у себя в доме, хотел иметь здесь единомышленника и друга, а не противника, способного стать врагом.
Ничего так не любил Абдаллах, как теологические и философские споры. Он всегда радовался возможности поговорить с людьми одних с ним взглядов, интересовался тем, что происходит в мире, не стеснялся высказывать свое мнение. Потому-то так мечтал он найти в наставнике мальчиков собеседника. Но пока что такого учителя не было. И Абдаллах стал втягивать в круг своих интересов своих сыновей. Махмуд охотно откликнулся на желание отца и поддержал его рассуждения о различиях в понимании мировой души и мирового разума у правоверных исламистов и карматов. Это была основная тема споров, тянувшихся уже не одно столетие и не приводивших ни к каким результатам. Абдаллах, как истый кармат, был убежден сам и убеждал мальчиков, что мировая душа произвела всю материю, образующую видимый мир.
Хусейн внимательно прислушивался к разговорам, учтиво помалкивая. Он пока что только впитывал в себя мнения, высказывания и доказательства спорщиков.
«Придет время, — думал он, — я разберусь во всем всесторонне, а не только с чужих слов…»
Далеко не все казалось ему доказательным в ученье карматов, так же как не убеждал его и правоверный ислам.
Но и без теологических сомнений и кривотолков у Хусейна было чем заняться в эти первые годы после переезда семьи в Бухару. Окончив изучение корана, постигнув всю глубину познаний в математике соседа-зеленщика, Хусейн с таким же случайным учителем прошел адаб — науку, в которую входили ни много ни мало, грамматика, стилистика, поэтика и другие словесные дисциплины, а затем отправился изучать юридические науки к факиху[7] Исмаилу аз-Захиду.
В большом доме Аз-Захида одна из комнат была отведена под школу.
С раннего утра являлись туда юноши обучаться тонкостям мусульманской юриспруденции. Самым младшим из слушателей был Хусейн. Молодые люди в том возрасте, когда перед ними уже стоит серьезный вопрос о выборе будущего пути в жизни, об устройстве дома и семьи, сначала косо поглядывали на втершегося в их солидное общество мальчугана. Пока учитель вдалбливал им всем основные понятия шариата, студенты молчали. Трудно было еще понять, кто и как воспринял учение. Но едва Аз-Захид начал задавать вопросы о том, что такое, к примеру, газават,[8] атк,[9] сульх,[10] ариат,[11] как ко всему этому относится ислам, чем карается преступление против положений корана, можно ли продавать иктовые земли как воспользоваться правом развода, все ученики от удивления раскрыли рты. Так толковы и точны были ответы маленького Хусейна. Можно было подумать, что у него за спиной многолетний опыт старого факиха.
А на следующей ступени обучения, когда угрюмый Исмаил аз-Захид, даже в доме не снимавший своего тайласана,[12] рассказывая, как идет судопроизводство, предлагал ученикам задавать вопросы, учил участвовать в прениях, поражать противников неопровержимыми доводами, уже никто не мог сравниться в логичности построения вопросов, и ответов с маленьким Ибн Синой. И самые взрослые из слушателей факиха приходили советоваться к мальчику, котором едва исполнилось двенадцать лет.
«Как построить вопрос, чтобы уличить виновного?», «Какие слова произнести при разводе, чтобы оставить на всякий случай лазейку для востребования жены обратно в дом мужа?», «Как спасти своего клиента от жестокого ростовщика, в руках которого находится кабальный договор?», «Как составить договор о товариществе?» — с десятками подобных вопросов обращались к Хусейну, и он, подумав, всегда находил нужный ответ.
Огромная память и необычайные способности к логическому и отвлеченному мышлению начали у него развиваться с ранних лет. Но, кроме этого, постепенно развивалось и критическое отношение к действительности, к высказываниям людей, мнивших себя учеными, но ограниченных узкими рамками религиозных догм. Так начало проявляться свойство Хусейна — осмыслять все, что он изучает, и не успокаиваться, пока досконально не поймет всех причин и оснований, на которых построена наука.
Хусейн отметил для себя удивительные особенности мусульманского права. Факихи выдвигали на первый план в оценке человека и его деятельности исполнение им своих религиозных обязанностей — молитвы, постов, паломничества, уплаты податей и подобных, указанных шариатом дел. Он понял, что, как бы ни был честен, благороден, порядочен и добр представитель другой религии, ему никогда не отдадут предпочтения даже перед самым легкомысленным мусульманином. А среди мусульман — жестокий ростовщик, но исправный посетитель мечети будет всегда более прав, чем его несчастный маловер-должник. Второе, что навсегда запомнил Хусейн, — это различие в присуждении наказаний. За одинаковые преступления людям различного положения полагалось разное наказание. За убийство, например, представитель знати присуждался в-сего лишь к выговору, земледелец — к позорящему наказанию, купечество и чиновничество — к денежному штрафу, и только простые люди — к телесному наказанию и даже к смертной казни.
Хусейн по молодости лет, наверное, мало думал еще о правах людей, об их равенстве, о справедливости в распределении благ мира. Он пока только запоминал, накопляя в кладовых своей памяти множество всяких сведений и знаний.
Знания все же не мешали Хусейну оставаться ребенком, готовым при случае пошалить, подраться, поддразнить не только товарища, но и того же Аз-За-хида. Перед отцом все острее вставал вопрос о необходимости найти мальчикам наставника, который соединил бы в себе и учителя и воспитателя.
Наконец Абдаллах ибн Сина узнал от друзей, что в Бухару прибыл некий ученый Абу-Абдаллах ан-Натили, по слухам — кармат, и ищет себе хорошего места. Так попал Натили в дом Ибн Сины.
Солнце заливало широко раскинувшийся город, его дворцы и хижины, мечети и сады, площади и базары. Оно золотило воду в арыках, заглядывало даже в самые узкие переулки рабада. Бухарцы изнемогали от зноя. В полдень затихли кварталы ремесленников. Все, у кого не было спешной работы, потянулись к отдыху. Медники не оглушали более своих соседей стуком молотков. Столяры отложили топоры и пилы, портные, бросив в угол недошитые халаты, улеглись на них подремать. Прикрыли лавки сонные купцы, замолкли крики менял, вопли разносчиков воды, продавцов сладостей, пряностей и всякой всячины, которую без зазывания и шума не продашь. Всех разморил полуденный зной, на всех повеяло сном.
Но не всюду в Бухаре замерла жизнь. В квартале, расположенном недалеко от базаров, за высокой глиняной стеной слышатся голоса. Небольшой двор, куда можно дойти, отворив резную дубовую калитку, тенист и прохладен от широко раскинувшихся ветвей высокой чинары. Редкие блики проникших через густую листву лучей кажутся золотыми монетами, рассыпанными по каменным плитам. Тихо журча, перебирает тоненькая струйка фонтана, и в жемчужной водяной пыли рождаются маленькие радуги. В самом тенистом углу расстелен большой ковер. Среди набросанных на нем подушек лежат старик и два мальчика лет по десяти-двенадцати. Младший, Махмуд, лениво жует урюк и насмешливо слушает ученый разговор, который ведет с наставником Абу-Абдаллахом ан-Натили его брат Хусейн.
Дневная жара размаривает Натили даже в этом тенистом углу. Он с удовольствием всхрапнул бы часок-другой на мягкой подушке, лежащей под его локтем. Но Хусейн докучает ему вопросами, на которые надо что-то ответить, чтобы поддержать свой авторитет учителя. А мальчика интересуют самые неожиданные вещи. От философских проблем он отрывается, чтобы спросить, почему вода из кувшина льется вниз, а в фонтане вверх; почему солнечные лучи, попадая на струящуюся воду, становятся то синими, то зелеными, то красными, то желтыми; почему солнце зимой встает позже, чем летом; какие деревья растут в странах севера, и многое-многое другое, что неведомо и самому Абу-Абдаллаху. Старик зевает, борется с дремотой и отвечает невпопад. Он и бодрствуя-то не всегда может ответить на бесчисленные вопросы мальчика. К счастью, существует аллах. Во всех затруднительных случаях наставник ссылается на его высшую премудрость. Беда лишь в том, что ссылки эти не удовлетворяют любознательного Хусейна. Ну, хорошо, пусть действительно так устроил аллах! Но зачем иногда он поступает так, а иногда по-другому? Хусейн хмурится, не скрывая своего недоумения, но это не мешает ему забрасывать старика новыми вопросами, все более каверзными.
Натили сильно потрепан в житейских бурях и не обладает особенно обширными познаниями. Ему хорошо в доме Ибн Сины, и он изо всех сил цепляется за это место. Он вдосталь ест за обильным столом Абдаллаха и держится с полным достоинством. Но годы дают себя знать. Старая голова и усталое от долгой тяжелой жизни тело просят покоя. Он еще может учить тому, что когда-то узнал, но новых книг в руки не берет. Все равно всего не изучишь и не охватишь.
Иногда он радуется, а иногда удивляется настойчивому любопытству Хусейна. Он гордится умом и способностями своего ученика, но в данный момент хотел бы только одного: чтобы тот занялся какой-нибудь игрой, как все дети. Глаза старика совсем слипаются, и он мучительно подавляет зевоту.
Махмуд потихоньку шалит и бросает косточки абрикосов в маленький бассейн у фонтана. Его нисколько не интересуют ни вопросы брата, ни смущенные, сбивчивые ответы учителя. Вот жиденькая крашеная бородка Натили — совсем другое дело. Он трясет ею, точь-в-точь как соседский козел! Если бы запустить в нее косточкой? Махмуд знает, что борода является предметом особых забот и гордости старика, но уже не в силах удержаться от озорства. Мальчик старательно целится, прищурив глаз. Щелчок… Косточка летит в верном направлении, но почему-то попадает не в Натили, а в Хусейна. Тот вскакивает вне себя.
— Ишак! — кричит он брату, и в его серых глазах загораются сердитые огоньки. — Мало того, что сам всегда ленишься, но и мне мешаешь вести серьезные разговоры! — Он бросается на брата и валит его на ковер.
Несколько минут братья, свившись в клубок, усердно тузят друг друга. Их возня пробуждает учителя.
— Дети, дети, — бормочет он сонным голосом, но вместо того, чтобы разнимать расшалившихся мальчиков, удаляется под шумок в свою комнату.
Борьба длится недолго. Не успевает за Натили закрыться дверь, как мальчики уже засыпают, нежно обняв друг друга.
…Абдаллах ибн Сина, возвратившийся на полдень со службы успел еще у ворот заметить возню мальчиков и торопливо убегающего к себе Натили. Покачав головой, он, не замеченный никем, прошел на свою половину.
«Такой ли наставник нужен Хусейну? — впервые задумался он. — Не перерос ли его мой мальчик? Пожалуй, все же рано об этом думать… Тем более, Ан-Натили такой выдающийся человек…»
Абдаллах ибн Сина, очевидно, не смог полностью оценить знаний Натили. Внешний лоск, которым обладал учитель, его неглубокие, хотя и разнообразные, знания были полной противоположностью тому, что должно было бы характеризовать настоящего ученого. Абдаллах не углядел, что в Натили скрывался весьма посредственный учитель для подростков средних способностей. Но у него было то качество, которое оправдывало в глазах хозяина все его недостатки, — Натили был близок к карматам. К тому же он умел говорить о делах карматской секты таинственными намеками. Абдаллаху ибн Сине хотелось думать, что Натили как-то связан с членами общества «Ихвантоссефа» — «Верные друзья», основанного в Басре.
Об этом обществе много говорили среди бухарских исмаилитов. Считали его членов за выдающихся ученых, жадно читали и распространяли их философские и теологические сочинения.
Интересу к философии в восточных странах действительно в значительной мере способствовали работы «Верных друзей».
Критическое отношение к Корану и вместе с тем стремление объединить в какой-то форме греческую философию с догмами ислама делало «Верных друзей» в глазах мусульманских ортодоксов еретиками. Их самих, их последователей и поклонников преследовали, что заставляло облекать деятельность общества глубокой тайной.
Могло ли что-нибудь более импонировать Абдаллаху ибн Сине, чем сознание, что в его доме скрывается один из «Верных друзей» или, во всяком случае, человек, близкий к ним?
Потому-то Абдаллах так широко открыл двери своего дома для Натили.
Но и сам Натили, договариваясь с Ибн Синой, не представлял себе, какого ученика готовила ему его незадачливая судьба. С первых же дней пребывания в доме стала блекнуть и вянуть его слава знаменитого мудариса.
Занятия начались с книги «Исагуджи» — введения в логику, написанного Порфирием Тирским. И тут уже Хусейн показал понимание логики, какого не было у его наставника. Он дал подробный и ясный анализ определения рода, и Натили оставалось только развести руками.
Натили высоко почитал философию и гордился своими познаниями в ней. Но уже на книге Порфирия Тирского Хусейн заметил, что его учитель едва ли знает эту науку больше, чем любой из карматов, который заходил к его отцу поговорить на отвлеченные темы. Натили в свое время учился философии в Бал-хе, много читал, но не всегда был достаточно смел и вдумчив, чтобы отличить подлинные мысли автора от соображений переводчиков. В книгах, которые попадали в его руки, обычно содержались искаженные отрывки из древних античных философов и их подтверждения или опровержения текстами корана, сунны или правоверных мусульманских комментаторов. Всю эту премудрость мударисы заставляли учеников заучивать наизусть, нисколько не задумываясь о том, что некоторые высказывания начисто опровергали другие. Не задумывался над этим и Натили.
Бывало так, что Натили вдруг, вспомнив, начинал декламировать за уроком целые куски из Пифагора, Платона, Аристотеля, и, хотя эти отрывки были засорены позднейшими наслоениями комментаторов, о чем Хусейн, конечно, не знал, он с наслаждением выслушивал их. Выслушивал, запоминал, но, как он ни добивался, учитель его никак не мог изложить внятно и ясно, в чем же была сущность учения этих мудрецов. Точно так же Натили не мог уловить основную мысль Порфирия Тирского в его «Исагуджи» Хусейну приходилось смысл всего изучаемого постигать самому.
«Я должен понять! Я не имею права не пони мать!» — твердил себе мальчик. И, как увлекательной игрой, занимался отгадыванием смысла тяжелых, туманных философских определений.
С другими науками было примерно то же. Едва Абу-Абдаллах объяснил Хусейну первоначальные сведения из геометрии Эвклида, едва прошел с ним пять-шесть геометрических фигур, как мальчик почувствовал, что остальные теоремы ему будет легче постигнуть самостоятельно, чем слушать не всегда толковые объяснения учителя и вдумываться в их смысл.
Через несколько дней после того как Хусейн и Натили столкнулись с неясными для обоих положениями Эвклида и отложили на время занятия, мальчик явился к учителю и, торжествуя, показал исписанные формулами и исчерченные фигурами листы бумаги.
— Я все понял, дорогой наставник! Я понял, ка кую силу имеют углы, квадраты, прямоугольники и окружности! Я понял, что хотел сказать великий геометр! Погляди, как логично одна теорема вытекает из другой!..
Натили, смущенно посмеиваясь, теребил бородку и выслушивал горячие речи своего воспитанника, узнавая от него то, что сам должен был бы ему преподавать
Удивительно ли, что даже благожелательный Абдаллах начал думать о том, не перерос ли учителя его мальчик?
А Хусейн пока что спал крепким юношеским сном, особенно глубоким потому, что по крайней мере полночи провел за книгой.
…Вечером, когда яркие краски заката уже догорели на горизонте и их окончательно стерли мягкие сумерки, Хусейн стучится в комнату Натили. Учитель прекрасно понимает в чем дело. Его старческим ногам трудно, ох, как трудно, подниматься по бесчисленным ступеням витой лестницы, но он любит своего ученика и не в силах ему отказать в чем-либо. Они выходят из дому и идут по затихшему кварталу к соседней мечети. Мулла, большой приятель Натили, охотно позволяет ему пользоваться по ночам минаретом.
Над Бухарой темно-синим многозвездным покровом распростерся небесный купол. Крутые шаткие ступеньки минарета, по которым приходится карабкаться ощупью, тихо поскрипывают, тонкие деревянные перила обтерты до лоска ладонями муэззинов, снизу доносятся заглушенные голоса прохожих, и сердце Хусейна сладко замирает. Ему кажется, что каждый шаг приближает его к звездам.
Вот и площадка. Задыхающийся Натили останавливается и, хватаясь за сердце, долго не может унять его прерывистого биения. Хусейн смотрит на старика с жалостью и тревогой.
— Когда я вырасту и стану врачом, я вылечу тебя, почтенный Натили, — ласково говорит он.
«Стану врачом»? Это что-то новое. До сих пор Хусейн твердо заявлял, что будет фикихом и философом.
— Почему же ты меняешь свое решение? — посмеиваясь, спрашивает Натили, который успевает немного отдышаться.
— Мне жалко людей, — серьезно отвечает мальчик. — А я ничем не принесу им столько пользы, как заботой об их здоровье… Это ведь не помешает мне изучать философию, фикх,[13] астрономию.
Натили садится на узенькую деревянную скамеечку и показывает ученику созвездия, Млечный Путь и сверкающую на западе изумрудным блеском Венеру.
Хусейн знает уже названия всех больших ярких звезд и находит их безошибочно.
— Вот пояс Ориона, а ниже Сириус, вот Вега, — говорит он. — А это Альдебаран, то созвездие, похожее на бабочку, — Кассиопея, там будто кто-то просо рассыпал — Плеяды. Вот странно! — восклицает он вдруг. — Ты видишь, учитель, в созвездии Персея нет больше яркой звезды, которую мы видели в прошлый раз?
Хусейн заметил даже в темноте, как Натили улыбнулся.
— Это Алголь. Он всегда так: через три дня меркнет, а потом снова сияет прежним блеском.
— Чем же это объясняется?
Но учитель не мог дать ему ответа на этот вопрос.
— Такова воля аллаха, — вздыхая, говорил он. — Никто не может постичь его пути.
«Надо будет во что бы то ни стало разузнать, почему так странно ведет себя Алголь», — замечает про себя Хусейн.
А Натили переводит разговор на другой предмет.
Где-то далеко внизу отходит ко сну замолкнувшая Бухара. Изредка по извилинам темных улиц тихо движутся крохотные светлячки. Это запоздалые горожане возвращаются с фонариками и факелами к своим очагам. А на черном небе звезды медленно ведут свой стройный торжественный хоровод.
Абу-Абдаллах неторопливо рассказывает своему ученику все, что он помнит по истории астрономии.
О сабейских звездочетах, о египетских астрономах, еще три-четыре тысячи лет назад установивших понятие года и разделивших его на двенадцать месяцев, о китайских астрономах Хи и Хо, потерявших свои головы за то, что, по нерадивости, нарушили счет времени, за которым обязаны были следить, и, предавшись пьянству, не предсказали заранее солнечного затмения.
Мальчик, придравшись к слову, расспрашивает учителя, как это предсказывают солнечные и лунные затмения, но это уже совсем за пределами знаний Натили, и он снова меняет разговор.
Но особенно интересной стала для Хусейна астрономия после того, как в его руки попала книга Клавдия Птолемея «Алмагест».
Но и здесь Ан-Натили мало в чем мог помочь мальчику. Он только кое-как объяснил ему вводную часть До Хусейна ему не с кем было говорить о ней. Никто еще из его учеников не дотягивал до «Алмагеста». Но все же именно от Натили Хусейн узнал о том, как разнообразны были человеческие представления о форме Земли. Одни считали ее кубом, другие плоскостью, третьи — цилиндром. Великий греческий ученый Аристотель пытался доказать, что она шар.
Но в одном все ученые были едины — в том, что Земля — центр вселенной. Она недвижима, и вокруг нее обращаются Солнце, Луна, планеты.
Многие из астрономов считали, что небо над Землей твердое. Грек Анаксимен, например, уверял, что над цилиндрической Землей небо твердое, кристалловидное, а звезды вбиты в его сферическую поверхность, как гвозди. По Эмпедоклу выходило, что небо образовалось из эфира, который огненным элементом был превращен в хрусталь. Еще дальше шел Ксенофан, высказывая свое мнение о Солнце. «Оно не что иное, как воспламененное облако». Для освещения различных стран существует несколько солнц и несколько лун. Звезды же гаснут утром и загораются вечером.
Пифагор и его последователи говорили то же, что после них повторил Аристотель, — Земля шарообразна. Но, по Пифагору, она вовсе не неподвижна и не занимает средины круговращения, а сама вращается около огня. Ее нельзя считать ни первой, ни самой важной частью вселенной.
С таким утверждением никак не хотел согласиться Клавдий Птолемей, знаменитый автор «Алмагеста», создатель всемирно признанной астрономической системы. Уже из книги, а не от Натили Хусейн узнал, что, по мнению Птолемея, в центре вселенной находится неподвижный земной шар. Вокруг него, концентрически расположенные, вращаются хрустальные сферы — оболочки, к которым прикреплены светила Ближе всех к Земле сфера с Луной, затем сфера с Меркурием, Венерой, Солнцем, Марсом, Юпитером, и, наконец, с Сатурном. К восьмой сфере прикреплены неподвижные звезды, а на девятой находится «первый двигатель», приводящий в движение все планеты. Тот самый «первый двигатель», который, по Аристотелю, приводит в целесообразное движение весь мир.
— Это великое открытие! — восторженно говорил Ан-Натили, когда они с Хусейном читали книгу. — Оно объясняет движение планет вокруг нашей великой Земли…
Натили помнил, что египетский астроном советовал вычерчивать схемы вращения планет. Сам Натили, должно быть, никогда этим не занимался, но Хусейна заставлял вычерчивать геометрические фигуры, по которым вращались планеты. Эти эпициклы, в которых быстро разобрался Хусейн, никак не давались его наставнику. Одно из очередных занятий астрономией кончилось тем, что Натили предложил:
— Изучай «Алмагест» самостоятельно. Ты уже взрослый мальчик Выучив какую-то часть, излагай мне прочитанное, чтобы я разъяснял тебе, что ты понял верно и что неверно…
Некоторое время Хусейн так и поступал, по-мальчишечьи посмеиваясь над тем, как пыжился наставник, стараясь показать свои знания и скрыть незнание. Теперь уже во время бесед на минарете учителем был Хусейн, а Натили только слушателем.
Он с удивлением и даже с некоторым страхом внимал рассказам мальчика, его толковым, ясным, точным объяснениям.
«Какой орленок растет из моего ученика!» — думал Натили с гордостью. Но эта гордость была отравлена печальной мыслью о том, что с орленком пора расставаться.
Каким ни был слабым учителем Натили, он был честным человеком. Не раз и не два говорил он Абдаллаху ибн Сине, что Хусейна надо учить, не отвлекая ничем другим, так как в дальнейшем он, безусловно, должен стать настоящим большим ученым.
Ан-Натили прожил еще некоторое время в дом Ибн Сины, занимаясь с Махмудом, но потихоньку подыскал себе место в Ургенче, главном городе северного Хорезма, и отбыл туда, не оставив о себе особенно глубокой памяти в сердцах своих учеников
В те дни, когда Хусейн самозабвенно уходил в логику, в геометрию, в вычерчивание эпициклических петель, над государством Саманидов разразилась первая гроза
Произошло это в 992 году.
За несколько лет перед этим в Кашгаре и Семиречье началось объединение кочевых тюркских племен: карликов, чигилей, ягма и других. Там возникало Караханидское государство — серьезная угроза мирным соседям. Воинственные и дикие племена, жившие в основном за счет набегов и грабежей, стремились к объединению прежде всего для усиления своей военной мощи. И потому неудивительно, что караханидские войска под предводительством Богра-хана двинулись на богатый Мавераннахр.
В эти тяжелые для империи дни у эмира Нуха ибн Мансура раскрылись глаза на многое, что в другое время осталось бы для него скрытым
Прежде всего он понял, что положение в стране очень серьезное. «Генералы» саманидского войска вели себя странно. Один из крупнейших военачальников, Фаик, посланный с армией навстречу Богра-хану, был разбит и взят в плен. Следом за ним великий хаджиб[14] Аяч, по-видимому умышленно, проиграл битву при Хардженге, на самых подступах к Бухаре До эмира дошло, что еще один хаджиб, Абу-Али Симуджури, вел у него за спиной переговоры с Богра-ханом о разделе Саманидского Государства. Три высших военачальника — Аяч, Фаик и Симуджури — оказались изменниками. Повелителю Мавераннахра эмиру Нуху ничего не оставалось, как покинуть город без боя, оставив его победителю.
Уезжая — из Бухары, эмир впервые почувствовал свое одиночество и бессилие. На кого он мог опереться? Гвардия из тюркских гулямов? Ядро армии и охрана трона, она оказалась способной на самую черную измену, тем более что противниками в данном случае оказывались соплеменники. Нух ибн Мансур понял, что не может доверять ни одному из ее командиров ни сейчас, ни в будущем. Мусульманское духовенство? Оно пользовалось огромным влиянием среди темного населения, но оно всегда держало сторону багдадского халифа и готово было поддерживать караханидов, более приверженных к догмам правоверного ислама, чем вольнодумные Саманцды Народ? Он равнодушно смотрел на отчаянное положение повелителя.
Вместе с эмиром Нухом из Бухары отступил лишь небольшой отряд местного ополчения, оставшийся верным Саманидам. С этим незначительным войском эмир затаился где-то поблизости от столицы.
Но на этот раз судьба благоприятствовала эмиру. Слабое здоровье Богра-хана помешало ему остаться в Бухаре, где была плохая вода и возникали постоянные болезни. В то время, когда он переезжал в Самарканд, эмир Нух со своими солдатами нагрянул в Бухару и вернул ее себе без особенных трудов и крови.
Но все же завоевание Мавераннахра Богра-ханом показало всем соседним народностям военную слабость Саманидского государства. Об этом же говорила и случайность победы Нуха ибн Мансура.
Первая гроза прошла, казалось бы, благополучно, но тучи, собравшиеся над головой Саманидов, не рассеялись.
Начало сознательной жизни Хусейна, те шесть-семь лет, что он прожил еще в Бухаре, пришлись на самые трудные и тяжелые годы в истории Саманидского государства. Некоторая передышка, наступившая после неожиданной победы Нуха ибн Мансура, была только затишьем перед грядущей бурей.
…Когда Натили покинул Бухару, Хусейну было лет тринадцать-четырнадцать. К этому времени он уже привык заниматься самостоятельно. Мальчик брался за многие науки, читал, заучивал и не переставал удивляться тому, как легко дается ему ученье. Хотелось чего-то трудного, сложного, для преодоления чего понадобились бы все его силы. Хусейн чувствовал себя силачом, которого заставили рвать цветочки.
Но это ощущение рассеялось как дым, когда в его руки попал перевод «Метафизики» Аристотеля. Вот тут-то силач превратился в жалкого школьника.
Новая книга заинтересовала Хусейна, но оказалась так трудна и непонятна, что юноша не знал, как за нее взяться. Ночи напролет просиживал он над нею. Бесчисленное количество раз перечитал, пока, наконец, не выучил наизусть, и все же содержание книги оставалось скрытым и таинственным. Он никак не мог понять ее смысла и цели, которую она преследовала.
Тысячи раз задавал он себе вопрос: «Что такое сущности в понимании Аристотеля? В чем разница между первыми и вторыми сущностями? Почему Аристотель бытиё сначала делит на десять категорий, а затем сводит их к трем — сущности, состояния и отношений?» Инстинктивно Хусейн чувствовал, что в книге были какие-то недомолвки и неясности. Юноша готов был свалить это на ошибки переводчика, но потом снова начинал уверять себя, что виновато его собственное недомыслие. Хусейн никак не мог уяснить смысла определений, даваемых философом общим понятиям. Он ломал себе голову, почему материя относительна к каждой данной форме и один и тот же объект будет и продуктом соединения своей формы с той материей, на которую эта форма была наложена при его образовании, и просто материей по отношению к чему-либо новому, что из нее может создаться
«Не может быть, — раздумывал Хусейн, — чтобы за этими «буквами и словами не таилось что-то важное, великое, что по-новому может осветить мир. Ведь это писал Аристотель!» Но что это такое Хусейн никак уяснить не мог. «Это книга, пути к пониманию которой нет!» — решил он и в отчаянии обратился к приятелю отца, считавшемуся образованным и знающим философом.
Но тот сумел ему объяснить только то, что слово «Метафизика» значит «после физики», что, по-видимому, читать эту книгу Хусейну еще рано, иначе он бы ее понял. И в заключение пробормотал:
— Я слышал, что есть у Ал-Фараби комментарий к этой самой «Метафизике». Может быть, это тебе бы помогло…
Но все поиски этого комментария были тщетны. Никто из торговцев книжного базара в Бухаре не имел этой книги и даже не слыхал о ней. Хусейн начал подозревать, что учёный старик что-то перепутал.
С трудами Ал-Фараби, знаменитого среднеазиатского философа, тюрка по происхождению, Хусейн был уже знаком, так как с увлечением прочел его книгу «Фусус-ул-Хикам» — «Геммы мудростей». Работа эта, очень содержательная сама по себе, особенно радовала Хусейна тем, что автор ее не древнегреческий мудрец, а почти что современник, сосед, мусульманин, родившийся на берегах Сейхунa.
«И у нас могут быть философы не хуже античных! — думал Хусейн. — И у нас есть такие великие умы, как Ал-Фараби, Ал-Кинди и многие другие. Может быть, и я сам когда-нибудь, если не найду комментария, сумею понять и разъяснить другим сущность «Метафизики»… Хорошо бы!»
Однако в конце концов юноша нашел книгу Ал-Фараби. Но это случилось несколько позже. Событие это он даже отметил в своей автобиографической записке, так как придавал ему большое значение.
«Но вот однажды перед закатом солнца я был на базаре в рядах переплетчиков. Один маклер держал в руке какой-то том и расхваливал его. И он протянул мне эту книгу, но я недовольно и решительно отстранил ее: «Нет пользы в этой науке!» Но он сказал мне: «Купи эту книгу, воистину она дешева, я продам ее за три дирхема, хозяин ее нуждается в том, что будет уплачено за нее». И я купил ее, а это оказалась книга Абу-Насра Фараби о целях «Метафизики». Я вернулся домой и поспешно принялся за чтение ее. И открылись тогда передо мной цели метафизики по той причине, что я уже знал ее наизусть. И я очень обрадовался этому и на следующий день, благодаря великого господа, пожертвовал много вещей беднякам».[15]
В будущем Хусейн много раз в своем научном творчестве будет возвращаться к Аристотелю, станет его комментатором и пропагандистом не хуже Ал-Фараби. Так сбудется его мальчишечья мечта. Но то, что он в трудный момент своего развития нашел работу гениального тюрка, вне сомнений, сыграло очень большую роль в формировании его мировоззрения. В ясных и простых мыслях Ал-Фараби чувствовалась его близость к материалистическому миропониманию. Хусейн впервые сталкивался с таким взглядом на вещи здесь еще больше, чем в «Геммах мудростей», прояснялась точка зрения Ал-Фараби.
Он был одним из немногих философов своей эпохи, мусульманского вероисповедания, высказывавшим материалистические идеи. Ал-Фараби признавал, например, реальность существования внешнего мира и возможность познания его через ощущения. Индивидуальную душу он связывал с телом. По его мнению, мир состоял из вещей, которые образуются из материальных элементов. Изменяются, возникают и уничтожаются лишь вещи, состоящие из многих элементов, постоянны лишь те, что состоят из одного элемента. Движение, учил Фараби, это постоянное свойство тел. Предметный мир содержит в самом себе возможность движения.
Все это было ново, необычно, требовало раздумий, будоражило мысли Хусейна, но если юноша ко всему этому относился с интересом и вниманием, инстинктивно чувствуя глубину и справедливость мыслей Ал-Фараби, мусульманские ортодоксы видели в ученье философа самое злостное еретичество.
Философия Ал-Фараби оставила глубокий след в мировоззрении Хусейна. Но пока что она отложилась где-то в глубинах его памяти, ожидая часа, когда на обломках разных принятых и отвергнутых им систем и взглядов будет выковываться собственная философия Хусейна — Абу-Али ибн Сины
Сейчас же философия отошла на второй план. Новое большое и серьезное увлечение вошло в жизнь юноши.
…Чем больше Хусейн читал, тем больше начинал понимать, что не одни только мудрецы-греки двигали вперед человеческую культуру. Особенно это было заметно в медицине, которой Хусейн занялся, увлекшись естественными науками.
Восточное врачевание имело уже большую историю и пользовалось заслуженной славой. Гиппократа и Галена — отцов медицины, никто не собирался затмевать, но восточные врачи удачно расширяли и дополняли их наследие.
Хусейн читал «Объемлющую книгу» и «Мансурову книгу» выдающегося врача Абу-Бекра ар-Рази из Рея — огромный свод медицинских знаний, «Царскую книгу», составленною Али ибн Аббасом, не минул он и «Книги о лихорадке», сочиненной Исхоком ал-Исраилем, и много других работ, следы которых ныне потеряны. В Бухару, крупнейший и просвещеннейший город Средней Азии, попадали сочинения воспитанников знаменитой Гундешапурской медицинской академии и Александрийской школы врачей.
Как ни странны были, на наш взгляд, тогдашние методы диагностики, лечения, назначения и приготовления лекарств, но за спиной восточной медицины был большой практический опыт. Приобщиться к нему — стало заботой Хусейна
До нас не дошло, с какими случаями болезней сталкивался Хусейн, что именно заставило его с таким горячим увлечением уйти в медицину
Знаем мы только то, что в Бухаре было очень плохо с питьевой водой, к тому же жители ее и представления не имели о правилах санитарии и гигиены. Известно, что в Бухаре, даже в более близкие к нам времена, не прекращались эпидемии и бесконечные желудочные заболевания. Тысячи знахарей и знахарок пользовались человеческим несчастьем и темнотой. Настоящих врачей, хотя бы кое-что знающих, было мало. Нужда в них была постоянная.
Доброе и отзывчивое сердце Хусейна играло большую роль в выборе профессии врачевателя.
В Бухаре пользовался большой известностью медик Абдул-Мансур Камари. Некоторое время Хусейн проучился у него. И похоже на то, что именно в этот период своей жизни под руководством Камари Хусейн начал тайно преступать строжайшие заповеди ислама и заниматься анатомированием человеческих трупов. За этот грех оба врача могли сами превратиться в трупы или же, в лучшем случае, подвергнуться позорному изгнанию из отечества. Однако это их не останавливало Все искупала и все оправдывала жажда подлинных знаний подлинного опыта.
Сталкиваясь со сложными и трудными случаями внутренних заболеваний, когда никакие лекарства не могли спасти человеческую жизнь, Хусейн приходил в отчаяние от своей беспомощности и бессилия.
Это чувство тем чаще посещало его, чем большим становился его опыт. Все яснее он понимал, что, так же как и все известные ему врачи, действует не тем методом.
«Какое право имею я быть врачом? — спрашивал себя Хусейн. — Я могу вылечить прыщик, могу спасти человека от простого расстройства желудка, могу дать ему рвотное, могу вправить сустав — и все. Чем же я отличаюсь от любого знахаря? Ничем! Как можно лечить больного, когда мы не знаем не только того, что происходит в организме во время болезни, но даже внутреннего строения нормального человеческого тела!»
И Хусейн запирался в своей комнате, снова и снова пересматривая собранные им медицинские книги Некоторые из них были снабжены рисунками, выполненными восточными миниатюристами. В этих рисунках было все, что могли дать художники: изящество линий, тонкое сочетание красок, но там не было основного, что хотел видеть Хусейн, — точности.
Достовернее других была чудесная миниатюра, воспроизводившая схему кровеносного и пищеварительного аппарата, по Галену, но и под ней была пометка: «Срисовано с обезьяны».
«Действительно ли знаменитый пергамский врач анатомировал только обезьян? Он ли сделал эту оговорку, боясь навлечь на себя преследование жрецов, или же ее добавив арабский переводчик, чтобы отвлечь внимание имамов? — думал Хусейн. — Я рад был бы даже обезьяне но, к сожалению, у нас в Бухаре, кроме кошек и собак, ничего не достанешь…»
А кошек и собак Хусейн анатомировал уже давно. Один раз удалось выпросить у отца барана, а затем юноша случайно приобрел у соседа павшего жеребенка.
Мышцы, связки, направление больших кровеносных сосудов, легкие, печень, почки — все это, наверное, имело какое-то сходство с человеческими органами, но уже желудок травоядных был устроен по-иному, чем у кошек или собак. А как у человека? В органах животных, Хусейн смутно подозревал это, есть какое-то существенное отличие от органов человека. И сколько бы он ни потрошил бродячих собак, тайна эта оставалась тайной.
Неудовлетворенность и искания юноши были понятны хакиму[16] Камари. К тому же он хорошо его узнал и мог всецело доверять ему. Пренебрегая опасностью, люди, подобные Камари и Хусейну, искренне преданные науке и своему высокому призванию врачей, шли на любой риск, лишь бы увеличить свои знания.
Мы можем представить себе, как Камари через преданных ему людей закупал труп какого-нибудь безвестного, одинокого бедняка и сообщал об этом наиболее надежным своим ученикам.
К вечеру Хусейн и его товарищи заходили за учителем.
Хаким, переодевшись в платье потемнее и попроще, захватив ящичек с инструментами, храбро шагал следом за молодыми людьми к окраине города. В одном из самых глухих кварталов была снята на время заброшенная, полуразвалившаяся хибарка. Все те же люди Камари приготовляли длинный помост из старых досок и засыпали пол густым слоем тростника. На помосте учеников хакима ждало уже тело мужчины средних лет, с изможденным и морщинистым липом. Чрезвычайная худоба говорила о долголетнем голодном существовании, а земля, сыпавшаяся с волос и бороды, о том, что он успел уже побывать в могиле.
— Я видел этого беднягу, — прошептал один из учеников — У него была болезнь вроде той, Хусейл, о которой ты мне рассказывал… Вздутый живот, сильная боль в правом паху, жар… Он очень мучился перед смертью… Его соседи позвали меня, но я ничего не мог сделать…
Несмотря на то, что несчастный скончался только накануне, неприятный сладковатый запах разложения распространился по комнате. Кое-кто из учеников зажал нос и отвернулся. Хусейном на мгновение овладело отвращение, но, поглядев на спокойное, сосредоточенное лицо Камари, он взял себя в руки.
Хаким длинным тонким ножом взрезал брюшную полость и развернул ее. Движения его были так уверены, что Хусейн понял — Камари анатомировал не в первый раз Но эта мимолетная мысль сразу же уступила место живейшему интересу исследователя, перед которым открывается неведомое.
Врачи, не отрываясь, несколько часов кряду работали над трупом. Последовательно они извлекали из него внутренности. Хусейн зарисовывал их и торопливо записывал структурные особенности каждой.
Теперь хакиму, как и его ученикам, становилась ясна причина смерти этого человека. Червеобразный отросток толстой кишки, покрытый старыми рубцами, был воспален и сильно припух.
— У всех ли людей есть этот странный придаток? — спросил Хусейн, приподнимая его деревянными щипчиками. — Ни у кого из животных я его не встречал…
— Не знаю, не обращал внимания, — пробормотал Камари.
Одна из язв отростка, как разглядел Хусейн, дала прободение, и вся брюшная полость была наполнена гнойной жидкостью, обильно потекшей на пол.
— Так вот что создавало такие боли и вздутие живота, — отметил Хусейн, тщательно исследуя состояние соседних органов.
Над трупом возились только Камари и Хусейн. Остальные ученики стояли рядом в позе наблюдателей и, казалось, были очень рады, что их не втягивают в это грязное дело.
— Как ты думаешь, уважаемый хаким, — обратился к врачу Хусейн, — можно ли было бы предотвратить гибель человека своевременной операцией этого придатка?
— Никто еще, насколько мне известно, не рисковал оперировать что-либо внутри брюшной полости, но я предполагаю, что, занявшись вовремя этой болезнью, то есть начав лечение при появлении первых симптомов, можно предотвратить смертельный исход. Как по-твоему?
Хусейн, сосредоточенно разглядывавший расположение кишечника, кивнул головой.
— Масляные промывательные и легкая диета должны были бы решительно помочь… Вначале, конечно… А из лекарств, пожалуй, только отвар сельдерейного семени и болеутоляющие… — Юноша вопросительно поглядел на учителя.
— В легких случаях — поможет… Но в таких, как этот, ничто, кроме могилы…
«Надо подумать, — отметил для себя Хусейн. — Неужели ничего нельзя сделать?..» -
Познакомившись насколько возможно внимательнее с кишечником и желудком, врачи перешли к сердцу. С ним они возились особенно долго. Разрезали его вдоль и поперек, рассматривали полости, устья сосудов, клапаны и управляющие ими мышцы.
Легкие пришлось препарировать уже второпях. На них Хусейн заметил несколько разлитых темных пятен, частично зарубцованных, а частично открытых.
— Погляди, учитель! — взволнованно воскликнул Хусейн. — Не чахотка ли дает такую картину?
Но тот, занятый пищеводом, отмахнулся.
— Что ты! Какая чахотка? Это нормальное состояние легких. Вспомни Гиппократа: «Само легкое наполняет грудь; обращено влево; имеет пять выдающихся концов, называемых долями, пепельного цвета; усеяно выпуклыми точками; по природе ячеисто, как осиное гнездо…»
Но Хусейн никак не мог согласиться с тем, что эти явно болезненные признаки являются нормальным состоянием легких, тем более что даже при слабом свете светильников было видно, что легкие, особенно одно из них, не пепельного, а синего цвета. Но ночь истекала, и надо было спешить.
С сожалением оторвался Хусейн от стола. «Удастся ли мне когда-нибудь еще раскрыть тайны человеческого существа? — думал юноша — Еще не осмотрены сосуды, головной и спинной мозг, сочленения, кости, да и мало ли еще осталось неосмотренного и непознанного!»
И все же Хусейну одна эта ночь дала, пожалуй, больше, чем все годы ученья у Камари. Он впервые представил себе человеческий организм во всей его полноте и сложности.
Он был бесконечно признателен учителю, давшему ему, с риском для себя, возможность познакомиться с анатомией человека. И вместе с тем юноша впервые задумался над тем, что же представляет собой Камари как ученый. Было ясно, что он неоднократно препарировал трупы, но как же он мало знал о строении тела, если никогда не обращал внимания на то, есть ли у человека червеобразный отросток! Как легко он отмахнулся от осмотра язвенных поражений на легких! Неужели это не было ему интересно?
Что-то в характере Камари напоминало ему Натили, и, несмотря на то, что у врача был огромный практический опыт, помогавший ему почти безошибочно ставить диагнозы, Хусейн видел ту же снисходительность к своим ошибкам, то же пренебрежение новым, то же равнодушие в поисках.
А юноше все казалось необычайно важным и нужным. Вот хотя бы эта ночь. Он понимал, что после этой ночи, прикоснувшись к подлинному источнику знаний, не сможет лечить людей, пока не будет знать наизусть каждую частицу человеческого тела.
«Если Камари считает для себя возможным полузнание, то я не хочу оставаться на этом уровне! Я должен повторить, а может быть, и еще не раз повторять вскрытие, — решил Хусейн. — Я обязан стать настоящим знающим врачом. И это, как видно, единственный путь… Иного пути нет, хотя бы это и грозило мне проклятием, гибелью души и неисчислимыми муками на том свете..».
Судя по знаниям, которыми в дальнейшем обладал Хусейн, он свое решение выполнил.
Прекрасная память, внимательность, умение сопоставлять факты, обобщать их и анализировать — эти свойства Хусейна были основными его помощниками в изучении искусства врачевания. Обучение у Камари длилось недолго. Талантливый ученик в краткий срок превзошел учителя, а умный Камари безропотно примирился с фактом.
Хусейн подходил к возрасту, когда следовало серьезно подумать о деле, которое он выберет в жизни Быть ученым, он понимал, — это и много и мало. Все ученые, о которых он читал, были людьми разно сторонних знаний. Они одинаково хорошо разбирались в философии, математике, астрономии, географии, теологии и множестве других наук, трудноотделимых друг от друга. Но у всех, как правило, бывал какой-то основной интерес, которому они отдавали душу и время. Тот же Гиппократ был врачом, несмотря на свои разнообразные знания. Эвклид — математиком, Птолемей — астрономом, Ал-Фараби — философом и т. д. К чему же особенно влекло его, Хусейна? Что могло поглотить все его мысли? К шестнадцати годам он был толковым, знающим факихом, которому с радостью поручали запутанные дела. Он знал философию, геометрию, астрономию. Во всех этих областях едва ли в Бухаре были достойные его соперники. Так что же ему делать? Чем заниматься?
Любовь к человеку как таковому, со всеми его недостатками, несчастиями, горестями, болезнями, такая редкая в те жестокие и корыстные времена, рано овладела душой Хусейна. Ему мало было отвлеченных наук. Руки просили практического дела. Именно во врачевании он увидел возможность стать истинно полезным, даже необходимым человеку Выбирая этот путь, он не думал о человечестве в широком смысле слова, об отвлеченном понятии человечества или человечности — его просто тянуло к конкретному доброму делу, к возможности помочь людям, с которыми он сталкивался
Чувствуя, что знания его все чаще и чаще помогают людям, Хусейн охотно стал ходить на любой зов. Любой бедняк мог рассчитывать на его помощь. Самые страшные заболевания не вызывали в Хусейне ни отвращения, ни брезгливости. Единственной мыслью его была надежда излечить их. Ужасные болезни Азии — оспа, холера, проказа, всевозможные паразиты, гнездившиеся в человеческом теле, вроде глистов, солитеров, ришт, — нисколько его не пугали. Теснота, в которой ютились бухарские бедняки, невероятная грязь, заливавшая улицы города, где они жили, застоявшаяся вода хаузов, зараженные арыки, бывшие не только источниками питьевой воды, но одновременно и сточными канавами, — все это способствовало постоянным эпидемиям.
На пыльных столичных улицах, в грязных узких переулках часто можно было встретить хорошо одетого стройного юношу. Его красивое лицо, серые внимательные глаза, доброжелательная приветливость были известны чуть ли не всем бухарцам. Когда он проходил, многие кланялись ему чуть ли не до земли, называя «господин хаким».
Этот «господин хаким», нисколько не боясь перепачкать свой нарядный халат, проводил дни и ночи в какой-нибудь полуразвалившейся хибарке, вырывая у смерти несчастного малыша, покрытого гнойными язвами.
Удачные излечения создавали славу Хусейну. Если его познания в области философии, логики, теологии, фикха были известны только небольшой кучке наиболее образованных людей Бухары, то о врачебной его деятельности, казалось, знали все жители города.
Отец пересчитывал ковры, шитые золотом халаты, перстни, ткани и деньги, получаемые его сыном за лечение богачей. Абдаллах ибн Сина после возвращения на отцовский престол Нуха ибн Мансура и сравнительного успокоения в стране готов был считать, что он с помощью Хусейна вот-вот достигнет долгожданного богатства и покоя. Одно огорчало его — это постоянное стремление Хусейна бесплатно лечить всех тех бедняков, которые обращались к его помощи. Если бы только лечить! А то Хусейн постоянно тащил из дому то провизию, то постели, то деньги. Только после долгих споров отец решил махнуть рукой на это, да и то потому, что заметил — бескорыстие сына создает ему все большую славу как врачу.
В домах бухарских чиновников, среди купцов и даже в ремесленных рабадах быстро становилось известным все, что случалось за высокими стенами эмирского дворца, в самых тайных его покоях. Слухи, иногда верные, иногда фантастические, мгновенно распространялись по городу и давали пищу оживленным толкам.
Ничего удивительного не было в том, что вся Бухара, правда пока еще шепотом, заговорила о тяжелой, чуть ли не безнадежной болезни эмира. Этого было достаточно, чтобы наследника престола — юного Мансура ибн Нуха встретили на базаре с небывалым еще почетом, когда он, возвращаясь в сопровождении младших братьев после праздничного богослужения в мечети, свернул туда поглядеть на богатые товары. Хитрые купцы поспешили выложить весь путь принца своими лучшими коврами, дабы белоснежные ноги его арабского скакуна не запачкались в базарной грязи. Такие почести разрешалось воздавать только самому эмиру, и он ревниво следил, чтобы их не оказывали никому другому, даже членам его семьи. Нарушение запрета повелителя говорило, насколько плохо было его состояние.
Вечером Хусейна позвали к Камари. Врач был вне себя от волнения. Ни он, никто другой из придворных лекарей не могли понять, что за болезнь у эмира и чем ее можно лечить. Довольно сбивчиво Камари начал описывать своему бывшему ученику симптомы, надеясь не столько на свое объяснение, сколько на его интуицию. Но либо болезнь действительно была сложной, либо Камари не обратил должного внимания на что-то важное. Как ни напрягал свою память Хусейн, ни с чем подобным он не встречался ни в жизни, ни в книгах.
— Мой дорогой учитель, из всего тобою сказанного я ничего не могу обнаружить, — огорченно заметил Хусейн. — Чтобы понять болезнь эмира, надо его посмотреть. Может, тогда какая-нибудь счастливая мысль придет мне в голову… А так я ничего не могу подсказать тебе.
— Ты, конечно, прав, Хусейн! Я сам понимаю, что следовало бы показать тебе эмира. Но это зависит не от меня… Что могу — сделаю…
День прошел для юноши в напряженном ожидании. Ему не терпелось самому повидать эмира. Уж очень удивительна, судя по словам Камари, была его болезнь. Хусейн перерыл все свои книги, надеясь найти что-то им забытое. Но тщетно! Ничего похожего на симптомы, описанные Камари, не нашел.
Камари же со своей стороны делал все, чтобы вызвать ученика во дворец. Но когда он назвал придворным врачам имя Хусейна ибн Сины, все они возмутились, хотя молодой врач уже пользовался громкой славой в городе. Как! Позвать мальчишку, выскочку к ложу самого повелителя Бухары? Допустить его в святая святых, пред светлые очи эмира? Доверить ему лечение величайшего из людей! Не слишком ли много чести для сынка безвестного чиновника дивана муставфи?
Но, подумав, врачи решили по-иному. Эмир признан всеми тяжело больным. Его жизнь висит на волоске. Врачей могут обвинить в том, что, не сумев вылечить своего повелителя, они воспрепятствовали даже попытке его спасти. Камари первый заговорит потом повсюду, что его не послушали и тем самым обрекли эмира на смерть. Жизнь эмира — мост благополучия над бездной несчастий. Нельзя допустить, чтобы этот мост рухнул. Кроме того… если болезнь кончится плохо, будет на кого свалить вину. Едва сдерживая свое возмущение, врачи согласились на предложение Камари.
К концу дня послали за Хусейном.
Хусейн много раз видел нарядного, сверкающего золотыми украшениями эмира, проезжавшего по улицам Бухары. Очевидно, сказывалось искусство цирюльников и придворных косметиков, но повелитель всегда казался ему высоким, красивым, стройным и молодым. Веселое розовое лицо, большие глаза с поволокой, тоненькие стрелки усов и такие же тонки аркообразные брови. Все бухарские модники, стараясь походить на эмира, выщипывали себе бороды подбривали усы и брови. В заботе повелителе о своей внешности сказывалось женское воспитание, полученное им при дворе матери.
А сейчас перед Хусейном лежал жалкий, измученный недомоганием и бессонницей человек, настолько истощенный, что одеяло, прикрывавшее его теле, едва возвышалось над тахтой, служившей ему ложем. Пепельно-серый цвет лица, жидкие повисшие усики, мутные погасшие глаза, безучастно глядевшие на окружающих, — ничего величественного не было в эмире, и трудно было поверить, что перед врачам лежит повелитель большого государства, а не простой, замученный болезнями горожанин.
«Так вот человек, близость к которому является пределом тщеславия! — промелькнула в голове Хусейна ироническая мысль. — Сколько людей считают высшим для себя благом, если он подарит их рассеянным взглядом! Сколько поэтов готовы унижаться и пресмыкаться, чтобы прочесть в его присутствии хвалебную касыду, превозносящую его доблести, добродетели и благодеяния! На какие только интриги и подлости не пускаются известные врачи, чтобы удостоиться чести склоняться над изнеженным телом повелителя, втирать ему мази, делать промывания и резать мозоли!»
Врачи молчаливо расступились перед Хусейном По их сумрачным, расстроенным лицам юноша понял, что они не смогут сообщить ему что-либо новое о болезни повелителя. Камари, встретивший его у порога опочивальни, успел шепнуть:
— Добейся, чтобы тебя оставили с глазу на глаз с эмиром и воспользуйся этим для его осмотра без всяких помех.
Хусейн последовал мудрому совету. Он даже не узнал своего голоса, когда спокойно, но решительно попросил оставить его наедине с повелителем. Врачи недовольно переглянулись. Но слабый жест больного заставил их поспешно покинуть спальню.
Хусейн приступил к исследованию. Однако чем дольше оно продолжалось, тем больше недоумевал молодой врач. Конечно, организм эмира изношен гак, как будто ему не сорок, а все восемьдесят лет. Да и скопища его болезней хватило бы на десяток больных. Все было поражено в большей или меньшей степени — печень, почки, желудок, сердце. Каждая из болезней усугубляла другую, и то, что нужно было для лечения одной, могло пагубно отразиться на соседнем больном органе. Но в чем же основная болезнь? Что именно приковало эмира к ложу?
Бухарские врачи любили лечить от одной какой-нибудь болезни, уточнив ее симптомы. А здесь, Хусейн чувствовал, был целый комплекс и острых и хронических болезней, влиявших друг на друга.
Пока что пришлось начинать с самых невинных болеутоляющих вроде корицы, грелок и снотворного
Когда повелитель Бухары уснул, Хусейн оставил его на попечении Камари.
«За что браться в первую очередь? — думал Хусейн, покидая дворец. — Чем лечить его в таком страшном состоянии?» Он перебирал в уме все наиболее действенные рецепты. Ничто не могло сразу помочь эмиру. Длительного же лечения он мог бы и не вынести. Весь уйдя в эти мысли, брел Хусейн по улицам, проходил какие-то ворота, пересекал площади и очнулся только тогда, когда совсем стемнело, а сам он шел по степи, далеко за пределами города.
Целую ночь пробродил Хусейн, решая, чем же болен эмир и как лечить его.
Хусейн чувствовал себя так, словно бы он сдавал экзамен на звание врача. Никогда еще так полюбившееся ему врачевание не задавало столь сложной задачи.
К рассвету он как будто бы принял самое подходящее решение: опий в небольших количествах, чтобы успокоить резкие боли, и отвары трав. Простые народные средства, которые должны были бы помочь и не могли повредить. Лишь бы выдержало сердце… Диета самая строгая. И режим.
К первой молитве Хусейн был уже во дворце.
Сколько раз ранее, проходя мимо цитадели, Хусейн поглядывал на нее, как на место, полное таинственности, где люди вели какую-то свою, особую, полную величия и мудрости жизнь. Никогда не думал он о том, что перед ним так широко откроются двери Арка, что его будут принимать здесь с таким почетом и уважением. Правда, он понимал, что если эмир не выздоровеет, то тут же почет этот сменится холодностью, насмешкой, а может быть, и чем-то гораздо более резким и горьким. Но пока двери перед Хусейном не только открывались, но и распахивались.
В покоях дворца царило смятение. После спокойной ночи эмиру опять стало плохо.
Хусейн торопливо проходил по залам, где собрались все видные сановники государства, настороженно ждавшие грядущих событий. У тех, кто пользовался особыми милостями эмира, лица были встревоженными, печальными. Другие, кто ожидал со смертью повелителя перемен к лучшему, с трудом удерживали улыбки. Через тронный зал, где эмир обычно принимал иностранных послов и устраивал торжественные церемонии, важно проследовал в сопровождении чалмоносных имамов и мулл седобородый муфтий[17]
В комнате, служившей передней к опочивальне эмира, Хусейн застал всех придворных врачей. Их расстроенные лица ясно показывали состояние здоровья повелителя. Увидев Хусейна, Камари бросился к нему.
— Где ты пропадал? За тобой дважды посылали — тебя не было дома… Придумал ли ты что-нибудь? С раннего утра он корчился в судорогах и кричал. Он выгнал всех врачей и требовал тебя… Сейчас у него сидит шейх Саид, который лечит привезенной им из Мекки водою священного источника Зем-Зем и дышит ему в ноздри, чтобы передать свое дыхание. Но это не дает никаких результатов…
В опочивальне эмира перед молодым доктором предстала странная картина. Эмир по-прежнему лежал распростертый на своем роскошном ложе. Его время от времени подергивали судороги. Лицо его показалось Хусейну еще более землистым, а глаза еще более тусклыми, чем вчера. Склонившись над ним, седой тощий шейх Саид усердно дышал ему в ноздри. На маленьком столике у изголовья были рассыпаны алмазы, яхонты, лалы и другие драгоценные камни, слывущие амулетами против болезней, а среди них виднелись круглые тускло-зеленые катыши безоара. Эти отложения, вынутые из желудка козла, считались особенно чудодейственным средством от тяжелых болезней.
Магия шейха, по-видимому, лишь утомила и раздражила эмира. Высунув из-под одеяла жилистую ногу, он из последних сил толкнул ею кудесника. Тот торопливо выскочил за дверь. В этот момент Камари приблизился к ложу и почтительно сказал:
— Великий повелитель, я и мой ученик поняли твою болезнь. Мы быстро излечим тебя. Всю ночь этот молодой врач готовил лекарства, которые поставят тебя на ноги…
Эмир, едва подняв тяжелые веки, недоверчиво глядел на него.
— Глотай, глотай поскорее, повелитель! — подавая эмиру маленький шарик опия, воскликнул Хусейн. — Я ручаюсь, что это средство облегчит твои страдания…
Эмир пробормотал молитву, поручая себя аллаху, и проглотил снадобье.
Лекарства молодого доктора, тщательный уход и строгий режим, который установил Ибн Сина, подняли с одра болезни повелителя Бухары. Врачам оставалось только разводить руками в полном недоумении. Наиболее завистливые готовы были приписать излечение эмира колдовству, черной магии или алхимии. Но такие разговоры не беспокоили Хусейна, возможно даже не доходили до него.
Во время своего пребывания во дворце юноша присмотрелся ко многому. Здесь впервые Хусейн, который сам был усидчивым и терпеливым тружеником, столкнулся с жизнью, полной неги и безделия, являвшейся таким разительным контрастом с той страшной нищетой, которую Хусейн встречал на бухарских улицах и у бедняков, которых лечил.
На примере отца и его друзей Хусейн видел, что благоденствие требует усилий — труда, иногда ловкости и изворотливости, а иногда предприимчивости и бесстрашия. Здесь же, во дворце, никто ничего не делал, кроме слуг. Пиры, попойки и увеселения, которые устраивали бесчисленные родственники эмира, невзирая на его болезнь, покровительство наукам и искусствам по традиции, только потому, что так велось издавна, только чтобы обеспечить себе за столом остроумных и льстивых собеседников, удивили Хусейна и заставили сразу же насторожиться. Быть шутом, составителем гороскопов, развлекателем — нет, это было вовсе не то, к чему стремился юноша! Он с горечью думал о том, что быть придворным медиком — вовсе не завидное положение. Здесь никогда не принадлежишь себе, а о занятиях наукой надо забыть. Теперь он понял, чего стоили дома и сады Камари.
«Неудивительно, что в такой сутолоке он не заметил, у всех ли людей бывает червеобразный отросток!»— с некоторым даже сочувствием подумал Хусейн.
Молодой врач решил, что при первой же возможности покинет дворец. Пока же его держали здесь болезни повелителя, у которого, несмотря на выздоровление, часто случались то сердечные припадки, то приступы, желудочных колик.
Когда зашел разговор о награждении Хусейна и эмир Нух ибн Мансур самолично спросил его, чего он хочет, юноша рискнул обратиться с просьбой, которую лелеял в самой глубине своего сердца.
— Об одном только молю тебя, великий государь, допусти меня в свое книгохранилище…
Хусейн боялся поднять глаза, такой наглой казалась ему его просьба. Считалось, что книги из дворцовой библиотеки читают только сами эмиры и их близкие.
Нух ибн Мансур помолчал, затем усмехнулся.
— Придворному медику это можно разрешить… Знания его пойдут в нашу пользу…
Так был получен доступ в знаменитое книгохранилище Саманидов. Это было еще одно звено в цепи, удерживавшей Хусейна при дворе.
Хусейн навсегда запомнил тот день, когда впервые попал в библиотеку Саманидов. Она занимала целый дом, полный древних и современных книг и рукописей. Эта бесценная библиотека собиралась почти двести лет.
Важный и надменный хранитель библиотеки встретил посетителя высокомерно, но, увидев свиток с государственной печатью, на котором в пышных словах было изложено разрешение хакиму Ал-Хусейну ибн Абдаллаху ибн Сине пользоваться книгами, принадлежащими династии, сразу же переменил тон и, не щадя поклонов, стал уверять, что весь он к услугам достопочтенного хакима.
И все же просьба Хусейна сейчас же показать ему книгохранилище вызвала смятение и растерянность библиотекаря. Тем не менее, немного помявшись, он пригласил юношу войти.
Хусейн с замирающим сердцем шагал по длинной анфиладе комнат со стенами, украшенными затейливой резьбой и росписью, краски которой облупились и потускнели от времени. Верхние углы и балки потолка закоптились, почернели и мохнатились от свисавшей с них пыльной паутины. Ветхие, истрепанные ковры покрывали пол. Вдоль стен тянулись тяжелые сундуки, окованные узорными железными и медными скрепами.
Все говорило о том, что пресветлые очи повелителя Бухары не заглядывают сюда. Очевидно, так же не заглядывали в библиотеку и менее светлые очи родных и близких эмира.
Хусейн ожидал увидеть здесь хотя бы склоненных над пюпитрами седобородых ученых, трудившихся над пополнением библиотеки. Но вместо них он заметил лишь нескольких молодых людей, тихо сидевших за книгами поближе к запыленным окнам. Юноше показалось даже, что они стараются как можно меньше выдавать свое присутствие, жмутся к сундукам и стенам.
Уловив удивленный взгляд Хусейна, библиотекарь без тени смущения на лице сказал ему:
— Эти люди. — наши служащие. Они стирают пыль с книг и следят за тем, чтобы в них не заводились червячки и жуки. Ты не поверишь, хаким, сколько здесь работы!
От Хусейна не скрылось, что «служащие» вместо своих прямых обязанностей были погружены в чтение книг. Но он не счел нужным обратить на это внимание своего собеседника.
С любопытством озираясь вокруг, Хусейн следовал за библиотекарем. Время от времени тот оборачивался к юноше, чтобы убедиться, идет ли он за ним, и дать ему краткие пояснения. Из его слов Хусейн понял, что в каждой из комнат находятся книги по какой-либо одной отрасли знания.
В самих книгах библиотекарь разбирался, по-видимому, весьма смутно, зато он великолепно знал, сколько их сложено в каждом сундуке, из каких материалов сделаны переплеты и какая цена заплачена за особенно дорогие экземпляры. Вытащив из-под халата связку ключей, он отомкнул два-три ящика и с гордостью показал лежащие поверх книг аккуратно составленные описи.
Целые дни Хусейн проводил в библиотеке. Первое время библиотекарь настойчиво пытался руководить его выбором, усиленно рекомендуя пустые, но богато оформленные книги. Однако Хусейн вежливо, но решительно отклонил его услуги. Он внимательно знакомился с содержимым все новых сундуков. Скоро для него стало ясно, что как раз в наиболее скромных ящиках из простых досок таились подлинные сокровища. С трепетом извлекал он из них энциклопедию Ибн Русте, сочинения историков Абу-Тахира Тайфури и Ал-Белазури, географов Ал-Истахри и Ибн Хаукаля. А сколько находил он трудов по физике, механике, математике, астрономии, ботанике, зоологии! О многих из этих книг Хусейн не имел раньше никакого представления и даже не слыхал имен их авторов.
Подводя итоги дневных занятий, он не раз думал с горечью: «Мне казалось, что я многое знаю, но все это лишь ничтожная крупинка ученой мудрости. Чего стою я перед теми, кто наполнил своею ученостью эти ящики! Хватит ли мне жизни, чтобы прочитать хотя бы десятую часть неведомых мне книг?»
Хусейн облюбовал себе место в комнате, где хранились книги по медицине. Уже давно он чувствовал необходимость в справочнике, где можно было бы найти и название болезни со всеми ее признаками, прямыми и косвенными, и указание на то, какими снадобьями ее можно излечить. Он перебирал все собранные ’в библиотеке книги врачей в надежде обнаружить такой справочник. Но чем больше сундуков было им осмотрено, тем меньше оставалось надежды, что кто-то из медиков этим занимался. Изредка попадались краткие словари терминов, обычно приложенные к- трактатам. Все чаще задумывался Хусейн над тем, что надо бы ему самому заняться этим делом. Пока что он делал выписки и отмечал книги, где можно было найти нужный ему материал.
В сундуках Хусейн обнаруживал научные произведения, о которых слышал от Камари, или те, о которых упоминалось в солидных медицинских книгах, но бывали и труды, никем не отмеченные и вместе с тем ценные и серьезные. Однако наряду со значительными работами восточных медиков было множество схоластической и религиозно-мистической литературы, вплоть до комментариев к Корану или сочинений безграмотных табибов, стремившихся обессмертить свои имена.
Как ни был молод Хусейн, как ни приучали его относиться с доверием ко всему, на чем лежала печать религии, но он не мог не усмехнуться, читая трактат, где при поддержке корана и других «непогрешимых авторитетов» развивалась мысль о том, что болезни насылаются на человека за его грехи либо самим аллахом, либо, с его попущения, злобными, коварными джинами. Еще менее достоверным показалось сочинение, где со ссылками на Платона, Плотина и Галена излагалось учение о «пневме» — части «мировой души» — и в соответствии с этим объяснялось происхождение и течение заболеваний. Были в сундуках и книги последователей пифагорейской школы, строивших медицину на мистике чисел, книги врачей-астрологов, рассказывавших о влиянии планет на здоровье человека, о наиболее благоприятных расположениях небесных светил для применения лечебных средств, об искусстве составления «медицинских гороскопов», пространные сборники молитв, заклинаний, нашептываний и наговоров, помогающих при различных недугах, и даже списки святых, к которым следует адресоваться за исцелением в случаях лихорадок, кишечных колик, язв, зубных болей и прочих болезней.
Один пухлый фолиант остановил на себе внимание Хусейна. В нем говорилось о целебных свойствах драгоценных камней. Автор, видимо, много потрудился над ним. Собрав многочисленные свидетельства древних и современных ему ученых, он сообщал: алмаз дурные сны отгоняет и потеет, если к носящему его приблизить яд; топаз кипение воды прекращает; берилл помогает от бельма и проказы, — лазурь болезни смягчает; изумруд вылечивает глазные болезни, кровавый понос и черный кашель; рубин врачует сердце и мозг; сапфир очищает глаза от кровавых пятен и отгоняет меланхолию; агат бережет непорочность дев; аметист дает плодовитость и служит противоядием; бирюза укрепляет зрение и охраняет от падения с коня; безоар-камень спасает от всякой отравы. Смарагд, оникс, опал, яшма, гранат, яхонт, сердолик, хризопраз, жемчуг — все они были наделены чудодейственной силой, вложенной в них аллахом. В книге приводились истории царей, султанов, халифов, полководцев, везиров, мудрецов, обязанных своим исцелением или спасением от верной смерти драгоценным камням.
Хусейну вспомнились рассыпанные на столике близ эмира драгоценности. Если бы они таили в себе столько чудотворных свойств, пришлось ли бы всем врачам, и ему в том числе, ломать голову над заболеванием повелителя? Нет, все это надо проверить!
Как тут разобраться в таком огромном количестве самых разных, самых противоречивых сведений?! Как найти истину? Натили когда-то рассказывал Хусейну о добывании золота. Золотоискатели перемывают горы песка и горных пород, чтобы извлечь из них маленькие сверкающие крупицы. Тяжелый, кропотливый труд! Но, видно, и ученый тоже должен добывать крупицы истины, откидывая все, не имеющее ценности.
Как бы ни был талантлив юноша в семнадцать лет, ему именно из-за молодости лет и отсутствия жизненного и практического опыта бесконечно трудно отличить истину от лжи, правду от вкоренившихся предрассудков. Это со всей силой ощутил Хусейн, когда окончательно понял: того, что ему надо, нет, и надо составлять справочник самому.
Сотни раз прикидывал он, что должно войти в книгу, пока не решил: только то, в чем он сам непреложно убедится на опыте, либо то, что узнает из книг, внушающих полное доверие. Иначе этот труд лишь увековечит суеверие, предрассудки, невежество. Испытывать, проверять на практике, взвешивать, подвергать суду разума — таково должно быть его правило!
В работе приходила уверенность в правильности выбранного метода. Незаметно проходили дни, недели, месяцы…
Хусейн почти не показывался дома, а когда был нужен эмиру, то бежали искать его в библиотеку. Зов повелителя — единственное, что могло его оторвать от книг.
К огорчению юноши, его за последнее время все чаще и чаще звали к постели медленно умиравшего Нуха ибн Мансура.
Временное выздоровление, удавшееся Хусейну, оказалось не особенно прочным. Уже на следующий год повелитель слег, чтобы больше не встать. Никакие усилия Хусейна и других врачей не помогали. Эмир умирал. Можно было только облегчить его последние дни.
Государство свое, ослабленное постоянными набегами воинственных соседей, Нух ибн Мансур оставлял старшему сыну Мансуру.
В 997 году, в самый разгар чудесной бухарской весны, в первые дни рамазана, когда правоверные справляют тяжелый пост, Мансур ибн Нух занял трон отца.
Он ничего не изменил в правлении своего предшественника. Опорой власти по-прежнему остались тюркские наемники. Не внял он и увещаниям велико го муфтия об укреплении основ правоверного ислама. Предоставив заботы по управлению государством везиру, он предавался тем увеселениям и развлечениям, к которым привык с детства.
Мансуру было приятно видеть среди своих приближенных сверстника — семнадцатилетнего Хусей на ибн Сину, слава которого все возрастала. Он утвердил его своим придворным врачом и выказывал ему неизменное расположение.
К счастью Хусейна, Мансур ибн Нух был молод и здоров. Он не нуждался в заботах врача, и ничто не мешало Хусейну заниматься научной работой.
Два года, правления Мансура были последним! в Жизни Ибн Сины, когда он мог еще чувствовать себя свободным от забот юношей, вся жизнь которого посвящена науке.
Занятый книгами и справочником, отрываясь от них только для посещения больных, Хусейн не замечал, что над Бухарою снова собирались грозовые тучи. Зато его отец Абдаллах ибн Сина, постоянно общаясь с чиновниками, со сборщиками податей с приезжими купцами, прекрасно отдавал себе отчет в печальном положении страны и с каждым днем становился все озабоченнее. Всякий раз, когда у него в доме собирались друзья, разговор неизменно шел о таинственных приготовлениях к походу караханидов, об интригах молодого султана Махмуда
Газнийского, сына выдвинувшегося в саманидских войсках тюркского наемника Себук-Тегина, наверное, неспроста завязавшего дружбу с молодым эмиром, о происках богословов, не прощающих Мансуру его отказа следовать указаниям великого муфтия, и о многом другом, что беспокоило всех желающих блага своему народу и себе в том числе.
Кончался второй год царствования Мансура ибн Муха. Молодой эмир по-прежнему проводил время в удовольствиях и жил больше в своих загородных дворцах, чем в столице. Иногда он вызывал туда и Хусейна на какое-либо шумное празднество, но это случалось редко. Его окружали более веселые и предприимчивые собутыльники, чем молодой ученый. По этому Хусейн серьезно встревожился, когда его как то разбудили среди ночи известием, что эмиру плохо и необходимо к нему немедленно ехать.
Посланный ничего не объяснил о причинах вызова, но по его мрачному, растерянному виду можно было заключить, что с Мансуром стряслась какая-то беда. Хусейн предусмотрительно захватил свою сумку с лекарствами и инструментами.
Освещая дорогу ярко горящим факелом, гонец поскакал вперед, и Хусейн, хлестнув лошадь, последовал за ним.
Ехали долго. Хусейн, несмотря на темноту, раз глядел реку, мост, густые заросли загородных садов
Обычно такой нарядный и радостный, дворец представлял необычный вид. Его оцепляла стража из тюркских гулимов, смотревших свирепо и угрюмо Сердитый сотник не пропустил на крыльцо не только Хусейна, но и посланного за ним гонца.
— Тебе здесь нечего делать, хаким, — нахмурившись, сказал он. — Во дворце есть другие врачи…
С этими словами он повернул лошадь юноши в сторону города и изо всех сил хлестнул ее нагайкой
На следующий день с крыльца цитадели и с амвона мечетей было объявлено о скоропостижной смерти эмира, последовавшей от несчастного падения с лошади, и о воцарении его брата Абдул-Малика ибн Нуха. Но уже к полудню во всем городе люди шептали друг другу на ухо, что Мансур стал жертвой заговора, организованного духовенством и выполненного гулямами. Передавали и подробности смерти эмира. Заговорщики напали на него спящего и ослепили. Мансур скончался, не выдержав зверской пытки.
Юный эмир Абдул-Малик, едва успев принять бразды правления, также очутился перед лицом беды. Илек-хан[18] Наср, вождь караханидов, владевший огромной территорией и захвативший еще при жизни эмира Нуха ибн Мансура большую часть Мавераннахра, предпринял поход на Бухару.
На тюркскую гвардию рассчитывать не приходилось. Она вела себя вызывающе и открыто отказывалась воевать против своих единоплеменников. Эмир был вынужден обратиться за помощью к народу.
Во всех мечетях встревоженной столицы возносились молитвы о спасении от захватчиков, а в своих проповедях духовенство призывало жителей Бухары встать на защиту Саманидов. Но втайне верхушка этого духовенства уже давно договорилась с илек-ханом Насром и втихомолку уговаривала население не ввязываться в бойню, предоставив эмиру самому улаживать отношения с тюркским ханом.
— Если победит хан Наср, — шептали народу тайные клевреты муфтия, — то вам от этого будет только польза. Он не будет требовать недоимок за прошлые годы…
Вызванные к эмиру представители бухарского населения, ссылаясь на мнение своих факихов, ответили Абдул-Малику примерно так:
— Если бы на нас напали неверные, мы все, как один, поднялись бы на священную войну. Но когда борьба идет из-за мирских благ, то непозволительно мусульманину отдавать жизнь за это. У тебя, повелитель, есть превосходное наемное войско, которое мы оплачивали много лет.
Поднять ополчение Абдул-Малику не удалось.
Не встретив сопротивления, войска илек-хана Насра заняли Бухару.
Орды полудиких тюрок ворвались в город. Запылали пожары, начались грабежи, убийства, насилия. Богачи бежали из города, бросив дворцы, рабов, имущество. Бежали, лишь бы спасти жизнь. А те, кто победнее, притаились в своих домах за запертыми воротами и глухими стенами в надежде, что их минует напасть.
Сколько раз Абдаллах ибн Сина возносил к небу благодарность за то, что не поддался суетному тщеславию, не вложил всех своих денег в постройку роскошных палат и теперь сумел в незаметном своем доме спасти семью от гибели и разорения. Но что стоила эта случайная удача перед общим бедствием!
Вступив в столицу, Наср бросил в темницу всю семью эмира. Трудно было представить себе, чтобы Саманиды когда-нибудь оправились после постигшей их катастрофы.
Бледный и мрачный бродил Хусейн по дому. Кажется, впервые в жизни он не знал, чем ему заняться, на что потратить свое время. Пробовал было читать, но буквы прыгали перед глазами, решительно отказываясь складываться в связные строчки. Отец никого не выпускал из дому, и только раз вечером удалось Хусейну выйти за ворота. Это было через несколько дней после вторжения войск илек-хана в Бухару.
Он торопливо пробежал квартал, отделявший дом от минарета, с которого когда-то в детстве вместе с Натили наблюдал звезды.
Печально смотрел юноша сверху на смятенную Бухару, на пылающий, полный криков и воплей город, всего несколько дней тому назад такой спокойный и полный довольства. Смотрел стиснув зубы.
— Вот горят базарные кварталы, — прижав руки к отчаянно бьющемуся сердцу, шептал Хусейн, — вот дымит диван муставфи, вот занялось что-то около дворца… О, что это? — испуганно воскликнул он, увидав столб пламени, взвившийся к небу. — Неужели библиотека?..
Руки Хусейна опустились. Мгновение он стоял неподвижно, бледный и суровый. Затем торопливо спустился по скользким ступенькам и, не думая ни об отце, которому обещал не ходить по улицам, ни об опасностях, которые могли встретиться по пути, побежал, не чувствуя под собою ног, туда, где гибла сокровищница мудрости.
В толпе на площади Регистана было много тюркских воинов, черноволосых, смуглых, в грубых одеждах и мохнатых шапках, с нагайками в руках. Много было и своих, бухарцев, которые шныряли между солдатами и, видно, были не прочь поживиться тем, что перепадет на их долю. Дворец охранялся большим нарядом стражи, и к зданию библиотеки невозможно было подойти. Через решетчатые ворота видно было, как дворцовые служители лениво плескали на стены из маленьких кожаных ведер. Среди них, в полуобгорелом халате, с размотавшейся чалмой, метался толстый библиотекарь. Он оплакивал вместе с гибелью библиотеки и свое исчезающее в пламени благополучие.
Хусейн понимал, что библиотека со всеми ее бесценными сокровищами безвозвратно погибла, и страшная печаль овладела его сердцем. Если бы не стража, преграждавшая путь к пожарищу, он, не задумываясь, бросился бы сам в пламя, не то за тем, чтобы спасать книги, не то, чтобы унять снедавшую его печаль.
Перегорели стропила, и кровля рухнула, подняв снопы огня и фонтаны искр. Хусейн закрыл лицо руками.
Если бы печаль давала дым,
Мир погрузился бы в вечный мрак… —
процитировал кто-то, проходя мимо Хусейна.
Искаженное горем лицо юноши, прижавшегося к решетке, очевидно, обращало на себя внимание даже в той сутолоке и сумятице, что царили на площади. Прохожий пристально поглядел на Хусейна, затем, посмеиваясь, сказал ему:.
— А что, достопочтенный Ибн Сина, пусть горит! Ты ведь выпил всю чашу находившейся здесь мудрости… Я бы на твоем месте, пожалуй, своими бы руками сжег ее, чтобы не дать людям быть ученее меня…
Когда Хусейн очнулся от его слов и, полный возмущения, бросился за ним, прохожий уже скрылся в толпе, заполнявшей Регистан.
Хусейн долго не мог заставить себя отойти от горящего здания. Только мысль о том, что отец и близкие сбились с ног, разыскивая его, помогла кое-как направить стопы к дому.
Он еле-еле плелся вдоль пустынных, холодных предрассветных улиц, таких знакомых, столько раз исхоженных, а сейчас чуждых и даже враждебных. Никогда Хусейн не замечал такого настороженного безмолвия, так плотно запертых ворот, загашенных огней. Даже ночные сторожа попрятались за высокими заборами.
Хусейн шел, то возмущаясь словами прохожего, то раздумывая о том, к чему может привести победа караханидов, то горюя, что так мало сделал в библиотеке, не успел даже закончить своего справочника.
На одно только он мог теперь надеяться — это на свою память. Оглядываясь на дни, проведенные в библиотеке, он чувствовал, что так крепко и прочно запомнил каждую прочитанную книгу, так ясно представлял себе основную мысль автора, что мог бы чуть ли не дословно восстановить ее. Но это прочитанную! А сколько осталось книг, до которых не успела еще дотронуться его рука!..
Дома, как и предчувствовал Хусейн, не спали и тревожились о нем, но тревога эта была несколько смягчена новостью, полученной Абдаллахом: младший брат эмира Исмаил ибн Нух, переодевшись в платье невольницы, служившей ему, бежал из Узгена, где его держали в плену караханиды.
В дальнейшем ни тщательные поиски, ни объявленная награда — ничто не могло помочь илек-хану. Как ни был народ равнодушен к Саманидам, никто не выдал Исмаила.
…От печальных дум, связанных с общим положением бухарского государства, почти разоренного, раздробленного, обессиленного, от того горя, которое ему доставила гибель библиотеки, Хусейна отвлекала только работа.
Около двух лет назад, в тот период, когда Хусейн только начал пользоваться библиотекой Саманидов, два соседа семьи Сины почти одновременно предложили Хусейну написать несколько книг.
Один из заказчиков, старый Абул-Хасан ал-Аруди был любознательным человеком. Он объездил в свое время многие страны, встречался с большим количеством людей, прочитал множество книг, но всю жизнь его влекла к себе недоступная библиотека Саманидов. Едва узнав, что Хусейн получил туда доступ, он стал постоянно расспрашивать о ней юношу, даже сам тщетно пытался что-то писать с его слов. Его интересовало все, что касалось этого хранилища: и подбор книг, и их внешность, и их содержание. Предлагая юноше написать для него труд, содержащий все эти сведения, старик просил Хусейна вложить в рукопись те знания, которые тот почерпнул в библиотеке.
Абул-Хасан ал-Аруди, переживавший пожар, уничтоживший бесценное собрание, почти так же горячо, как Хусейн, говорил ему:
— Пусть хоть труд твой будет памятником почившим произведениям ученых! Я хочу, чтобы мы с тобой по мере возможности сохранили хотя бы основы знаний, погибших в огне. Пусть будущие поколения по твоей работе восстановят путь человеческой мысли. Пиши, сын мой! Если только хватит жизни, отмеренной мне аллахом, я размножу твой труд, собрав сотню переписчиков и художников. Пусть народ наш познает утраченное в огне…
Отношение Абул-Хасана к его работе поддерживало Хусейна. Он с увлечением работал над сборником, в котором рассказал обо всех науках, кроме математических, и который назвал «Собранное».
Память и здесь была основным помощником Хусейна. Он так легко излагал основные мысли ученых, словно они где-то были у него записаны.
Мир Хусейна в основном до сих пор все еще ограничивался чужими мыслями и чужими знаниями, почерпнутыми из каких-либо источников; он пока еще изучал, но ум его созревал, жаждал своего собственного опыта, накапливал факты, сопоставления, истины, нигде, ни в каких книгах не отмеченные и ведущие к важным и своеобразным выводам.
Первой такой попыткой передачи собственных мыслей и своих самостоятельных взглядов была работа для другого соседа, известного бухарского законоведа Абу-Бекра ал-Барки Он поручил Хусейну составить для него объяснение к книгам, посвященным фикху и толкованию корана.
Здесь потребовалось уже собственное мнение юноши, здесь впервые со всей отчетливостью он попробовал высказать свои взгляды на коран, шариат, адат, мусульманское законоведение и бесчисленные комментарии к ним. Так сначала возник огромный, чуть ли не двадцатитомный, труд «Итог и результат», а затем «Книга благодеяния и греха», посвященная вопросам этики.
Книг этих Абу-Бекр никогда никому не показывал и никому не давал списывать, очевидно боясь обнаружить, что новым взлетом своей славы законоведа и тефсира[19] он целиком обязан не своим знаниям, а таланту молодого соседа — двадцатилетнего Хусейна ибн Сины.
А Хусейн только посмеивался, выслушивая свои мысли, горячо излагаемые на диспутах Абу-Бекром.
Но как ни был погружен в работу Хусейн, жизнь все время его отрывала от книг. Слишком тревожное было время, чтобы можно было от него отгородиться, да и не таков был характер Хусейна. Занятия, рукописи, книги никогда не могли его надолго оторвать от людей, жизни. Тем более, что события развертывались самые горестные.
Тяжело заболел отец. Бухара, любимая Бухара, временно перешла в руки Исмаила Саманида, прозванного Мунтасиром. Перемена власти, как всегда, сопровождалась пожарами и грабежами. Это печально действовало на больного, заставляло его тревожиться, волноваться.
Пришел и тот день, когда, несмотря на все усилия сына, веселого, жизнерадостного, предприимчивого Абдаллаха ибн Сины не стало, а сам двадцатилетний Хусейн оказался главой большой семьи. Он, никогда не знавший и не интересовавшийся ценой барана, никогда не беспокоившийся о том, где покупают муку, давно забывший, куда надо посылать за овощами, а главное — благодаря отцу не задумывавшийся, откуда берутся деньги, должен был взять на себя множество забот.
Какое-то время Хусейн попробовал было служить, но в такой беспокойной обстановке от службы толку было мало, и он стал серьезно подумывать о том, что надо поискать для родных более спокойное пристанище, чем Бухара.
Проезжая по бухарским улицам, Хусейн замечал, как изменился за последние годы облик города. Как много выгорело старых деревянных домов в лучших частях города, а новые постройки возводились уже только из кирпича-сырца и глины, менее подверженных огню. Выше строились дувалы, отгораживающие жилье от внешнего мира, и во многих из них виднелись узкие щели бойниц. Бухара постепенно теряла характер открытого гостеприимного города, куда свободно съезжались путешественники и купцы со всех концов мира. Сейчас купцы побаивались за свои жизни и за свои товары и предпочитали ехать не в Бухару, а в Булгар, в Ургенч, в Самарканд. Даже свои, бухарцы, и те норовили вывезти все, что возможно, лишь бы не попало оно в руки кочевникам — огузам, караханидам или еще кому-нибудь, кто вздумает пограбить несчастную столицу.
Меньше было купцов — тише и беднее стали бухарские базары, неохотно работалось и ремесленникам, неуверенным в том, что завтра найдутся покупатели на их изделия.
Только в мечетях ни на один день не прерывались богослужения. Сладкоречивые столичные имамы в нарядных одеждах не переставали поучать жаждущих утешения и успокоения правоверных. По-прежнему толпы нищих осаждали богомольцев, по-прежнему пять раз в день муэдзины призывали мусульман к молитве.
Никогда еще муллы не держали себя так важно и независимо. Никогда еще не имели они такого влияния на светских владык. В кругах просвещенных бухарцев понимали, что иначе и быть не могло, что фанатичные караханиды и подобные им племена являются основной опорой багдадского халифа и ортодоксального сунитства, что сейчас самое время духовенству утвердить свое положение. Но это не избавляло от гнета ужаса. То одного, то другого из городских вольнодумцев кадии[20] посылали на плаху, но за их спиной все угадывали муфтиев и имамов, ополчившихся на ересь.
Но, кроме караханидов, у чалмоносцев был еще один могущественный покровитель — Махмуд, молодой султан Газны, кратковременный и фальшивый друг несчастного эмира Мансура ибн Нуха. Те из бухарцев, кто задумывался над этим, видели, что он точит зубы на Хорасан, что дружба его с Саманидами диктуется далеко идущими целями, что не зря он поддерживает тюркских ханов и ортодоксальное духовенство.
Махмуд Газнийский, как удав, сжимал кольцо вокруг Хорасана, не ввязываясь в войну, но, затаясь, как хищник, ожидающий удобного момента. Его влиянию на бухарских владык горожане приписывали гибель многих светлых голов. Но никто не мог разоблачить его, а тем более противодействовать ему.
Все меньше оставалось в Бухаре знакомых людей. Все реже встречались Хусейну старые друзья отца— карматы. Все, кто мог, покидали город, удаляясь в Хорезм, в пригородные селения, в свободные еще от тюрок города Мавераннахра.
Пришло время, когда и сыновей Абдаллаха коснулся зоркий глаз соглядатая.
Наиболее правоверные из соседей стали косо поглядывать на брата Хусейна — Махмуда, не без оснований подозревая его в карматской ереси. Частично, хотя и с меньшим основанием, но такое же подозрение коснулось самого Хусейна. Юноши, на попечении которых были мать, сестра и многочисленные домочадцы, все больше склонялись к мысли, что следует покинуть Бухару.
Последним оплотом спокойствия оставался в какой-то степени Хорезм. Туда-то и решили везти своих домашних Хусейн и Махмуд.
Широка и полноводна река Джейхун. Сначала она катит свои желтые воды среди крутых, гористых склонов, а после Амуля[21] разливается так, что еле видны берега — низкие, то заросшие лесом и кустарником, то расстилающиеся беспредельными светло-зелеными квадратами обработанных полей, то серо-желтыми просторами выгоревшей степи.
По берегам все время возникают селения, города, деревни, рыбачьи поселки. Воды Джейхуна бороздят многочисленные барки, парусники, рыбачьи лодки. На больших медлительных плоскодонках, переполненных путниками, везут быков, овец, лошадей и даже верблюдов. На них же возвращаются паломники, усталые и измученные. Под рваными тентами, отгороженные тюками от остальной палубы, едут женщины и дети. Звонкие голоса пассажиров, крики, переговоры, брань, вопли ребятишек далеко разносятся по водной глади. Здесь же на палубах горят маленькие костры, и дым их винтом возносится к светлому осеннему небу. Это путники готовят пищу. А другие, склонившись над бортом лодки, стирают, совершают омовения, набирают воду в большие глиняные кувшины. Обыденная береговая жизнь, словно без всяких изменений, переселилась в эти плавучие дома,
перевозящие с места на место столько народу, сколько его едва ли наберется в иной деревне.
Изредка, поднимая зыбкую пенистую волну, проносятся по реке узкие длинные ладьи богачей. Палубы под цветными нарядными тентами, заваленными коврами и подушками. На этих легких суденышках высокие стройные мачты из заморского дерева и десять-пятнадцать пар гребцов-рабов, неудивительно, что они мелькают, как видения, оставляя далеко сзади неуклюжие широкобокие корыта, для которых основной двигающей силой является течение, а подсобной — низкий квадратный парус из темной мешковины.
Все это с неослабевающим интересом рассматривают братья Хусейн и Махмуд ибн Сина, нанявшие в компании с несколькими знакомыми семьями большую удобную барку. Барка спокойно движется вниз по течению Джейхуна мимо Хивы и Кята к Ургенчу.
Еще в Амуле начался Хорезм, богатая плодородная страна, входившая в империю Саманидов. События последних лет, повергшие Бухару под иго караханидов, не коснулись пока что Хорезма. Он оставался в стороне и от буйных набегов тюркских кочевников и от притязаний газневидской империи.
Еще пять лет назад Хорезм делился на два княжества: южное — со столицей Кятом и северное — со столицей Ургенчем (Гургандж). Энергичный и воинственный правитель северного Хорезма шах Мамун ибн Мухаммед завладел Кятом, сверг тамошнего правителя и, присвоив себе титул хорезмшаха, объединил под своей властью весь Хорезм. Ургенч — столица страны — стал быстро расти и обстраиваться. Стоял он на перепутье торговых путей из Средней Азии в Китай и Булгар — все это способствовало расцвету города. В Ургенч тянулись не только ремесленники и торговцы, но ученые, художники, поэты, каллиграфы. Новый хорезмшах, желая придать пышность своей столице и прослыть просвещенным правителем, покровительствовал наукам и искусствам. Об этом много говорили в Бухаре, в Самарканде, в Мерве. Много людей образованных, талантливых, спасаясь от караханидов, бежало в Хорезм. Неудивительно, что и семья Ибн Сины ехала в Ургенч.
Чем дальше плыли путники, тем богаче и тучнее становились возделанные орошенные поля, добротнее здания и хозяйственные постройки. Часто по пути попадались укрепленные караван-сараи, ступени которых спускались к самой воде, крепости, а то вдруг на горизонте возникали высокие стены городов и селений. Чувствовалось, что страна заботится о своей безопасности.
Два дня судно простояло в Уг-Керсене, большом торговом городе Хорезма, где путники решили отдохнуть от первого трудного этапа пути. Хусейн внимательно приглядывался к жителям города и к купцам, приехавшим на базары, и вел себя осторожно, боясь нарушить какие-нибудь неведомые ему обычаи. Жители носили не халаты и чалмы, к которым привык глаз бухарца, а простые короткие куртки и высокие черные колпаки. Никогда не встречал еще молодой ученый такой строгой очерченности лиц, такой свободной поступи, такой прямоты в неторопливых речах.
В Бухаре Хусейну нередко приходилось встречаться с уроженцами Хивы, Кята и Ургенча. Разговаривая с ними, он легко усваивал смысл незнакомых ему слов и запоминал их, тем более что у хорезмийского языка было много общих корней с его родным языком. Все это очень пригодилось ему теперь, когда он очутился в Хорезме, и позволило без особого труда объясняться с жителями. Однако и его, как и всех путников, попадающих в Хорезм, поразило своеобразное произношение жителей. Он припомнил к случаю, что бухарцы, подсмеиваясь над хорезмийцами, уверяли, что они лают как собаки.
Немного потребовалось Хусейну времени, чтобы понять и характер хорезмийцев. У них были грубоватые манеры, особенно по сравнению с жителями Мавераннахра, но они отличались большим трудолюбием и способностями к ремеслам и торговле.
…Дальнейший путь по реке был приятным и малоутомительным. Все домочадцы Хусейна целые дни проводили на палубе, наблюдая развертывающуюся перед ними незнакомую, новую жизнь. Барка тихо плыла то близ берегов, то вырываясь на самую середину широкой, полноводной реки. Тогда земля отходила так далеко, что прибрежные селения только маячили вдали, как нагромождение маленьких серых кубиков.
Через несколько дней проехали Кят, печальный малолюдный город, пострадавший и от Джейхуна, отгрызавшего у него огромные прибрежные полосы, и от человеческих междоусобиц.
Наконец вдали показались стены Ургенча.
Хозяин барки предупредил путников, что причальная пристань находится в двух фарсахах[22] от города, там надлежит выгружаться и входить в город караваном.
В те недолгие часы, что путники ехали от пристани до столицы Хорезма, Хусейн никак не мог отделаться от мысли о Бухаре. Только сейчас он понял, как привык к этому городу, как любил его. Там он начал свою сознательную жизнь, там была библиотека, так много давшая ему, там были знакомы и дороги каждая улица, каждый камень.
Он вспоминал, как, выехав за городские ворота, много раз оборачивался назад, словно стремясь запечатлеть навсегда в своей памяти город, его дома, сады, дворцы, мечети, все то, с чем сроднились его детство и юность, как охватило его тогда странное чувство тоски, словно он знал, что никогда не вернется сюда, что городские ворота захлопываются за ним навсегда.
Хусейн, конечно, не понимал еще, что Бухара, такая, какой он знал ее, ушла в прошлое Бухара Саманидов, свободолюбивая, богатая, пышная, разноплеменная, разноверная, покровительствующая наукам и искусствам, эта Бухара никогда не вернется. На смену свободолюбию на долгие столетия придет сухое аскетическое мусульманство, и в этой новой Бухаре не будет места ни ему, замечательному ученому,
Гордости Азии, ни его трудам. Ничто не могло подсказать Хусейну, что не так далек тот день, когда он и его труды будут правоверными имамами обвинены в ереси и преданы огню и проклятью, и пройдет чуть ли не тысяча лет, пока имя его перестанет пугать бухарских чалмоносцев.
Бессознательная тоска сравнительно быстро рассеялась у Хусейна, едва караван прошел сквозь знаменитые своей красотой городские ворота Ургенча, называвшиеся ал-Хаджадж.
У приезжих захватило дыхание, когда они остановились перед изумительным дворцом, построенным у самых ворот эмиром Ал-Ма’муном, отцом теперешнего хорезмшаха. Большие купола дворца, казалось, возносили его к небу. Великолепно расписанные арки напоминали богатейшие ковры, а ворота дворца были украшены сквозной резьбой. На другой стороне площади строился новый дворец, и сквозь леса уже вырисовывались его стройные башни.
Караван медленно прошел мимо этого замечательного здания и углубился в улицы, видом своим и расположением удивительно напоминавшие бухарские. Вообще Ургенч то и дело показывал новоприбывшим уголки, от которых так веяло саманидской столицей, что это сразу же сроднило с новым городом домочадцев Хусейна и несколько утешило его собственную тоску по оставленной Бухаре.
…Везиром у хорезмшаха был некий Абул-Хусейн аз-Сухейли, человек умный и образованный, знаток фикха, любитель ученых. Он приветливо принял Хусейна ибн Сину, явившегося к нему в одежде законоведа с тайласаном и тахтулханаком пообещал ему свое покровительство и казенное место с хорошим жалованьем. Хорезм встречал Хусейна со всей возможной доброжелательностью.
Через несколько дней Хусейна принял сам хорезм-шах. Он оказался гораздо проще саманидских эмиров и совсем не так дипломатичен, как его везир. Расспросив Хусейна о Бухаре, сделав несколько замечаний о печальной судьбе Саманидов, которых он чтил, хорезмшах предложил Хусейну являться во дворец на маджлиси улама.[23] Это предложение было большой честью для молодого ученого, которого, как ему казалось, еще не могли знать в Хорезме.
Обживаясь в Ургенче и приглядываясь к жизни страны, Хусейн начал понимать, в чем причина. Сравнительного благоденствия ее жителей. Окраинное положение Хорезма оставило его в стороне от завоевательных походов караханидов и илек-ханов, ускоривших гибель Саманидской династии, и даже помогло Хорезму превратиться из полузависимого владения в самостоятельную страну
Расположенный на перекрестке торговых путей, Хорезм издавна был крупным торговым центром. Предприимчивость и трудолюбие его жителей, широкая оросительная система, обеспечившая хорошие урожаи, постоянные удачные походы хорезмийцев против Хазарского и Булгарского царств, откуда они возвращались с добычей и рабами, прекрасно поставленная оборона границ самого Хорезма создали богатейшее государство. Благодаря широким связям на Востоке и на Западе Ургенч оказался крупнейшим рынком, куда съезжались купцы за сотни фарсахов. На базарах Хорезма можно было достать все и в любых количествах. Купцы продавали и покупали меха, кожи, вооружение, суда, металлические изделия, скот, ковры, ткани, фрукты, сыры, рыбу и еще множество всевозможных товаров. Из Хорезма шли караваны в Булгар, в степи к тюркам, в Китай, в Иран, в страны Малой Азии.
Но основным источником дохода Хорезма была торговля рабами. Купцы-перекупщики свозили в Ургенч, как раньше в Кят, пленных мальчиков и юношей, которых охотно покупали огромными партиями доверенные люди среднеазиатских и иранских властителей. Это было основное пополнение их войск
Более пожилые рабы приобретались для домашнегo хозяйства, строительных, оросительных и тяжелых земледельческих работ.
Здесь же можно было найти рабынь — женщин и девушек всех цветов кожи, начиная с белокурых светлокожих славянок, кончая черными курчавыми нубийками. Рядом с блестящими красавицами для гаремов продавались ковровщицы, ткачихи, няньки, скотницы. Цены на живой товар определялись в зависимости от красоты, здоровья, умения и возраста.
Караван-сараи и отгороженные частоколами площади, где продавались эти люди, были местом горя и слез для одних и богатой наживы для других.
Вся деловая жизнь города зависела от караванов, доставлявших рабов. Это был самый выгодный товар, которым промышляли не только купцы-работорговцы, но и почтенные граждане Ургенча. На нем богател город, на нем росли состояния отдельных людей, на нем строились пышные мечети и дворцы, украшавшие Ургенч.
Не раз, проходя вдоль улиц, где среди зелени высились недостроенные здания, Хусейн думал о безвестных рабах — каменщиках, вкладывавших свой тяжелый труд в украшение чуждого для них города.
Соединение опыта талантливых хорезмийских зодчих и этих подневольных пришельцев, выучеников неведомых чужеземных мастеров, зодчих, кладчиков и резчиков камня давало замечательные результаты. Как должен быть им благодарен народ, впитывавший чужую культуру и осваивавший ее!
Хусейн приглядывался не только к жизни, окружавшей его, но и к людям, с которыми сталкивался. Скоро он убедился, что среди хорезмийцев немало образованных, способных и талантливых людей, отдававших свои силы развитию науки, искусства и литературы. С наиболее выдающимися из них Хусейн встретился на маджлиси улама — в прославленной придворной «академии» хорезмшаха.
Создавая эту «академию» и привлекая в нее цвет ученого сословия, хорезмшах руководился не только стремлением прославить свое правление и прослыть просвещенным государем. Поощрения наук и искусств требовала сама жизнь.
Без зодчих, математиков, механиков нельзя было строить крепостей, дворцов, мечетей, казарм, складов. Без химиков не было бы производства стекла, обработки металлов, изготовления красок для тканей и дубителей для выделки кож, без знания географии предприимчивые хорезмийские купцы не решались бы пускаться в далекие плавания и путешествия. Оросительная система, на которой держалось земледелие, требовала толковых землемеров, строителей, геометров. Хорезмшах Али ибн Ма’мун, а немного позже его брат Ма’мун ибн Ма’мун прекрасно все это понимали. Вот почему они приближали к себе и осыпали милостями ученых.
В первое же появление Хусейна на маджлиси улама его члены встретили молодого бухарца как равного им собрата. Хорезмийские ученые много слышали о нем и приветствовали в его лице восходящее светило.
Но и сам Хусейн слышал о многих из тех ученых, с которыми познакомился в шахском дворце, и даже встречал их работы в библиотеке Саманидов. Такими были крупный математик Абу-Наср Аррак, известный медик Абу-л-Хайр ал-Хаммар, замечательный историк Ибн Мискавейх и многие другие.
Первые годы пребывания в Хорезме были, пожалуй, самыми счастливыми и спокойными изо всей дальнейшей жизни Ибн Сины.
Из Бухары он уехал двадцатилетним молодым человеком — в Хорезме к нему пришла зрелость. Годы ученья были в прошлом. Теперь перед Хусейном лежал весь мир, и он жаждал познать его. В Хорезме он почувствовал себя полноценным ученым, равным чалмоносцам, заседавшим в маджлиси улама, откинул некоторую еще сковывавшую его юношескую робость, смело взялся за разрешение научных проблем, вставших перед ним. А главное, ему показалось, что он встретил среду, в которой так нуждался, встретил людей, которые, как и он сам, жили интересами науки.
Однако первое время Хусейну пришлось чуть ли не все силы отдавать работе над составлением законов для объединенного Хорезма. Это дело было насущно необходимым. За ним следили и везир и сам хорезмшах.
В совете факихов заседали старые законоведы-зубры, начетчики, великие знатоки всех тонкостей шариата и адата, всех разновидностей и разночтений законов мусульманских земель. Большинство из них и слышать не хотело о каких бы то ни было изменениях в существующих порядках. Потрясая седыми бородами и пожелтевшими фолиантами, они метали громы и молнии против всякого, кто осмеливался предлагать даже самое невинное отступление от догматов корана и шариата. Опытные крючкотворы, понаторевшие в своем деле, старались лишь дополнить эти обветшавшие нормы всякими хитросплетениями, позволявшими судьям и чиновникам толковать законы в угодную им сторону.
Хусейн был самым младшим из них. Его мнений и высказываний пока что не принимали в расчет, но поглядывали на него с опаской. Слух о знаниях Хусейна ибн Сины давно докатился до Хорезма.
Позже Хусейн с усмешкой вспоминал свои надежды на легкую победу в совете факихов. Только молодостью можно было оправдать наивность, с которой он верил в то, что простая логика может поколебать укоренившиеся традиции. Он заготовил было доклад, большой и обстоятельный, о тех незыблемых началах, которые должны быть положены в основу законодательства, но так и не огласил его. После нескольких длинных выступлений правоверных законников, в которых они яростно обличали друг друга в невежестве из-за ничтожной перестановки слова в каком-то цитированном старинном тексте, старый кадий в пылу гнева хватил тяжелым переплетом по голове не менее старого улема, а потом свалился сам в обмороке. Хусейну пришлось приводить в чувство того и другого, а когда его врачебные усилия увенчались, наконец, успехом, собрание уже закрылось, и расходившиеся ученые плевали друг другу вслед.
Чувство, которое мы бы сейчас назвали чувством справедливости, восставало в Хусейне, когда он сталкивался с рассуждениями заседавших в совете муджтахидов.[24] Для них первым преступлением человека было пренебрежение догмами корана. Законоведы готовы были отрубить голову любому, кто не выполнял омовения, поста, молитвы, отказывался от паломничества, не платил подати на церковь
Все делалось для того, чтобы придать божественную сущность земным законам. Факихи упорно пренебрегали древним, зороастрийским памятником «Авестой», оставшимся до последнего времени основой народных представлений о праве, считали своей опорой только коран, сунны и фетву[25]
Хусейн понимал, что не здесь говорить о своих сомнениях, о своей давней мечте об отделении суда светского от суда духовного. За такое предложение его тут же в совете произвели бы в еретики и, может быть, с позором изгнали бы за пределы Хорезма.
Поэтому Хусейн попробовал поговорить с везиром, ему он откровенно высказал свои мысли, которые позже не раз повторялись им во многих произведениях.
— Я считаю, — говорил он внимательно слушавшему его Сухейли, — что законы должны быть прежде всего справедливыми, их надо направить на благо всего народа, а не только одних избранных. Судьба государства зависит от того, как живется в нем народу Если он бедствует, голодает, разорен налогами, не может добиться справедливости, видит всюду произвол, против которого чувствует себя беззащитным, если единственной защитой его является только отзыв о нем его муллы, то неудивительно, что государство хиреет, расшатывается и в конце концов становится легкой добычей для какого-нибудь завоевателя
Законы, ведущие к благоденствию народа, вот чего мы должны добиваться!
Хусейн долго излагал везиру свое мнение, и тот, умный и внимательный человек, по-иному отнесся к нему, чем факихи.
Сейчас невозможно установить, добился ли чего-нибудь Хусейн, вняли ли везир и факихи его доводам, но, очевидно, законы Хорезма все же оказались несколько более мягкими и более справедливыми, чем законы соседствующих с ним стран — Караханидского государства, Газны и других. Известно, что именно в Хорезме искали себе пристанища беглецы из бывших владений Саманидов. Сюда же стремились кар-маты и другие «искатели правды».
Но все же не законоведение было близко душе Хусейна. Когда пришла такая возможность, он с радостью вернулся к медицине и философии
Врачевание оставалось любимым и самым близким делом. Здесь, в Ургенче, Хусейн закончил свой медицинский справочник, начатый в библиотеке Саманидов. Возможно, во дворце хорезмшаха тоже было книгохранилище, а возможно, Ибн Сине помогло общение с таким крупным медиком, как Ал-Хаммар. Эта теоретическая работа снова привлекла Хусейна к любимому практическому делу.
Так же как и в Бухаре, одно-два излечения в трудных, по мнению других врачей, случаях — и слава Хусейна как выдающегося исцелителя прогремела по всему Ургенчу Славе этой сопутствовал слух о том, что доктор человек добрый, бескорыстный и щедрый
Больные повалили валом.
А следом за больными стали приходить и здоровые Они просились к Хусейну в ученики. Это были люди разных возрастов, побужденные к изучению медицины самыми различными причинами. Одних влекла наука как таковая, другие рассчитывали приобрести выгодную профессию, были и такие, которые, как Хусейн, хотели помогать людям.
Но какие бы причины ни толкали их к врачеванию, они упорно являлись к Ибн Сине, сопровождали его при посещении больных, помогали ему, когда он принимал дома, раскрыв глаза и навострив уши, слушали его лекции и объяснения.
Неожиданно Хусейн открыл в себе дар педагога. Его радовали успехи учеников, огорчали неудачи. Он готов был по многу раз повторять им одно и то же, лишь бы знать, что человек понял, осознал, внял тому, что он хотел ему передать. Не раз он целые ночи напролет писал для них учебные пособия, трактаты по отдельным вопросам, разъяснял болезни, определял симптомы, уточнял применение лекарств.
Хусейна интересовали способности этих людей, их возможности. Он, пожалуй, так же внимательно приглядывался к ним, как приглядывался к больным, стараясь поставить диагноз. Он узнавал степень их развития, их целеустремленность, их чуткость. От него не могли скрыться ни положительные качества ученика, ни его пороки и недостатки.
И, в соответствии со своими наблюдениями, одних он обучал самостоятельному врачеванию, другим показывал, как делать лекарства, боясь допускать их к человеческому организму, иным же прямо говорил, что им, в лучшем случае, быть до конца дней своих в подручных врача, а то и дрогиста К
Следом за учениками, стремившимися познать медицину, появилась около Хусейна и другая молодежь, которую интересовали философия, теология, история, география, математика, право и другие науки, уже изученные самим Хусейном.
Передавать свои знания молодым горячим умам оказалось радостным трудом. В просвещении видел он путь к лучшей жизни.
«Как нужна была бы в Ургенче хотя бы такая школа, как бухарское медресе Фарджек! Сколько местной молодежи могло бы получить в ней образование!»— не раз думал Хусейн.
Чем больше учеников сходилось на его лекции, тем чаще приходила ему на ум эта мысль. Но одному приняться за ее осуществление было невозможно. Для школы типа медресе нужно было большое здание со множеством отдельных комнаток — худжр. Кроме того, нужны были средства на содержание такой школы. Никакая частная благотворительность не могла бы выдержать таких расходов. Обращаться к хорезм-шаху Хусейн остерегался, считая, что нет еще у него солидной поддержки, а сам он слишком незначителен и на его слова шах не обратит должного внимания О школе пока приходилось только мечтать или говорить с товарищами, учеными, с которыми он встречался на маджлиси улама в надежде, что кого-нибудь из них увлечет своей идеей.
Возникла у него и еще одна мечта — создать в Хорезме нечто вроде больницы «Дар-аш-шифа» — «Дом оздоровления». Бродя по ургенчским трущобам, Хусейн видел, как много людей погибало от отсутствия какой бы то ни было медицинской помощи и даже обычного присмотра. Незначительная болезнь зачастую становилась смертельной оттого, что человек не мог вылежать, или не мог соблюдать диету, или некому было купить и подать ему лекарство. Для таких людей «Дар-аш-шифа» был бы спасением. Но и это была пока что только мечта. Мечта, которой он делился с учениками в перерывах между лекциями, приемами больных, работой над трактатами.
Возможно, что именно преподавательская деятельность способствовала быстрому росту Хусейна как ученого. Пытливость учеников толкала на все более и более глубокую разработку вопросов. И если в науках практических, как математика, история, география, играла значительную роль память, го в философии необходимы были собственные концепции, свое объяснение и свое понимание целого ряда проблем.
Хусейна немного удивляла, но вместе с тем и радовала тяга хорезмийцев к науке. По его воспоминаниям, бухарская молодежь была легкомысленнее, больше тянулась к веселью и удовольствиям, чем эти деловые и даже несколько суровые молодые люди. Но они далеко не всегда воспринимали отвлеченные понятия, постоянно встречавшиеся при изучении философии. По этому поводу у Хусейна с ними как-то возник разговор, который в значительной степени выявил «еретичность» взглядов молодого учителя.
Многим из слушателей Хусейна никак не давался ряд философских понятий. Утешая их, Ибн Сина заявил, что, по его мнению, подтвержденному наблюдениями, каждый нормальный человек обладает способностью воспринимать отвлеченные понятия. Все дело в успешном развитии этой способности, которая осуществляется, восходя по трем ступеням. Хусейн остановился на этом вопросе.
— На первой ступени ум похож на ребенка, который еще ничего не знает, но может всему научиться, — сказал Хусейн. — На второй — это ребенок, начинающий обучаться. Он впервые взял в руки калам, познал буквы и научился считать предметы. Только на третьей ступени он может сообразить, как складывать буквы в нужные ему слова, выражающие его чувства, понимает отвлеченные представления и понемногу овладевает теми формами мысли, которые называются понятиями. Вы, друзья мои, пока еще стоите на второй ступени, но у вас есть все данные, чтобы перешагнуть на третью. — Хусейн, стараясь яснее выразить свою-мысль, продолжал: — Не грустите, что одни движутся быстрее, а другие медленнее. То же происходит и с детьми. Даже ходить они начинают в разном возрасте, но затем догоняют друг друга и сравниваются настолько, что никто никогда и не скажет, глядя на них, что один начал ходить в восемь месяцев, а другой в год или даже в год и три месяца. Так и-вы. Пройдет немного времени, и вы все в своем развитии достигнете третьей ступени. Догоните лучших из вас, догоните и учителя. Только надо работать и упражнять свой мозг, как ребенок упражняет в писании руку. Тогда все заложенные в вашем мозгу способности разовьются одинаково.
— Но разве способности человека заложены в мозгу? — задал кто-то из учеников вопрос.
— По моим наблюдениям, именно мозг является вместилищем всех умственных сил человека, — ответил Хусейн, расписываясь тем самым в своем кощунственном непонимании свойств «души», как ее определяли правоверные мусульмане. — Причем, — продолжал он свои еретические высказывания, — теми ощущениями, которые мы получаем через органы внешних чувств, ведает передняя часть мозга, способность к отвлеченным и обобщенным понятиям развивается в средней части, а память хранится в задней части нашего мозга.
— Как же ошибаются наши богословы! — воскликнул один из учеников. — Они считают, что душа, вложенная в нашу грудь аллахом, руководит всей умственной жизнью!
— Обсуждение того, кто из нас прав — я или богословы, не имеет отношения к нашему уроку, — сухо заметил Хусейн. — Я не буду сегодня с ними спорить. Я хочу только поддержать наших друзей и не дать духу уныния овладеть ими, — он ласково поглядел на своих учеников, но для себя отметил, что если он хочет продолжать их обучать, то надо быть поосторожнее в высказываниях. Стоило кому-нибудь донести о сегодняшнем разговоре хорезмийскому муфтию, и ему не удалось бы даже в вольнодумном Ургенче избежать серьезного внушения.
Встречаясь с образованными учеными членами маджлиси улама, собиравшимися по пятницам при дворе хорезмшаха, Хусейн не мог отделаться от ощущения, что все же это не та среда, которую он, как ученый, искал для себя. Во всей «академии» не было человека более разностороннего, чем он, Хусейн ибн Сина, не было и человека, у которого ему было бы чему поучиться.
По желанию шаха, ученые разрабатывали многие научные вопросы, имевшие как чисто практический, так и отвлеченный характер. Иногда это касалось астрономии и геодезии, иногда истории и права. Иной раз ученые помогали архитекторам в вычислении размеров зданий, в другой — искали способ предохранить нежное вино от скисания. На маджлиси
улама они обсуждали свои работы, читали новые произведения, участвовали в дискуссиях. Но как-то незаметно выходило так, что направление научных поисков было то, которое намечал Ибн Сина, а все дискуссии с местными и с заезжими учеными, как правило, заканчивались его победой. Никому еще не удавалось опровергнуть его продуманную, глубокую и своеобразную точку зрения.
Хусейна иногда забавляла мысль, что важные, строптивые и косные чалмоносцы, заседавшие в маджлиси улама, часто даже против своей воли оказывались его последователями. Но ему было интереснее с молодежью, чем с собратьями-учеными. И если молодежи он отдавал больше сил, то и материала для мыслей и раздумий получал от нее гораздо больше. На многих из своих молодых учеников он смотрел с надеждой, рассчитывая, что не далек тот день, когда они с честью заменят многих из «академии».
Но все же даже общение с подающими надежды учениками не могло заменить Ибн Сине подлинно научной среды. Хусейн чувствовал, как необходимо ему встретить ученого, равного себе по знаниям, по опыту, по пытливости. Он мечтал о суровом оппоненте, о научном противнике, способном стать другом. Старый афоризм, что истина рождается в спорах, давно был им признан. Но он жаждал спора на равных началах.
Ибн Сина перебирал в уме имена всех известных ему ученых-современников, проживающих в мусульманских странах, и только трое-четверо из них не оставляли его равнодушным. Но особенно интересовался Хусейн работами Ал-Бируни, о котором говорили, что он живет в Джурджане на берегах Хазарского моря.
Хусейн вспоминал, как вскоре после своего приезда в Хорезм на одном из заседаний «академии» он упомянул это имя и как всеобщее смущение и полное молчание были ему ответом. Позже, когда Хусейн в разговоре иногда ссылался на Бируни, собеседники тут же переводили беседу на другое. Но прямо ему никто ничего не говорил.
Ибн Сина, в силу своего характера, не мог оставить невыясненным такое странное явление и с помощью расспросов людей, не имевших отношения ко двору, открыл причины остракизма, которому подвергался в Хорезме Ал-Бируни.
Абу-Райхан ал-Бируни был старше Ибн Сины лет на семь. Он родился в южном Хорезме в простой и бедной семье. Хусейн не мог пока что дознаться, какими путями Бируни получил образование, но слышал, что еще в юные годы он поражал людей своими знаниями и силой своего научного мышления.
Как у шаха в Ургенче, так же и в Кяте у эмира южного Хорезма Абу-Абдаллаха Мухаммеда был свой штат придворных ученых, и там первым из первых был юный Ал-Бируни.
Но когда около 995 года шах Ургенча Ма’мун захватил Кят, объединил весь Хорезм и провозгласил себя хорезмшахом, Бируни повел себя резко враждебно; он не только не вошел в число ученых «академии» Ма’муна, но, наоборот, осудил действия хорезмшаха, покинул родину, отряхнув со своих ног прах Хорезма. Хорезмшаху Ма’муну это показалось обидным. В горячую минуту он пригрозил спустить шкуру с непокорного ученого, сбросить с минарета, сгноить в подземной тюрьме. С этих пор имя Бируни стало в Хорезме крамольным, и, хотя прошло уже десять-двенадцать лет, об Абу-Райхане не вспоминали и не говорили, считая, очевидно, что это же отношение к Бируни должен был сохранить и наследник Ма’муна — Ма’мун ибн Ма’мун.
А Бируни за годы изгнания вырос в крупнейшего ученого — астронома, географа, геодезиста, историка.
У Хусейна был большой, замечательный труд этого хорезмийца — «Хронология древних народов» («Асар-ал-Бакыят»), который поразил его исключительными познаниями, которые обнаруживал автор, начитанностью, остротой, поставленных проблем, огромной эрудицией.
«Вот кого надо бы иметь в маджлиси!» — мечтал Хусейн,
Но как подступиться к хорезмшаху, как убедить его призвать к своему двору опального ученого? И вместе с тем Ибн Сине казалось совершенно бесспорным, что место великого хорезмийца именно здесь, на родине.
Хусейн ибн Сина чувствовал каким-то шестым чувством, что и хорезмшах с радостью пойдет на то, чтобы пригласить ученого, да и сам Ал-Бируни не откажется вернуться домой. Но придворный этикет ставил тысячи препон, мешал простому человеческому объяснению с повелителем Хорезма. И Хусейн ломал голову, какие бы предпринять дипломатические шаги.
Но похоже, что и сам Бируни, истосковавшись в изгнании, раздумывал над этой проблемой. Живя в Джурджане, во владениях султана Кабуса ибн Вашмгира, хранителя древних иранских традиций, Бируни упорно отказывался от предлагаемых ему высоких должностей, чтобы заниматься только наукой. Насколько это было в его силах, он следил за всем, что делалось в ученом мире. Давно уже заметил он росшего в Бухаре, а затем переехавшего в Ургенч Хусейна ибн Сину. Несмотря на дальность расстояния и сложность общения, до Бируни, очевидно, так же как и до Ибн Сины, доходили размноженные переписчиками труды ученого собрата. И, так же как Хусейн, он мечтал о научном общении. И старший ученый сделал первый шаг к желаемому сближению.
Не трудно представить себе недоумение Ибн Сины, когда однажды вечером в его калитку постучался путник, прибывший с караваном из Джурджана, и передал хозяину зашитое в мешочек письмо.
— Салам от одного далекого друга, — выразительно произнес джурджанец и, поклонившись, удалился.
В мешочке оказалась коротенькая записка с приветствием, подписанная Ал-Бируни, и тетрадь.
«…Я рад буду, если ты разрешишь мои сомнения, почтенный Ибн Сина. Наш Первый Учитель, — писал Бируни, называя так Аристотеля, — великий ученый, мы же жалкие неучи. Что же удивительного, если его трактат «О небе» поставил передо мной множество вопросов, ответа на которые я, по недомыслию моему, дать не могу. Не поделишься ли ты со мной своими соображениями по этому поводу?»
Послание Ал-Бируни наполнило радостью сердце Хусейна. Он торопливо отбросил письмо и впился глазами в тетрадь. Наконец-то начиналось то, подлинно творческое, научное общение, которого так жаждал ученый!
Всю ночь просидел Хусейн над тетрадью Ал-Бируни.
Сочинение Аристотеля «О небе», излагавшее мнение великого грека об устройстве вселенной, еще раньше, чем его коснулся Бируни, ставило перед Ибн Синой сложные и не всегда разрешимые вопросы. Многие утверждения Аристотеля он готов был принять за аксиому. Сомнения Ал-Бируни, высказываемые им иногда в излишне резко-иронической форме, заставили Ибн Сину иными глазами посмотреть на это произведение. Кое-что он передумал, кое-что уточнил для себя и ко многому подошел более критически, чем подходил раньше.
Для нас вопросы, поставленные Аристотелем две тысячи лет тому назад и волновавшие двух крупнейших ученых тысячу лет назад, могут показаться наивными и странными, но не надо забывать, что Галилей, Коперник, Ньютон, Ломоносов жили значительно позже их. Сведения о мире у Ибн Сины и Бируни были гораздо беднее и ограниченнее, чем у любого нашего школьника. Но школьник пользуется готовыми, добытыми до него знаниями, а оба наших ученых были искателями новых путей, открывателями неведомого. Их деятельность явилась как бы связующим звеном между наукой древнего мира и наукой нового времени, не будь ее, возможно, вся история человеческой культуры пошла бы по иному пути и мы в XX веке значительно больше зависели бы от взглядов и предрассудков античных ученых.
В науке есть одна прекрасная и вместе с тем трагическая сторона — ни одно научное достижение не может быть вершиной, пределом, совершенством,
ученый всегда в устремлении к чему-то большему, к чему-то более совершенному, к чему-то новому. И это новое всегда вырастает на почве старого, пройденного. Так же учение Аристотеля, Платона, Галена и других питало и воспитывало Ибн Сину и Бируни.
Вопросы, смущавшие обоих ученых в произведении «Первого Учителя», дают некоторое представление о том этапе, на котором находилась топа научная мысль, поэтому мы одним глазком заглянем в тетрадь, которая лежала перед Хусейном ибн Синой.
Бируни, например, отказывался понять, почему Аристотель связывает вопрос о легкости и тяжести небесной сферы с отсутствием у нее прямолинейного движения. Сомневаясь в этом утверждении, он тем самым ставил под сомнение всю космологическую систему Аристотеля. Далее, в одном из вопросов, обращенных к Ибн Сине, он удивлялся, почему Аристотель, находя порочным учение о неделимости атома, не осуждает еще более порочного учения о бесконечном делении тел. Смущало его и то, что «Первый Учитель» считает невероятным существование других миров иной природы, отделенных некой преградой от нашего земного мира. — Поднимал он так же вопрос о том, прав ли Аристотель, считая, что все небесные тела обязательно должны быть круглыми. Сам Бируни утверждал, что они могут быть и овальными и линзообразными.
На эти, так же как и на остальные, менее характерные вопросы Ибн Сина попытался дать исчерпывающие ответы. Далеко не со всем могли бы с ним согласиться наши современники. Но то, что он в ряде рассуждений сумел проявить себя стихийным диалектиком, сумел приблизить свое метафизическое мышление к материалистическому пониманию законов природы, сказать, что бог хотя и необходим, но все же ограничен и не может быть причиной «насильственного движения», говорило о его вольнодумстве, близком к вольнодумству Бируни.
Хусейн ибн Сина рискнул огласить свою переписку на маджлиси улама и, увидав, что хорезмшах благосклонно принял это, прочел на следующем собрании дальнейшее продолжение этой переписки, касавшееся книги того же Аристотеля «О физике». Заинтересованному повелителю вовремя предложил «Хронологию древних народов», которая не могла быть чужда сердцу хорезмийца.
Смелость Ибн Сины возбудила соревнование остальных ученых. У каждого нашлось что-то, что можно было сообщить об Ал-Бируни. О нем стали говорить открыто. Нужен был небольшой толчок, чтобы хорезмшах пошел на приглашение Ал-Бируни в Хорезм.
Возможно, что таким толчком оказалась присланная Ал-Бируни в дар хорезмшаху его последняя книга об астрономии, сельском хозяйстве и ирригации, в основном об ирригации Хорезма.
Все понимали, что стосковавшийся в изгнании ученый делает шаг к примирению. Понял это и хорезмшах, почувствовавший полное удовлетворение.
Ибн Сина твердо решил в день, когда в маджлиси улама будет обсуждаться книга Бируни, выступить с речью, призывая шаха Ма’муна вернуть родине лучшего сына Хорезма и открыть ему двери в «академию».
Так и произошло. Но речь, которую подготовлял Хусейн, оказалась гораздо более страстной, решительной и целенаправленной, чем он сам рассчитывал. Он не просил, не рекомендовал призвать Ал-Бируни, он почти что требовал, грозя тяжелыми бедами, если великий повелитель не снизойдет к молениям своих ученых, к нуждам своего народа, не возвратит отечеству изгнанника.
Удивительно было то, что хорезмшах не разъярился, не приказал утихомирить зазнавшегося ученого, а, наоборот, благодушно развел руками и заметил:
— Ну, если Ибн Сина так ратует за прощение Ал-Бируни, придется его послушаться… — При этом он хитро подмигнул везиру.
Этот день, так же как и причины, по которым выдержанный и спокойный Ибн Сина разразился такой страстной речью, навсегда остались в его памяти.
Обычно Хусейн отправлялся на собрания маджлеси улама верхом, но в этот день у него оказалось немного свободного времени, и он решил пройти этот путь пешком.
Хусейн с юности любил побродить по городу, приглядываясь к его жизни. Он охотно вмешивался в толпу, прислушивался к разговорам, узнавал новости, волновавшие народ, но ускользавшие от слуха людей из привилегированных слоев общества. Каждая такая прогулка всегда приносила что-то новое, что обогащало его ум и сердце.
Проходя базарными кварталами, Хусейн попал в толпу, запрудившую улицу и жадно слушавшую какого-то проповедовавшего старика. Продвигаться в толпе было трудно, и Хусейн невольно прислушался к его словам. Фанатик назойливо повторял то, что ежедневно говорилось во всех мечетях мусульманского мира.
— Только истинно правоверный достигнет райского блаженства! — кричал проповедник. — Только верные Корану и суннам могут считаться истинными мусульманами!.. Ни одно дело не начинайте, не вспомнив аллаха и пророка его Мухаммеда!.. Сражайтесь с неверными, ибо такая война угодна аллаху!.. Несите слово его во все страны, ко всем народам!.. Да не останется на земле неверных собак!
«Фанатик! — подумал Хусейн, морщась. — Оголтелый фанатик! Сколько их, однако, развелось за последнее время в городе!..»
Пробираясь далее вдоль узких улиц, ученый не раз то сталкивался с толпой, окружавшей проповедовавшего муллу, то встречал орущего диким голосом дервиша.[26] В Ургенче до последнего времени Хусейну никогда не попадались эти бродяги в таком количестве и в таком виде. Дико вытаращенные глаза, нечеловеческий вой, бряцание цепей, которыми было увешано худое, изможденное тело, создавали страшное впечатление. Народ с ужасом взирал на то, как дервиш в припадке не то религиозного иступления, не то полного помешательства истязал себя плетьми, восклицая при этом:
— Велик аллах!.. Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед пророк его!..
В стоявшую около него чашку отовсюду сыпались монеты, летели лепешки.
— Боритесь с неверными! Берите оружие, вступайте под знамена газавата!.. — выкрикивал дервиш.
«Газавата… газавата… — задумчиво повторял Хусейн. — Почему газавата? Какой сейчас может быть газават?.. Ах да! Говорят, что султан Махмуд Газнийский собирается поднять зеленое знамя газавата… Но какое это имеет отношение к Хорезму? Не слишком ли он рассчитывает на религиозность хорезмийцев?..»
Ученый задумался.
Окинув мысленным взором последние годы, Хусейн пришел к тягостному выводу: действительно, религиозность народа, или, вернее, влияние на него всяких духовных лиц, за последнее время резко усилилась. Бродячие муллы и дервиши все в большем количестве стали появляться на улицах хорезмийских городов, особенно Ургенча. Хусейн вспомнил, как везир жаловался, что сотни людей, поддавшись уговорам готовиться к газавату, бросали дома и шли в Газну, к султану Махмуду, чтобы стать там газиями, надеясь заслужить не только вечное блаженство на том свете, но и некоторое благосостояние на этом.
Хусейн ибн Сина приостановился. Как мог он до такой степени уйти в работу, чтобы не заметить того, что происходит вокруг него? Как мог он не сообразить, что все эти бродячие проповедники явно посланы чьей-то твердо направленной рукой? Они сманивают здоровых, сильных людей в чужое войско, лишают хорезмийскую деревню работников, ослабляют страну. Они приносят с собою ханжество и фанатизм, они восхваляют страшную, грабительскую войну, называя ее газаватом — борьбой с неверными во славу пророка. Как же хитер султан Махмуд!..
Хусейн двинулся дальше, не обращая внимания на то, куда он идет.
«Жизнь быстро, почти на глазах меняется, — раздумывал ученый. — То свободомыслие, которого держались Саманиды, повелители Мавераннахра, Хорасана и Хорезма, после их падения уходит, уступая место самому жестокому правоверию. Что же такое происходит в мире? От чего зависит такая перемена? Какую роль в этом деле играет духовенство?»
Хусейн с болью вспомнил, как вероломно повели себя бухарские чалмоносцы, когда они решили, «что поддерживать Саманидов не стоит.
«Как бы они не повторили своих шуток здесь, в Хорезме! Кто знает, не сочтут ли они более выгодным для себя повелителем илек-хана Насра или того же Махмуда Газневи…»
Мысли Хусейна становились все мрачнее. Он невольно припомнил то противодействие, которое почувствовал в совете факихов, едва попытался заикнуться об обособлении суда светского от суда духовного. Припомнил и ту осторожность, с которой стали в последнее время высказываться не только ученые на собраниях во дворце, но и придворные любимцы, всегда славившиеся своим пренебрежением к обрядам и догмам ислама.
«Итак, все почувствовали, что ветер подул в иную сторону, — усмехнувшись, прошептал Хусейн, — один я, как ишак, ничего не замечал…»
Ибн Сина повернул в тихие кварталы города и медленно шел, раздумывая и подводя итоги.
В глубине души Хусейн был всегда критически настроен по отношению к религиозным обрядам и законам. Воспитание в доме кармата дало свои плоды. Правда, он никогда прямо не возвышал своего голоса против ислама, довольствуясь правилом, изложенным им самим в шуточных стихах;
Когда к невеждам ты идешь высокомерным,
Средь ложных мудрецов ты будь ослом примерным.
Ослиных черт у них такое изобилье,
Что тот, кто не осел, у них слывет неверным
Вот и сейчас можно было бы закрыть глаза и уши и продолжать спокойно работать, отгородив себя званием придворного ученого от деятельности церковников и богословов, но сегодняшние встречи и раздумья ясно дали ему понять, что в стране не все благополучно. Что кто-то, обладающий большим влиянием, решил использовать религию в своих целях. Этот кто-то, очевидно, султан Махмуд или его подручные. Все равно, к чему приведут их происки— к ослаблению ли Хорезма, или к усилению косности, бесправия, порабощения народа, — все плохо и все надо постараться не допустить.
Хусейн давно чувствовал, хотя никогда особенно над этим не задумывался, что догматы мусульманской церкви беспочвенны, толкование их схоластично, а законы сковывают всякую свободную мысль. Но сейчас он понял, что если дать церковникам захватить большую власть, наступит конец развитию науки, конец всякому движению вперед.
Над всеми раздумьями Хусейна высилась мрачная тень султана Махмуда Газнийского, человека, кичившегося своим чистейшим, ортодоксальным правоверием.
«Он, он… — уверенно шептали губы Ибн Сины. — Его руки тянутся к Хорезму… Необходимо собирать силы, чтобы иметь возможность оказать сопротивление наступающему фанатизму… А кто из знакомых мне людей может встать против мракобесия? Ал-Хаммар? Или Абу-Наср Аррак? Или везир Сухейли? Все они будут против порабощения Хорезма, пока будут уверены в победе… Нет! Если бы здесь был Бируни, дело было бы надежнее…»
С такими мыслями Хусейн явился на собрание ученых, с такими мыслями он и выступал. Потому-то его речь и оказалась такой неожиданно горячей и страстной.
Усилия Ибн Сины, поддержанные всей «академией» и упавшие на подготовленную почву, быстро дали свои плоды. Везир Хорезма, по поручению шаха Ма’муна, пригласил Ал-Бируни, и тот приехал в Ургенч со своим другом, выдающимся математиком, астрономом, врачом и философом христианином Абу-Сахлем Масихи. Это случилось в 1010 году.
Прием, оказанный хорезмшахом приезжим ученым, превзошел все ожидания. Им были предоставлены дома, деньги, возможность работать в любой области.
Только с приездом Ал-Бируни Хусейн почувствовал полностью, как необходим был ему друг, и собеседник, способный оценить его замыслы и помочь ему своими советами в разработке ряда научных вопросов. Да и сам Бируни, нуждавшийся в нелицеприятной критике своих теорий и взглядов, поняв, какого он обрел друга, со всем пылом бросился в обсуждение назревших у него вопросов.
Ученые собрания во дворце, до сих пор такие чинные и строгие, теперь стали ареной пылких споров. Особую горячность вносил в них Бируни, по-юношески страстный, резкий и не всегда сдержанный. Так, например, когда обсуждался трактат Ибн Сины «О пределах измерений», Ал-Бируни Так разгорячился, что накричал на старого математика, который, ввязавшись в прения, заставил присутствующих долго выслушивать его вычисления и формулы, оказавшиеся в конце концов совершенно неправильными из-за неверно принятых им исходных данных.
К научным спорам во дворце с интересом относились все просвещенные люди города; они старались узнать от счастливцев, присутствовавших на собраниях, каждое слово, каждое положение, высказанное спорившими. Зашевелилось и духовенство. Изощренный в богословских диспутах нюх говорил чалмоносцам, что во дворце запахло ересью.
Но хорезмшах пока еще держал злопыхателей-богословов в руках, а на недовольные письма халифа, упрекающего за покровительство вольнодумцам, отвечал подарками — лучшим средством сохранить право на вольнодумство.
В недолгие годы этого научного соревнования особенно выросли и окрепли могучие гении Абу-Райхана ал-Бируни и Хусейна ибн Сины.
Бируни, счастливый тем, что возвратился на родину, брался за любую деятельность, необходимую расцветающему хорезмийскому хозяйству. Предложенные им нововведения в системе орошения показали хорезмшаху, что лучшего советника по этому вопросу ему не найти, и он поторопился назначить Бируни «великим мирабом». Постепенно Ма’мун ибн Ма’мун убедился в том, что и в других делах управления страной Бируни незаменим. Его острый государственный ум, наблюдательность, знакомство с историей, понимание дипломатических тонкостей заставляли хорезмшаха прибегать к его советам все чаще и чаще.
Вместе с Бируни хорезмшах приближал к себе и Хусейна. Но для молодого ученого в придворной жизни не было ничего привлекательного.
Хусейн охотно посещал дворец в дни собраний «академии» — там после приезда Ал-Бируни и Абу-Сахля Масихи создалась подлинно научная среда. Каждое собрание приносило что-то новое, поднимало какие-то новые темы.
Хусейн работал, не думая о придворных почестях и выгодах, над тем, к чему его влекло призвание. Он все глубже овладевал медицинскими знаниями. Приглядывался к методам лечения табибов-знахарей, хранивших большой опыт народной медицины, узнавал новые лекарства, составлял свои рецепты, проверял их действие. Ученики, окружавшие его, тоже требовали много сил и внимания. Он все больше времени отдавал преподаванию, а преподавание влекло за собой желание передать более широко и подробно свои знания и свои мысли.
В книгах, которые писал Хусейн, в трактатах, выходивших из-под его калама, в науках, которые он преподавал, — всюду вставали вопросы, требующие осмысления. Так выковывалось мировоззрение ученого. Пока он занимался только пересказом для своих учеников античных философов, пока он просто излагал основные устои наук, эти —.вопросы можно было обходить, но когда дело коснулось его собственных взглядов на жизненные процессы, на мироздание, на ту же науку, когда надо было все это изложить в научных трудах, Хусейн понял что перед ним есть преграда, которую он едва ли может переступить
Разум, логика, здравый смысл говорили одно, но против этого восставало его мировоззрение мусульманина
Ученый еще не понимал, что конфликт, созревший в глубине его сознания, окажется трагедией
Он вынужден был переоценивать и подвергать сомнениям, с точки зрения правоверного мусульманина, все свои опыты ученого-естествоиспытателя, результаты опытов говорили ему, что ошибается не его здравый смысл ученого, а религия, подсказывающая неверные решения, подтасовывающая ничем не подтвержденные факты Что было делать ему, если опыт и логика говорили о том, что мир материален и материя вечна и несотворенна? Как можно было это согласовать с утверждением корана о сотворении мира аллахом.
Изучая, например, строение земной поверхности, Хусейн наблюдал древние напластования Он видел в пустынных горах остатки окаменевших морских животных, рыб и растений, которые могли образоваться только в течение многих и многих сотен тысяч лет. Это говорило его ясному уму ученого, что здесь имели место не только медленные и длительные изменения в строении Земли, но и какие-то жестокие катаклизмы, сделавшие сушей дно древнего моря Ни о чем таком он не встречал упоминаний ни в коране, ни в суннах. Наоборот, богословские книги утверждали, что весь видимый нами мир создан несколько тысяч лет назад по воле бога всего лишь в шесть дней. Хусейн пытался осмыслить это противоречие Бируни был резче: он просто сказал как-то, в минуту откровенности, что не находит в мире места для бога.
Вселенная в глазах Ибн Сины была во много раз сложнее, но и во много раз прекраснее, чем в глазах богословов. В природе было множество непознанных вещей, развивавшихся по своим собственным законам. противоречащим религиозным догмам о божественном предопределении. И если Ибн Сина не — был еще так решителен, как его старший товарищ Ал-Бируни, то, во всяком случае, он так же напряженно и упорно искал ответа на вопрос, какое же место может предоставить богу он сам в своих представлениях о мироздании.
..Ни один из ученых «академии» хорезмшаха не был явным еретиком или атеистом, наоборот, каждый из них строго выполнял свои обязанности, и к ним, как к правоверным мусульманам, нельзя было предъявить каких-либо претензий. Вместе с тем, объединенные одной целью, занятые разрешением научных проблем, они оказались огромной прогрессивной силой, скалой, о которую безрезультатно разбивались происки богословов-схоластов.
Возможно, этому способствовала тонкая политика Бируни, которому Ибн Сина выложил все свои наблюдения и опасения. Но так или иначе, где подарками, где угрозами, но хорезмшах обеспечил на какое-то время безопасность страны и тем самым возможность своим ученым трудиться
За те пять-шесть лет, что провели Ибн Сина и Ал-Бируни вместе в Хорезме, оба они сделали очень много.
Ал-Бируни, помимо трудов чисто практического значения, начал писать свою замечательную «Историю Хорезма». А Хусейн, не отходя от медицины и философии, занялся химией и успешно разоблачал алхимиков Увлечение алхимией, добыванием золота из разнообразных элементов, поиски философского камня и чудодейственного эликсира были так же характерны для ученых и псевдоученых средневековой Азии, как и для ученых средневековой Европы Нужно было быть очень уверенным в точности своих опытов, обладать большим здравомыслием, чтобы не поддаться всеобщему повальному увлечению Ибн Сина ему не поддался.
Хусейн твердо и последовательно защищал мысль, что ни один элемент не может быть превращен в другой — следовательно, никаким образом невозможно создать искусственное золото Сколько бы ни тратили сил, времени и денег алхимики, не в их возможностях превратить медь, свинец или олово в драгоценный металл.
Результаты его химических и алхимических исследований были им изложены в книгах и трактатах.
В области философии Ибн Сина за время жизни в Хорезме тоже сделал немало. Здесь им начата большая философская энциклопедия — «Китаб аш Шифа» («Книга исцеления») и задуман главнейший труд его жизни — «Канон медицинской науки».
В Хорезме произошло еще одно событие, касающееся личной жизни Хусейна. Хочется остановиться немного на нем, прежде чем перейти к рассказу о последних днях жизни ученого в Ургенче. Очевидно здесь Хусейн женился и его жена родила ему сына Али. О событии этом ни в каких источниках не упоминается, но узнаем мы о нем из самого имени ученого, которое он принял согласно мусульманскому обычаю — Абу-Али ал-Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина. Если прочесть по-русски это имя, ставшее таким знаменитым, то оно будет значить. «Отец Али Хусейн сын Абдаллаха сына Сины».
Раз сам Ибн Сина принял его, то и нам надо будет привыкнуть к нему.
На обширном плоскогорье, в тех местах, которые ныне входят в состав Афганистана, расположился большой и богатый город Газна. Газна — столица огромной страны, раскинувшейся от границ северной Индии до южных берегов Хазарского моря. Этой страной правит могущественный государь султан Махмуд Газнийский.
Махмуд не любит вспоминать, что он всего лишь простой тюрок, сын саманидского гуляма Себук-Тегина. Но это он делает зря. Далеко не каждый вельможа может похвастаться таким решительным и предприимчивым отцом. Ведь не что иное, как ум и личная храбрость помогли Себук-Тегину выдвинуться из гулямов в военачальники. Эмир Нух ибн Мансур Саманид не был излишне щедр, когда разрешил ему управление самым отдаленным, труднодоступным и глухим углом своей империи, к тому же завоеванным самим Себук-Тегином. И то, что маленькое провинциальное местечко Газна расцвело и привлекло своим мгновенным возвышением внимание всего восточного мира, было заслугой того же Себук-Тегина. Но все же он остался в истории главным образом как отец султан а Махмуда. И прижизненная и посмертная слава выпала на долю его сына, основателя империи Газневидов.
Сын Себук-Тегина великий султан Махмуд — человек жестокий, твердый, ограниченный в фанатичной приверженности к правоверному мусульманскому толку, но, помимо того, он умен, хитер, жаден, честолюбив, предусмотрителен и напорист. Все силы его недюжинного ума направлены на то, чтобы стать самым богатым и самым могущественным государем на земле.
Качествами этими едва ли обладал в такой степени еще кто-нибудь из современных ему правителей Азии.
Махмуд Газневи наследовал своему отцу еще в те годы, когда умирал Нух ибн Мансур, а Бухаре грозили полчища караханидов, предводительствуемые илек-ханом Насром. Тяжелое положение, в которое попала империя Саманидов, воочию показало Махмуду все несовершенство ее внутренней структуры, всю рознь интересов правителей и наемно-рабского чужеземного войска. Дальновидный Махмуд решил не повторять этих ошибок. Собирая свое большое, хорошо вооруженное войско, он сделал его кровно заинтересованным в процветании султаната, а заодно и в своем собственном.
С такой силой за спиной он легко отказался от своих обязательств по отношению к погибавшим Саманидам. В год захвата ханом Насром Бухары, то есть в 999 году, султан Махмуд получил от багдадского халифа Кадира высокий титул «десницы державы и доверенного лица религиозной общины», а вместе с титулом диплом на управление отторгнутым у Саманидов Хорасаном. Это было первым шагом к-осуществлению его мечты.
Он туг же осыпал поддержавшего его халифа богатейшими подарками, и этим до конца дней своих заручился поддержкой высшего лица мусульманского мира.
С тех пор, какими бы делами он ни занимался, за него горой стоял халиф, считавший, не без оснований, что именно Махмуд является опорой халифата, самым могущественным, самым богатым и самым щедрым вассалом наместника пророка на земле.
Но откуда же появилось несметное богатство султана Махмуда? Не зря создавал он войско. Постепенно, то походами, то дипломатическими хитростями, Махмуд все шире и шире раздвигал границы своих владений. С помощью халифа в тяжелые для Саманидов времена он присоединил Хорасан, затем позднее продвинулся на юг к побережью Хазарского моря, занял всю территорию нынешнего Афганистана, протянул щупальца в сторону Пенджаба, и, кто знает, на что еще он метил. Соседей своих — илек-хана Мавераннахра Али-Тегина и великого хана Кадыра, повелителя Кашгара, он постоянно ссорил между собой и тем самым обеспечивал себе спокойствие в тылу страны.
Но основное, что создало его могущество, — это войны с Индией. За тридцать два года своего правления султан Махмуд совершил семнадцать грабительских походов в Пенджаб, Кашмир и другие районы северной Индии. Движение это проходило под знаменем газавата — священной войны с неверными. Со всего мусульманского мира стекались к султану газии, прослышавшие, что на службе у Махмуда можно не только заработать вечное блаженство в садах аллаха, но и наполнить свои карманы. Агенты султана Махмуда — дервиши, муллы, хаджи, которых в свое время заметил в Ургенче Ибн Сина, наводняли все страны Востока, сразу делая два дела — ослабляя обороноспособность соседей и пополняя войско султана.
О Газне скоро стали говорить, как о втором Багдаде — так богата и пышна была резиденция султана Махмуда. Пробраться в Газну можно было только одной дорогой, укрепленной и охраняемой так, как не охранялась ни одна дорога в мире. Весь город сосредоточен вокруг крепости, в которой могли разместиться тысячи людей. Здесь, кроме дворца султана и домов его приближенных, располагались казармы, тюрьма и мечеть, каждый камень которой принесен на плечах несчастных пленников, взятых в Индии. В городе, за стенами замка, — дворцы, казармы и бесчисленные мечети. Говорили, что в Газне на десять солдат один мулла.
Не только в замке, но и во всем городе полно иноземных вещей, предметов роскоши, часто изломанных, испорченных, употребляющихся не по назначению. Совсем не редкость увидать какого-нибудь газия, который варит кусок баранины в роскошной вазе или черпает воду из ручья чашей работы великого художника. Парча и шелковые ковры, истерзанные и грязные, валяются в каждом доме. В Газне ничего не жалеют! И невольно умному человеку, попавшему в Газну, приходит на память пословица: «Что ветер принесет, то ветер и унесет».
В Газне плохо только рабам, из которых выжимаются все соки и все силы, а в остальных землях, захваченных султаном Махмудом, плохо всем. Хорасан погибает от голода, Чаганиан, Кабадиан, Хуталян и другие страны изнемогают под бременем непосильных налогов.
Гнет и бесправие народа дошли до такого ужасающего состояния, что отражение его осталось навсегда в народном творчестве. О султане Махмуде рассказывают такую легенду:
«Однажды султан выехал на охоту в сопровождении своего мудрого везира. В пути они увидали двух беседующих на развалинах сов. Везир, который понимал птичий язык, прислушался к их разговору и горько заплакал. Это заинтересовало султана Махмуда. Он потребовал, чтобы везир передал ему разговор, поклявшись, что при всех условиях сохранит тому жизнь. «Эти совы хотят породниться, — сказал везир, — но одна из них требует в приданое за дочь десять тысяч превращенных в развалины домов. А другая отвечает: «Не торопись, если султан Махмуд Газнийский процарствует еще только год, то я тебе дам не одну и не десять, а сто тысяч развалин…»
Но султан Махмуд не только воин — он еще и покровитель искусств и наук. Неважно, что он походя рубит головы ученым, которые осмеливаются делать научные выводы, не согласовав их с мнением султана. Неважно, что он чуть было не бросил под ноги своих боевых слонов замечательнейшего поэта Абул Касыма Фирдоуси за то, что тот привез в Газну труд всей своей жизни — историческую поэму «Шахнаме», где рассказал, как народные герои восстают против своих поработителей. Несмотря на все это, султан Махмуд — покровитель! Его трон окружает множество людей, для которых не составляет особенного труда восхваление деспота и мракобеса.
Присутствие ученых, философов, писателей придает его двору блеск, но, главное, он всех их держит под контролем. Он. уверен, что в его дворце никто не поднимет голоса ни против ислама, ни против его действий деспота и фанатика. Необходимости приглядывать за легкомысленными учеными его научило происшествие с Фирдоуси. Стоило ему проявить слабость, оставить в живых этого поэтишку, отпустить его на родину в Туе, как он отплатил султану за это благодеяние стихами, которых простить нельзя:
Судьбою дан бессмертия удел
Величью слов и благородству дел.
Все пыль и прах. Идут за днями дни,
Но стих и дело вечности сродни…
…Властитель! Я палящими устами
Воспел Тебя, безвестного вождя.
Дворцы твои разрушатся с годами
От ветра, солнца, града и дождя…
А я воздвиг из строф такое зданье,
Что, как стихия, входит в мирозданье.
Века пройдут над царственною книгой,
Которую дано мне сотворить.
Меня над коим тяготеет иго,
Душа людей начнет боготворить
Мужи и старцы, юноши и девы
Для счастья призовут мои напевы,
И, даже веки навеки смежив,
Я не умру: я буду вечно жив![27]
Чтобы такое больше не повторялось, султан Махмуд правильно рассчитал, что спокойнее всего ему Добрать всех азиатских ученых под свою эгиду. Раздражало его то, что в Ургенче у хорезмшаха собрались лучшие из лучших, настоящие ученые, не чета тем, которые здесь в Газне лизали ему пятки.
«Хорезмийских ученых — Ал-Бируни, Ибн Сину, Абу-Сахля Масихи, Ибн Мискавейха, Абу-Насра Аррака, Ал-Хаммара и прочих, как их там зовут, давно надо прибрать к рукам! Пусть украшают своим присутствием мой трон! Пусть работают во славу газнийского владыки! Давно пора присоединить к нашим владениям и весь Хорезм! Нечего церемониться с мелким княжеством!» — так, наверное, думал султан Махмуд. А когда газнийский тигр думал о чем-нибудь столь категорично — это грозило неисчислимыми бедствиями.
И султан вместе со своим везиром задолго до того, как об этом узнали заинтересованные лица, начал плести паутину. Пошли в ход дипломатические тонкости, посулы, подарки, подкупы. Султан выдал за хорезмшаха свою младшую сестру, рассчитывая, что родственник будет сговорчивее. Был улещен халиф, пытались подкупить везира Хорезма Сухейли, засылались невиданные дары самому хорезмшаху. Пока все было тщетно. Хорезм, казалось, был неприступен. Но тем более настойчив был Махмуд, тем упорнее оплетал страну своей паутиной.
Нажим султана был так силен, что даже обособленность Хорезма, высившегося до сих пор, как тихий остров среди бушующего моря мятежной и воинственной Средней Азии, не могла уже спасти его от посягательств Махмуда.
Пришел день, когда внезапно прибывший из Газны посол предложил хорезмшаху Ма’муну всенародно прочесть в Ургенче хутбу[28] с упоминанием имени султана Махмуда. Это предложение было сделано в мягкой и деликатной форме, но, в сущности, такая хутба означала бы признание Ма’муном зависимости Хорезма от газнийского владыки. Как ни был смущен и напуган этим неожиданным и дерзким признанием хорезмшах, он после некоторого колебания нашел в себе силы отвергнуть предложение посла Тогда бархатная лапа тигра выпустила свои когти. Хорезмшах получил от Махмуда письмо, в котором требование облекалось уже в резкую, не допускающую возражений форму.
Ибн Сина и Ал-Бируни, в свое время решительно отговаривавшие шаха от прочтения хутбы, были приглашены во дворец на совещание и чтение послания султана, доставленного его везиром Майманди
Ученых встретили печальные и взволнованные лица представителей хорезмийской знати. Здесь были люди из Кята, Хивы, Субурны, богатые землевладельцы из оазиса Каваткала и других мест Хорезма, срочно созванные особыми гонцами. Слухи о письме султана распространились так широко, что все уже знали, о чем будет речь. Хорезмшах, смущенный и растерянный, едва войдя, сразу же дал знак начинать чтение.
Длинное вступление слушали безучастно, помня, что дипломатический этикет требует многословия, и оживились только тогда, когда чтец дошел до основного.
«…В этом вопросе о хутбе хорезмшах оказал бы повиновение нашей воле, зная, чем для него может кончиться это дело, но его люди не позволили. Я не употребляю выражения «гвардия и подданные», так как тех нельзя назвать гвардией и подданными, которые в состоянии говорить повелителю: делай это, не делай того! В этом видны слабость и бессилие власти, так оно и есть. На этих людей я разгневался, долгое время пробыл здесь в Балхе и собрал сто тысяч всадников и пехотинцев и пятьсот слонов для того, чтобы наказать мятежников, оказывающих сопротивление воле государя, и поставить их на истинный путь. В то же время мы разбудим эмира, нашего брата и зятя, и покажем ему, как надо управлять государством; слабый эмир не годится для дела…»[29]
Условия султан Махмуд ставил такие:
«Хорезмшах все же прочтет хутбу на имя султана Махмуда Ганеви либо пришлет достойные его, Махмуда, подарки и деньги, которые потом тайно будут отосланы обратно хорезмшаху, так как он, Махмуд, настолько богат, что в них не нуждается, либо хорезмшах вышлет к Махмуду лучших вельмож, факихов и имамов с просьбой о милости, чтобы по возвращении люди Махмуда видели степень покорности Хорезма и его правителя…».[30]
Наглость султана возмутила всех. Придворные, советники и военачальники хорезмшаха зашумели, требуя отпора посягательствам самоуверенного завоевателя.
Сам хорезмшах и его везир, зная решительность султана, готовы были пойти на большие уступки, лишь бы откупиться от войны. Военачальники же считали, что война при всех условиях неизбежна, и предлагали не медлить, а ударить неожиданно по стоящим в лагере войскам противника. Ибн Сина и Бируни высказались за посылку подарков и немедленное предельное усиление обороны страны. Именно обороны.
— Хорезм хорошо укреплен, — говорили они. — На своем пути султан, если он решится на нападение, встретит множество крепостей и укрепленных го родов. Надо поднять ополчение. Неужели народ, одушевленный идеей спасения своей страны, не отстоит ее?
— Отстоит, — подтвердили те из военачальников, которые присоединялись к мысли об обороне.
«Основное — не вступать в открытую войну и не впускать врага в пределы страны», — такое решение казалось для всех самым разумным.
Но через несколько дней присутствовавшие на чтении узнали, что шах все же не внял голосу благоразумия и принял предложение небольшой кучки своих советников прочесть хутбу на имя султана, но не в Ургенче и Кяте, а в Фераве и Несе — городах, совсем недавно вошедших в состав Хорезмийского государства.
С горечью узнали об этом ученые, собравшиеся на очередном маджлиси улама во дворце. Все они прекрасно поняли, что такая половинчатая мера никак не удовлетворит султана.
— Если хорезмшах уступил султану в одном, он никогда не сможет ему ни в чем отказать, — говорил Бируни, когда они возвращались с Ибн Синой с собрания. — Хутба на имя султана, произнесенная даже в одном только городе, уже ставит всю страну в зависимость от тирана! Я уверен, — горестно продолжал он, — что этот шаг — начало тяжелых бедствий для моей родины!..
Бируни как в воду глядел.
С каждым днем претензии султана Махмуда становились все более и более наглыми.
Он неоднократно засылал посланцев к Абу-Али ибн Сине, пытаясь уверить его, что тяжко болен и нуждается в опытном враче, хотя бы временно. Обращался он и к другим ученым из маджлиси улама, сулил подарки, зазывал к себе в Газну. Единственно кого он звать пока что остерегался — это Бируни. Султан Махмуд понимал, что хорезмшах ни при каких условиях не отпустит своего ближайшего советника.
Расчет султана на то, что он купит своими посулами хорезмийских ученых, не оправдывался. Под тем или другим предлогом, но ученые отказывались от милостей Махмуда.
Это начало его раздражать. Очевидно, до султана дошло отношение Ибн Сины к прочтению хутбы. К намерению султана иметь при своем дворе прославленного ученого стало примешиваться еще и желание посчитаться с ним, показать ему его место.
Наконец дело дошло до того, что султан Махмуд категорически потребовал от хорезмшаха присылки к нему ученых ургенчской «академии» да, кроме того, нажал на растерянного Ма’муна ибн Ма’муна через халифа. Положение осложнилось.
В один из вечеров в доме Абу-Али ибн Сины собрались друзья.
Едва только первая чаша обошла пирующих, как легкий, но тревожный стук в калитку заставил хозяина покинуть гостей.
В сумраке улицы, особенно густом после освещенных комнат, Абу-Али едва узнал одного из своих учеников — сына везира Сухейли. Отказавшись войти, он наклонился к самому уху Абу-Али и зашептал, настороженно вглядываясь в окружающую тьму:
— Учитель! Хорезмшах, да будут бесконечны его годы, получил сегодня письмо из Багдада. Он прочел его отцу, а отец рассказал мне. Халиф Кадир от всей души советует хорезмшаху согласиться на твой и Абу-Сахля Масихи отъезд в Газну, куда вас уже неоднократно приглашал султан Махмуд и где вас ждут великие и богатые милости. Ваш отказ от поездки халиф готов рассматривать как нежелание хорезмшаха помочь измученному болезнями собрату. — Юноша произнес все это, как хорошо. выученный урок, затем продолжал проще: — Я выехал погулять, а лошадь моя, по привычке, повернула к твоему дому, дорогой мой учитель, и я решил рассказать тебе эту маленькую новость. — Юноша улыбнулся и мягко коснулся плеча Абу-Али. — Халиф требует от хорезмшаха немедленного ответа… Отец сказал, что завтра около полудня он должен идти во дворец составлять письмо…
Глаза юноши смотрели серьезно и печально, не соответствуя беззаботной улыбке, с которой он умчался, едва тронув повод своего коня.
Так же беззаботна была и улыбка Абу-Алн, когда он вошел обратно в дом, в ту комнату, где сидели за столом его друзья.
Оживленная беседа, прерванная на мгновение появлением хозяина, возобновилась снова. Один из присутствующих почему-то вспомнил к слову о гибели последнего эмира Бухары, младшего сына Нуха ибн Мансура, Исмаил Мунтасира, преданного вождем кочевого племени, пригласившего его в свое становище. Рассказчик даже процитировал стихи эмира, которые тот сочинил за несколько дней до своего конца:
Я часто слышу: «Для чего ты бежишь от жизненных даров?
Ты мог бы жить в хоромах пышных, среди узорчатых ковров».
Ужель на музыку и пенье сменю я меч и трубный зов?
Ужель не лучше конский топот бесед застольных и пиров?
Кипенье крови на кольчугах всегда я предпочесть готов
И пьяным поцелуям кравчих и таинству хмельных пиров.
Поля сражений, свод небесный — вот лучший трон мой, лучший кров.
Стрела и лук — мои тюльпаны и лилии моих садов.[31]
Абу-Али прислушался к рассказу и вспомнил свою юность и тоненького, стройного мальчика — поэта и воина, умевшего только смеяться и пировать, последнего Саманида, человека трагической судьбы, который стал эмиром уже несуществующего государства. Воспоминания о гибели его, случившейся лет семь назад, часто тревожили Ибн Сину.
Абу-Али шутил, читал стихи, поднимал тосты за своих друзей, а в голове у него неотступно стояла новость, привезенная учеником.
Абу-Али прекрасно понимал, какое значение придавал везир посланию халифа, если не нашел другого пути сообщить ему, как послав с этим известием любимейшего своего сына.
«Неужели все же придется ехать в Газну, к Махмуду, к этому правоверному фанатику? Ехать туда— это значит не сметь никогда ничего сказать по-своему, не сметь заниматься науками, не угодными правоверным имамам, каждую мысль свою ломать в угоду невежественному султану или его советникам. Вместо того чтобы искать истину, быть игрушкой в руках ханжи! Нет, я не могу! Я не могу вместо истины поминать все время имя аллаха! Я не могу оправдывать и называть священной войной грабительские походы на Индию! Не могу я жить при дворе, где даже вздыхать надо по-правоверному, где каждое слово твое взвешивается на весах пророка Мухаммеда, страной правят чалмоносцы-богословы и губители всякой свободы!» Подобные мысли не оставляли Абу-Али, хотя повеселевшие друзья и старались развеять его думы своей болтовней.
«Как тяжело бежать из своего дома! Из страны, которую ты полюбил, как родную, которой хочешь добра и готов отдать все свои силы! Как тяжело бросать семью, неоконченные дела… Как много незавершенного приходится мне оставлять в Хорезме! Сколько начатого, подготовленного, задуманного и несовершенного!..»
Абу Али попробовал в какую-то минуту, когда его оставили в покое, объективно, со стороны оглянуться на годы своего пребывания в Хорезме. И перец ним промелькнули дни бесконечного труда, напряженного, большого, творческого…
«Здесь, в Хорезме, я вырос как ученый. Здесь впервые я начал преподавать. Бухара — это эпоха моего ученичества, а Хорезм — зрелости. Сейчас, когда я полон сил, когда я могу полной рукой раздавать накопленные мною знания, я вынужден бежать, бежать, как последний преступник!
— Кто, кроме меня, допишет мои трактаты, доведет до конца начатые исследования о свойствах лекарств, о составе спиртов, о перегонке воды?.. Хорошо еще, что я закончил философскую энциклопедию… Кое-какие рукописи надо будет взять с собой. Не забыть бы наброски к «Книге знаний», может быть, в дороге я сумею решить стоящий передо мною вопрос о классификации наук… Надо взять также начатое сочинение по медицине, о лихорадках, там многое еще надо проверить…»
Абу-Али старался думать об отъезде спокойно, по-деловому, но сердце его щемило.
Абу-Али смотрел на друзей и с горечью думал о том, что вот-вот придет и их черед решать свою судьбу. Раздумывал он и о том, как сказать старому Абу-Сахлю Масихи, что его-то черед уже наступил.
«Этот вечный скиталец, наверное, будет моим спутником. Не ехать же ему, христианину, в Газну! Он, бедняга, всю жизнь ищет пристанища своему свободомыслию — и вдруг Газна!.. Может быть, аллах милостив, мы вместе найдем ту обетованную страну, где позволяют думать…»
Под видом того, что ему нужно распорядиться о вине, Ибн Сина вышел из комнаты и сказал доверенному слуге:
— Готовь мои вещи, друг. Мы с тобой должны выехать до рассвета. Торопись, но пусть печать молчания ляжет на твои уста.
Глубокой ночью довольные гости покинули дом Абу-Али. Хозяин под каким-то предлогом задержал Ал-Бируни и Абу-Сахля.
— Друзья, — обратился к ним Абу-Али, едва за остальными гостями захлопнулись ворота. — У меня дурные новости. Что вы скажете, как нам поступить?..
Рассказ Ибн Сины был краток, Ал-Бируни задумался. Положение, безусловно, было серьезным. Растерявшийся хорезмшах мог отправить ученых к султану насильно.
— Если бы это было еще год-два тому назад, — сказал Абу-Али, — я был бы уверен, что Ма’мун нас не выдаст, но события последнего времени сильно пошатнули его характер.
С этим пришлось согласиться и Ал-Бируни. Хорезм перестал быть неприступной крепостью.
— Ваше спасение в том, чтобы уехать, не выслушав приглашения в Газну из уст самого хорезмшаха… — задумчиво сказал Ал-Бируни. — Я же, когда вы уедете, постараюсь сделать все, чтобы зам можно было поскорее вернуться…
Абу-Сахль принял неприятную новость спокойно, предупредив только, что поедет без слуги.
— Мне не впервой менять пристанище, — посмеиваясь, сказал он. — В наше время жизнь ученого почти вся проходит в пути…
Ибн Сина усмехнулся в ответ на такое заявление. Очень уж странно прозвучало оно для него, привыкшего к спокойной научной работе, не требовавшей до сих пор переездов. Но все же тревога на мгновение сжала его сердце. «А что, если действительно?..»
Но сейчас уже ничто не могло изменить решение ученых: уезжать, уезжать немедля, пока хорезмшах самолично не передал им приглашения султана и рекомендации халифа. Уехать и скрыться от милостей непрошеного покровителя — султана Махмуда!
На всякий случай, только на всякий случай, так как разлука предполагалась самая короткая и ученые должны были скрываться где-то вблизи от Хорезма, Ал-Бируни написал Ибн Сине рекомендательное письмо в Джурджан, к тамошнему султану Кабусу ибн Вашмгиру, у которого прожил много лет.
Так вот что такое великие, неисчислимые и ужасные «Семь песков Хорезма!» — думал Абу-Али ибн Сина, с тоской оглядываясь кругом. Куда ни бросал он взгляд, всюду желтые песчаные барханы и добела раскаленное небо. Песок сжигает ноги, а с безоблачного неба все льются и льются потоки расплавленного воздуха, от которого больно глазам, а тело немеет и делается мучительно тяжелым.
Во всем этом желтом море песка только крошечный островок тени, которую бросает растянутый на палках плащ. Под ним на коврике — больной. Лицо его почернело от страданий и жажды, глаза закрыты.
Третий день лежит здесь несчастный старик, на три дня задержалось путешествие. Давно уже уехал слуга на поиски воды и лекарств, но его все нет и нет. Неизвестно, когда он вернется, а вернувшись, застанет ли больного в живых…
Над умирающим склонился Абу-Али ибн Сина. Он сам страдает от жажды, сам измучен жарой и скитаниями, но все его помыслы сосредоточены на том, чтобы облегчить мученья друга. Его взгляд прикован к тяжело вздымающейся груди старика, к слабому биению жилки на его виске.
Ибн Сина снова и снова вспоминает несчастную историю их путешествия.
Началось оно при безоблачном небе. Едва брезжило утро, когда они покинули прекрасный, любимый обоими Ургенч. Все шло удачно, пока не остались позади плодородные земли, пока не вступили они в пески, окружающие Хорезм.
Из осторожности Абу-Сахль настоял на том, чтобы не брать проводника и не присоединяться к караванам, которых, кто ведает, сколько времени надо было бы ждать. Никаких дорог через пески не было. У пограничных жителей удалось только узнать направление да приметы, по которым можно было находить колодцы. Путники запаслись водой и тронулись в путь.
Абу-Сахль несколько раз в своей жизни пересекал пустыню и готов был считать себя опытным путешественником. Но он никогда не встречался с песчаной бурей. Не знал ее предвестников и как вести себя, когда приметы превратятся в бедствие. Едва начался ветер, который, казалось, сдвигал целые горы песка, поднимал их, крутил в небе и сваливал вниз, верблюды разбежались. Люди растеряли друг друга. Абу-Али сумел все же поймать своего верблюда, заставил лечь, накрыл его голову плащом, притулился тут же сам. Ночью ветер стих. На рассвете Ибн Сина бросился искать спутников. Слуга нашелся поблизости. Его верблюд был цел. А Абу-Сахля разыскали только к полудню и то лишь потому, что из-под груды песка виднелся край его одежды. Раскопали его почти без признаков жизни. Его верблюд, на котором были основные запасы воды, исчез. Кое-как, с помощью тех остатков, что плескались еще в бурдюках, привели старика в чувство, но все равно положение его безнадежно. Абу-Али, как врач, прекрасно понимает это. И все же надеется… Надеется, хотя бы облегчить его страдания.
Иногда Ибн Сина отходит от больного, взбирается на песчаный бугор и смотрит вдаль.
Солнце больно слепит глаза. На горизонте ничего не видно — пески, пески и пески…
Абу-Али снова возвращается к старику и видит, как беззвучно шевелятся его пересохшие губы. Наклонившись, он улавливает слово «пить».
«Чем же напоить его? — мучительно думает Ибн Сина. — Неужели слуга не привезет воды? И почему он так долго не возвращается? Не заблудился ли он? Может быть, он не нашел колодца и сам погибает в пустыне? А может быть, его убили или захватили в плен встречные кочевники? Как мы неосторожны! Как глупо неосторожны…»
Сердце Абу-Али разрывается. Он еще раз озирается вокруг в поисках помощи. Взор его падает на верблюда, обессиленно развалившегося на песке. Ибн Сина торопливо достает из вьюка пиалу, тонкий ножичек и небольшой зажим. Подойдя к верблюду, он осторожно, одним ловким движением вскрывает артерию. Красная пенистая струя бьет из надсеченной артерии и наполняет подставленную чашу. Не успевает верблюд рвануться, как быстрые руки опытного хирурга накладывают зажим на ранку, и верблюд, уверенный, что его всего лишь укусила злая муха, остается спокойно лежать.
Абу-Али подносит пиалу к губам умирающего. Абу-Сахль делает несколько глотков, и подобие тихой улыбки появляется на его лице.
Старик силится сказать что-то, но жизнь уже покидает его.
Абу-Али допивает пиалу и сам валится без чувств ка край ковра.
Когда вернулся слуга, солнце стояло уже над самым горизонтом. Верблюд бродил неподалеку, обнюхивая песок, разыскивая колючки. Над маленьким становищем вились черные коршуны, а на ковре лежали рядом мертвый Абу-Сахль и обессилевший Абу-Али. Вода, привезенная слугой, оживила ученого, а покойника могла только омыть.
Ибн Сина выкопал могилу Абу-Сахлю и сам положил в нее друга.
Под утро, пока еще не началась дневная невыносимая жара, жалкие остатки каравана двинулись в путь.
Четверо суток добирались путники до хорасанского города Абиверда, лежащего на границе пустыни. Там они прожили несколько дней в маленькой комнатке караван-сарая, пока не окрепли настолько, что смогли продолжать свой путь.
Без сожаления покинули они этот пыльный, обожженный солнцем, овеянный пустынными ветрами городок и тронулись в Несу.[32]
Еще в Бухаре Ибн Сина много слышал об этом городе, а в Ургенч часто приезжали купцы и ученые из Несы, так что даже среди своих знакомых Абу-Али насчитывал немало тамошних жителей. На их помощь и добрый отзыв он мог смело рассчитывать.
Неса пленила его с первого взгляда. Город тонул в зелени. Улицы тянулись, словно сплошные зеленые коридоры, изредка перерезанные серебряным ножом ручья или арыка. И жители понравились Ибн Сине — Здесь было много образованных, начитанных людей, к тому же ощущалась нужда в медиках. Чего же было еще искать!
Прожив в Несе некоторое время, Ибн Сина привык к городу и серьезно решил осесть в нем. Снял маленький домик и подумывал о том, чтобы выписать семью. От Бируни пока что вестей не было.
Никто не мешал тихой жизни ученого. Он писал все свободное от посещений больных время.
За последние годы общение с таким замечательным математиком, как Ал-Бируни, толкнуло Ибн Сину на серьезные занятия геометрией. Живя в Несе, он углубился в детальное и глубокое изучение Эвклида. Для учеников, которые, как всегда, очень быстро появились у Ибн Сины, он написал несколько трактатов о математических теоремах, о параллельных линиях на сфере, об углах. Геометрия подсказала ему мысль заняться исследованием измерений Земли — так появился его трактат «Об экваторе».
Ученики жадно вслушивались в новые для них мысли. Они переписывали книги и трактаты учителя в десятках экземпляров и рассылали их ученым Хорасана, Мавераннахра, Хорезма, Азербайджана. В ответ нередко приходили объемистые тома научных сочинений, которыми собратья делились со своим главой — шейхом, как начали уже называть Ибн Сину, не считаясь с его сравнительной молодостью. Ему в это время, в 1012 году, было не больше тридцати двух — тридцати трех лет.
Письма учеников и почитателей, книги и трактаты ученых, приходившие в Несу в адрес Ибн Сины, никогда не оставляли его равнодушным. Он отвечал на все вопросы, подробно разбирал работы, часто отвечая на трактат трактатом. Все это толкало ученого на дальнейшие исследования.
Пожалуй, давно ему не работалась так спокойно, как в Несе.
Но скоро все это изменилось.
Ка‘к-то под вечер слуга Абу-Али, просунув в дверь рабочей комнаты ученого свое веселое широкоскулое лицо, доложил, что какой-то почтенный старик хочет видеть уважаемого Абу-Али ибн Сину.
Старик оказался хорезмийским знакомым, богатым человеком, сменившим свою профессию ювелира на чалму имама.
— Приветствую тебя, сын мой, — сказал старик в ответ на почтительный поклон ученого. — Радуйся! Я пришел к тебе с хорошими вестями! — Говоря это, он протянул Абу-Али свиток.
Тот развернул. На него глянуло его же собственное лицо. Несколько ниже замысловатым стилем придворного писаки сообщалось, что всякий, кто встретит изображенного на портрете великого и знаменитого ученого Абу-Али Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сину, пусть сообщит ему, что в Газне ждут его пресветлые очи султана Махмуда, жаждущего осыпать достославного врачевателя великими милостями. в — Как прекрасно передана на портрете твоя внешность, не правда ли? — воскликнул гость. — Мне говорили, что его нарисовал недавно прибывший в Газну Абу-Наср Аррак, математик и превосходный художник.
«Неужели и Абу-Наср уже в плену! — мысленно воскликнул Ибн Сина и невольно закусил губы. — Какие же длинные руки у этого Махмуда! Всех собирает в свою золотую клетку!..»
Ученый постарался не подать виду, как неприятно поразило его послание султана Махмуда. Ему даже удалось выразить на лице великую радость по случаю столь лестного к нему внимания всемогущего газнийского владыки и заверить старика, принесшего свиток, что он не замедлит воспользоваться оказанной ему милостью.
— Я никогда не слыхал, чтобы рисовались чьи-нибудь изображения! А тем более, чтобы они рассылались… Это большая честь… — бормотал старый имам. — Когда наш мулла показал мне это высокое произведение, я даже ахнул и не сразу сообразил, что оно относится к тебе… Потом подумал…
— А его давно прислали?..
— Дня три назад. Так вот, я подумал-подумал, припомнил твое лицо, прочел текст и понял, что сообщу тебе большую и радостную новость…
Разговаривая, улыбаясь и угощая гостя поданными слугой сластями, Ибн Сина все время ломал себе голову, куда же ехать ему теперь, чтобы скрыться от назойливого внимания султана Махмуда.
Едва старик, уверенный, что принес Абу-Али благую весть, удалился, ученый позвал старого, преданного ему слугу, и после непродолжительного совещания оба решили, что пора собирать вещи. Нет никакой гарантии, что имам, норовя выслужиться перед всесильным султаном, не напишет ему письмо о том, что Ибн Сина в Несе и приглашение ему передано.
Покидая через несколько дней гостеприимную Несу, Ибн Сина говорил всем, что едет в Газну. Его ли вина была в том, что лошади, на которых в этот раз решили совершить свое путешествие Абу-Али и его слуга, пошли совсем в другую сторону и вместо Гаэны привезли их в Нишапур?[33]
Нишапур встретил Абу-Али не хуже Несы. Здесь также было много больных, жаждущих исцеления, и множество здоровых, которые слыхали уже об Абу-Али ибн Сине и мечтали попасть к нему в ученики.
Сам Нишапур напоминал и Бухару и Ургенч. Это был очень большой и богатый город с огромными базарами, полными привозных и местных товаров. Целый день не замолкала деловая жизнь города. Караваны, нагруженные товарами, прибывали издалека, и так же далеко отбывали другие, вывозящие из Нишапура продукты местного производства. Историки рассказывают, что на рынках Нишапура было множество караван-сараев, где проживали купцы и тут же торговали своими товарами. Каждый рынок обычно торговал каким-нибудь одним видом продуктов, которые производили тут же жившие ремесленники.
Те же историки упоминают, что плох тот город, где жители занимаются меньше, чем тридцатью двумя видами ремесел. В этом отношении Нишапур был, как видно, одним из первейших городов Азии, здесь можно было найти мастеров во всех ремеслах. И мастеров первостатейных, прославленных.
Богатой была не только торговая сторона нишапурской жизни, здесь было много ученых, проповедников, последователей различных сект.
К тому же в Нишапуре в этот период строилось медресе — высшая духовная школа. Такая, как была в Бухаре и о какой мечтал Абу-Али в Ургенче. Школы эти в Средней Азии были очень немногочисленны, а нужда в них очень большая. Методы преподавания еще не установились полностью, и, хотя они считались «духовными» учебными заведениями, в них изучали и античную философию и светские науки. Абу-Али живо представил себе, как хорошо было бы преподавать в медресе, передавать знания юным умам, и это сразу же примирило его с насильственным переездом.
Нишапурцы славились своей любовью к просвещению, а также страстью к публичным диспутам на различные отвлеченные темы.
Когда было объявлено, что предполагается не греча Абу-Али ибн Сины со знаменитым суфийским проповедником Абу-Саидом Мейхенейским, жившим в Нишапуре, это оказалось событием, переполошившим весь город.
Суфизм — идейное движение, широко распространенное в ту пору в странах Средней Азии, — претерпел много различных изменений. Но во времена Ибн Сины он под покровом философско-мистического ученья отражал недовольство трудового люда гнетом феодалов, ростовщиков, духовенства. Основной философской идеей суфизма являлось утверждение, что не разум, а интуиция, то есть внутреннее откровение, является источником раскрытия истины.
Шейх Абу-Саид Мейхенейский пользовался очень большой популярностью. Его учениками и последователями были виднейшие ремесленники города, такие, как Абу-Бекр кеффал марвези — мастер по выделке замков, Абу-Бекр куттани — мастер по изготовлению льняных тканей, Абу-Саид хаддад — кузнец, Абу-Саид хаттаб — дровяник, Абу-л-Аббас кассаб — мясник, Абул-Касим заррад — мастер тю выделке кольчуг, Абу-Мансур варракани — продавец бумаги и многие другие.
Двор соборной мечети, где всегда происходили научные споры, был забит нишапурцами с раннего утра.
Нарядный, в богатом кафтане, веселый Ибн Сина первым пришел на диспут. Вскоре появился и Абу-Саид, в грубой одежде, с лохматой седой бородой. Оба они имели своих поклонников, приверженцев, учеников. Обоих их приветствовали громкими, долго не смолкающими криками. Кому кричали больше и восторженнее, определить было невозможно.
Абу-Саид, философ-суфий и талантливый поэт, был далек от изнеженной жизни богачей. В своих произведениях, обращенных главным образом к трудовому населению городов, он проповедовал воздержание, непротивление судьбе, строгость и чистоту жизни. Взгляды его были смутны, проникнуты верой в таинственные связи с нездешним миром, а язык, которым он выражался, полон туманных намеков.
Ибн Сина во всем был ему полной противоположностью. Он всегда и прежде всего требовал твердых положений, доказательств, основанных на опыте. Прекрасный оратор, он не прочь был лишний раз напомнить об обязательной, по его мнению, практической проверке всякого научного положения жизненными примерами.
На диспуте оба ученых вели себя так различно и непримиримо, что седобородые нишапурские мудрецы только покрякивали да почесывали затылки, не зная, чью сторону принять, а молодые слушатели даже много времени спустя после окончания этой встречи, ставшей в городе исторической, доказывали правоту собеседников кулаками.
Абу-Али и Абу-Саид во время спора подняли множество разнообразных вопросов — от греческой философии до физического закона свободного падения тел, от астрономии до влияния металлов на человеческий организм, от поэзии до музыки, удивив всех своими знаниями.
Но эти знания не сближали их. Присутствующие жадно слушали, чувствуя разницу их высказываний, но не сознавая того, что ученым таких различных взглядов никогда не убедить друг друга в своей правоте. Перед Абу-Али с каждым словом старого суфия все яснее открывалась сущность мировоззрения этого мистического проповедника, взирающего на мир сквозь таинственную дымку. Так же и Абу-Саид видел в молодом ученом чуждый ему способ восприятия жизни только через опыт и через факты действительности. В глазах присутствующих каждый из спорящих был искренен и достоин уважения. И каждого поддерживали криками и овациями.
— Жизнь коротка, — утверждал Абу-Саид, — и нет смысла тратить ее на борьбу с тем злом, которое мы видим вокруг себя. Все равно исправить его не в человеческих силах. Все наши помыслы должны быть направлены на усовершенствование своего духа, на то, чтобы сделать его достойным великой радости слияния с божественным началом, частью которого этот дух является. Это единственная достойная цель для всего сущего!
— Жизнь настолько длинна, — горячо возражал Абу-Али, — что человек может успеть сделать гораздо больше, чем Это нужно для его спасения.
— Чтобы спасти душу, не нужно ни работать, ни воевать! Это вносит лишь ненужные тревоги и волнения. Душа должна быть спокойна и гармонична, — убежденно твердил суфий.
— Спокойная и гармоничная душа будет в совершенном мире, а создать такой мир может только сам человек с помощью ясной головы и крепких рук. Только просвещение и труд могут улучшить жизнь человека и приблизить его к совершенству.
Искушенный в спорах Абу-Али старался высказывать свои мысли насколько мог тоньше и завуалированнее, так, чтобы богословы, присутствовавшие на диспуте, не вздумали обвинить его в ереси.
К счастью, они, очевидно, не отличались особенной сообразительностью, так как только один из поклонников Абу-Али, более вдумчивый, чем другие, и более других понявший свободомыслие ученого, тихонько обратился к нему за подтверждением своей догадки.
— Учитель, неужели ты так мало надеешься на аллаха?
Улыбающийся Ибн Сина отозвался стихами:
За безбожье свое пред собою одним я в ответе,
Крепче веры моей не бывало на белом свете.
Но коль даже единственный в мире и тот «еретик»,
Значит, нет, говорю, правоверных в нашем столетье!.
Уходя с диспута, шейх Абу-Саид возбужденно заметил своим ученикам:
— Он человек ищущий, этот почтенный Абу-Али. То, что я вижу, он знает. — А затем добавил: — И все же не может стать небывшее былым и сотворенное несотворенным!..
До Абу-Али донеслись эти слова, и он, улыбнувшись, повернулся к своим последователям:
— Шейх правильно говорит: то, что я знаю, он видит… — И тут же продолжал, — мгновенно сочинив экспромт: — Нам божье милосердие — защита. Оно избавит нас от всех плодов деяний, добрых и дурных. Там, где есть милосердие твое, там и несотворенное стать может сотворенным и бывшее — небывшим быть!
После диспута собрались для веселой застольной беседы, которая затянулась на всю ночь, в гостеприимном доме одного нишапурца. Беседе, как всегда, сопутствовали цветистые газели[34] и острые находчивые ответы в стихах.
С юности Ибн Сина любил слагать стихи, а с годами он становился все более крупным поэтом, настоящим мастером коротких, точных четверостиший и легких газелей. Поэтический талант его, даже на фоне множества изысканных и изощренных придворных стихослагателей, сверкал и выделялся глубиной мысли, мастерством отделки. Стихосложение было в быту того культурного восточного общества, с которым сталкивался Абу-Али. В те времена были часты вечера, на которых полагалось говорить стихами, люди всех слоев любили острое словцо, особенно если оно было удачно срифмовано, так что удивить хорошими стихами было не легко, и все же Абу-Али блистал. Так было еще в Бухаре, в Ургенче, в Несе и здесь, в Нишапуре, где жило много любителей поэзии.
За ужином разгорелся спор о вине: добро ли оно, или зло и есть ли грех в его употреблении, как это утверждает коран? Гости, высказав свое мнение, обратились к Абу-Али.
— Ну что же, — начал он, приподнимая свой кубок, — можно сказать и так:
Пьешь изредка вино — мальчишкою слывешь,
И грешником слывешь, когда ты часто пьешь
Кто должен пить вино? Бродяга, шах, мудрец.
Ты не из этих трех? Не пей: ты пропадешь![35]
Общий смех приветствовал четверостишье.
— А можно сказать и так, — лукаво улыбнувшись, продолжал Абу-Али, когда смех несколько стих:
Вино враждует с пьяницей, а с трезвым дружит, право.
Не много пьем — лекарство в нем, а много пьем — отрава!
Не пейте неумеренно: наносит вред безмерный.
А будем пить умеренно, поможет нам на славу!..[36]
Бурные овации встретили и этот экспромт.
— Друзья мои! — воскликнул один из особенно рьяных поклонников Ибн Сины. — Я не хочу, чтобы вино стало моим врагом, и я не хочу пить его, как яд! Бросайте чаши, друзья! Дадим покой нашему прекрасному — да цветет его жизнь, как роза! — хозяину.
И гости стали шумно расходиться.
Выходя из-под гостеприимного крова доброго нишапурца в ненастную осеннюю ночь, утомленный диспутом и шумным сборищем, Абу-Али прочел своим спутникам стихи Фирдоуси:
Лицо свое ночь залепила смолой,
И ярких планет не видать ни одной,
Луна приготовилась было в поход,
Чертог свой оставив, дошла до ворот.
Но мрачен был мир, и поблекла луна,
От страха совсем исхудала она,
Венец ее светлый погас и исчез,
Покрылося прахом пространство небес…[37]
— Живет где-то великий человек, старик уже, и вся его трудная жизнь, как прекрасная песня, а нас окружает благополучие и довольство, мы спорим о вещах, которые не стоят даже строчки его стихов, и сочиняем сами плохие стихи, — добавил Ибн Сина, прощаясь со своими спутниками.
Оставшись один, он долго не мог уснуть, шагал по комнате, присаживался к маленькому столику, где лежали письменные принадлежности, записывал стихотворные строки и тут же раздраженно зачеркивал их. Вино, выпитое за ужином, еще шумело у него в голове, ему хотелось с кем-то спорить, высказывать какие-то свои взгляды, создать не то поэму, не то газель, наконец в раздражении он записал: «О аллах!
Нет у тебя помощника, к которому можно было бы обратиться, нет у тебя и везира, которому я мог бы дать взятку. Повиновался я всегда твоему могуществу, И потому следовало бы тебе быть снисходительным ко мне, грешил я против тебя по своему невежеству, за это ты, конечно, можешь покарать меня. Я повинуюсь твоему пророку Мухаммеду и признаю его правоту в том, что он запрещал вино. Я даже указываю на вредность вина всем пьющим… Ну, а что делать, если оно так тянет меня к себе, что я могу утонуть в нем? Ты уж лучше заранее прости и помилуй меня — тебе ведь положено прощать, о аллах!..»
Абу-Али перечел написанное, засмеялся и скомкал листок, но все это как будто бы успокоило его.
«Чего я волнуюсь, и чего я хочу от себя? — с горечью подумал он. — Ведь все равно мои жалкие стихи никогда не смогут сравниться с великими произведениями Рудаки или Фирдоуси. Даже Абу-Саид как поэт во много раз выше меня. Нет уж, Хусейн, занимайся-ка ты лучше своими науками! Писать стихи, пожалуй, не твое дело!..»
Ибн Сина готов был уже бросить калам и отодвинуть чернильницу, но неожиданно почувствовал, что мысль его, метавшаяся в поисках слов, нашла, наконец, свое стройное и строгое выражение, и рука забегала по бумаге, записывая четверостишье:
Плохо, когда сожалеть о содеянном станешь,
Прежде чем ты, одинокий, от мира устанешь.
Делай сегодня то дело, что выполнить в силах,
Ибо возможно, что завтра ты больше не встанешь…[38]
Абу-Али долго еще не засыпал, забыв уже о стихах и думая только о своих работах, о планах на будущее, о задуманной книге. К ней он приступит немедленно, едва будет окончен трактат, над которым он трудится сейчас.
Наутро Ибн Сина принял своих больных и отправился к базарным кварталам навестить одного захворавшего бедного медника.
На площади, где читались глашатаями приказы и вывешивались объявления, внимание Абу-Али привлекла большая толпа. Подойдя поближе, он услыхал свое имя.
«Султан Махмуд! — понял он сразу и, приблизившись вплотную к толпе, разглядел знакомое объявление со своим портретом. — Удивительно, что правители Нишапура согласились вывешивать послания султана, — с досадой подумал Абу-Али. — Кроме того, они прекрасно знают, что я здесь, вызвали бы меня и сообщили, чего же проще! Но, может быть, это сделано для того, чтобы снять с себя ответственность, а мне дать возможность самому выбирать дорогу… За последнее время я, признаться, таил в душе надежду, что султан Махмуд забыл обо мне…»
Посетив больного и оставив ему лекарство, ученый поспешил домой. Когда он метался по своей комнате, обдумывая, куда же ему ехать дальше, просторы Азии показались ему необычайно ограниченными. Постоянное внимание султана Махмуда становилось мучительным и надоедливым. Абу-Али перебирал в памяти известные ему области, вспоминал рассказы друзей, побывавших в различных городах. Так мало оставалось мест, пока еще не подвластных султану Махмуду, что Ибн Сина приходил в отчаяние. Везде было трудно вольнодумцам!
«Ехать в Газну, — твердил про себя ученый, — это значит продать свою мысль в рабство…»
Его отвращение к разбойничьему гнезду — Газ-не — подкреплялось еще и возмущением, которое вызывал в нем султан, все решительнее и решительнее накладывавший свою лапу на Хорезм. Из писем родных, а особенно из скупых строчек прозорливого и вдумчивого Бируни, Ибн Сина ясно видел, что можно было ждать от султана Махмуда. Ему писали примерно следующее: «Мы каждый день ждем новых притязаний султана. То ему нужна еще одна хутба, прочитанная в больших городах Хорезма, и для его успокоения хорезмшах разъезжает по городам только затем, чтобы прослушать в течение десяти минут имама, который подтверждает аллаху и всем прихожанам, что нет никого более достойного быть защитником славы пророка на земле, чем великий султан Махмуд. То султан обижается, что его сестре, супруге шаха, не оказывают должного почтения. То он требует приезда к нему ученых, то еще чего-нибудь. Покоя нет, и нет надежды на него. За все приходится откупаться. На все это тяну деньги с трудолюбивого и рачительного народа Хорезма…»
Ал-Бируни подумывал о том, как было бы хорошо найти где-нибудь, хотя бы в лесах южной Индии, место, где можно было бы прожить отшельником. «Тем более, что время, в которое мы живем, не благоприятствует развитию наук», — заканчивал он свое письмо.
«Не последовать ли и мне мысли Бируни? — горько усмехаясь, подумал Ибн Сина. — Все равно мне не жить в ловушке, в которую меня заманивают. Я не хочу, чтобы султан Махмуд заявил мне так же, как говорил это неоднократно другим: «Если хочешь, чтобы счастье было с тобой, то говори не по своей науке, а говори, что соответствует моему желанию».
Но все же куда ехать? Где он, тот лес, в котором можно жить отшельником? Где же найдется пристанище скитальцу?»
К счастью, Ибн Сина вспомнил, что у него где-то должно быть рекомендательное письмо, написанное Бируни правителю Джурджана Кабусу ибн Вашмгиру. Люди, знавшие его, хорошо о нем говорили. Он был единственным правителем, который помогал несчастному Ибрагиму Мунтасиру, младшему сыну Нуха ибн Мансура Саманида, последнему эмиру Бухары.
Ученый решил еще раз попытать счастье в скитании. Он знал, что правитель Джурджана, бывший прежде сильным и независимым государем, теперь тоже платит дань султану Махмуду. Но отдаленность Джурджана, расположенного на южном, берегу Хазарского моря, от Газны позволяла Ибн Сине надеяться, что султан не подумает его искать там, во всяком случае до тех пор, пока ему не донесут его шпионы. К тому же он, наученный горьким опытом, решил не называть на новом месте своего имени.
В тюках, подвешенных к бокам верблюда, два-три халата, запас провизии, несколько любимых книг, начатая рукопись и кувшинчики с самыми ценными, редкими лекарствами — вот и вся кладь, с которой ученый решил еще раз начать новую жизнь.
Веселость и бодрость духа не оставляли его.
«Нет, султан, не поймать тебе меня в твой золотой силок!» — насмешливо думал ученый, покачиваясь на спине верблюда. Невольно сами собой стали складываться строки стихов:
О, если бы я знал, кто я и что такое
И вслед за чем кружусь на свете, как шальной,
Мне счастье ль суждено, тогда б я жил в покое,
А если нет, тогда б я слезы лил рекой…[39]
Последняя строка ему не понравилась: лить слезы было не в его характере. Он подбирал другие слова, но впереди показался город, верблюд прибавил шагу, и пришлось переделку четверостишья отложить.
Солнце уже склонялось к западу, когда на улицах Джурджана, столицы княжества, расположенного на южном берегу Джурджанского, или Хазарского, моря,[40] появился запыленный, усталый путник на запыленном, усталом верблюде. Любопытным оком окинул он тихие кварталы города, напоенные теплым морским воздухом, постройки, разукрашенные нарядной росписью, пальмы и агавы, лимонные и апельсиновые деревья, растущие по обочинам улиц. Все было такое незнакомое, невиданное, что путник невольно подумал:
«Так вот куда занесло тебя, Абу-Али! Так вот оно, место, где тебе, изгнаннику и скитальцу, еще раз предстоит пытать свою судьбу!»
Он медленно ехал по улицам, забыв об усталости и жадно вглядываясь в то новое, что раскрывал перед ник незнакомый город.
С трудом путник нашел себе пристанище в доме бедного ремесленника и отрекомендовался ему не как Абу-Али ибн Сина, а как Хусейн ибн Абдаллах, врач из Несы. Ему не хотелось сразу же, не осмотревшись, нести рекомендательное письмо во дворец правителя.
В этом случае он оказался, неожиданно для себя, очень предусмотрителен. Не прошло и нескольких дней после приезда Ибн Сины, как Джурджан был взволнован вестью о том, что сын султана Кабуса Манучехр заточил отца в крепость и занял его трон. Надеяться на покровительство нового правителя, друга султана Махмуда, не приходилось. Надо было устраиваться самостоятельно.
В Джурджане были свои врачи, которых знали жители много лет, и, какие бы они ни были, у них была практика, а Хусейн ибн Абдаллах был всего лишь никому не известным молодым человеком из маленького провинциального городка.
Не раз нужда стучалась к нему в дверь, но он не унывал. Посмеиваясь, затягивал кушак потуже и садился за рукопись.
Комнатка Абу-Али находилась прямо над мастерской хозяина, а единственное окошко ее выходило на базарную площадь. С раннего утра начинались крики торговцев и стук молотков в мастерской. Сначала Абу-Али казалось, что ничто ему не мешает. Он полно и радостно пользовался своей свободой. Наконец-то он мог высказать свое осуждение «лжецам науки» — астрологам — и подвести итоги занятиям астрономией. Еще и еще раз возвращался он к «Большому сочинению» Клавдия Птолемея, известному под арабским названием «Алмагест». Он думал о молодежи, о своих учениках, о тех, которые были, и о тех, которые, вне сомнений, еще будут. Им надо было растолковать это сложное, но важное сочинение. «Алмагест» состоял из тринадцати томов, был тяжел для понимания, растянут — надо было его сократить и дать в наиболее доступном изложении. Не всякий преодолел бы трудности, которые выпали в свое время на долю Хусейна, изучавшего «Алмагест» в полном его виде. Работая над книгой Птолемея, Ибн Сина не раз вспоминал Ал-Бируни и его отрицательное отношение к системе великого александрийца. Бируни, по слухам, работал над книгой о мировой системе. Ибн Сина с интересом ждал ее, так как чувствовал, что и у него растут сомнения в правильности построений «Алмагеста».
Нигде и никогда Абу-Али, который вообще-то работал исключительно быстро и плодотворно, не делал так много, как в Джурджане. Каждый день он успевал написать сорок-пятьдесят страниц. Труднее всего было с бумагой, денег на которую не всегда хватало. Усталый, он поднимался после работы с коврика, на котором сидел целый день, поджав ноги, и только тогда шум и гам за стенами комнаты доходил до его сознания. Часто являлась мысль: возможно, не будь этого шума, незаметно, но постоянно раздражавшего его мозг, он уставал бы гораздо меньше и делал еще больше. Это наблюдение он отметил для себя, рассчитывая — при возможности проверить действие постоянных раздражителей на человека или хотя бы на животных.
Ученого начинало неодолимо тянуть в тишину, на простор. Абу-Али брал тогда с собой две-три лепешки, если они у него были, и отправлялся за город, к морю.
Стены Джурджана скоро оставались за спиной, синее безбрежное море расстилалось перед глазами, кругом были тишина и простор, о которых он мечтал. Часто Абу-Али шел дальше, в рыбачье селение, раскинувшееся на берегу среди высоких камышей. Загорелые, полуголые рыбаки скоро узнали его и радостно приветствовали. Он был желанным и дорогим гостем. Новые знакомые с первого же дня признали его мудрецом, способным разрешить все вопросы, помочь во всех сомнениях. Оказалось, что Абу-Али не хуже самих рыбаков мог предсказать, какая будет в ближайшие дни погода, знал, когда и как ловить рыбу, как лучше поставить парус, чем зачинить пробоину в лодке. Бедняков поражало то, что, по словам гостя, он все это узнал из книг, из каких-то исписанных словами листочков, которых никто из жителей селения и в глаза-то никогда не видал. Кроме того, гость лечил их детей, вправил руку старому Мансуру, показал, как по-новому солить в чанах рыбу, и он же научил по-новому обжигать глиняную посуду, так что она была куда более прочной и из нее не вытекал рассол. Да и мало ли чему научил рыбаков этот удивительный, спокойный и веселый человек!
По дороге домой в пышной зеленой степи Абу-Али находил множество незнакомых растений, свойства которых необходимо было узнать. С целым ворохом трав он приносил в свою унылую комнатку запахи моря и степи.
Но недолго длилась эта спокойная, полуголодная жизнь. Удачные исцеления приговоренных к смерти людей — и имя нового врача стало повторяться в Джурджане с почтением. Теперь уже Хусейн ибн Абдаллах из Несы обедал каждый день. Одиночество тоже кончилось, вокруг появились ученики и поклонники.
Оглядываясь вокруг, Хусейн ибн Абдаллах с удивлением замечал, что город становится своим, обжитым и жизнь снова входит в былое русло.
Известность его в городе все росла. Ибн Сина лечил и вылечивал множество простых бедных людей. Множество раз боролся он с эпидемиями, жертвами которых в основном были именно бедняки, ради них он ратовал о «Домах исцеления», их лечил и кормил на свой счет, но никто не донес до нас историй излечения этих тружеников, хотя и были они, наверное, небезынтересны. Зато осталось несколько полуисторических, полулегендарных рассказов о том, как Абу-Али ибн Сина спасал от тяжелых заболеваний правителей и их родственников или вообще людей привилегированных сословий. Одна из таких историй, имеющая отражение в научных сочинениях самого ученого, произошла именно в Джурджане. Вот как об этом рассказывают.
…Красивый двадцатилетний юноша лежал распростертый перед врачом. Его бледное худое лицо было спокойно и неподвижно. Он ничего не ел уже вторую неделю, не отвечал на вопросы, и печать обреченности сквозила во всех его чертах. Доктор осмотрел его, ослушал, сделал все исследования и, к своему удивлению, не нашел у юноши никакого явного заболевания. Как на последнюю надежду смотрели на него родственники. Но врач не знал, что им сказать. Такого случая не было еще в его практике, да и в книгах он не встречал ничего подобного. Организм молодого человека был в полном порядке, и вместе с тем он явно погибал.
Ученый не знал, с чего начинать лечение. Однако кое-что в рассказах близких больного заставило его задуматься.
Целую ночь не спал Хусейн ибн Абдаллах, расхаживал по низеньким комнаткам своего жилища, перелистывая книги, разглядывая ряды сосудов с лекарствами, словно надеясь найти в них нужный ответ. Но единственной вехой могла быть только память ученого, неиссякаемый кладезь, хранивший твердо и точно все, что когда-либо было им прочитано, узнано, наблюдено. Где-то в дальнем уголке хранилось воспоминание об одном случае, мало похожем по признакам, но, возможно, близком по причинам. Абу-Али решил попробовать.
Наутро доктор потребовал прислать ему человека, хорошо знающего все улицы и дома города. Приближенные хозяина переглянулись, удивленные странным требованием врача, но все же послали искать такого человека. Вскоре явился седой, сгорбленный старик, многолетний стражник Джурджана.
Упав ниц перед кроватью и облобызав край халата доктора, он поднял на него слезящиеся, мутные от старости глаза.
— Встань, — ласково приказал ему Хусейн ибн Абдаллах и, словно бы случайно, взял больного за руку. — Я приезжий, отец, и не знаю города. Назови мне, прошу тебя, улицы Джурджана. Да не кланяйся ты, отец… Присядь, прошу тебя.
Старик медленно стал называть кварталы, улицы, переулки.
— …Квартал медников, улица оружейников, — шамкая, произносил он, и доктор в это время почувствовал, как дрогнул и забился слабый и едва слышный пульс больного. — Улица мясников, улица кожевников, — продолжал старик, но пульс опять успокоился, казалось, юноша уснул под монотонную речь стражника.
— А теперь, прошу тебя, — обратился к старику врач, когда он, наконец, кончил свое перечисление, — назови мне все дома по улице оружейников.
Пульс больного на мгновение забился сильнее, и юноша, приоткрыв глаза, печально и внимательно поглядел на доктора.
Старик помолчал вспоминая.
— На правой руке дом достопочтенного муллы из соборной мечети, да сохранит аллах его на долгие годы, второй — купца Бен Рахмата, третий — почтенного и мудрого Абу-Джафара, мудариса…
Пульс затрепетал под чуткими пальцами врача.
— Четвертый — богача Абу-Фариддина из Балха, пятый…
Но доктор жестом остановил его.
— Благодарю тебя, отец, теперь я с твоих слов так хорошо узнал Джурджан, что найду любой дом. А это возьми за труды, — и он передал старику несколько серебряных монет.
Когда тот, кланяясь и благодаря, удалился, Хусейн ибн Абдаллах, выйдя в другую комнату, тихонько попросил, чтобы послали за почтенным Абу-Джафаром, что живет на улице оружейников.
— Я много слышал о тебе, о мудрый Абу-Джафар, — обратился доктор к приведенному по его просьбе толстому и надутому, как пузырь, мударису. — Слава о твоей учености и мудрости распространилась по всему Джурджану.
Абу-Джафар важно поклонился, погладив себя по животу.
— Я мечтаю послушать твои лекции, о достопочтенный, и надеюсь в самое ближайшее время это сделать, — продолжал Хусейн ибн Абдаллах. — А сейчас я вынужден обратиться к тебе с просьбой о «помощи. Ты видишь этого прекрасного юношу, — показал врач на сына хозяина и мягко взял его за запястье. — Он болен, и никто не может его вылечить. Все врачи города побывали здесь, а он все лежит так же неподвижно. Мне говорили» что в твоем доме живет одна женщина, я забыл ее имя, которая излечивает любые болезни. Не откажись назвать ее и выскажи свое почтенное мнение о ней…
— В моем доме? — удивленно переспросил Абу-Джафар и наморщил лоб. — В моем доме живет много людей, но я никогда не слышал о такой женщине.
— Это странно, но, может быть, она действует тайно и не хочет, чтобы все знали о ее занятиях? Назови, о достопочтенный, имена обитательниц твоего дома, и я надеюсь вспомнить ее.
Абу-Джафар, отсчитывая по пальцам, стал называть своих квартиранток. После первых же имен больной судорожно вцепился в одеяло, но рука врача крепко держала его пульс.
— В семье купца Ибрагима три женщины, — монотонно перечислял Абу-Джафар, — мать Мариам, жена Гульнур и дочь Рабия.
Пульс юноши забился так, что доктору показалось, что он слышит биение сердца.
— У пирожника Амра две дочери — Айша, Фатима и старуха жена… Вот и все, как будто бы, — развел руками Абу-Джафар. — Жена — старая ведьма, она любого загонит в могилу, вылечить она не может… — Живот Абу-Джафара заколыхался от смеха.
— Это все не то, — задумчиво произнес Хусейн, — а у тебя самого, о достопочтенный, неужели же нет женщин в семье?
— У меня? — усмехнулся самодовольно Абу-Джафар. — У меня две жены да три дочери, кроме пяти сыновей. Жены мои врачеванием не занимаются, это я знаю, а дочерям всем вместе нет и десяти лет…
Доктор встал и, кланяясь, принялся извиняться перед уважаемым и премудрым Абу-Джафаром, которого он побеспокоил зря, по ошибке, в которой повинен слуга, очевидно перепутавший имя хозяина дома.
Но когда Абу-Джафар удалился, доктор заявил совершенно неожиданную вещь. Непонятная и страшная болезнь, которая истощает юношу и которая сведет его в могилу, не что иное, как любовь. Эта болезнь отравляет кровь и сокращает жизнь, если она захватывает человека с такой силой. Случаи эти крайне редки, но все же встречаются иной раз, именно на юге, недаром же существует в народе слово «меджнун».[41] Спасение, по мнению врача, одно: женить немедленно юношу на Рабии, дочери купца Ибрагима, которая живет в доме Абу-Джафара.
Родители готовы были на все, лишь бы сохранить жизнь сына. Уже через неделю он был здоров и весел, а после свадьбы и забыл, что чуть не погиб» став жертвой своего чувства.
Султан, которому тут же доложили обо всем случившемся, пожелал видеть врача.
С трепетом шел к нему Хусейн ибн Абдаллах. Он знал, что от приема зависело его будущее в этой стране, которая пришлась ему по душе.
Султан, благожелательно улыбаясь, усадил доктора около себя, принялся расспрашивать о способе, каким тот определил болезнь. Внимательно вглядываясь в красивое, мужественное лицо врача, султан вдруг воскликнул:
— Я узнаю тебя, сын мой! Ты Абу-Али ибн Сина! Твой портрет прислал мне султан Махмуд!
У Ибн Сины упало сердце.
«Неужели придется ехать в Газну?» — с ужасом подумал он.
Но султан, словно прочитав его мысли, обнял его, ласково потрепал по плечу.
— Ты теперь под моим покровительством. А мне тоже врачи и ученые нужны… Я буду хлопотать о тебе… Султан Махмуд в походе. А дальше посмотрим… Живи, пока что, спокойно…
Для правителя скромного Джурджана иметь при своем дворе такого известного ученого, как Абу-Али ибн Сина, было, конечно, большой удачей. Кроме того, он свято хранил старые иранские традиции, по которым полагалось покровительствовать наукам и искусствам.
— Я поселю тебя в одном из моих домов, — пообещал султан, — и назначу своим придворным врачом. Кроме того, ты сможешь посещать меня по вторникам и пятницам, и мы будем обсуждать книгу, над которой я уже давно работаю.
Абу-Али понял, что это являлось в глазах повелителя наивысшей честью.
…Даже менее наблюдательному человеку, чем Ибн Сина, не могло не броситься а глаза, что- жизнь в Джурджане была для большинства населения такой же трудной и тяжелой, как и в других княжествах Азии. Большие налоги, полный произвол сильного над слабым, полуголодное крестьянство — все это он встречал повсеместно.
Как же должно быть устроено общество, чтобы люди жили хорошо и счастливо, не бедствовали, пользовались правами и свободой и не поедали друг друга, как волки?» — думал ученый, но не находил ответа на мучившие его вопросы.
Он вспоминал историю древней Греции с ее давно отошедшими в прошлое демократиями. Но и тогда одни люди пользовались властью, богатством, всеми благами мира, а другие работали на них и голодали. Платон видел идеал общественного устройства в отмене личной собственности для правителей и воинов, в общности имущества и жен, в общественном воспитании детей. Но основой его системы было все же рабовладение. Бесправные рабы должны были работать на это общество. Аристотель тоже оправдывал рабство, считал его необходимым для домашней и общественной жизни, ибо, по его словам, без рабов граждане не могли бы пользоваться досугом, необходимым для развития их добродетелей. И для Аристотеля, для этого великого ученого, человек, обращенный в рабство, являлся лишь вещью, собственностью хозяина. Такое же отношение осталось и до этих дней. Но только ли рабам жилось трудно и плохо в античном и в современном Ибн Сине мире? Ученому не раз приходила на ум мысль, что вряд ли можно считать преступлением, когда народ восстает против жестоких и несправедливых порядков.
«А как было бы хорошо, если бы народ сам выбирал своего правителя!» — думал Ибн Сина. В идеальном государстве, о котором он иногда позволял себе мечтать, правитель обязательно должен был бы быть выбранным всем народом. Об этом Абу-Али думал, об этом он несколько позже писал.
В Джурджане никому бы и в голову не пришло, что можно выбрать правителя. Возможность заменить старого тирана молодым, несколько более мягким сыном султана, казалась пределом мечтании.
Абу-Али внимательно приглядывался к новому властителю и чувствовал, что новый султан Джурджана так же чужд ему, как и народу. Он не знал, как поведет себя Манучехр в отношении султана Махмуда, не выдаст ли его, может быть, даже и не предупреждая. Осторожность заставила Абу-Али уехать на время из Джурджана в соседнюю область Дихистан.[42]
Но здесь ученого поджидал более опасный враг, чем все местные эмиры, — малярия. Впервые Абу-Али серьезно захворал, впервые на самом себе он смог испытать, что такое лихорадка, каковы ее симптомы, какова периодичность припадков, какие изменения создает она во внутренних органах, как повышается температура тела. Впоследствии он воспользуется своими впечатлениями в большой работе «О лихорадках».
Болезнь заставила Ибн Сину вернуться в Джур-джан.
Султан Манучехр никаких шагов к тому, чтобы выдать ученого султану Махмуду, пока что не предпринимал, и Абу-Али спокойно мог жить и работать в Джурджане.
После отъезда из Хорезма прошло всего год-пол-тора, а пережито и перевидано было столько, что хватило бы на все десять.
Едва стало известно, что Абу-Али вернулся и прочно поселился в Джурджане, сразу же около него появились ученики и валом повалили пациенты. Один из учеников — Абу-Убейд ал-Джузджани, которого звали Абдул-Вахид, так привязался к Ибн Сине, что до конца жизни ученого остался его верным и неизменным другом и спутником.
Абдул-Вахид был человеком, жадно тянущимся к знаниям, толковым, точным и аккуратным, хотя и не блиставшим никакими особенными талантами. Он прожил с Абу-Али около двадцати пяти лет, не став выдающимся философом, врачом, математиком или химиком. И вместе с тем имя его осталось в истории мировой культуры, так как он наблюдал жизнь учителя и продолжил начатую Ибн Синой, а потом заброшенную им автобиографию. Его записи явились первоисточником сведений о великом ученом, точным хотя, может быть, и недостаточно подробным документом.
Именно от Абдул-Вахида мы узнали, что в Джурджане проживал один богатый человек, почитатель Ибн Сины, любитель наук — Абу-Мухаммад аш-Ширази. Он купил для ученого дом по соседству со своим и уговорил его там поселиться.
Предназначенный для Ибн Сины дом стоял в глубине довольно большого сада, отгороженного от улицы глухой стеной. Окна и двери просторной, светлой постройки выходили на широкую террасу, обращенную в сад. Вокруг бассейна росли насаженные заботливым хозяином цветы, а высокий старый чинар давал прохладу даже в самые жаркие дни. Покой и тишина царили кругом. Ученый сразу почувствовал, что здесь будет хорошо и спокойно работать.
Поселившись в новой квартире, Ибн Сина, не теряя времени, ушел с головой в работу.
По утрам, чуть свет, приходила молодежь. Абу-Али сам всегда сокращал до минимума время своего сна — этого же требовал и от своих учеников. Не каждому было под силу вставать на рассвете и слушать лекции в то время, когда можно было бы спокойно нежиться в мягкой постели. Тех, кого хватало на такое самоограничение, особенно любил и ценил Ибн Сина. Прочитав лекцию, Ибн Сина брал учеников с собой на обход больных. Они же помогали ему при домашнем приеме. Освободившись, Абу-Али готовил лекарства, занимался химическими исследованиями, принимал многочисленных посетителей. Между делом диктовал трактат или материал для завтрашних лекций. И только ночью, после того как наконец-то оставался в одиночестве, садился за основной свой труд, которому были давно уже отдана все чаяния и помыслы, — «Канон медицинской науки».
Аш-Ширази торжествовал.
То, что его гостеприимством пользуется знаменитый ученый, которого не может, несмотря на все свое могущество, заполучить сам султан Махмуд, переполняло гордостью сердце богача. Но это не было пустым тщеславием. Ведя торговлю с отдаленными странами, умея соблюдать свои интересы и приумножать и без того не малое состояние, Аш-Ширази был сравнительно образованным человеком, с широкими взглядами и искренним почитателем наук. Он преданно любил Абу-Али, проявлял к нему постоянную предупредительность и часто вел с ним долгие беседы. Особенно благоговел он перед философией, которую Ибн Сина называл наукой высшего порядка, «наукой наук», но ум купца, будучи чисто практического склада, был мало подготовлен для восприятия отвлеченных понятий. И поэтому, когда однажды Аш-Ширази попросил своего гостя написать для него трактаты с наиболее простым изложением своих философских знаний и идей, Ибн Сина охотно взялся за это дело, понимая, что такие книги послужат на пользу не только Аш-Ширази, но и многим другим из его учеников. Так были написаны две небольшие работы: «Появление и возвращение» и «Совокупные наблюдения».
В свободные минуты Абу-Али, по просьбе Абдул-Вахида, диктовал ему книгу по логике, названную им «Среднее сокращение по логике», где также старался изложить этот предмет в возможно более ясной и доступной форме.
Но все углубленнее становилась работа над «Ал-Каноном». Весь свой опыт врача, все свои знания вкладывал в эту книгу Ибн Сина. Он мечтал о том, чтобы создать единое, универсальное руководство по медицине, обобщавшее сведения классических предшественников — Гиппократа и Галена, научные данные восточных врачей и его личные наблюдения. Он радовался тому, что работа шла удачно, что уже много глав было переписано твердым, аккуратным почерком Абдул-Вахида.
Но спокойной творческой жизни в Джурджане все же пришел конец.
Примерно на четвертом году пребывания Абу-Али ибн Сины в Джурджане султан Махмуд Газнийский стал все больше интересоваться делами султана Манучехра. Это внимание не могло обрадовать Ибн Си-ну. Он знал, чем оно обернется по отношению к нему.
Поэтому-то так охотно отозвался Абу-Али на приглашение, присланное ему правительницей соседнего княжества Рея[43] — Сайидой, матерью правителя Рея — Маджд-уд-Давла.
Собственно говоря, приглашение Сайиды было привлекательно только тем, то она была в дружбе с султаном Махмудом, на племянницах которого были женаты ее сын и Шаме, и умела с ним прекрасно ладить. Можно было надеяться, что она сумеет заступиться и за Абу-Али, так как он ей был настоятельно нужен.
Ибн Сина знал, что Сайида женщина решительная, честолюбивая, склонная к интригам и коварству, и все же без колебаний принял ее приглашение. Он слыхал также, что отношения ее с сыном Маджд-уд-Давла были крайне напряженными. Она после смерти мужа правила страной и, когда сын дорос до совершеннолетия, не пожелала уступить ему власть. Маджд сделал попытку лишить ее правления насильственно. Но Сайида обратилась к старшему сыну своего мужа — эмиру Хамадана Шамсу, и тот с помощью курдского вождя Бедр ибн Хасанавейха вернул ей трон, а брата посадил в тюрьму. Скоро мать стала опасаться Шамс-уд-Давла, помирилась с Мадждом и, когда Шаме действительно напал на Рей, бежала вместе с сыном.
Помогло ей восстание тюркской наемной армии Шамса, из-за которого он вынужден был оставить Рей. Волнения, войны, вечная борьба с властолюбивой матерью подорвали здоровье Маджд-уд-Давла, он захворал чем-то вроде тяжелой меланхолии. Для его-то лечения и вызывала Сайида Ибн Сину.
В Рее Ибн Сину ждали великие почести. Его поселили во дворце, и сама правительница Сайида не могла дождаться момента пожаловаться ему на свои горести. Он сам помог ей завести разговор о болезни сына, и сам предложил на другой же день по приезде попробовать вылечить Маджда.
Для Абу-Али каждый больной, кем бы он ни был, тотчас делался близким ему человеком, ученый напрягал все силы своего ума, знаний и опыта, чтобы освободить его от страданий. За лечение Маджда Абу-Али взялся с обычной горячностью. Сайида, почувствовав твердую руку врача, не вмешивалась в его распоряжения. Болезнь правителя была запущенной и трудной. Здесь соединилось все — слабоволие и беспомощность, непосильное для его слабых плеч бремя правления, резкий, угнетаюший характер матери, а также общая душевная неуравновешенность.
Перед Абу-Али стояла задача не только вылечить человека, но и внушить ему уверенность в себе. Абу-Али не применял никаких особенно сильнодействующих лекарств, но старался использовать иные способы, благодетельно влияющие на психику больного, — беседы, гимнастику, ванны, диету, и шаг за шагом, последовательно и упорно боролся с заболеванием.
Сайида с удивлением смотрела, как одушевлялось лицо ее сына, как загорались его глаза. И она со своей стороны делала все, чтобы Абу-Али почувствовал себя в Рее как дома.
И здесь Ибн Сина не оставлял своих трудов. И здесь каждую свободную минуту он посвящал или «Ал-Канону», или другим книгам и трактатам, список которых все рос и рос.[44]
В Рее до Абу-Али дошли сведения о том, как в конце концов султан Махмуд расправился с Хорезмом.
Нерешительность хорезмшаха Ма’муна, на которую в свое время указывали ему Абу-Али и Ал-Бируни, привела к заговору и восстанию войск. Взбунтовавшиеся воины подожгли дворец и убили затворившегося в нем хорезмшаха Ма’муна. Правление его племянника Абул-Хариса Мухаммеда ибн Али продолжалось всего четыре месяца.
Султан Махмуд под предлогом мести за зятя пошел войной на Хорезм, захватил-его и назначил своего правителя — нового хорезмшаха Алтунгаша. Всех ученых перевезли к Газну ко двору султана, и даже Ал-Бируни вынужден был стать придворным ученым султана Махмуда.
Не успел Абу-Али узнать о хорезмийской катастрофе, как вторая новость, на этот раз непосредственно касавшаяся его, дошла до его слуха. Перепуганная Сайида сообщила, что султан Махмуд с большим отрядом войск стоит у самого Рея. Пока что он только навязывается в гости, что последует за этим — неизвестно. Во всяком случае, Ибн Сине стало ясно, что его пребывание в Рее кончилось. Он и султан Махмуд несовместимы Все это прекрасно понимала и Сайида. Она-то, очевидно, и предложила Ибн Сине искать убежища у старшего сын а ее мужа Шамс-уд-Давлы в Хамадане. Шаме давно звал Абу-Али, давно мечтал иметь при своем дворе великого ученого «шейха-ур-раиса», как стали его звать не только в среде учеников.
Из Рея Абу-Али увозил новые главы «Ал-Канона», тщательно переписанные Абдул-Вахидом, и философскую работу «Книгу возвращения».
Уезжал он с тяжелым сердцем. Положение в юго-западном Иране, многочисленными княжествами которого правили представители семейства Буидов, сыновья и родственники Фахр-уд-Давла и Сайиды, было еще более сложным, чем положение в Средней Азии. Разобщенные феодальные провинции представляли лакомую добычу и для кочевых племен и для султана Махмуда. Но мало этого, князья, вместо того чтобы объединиться перед общей опасностью, воевали друг с другом. Поэтому прямой и короткий путь от Рея до Хамадана оказался для Ибн Сины извилистым и длинным. Волею судьбы он попал на службу к мелкому князьку Кадбанувейху, затем заехал в Казвин и только после этого добрался до Хамадана.
Все эти капризы и превратности судьбы, непосредственно связанные с недругом Ибн Сины султаном Махмудом, стали уже серьезно надоедать ученому. Они выбивали его из колеи, не давали возможности продолжать исследования, не говоря уже о том, что лишали дома, учеников, отрывали от близких. Абу-Али было уже около сорока лет, но он оставался беден и бездомен, как юноша, едва начинающий жизнь. Капиталом его были только знания и слава. Но от славы он бы с радостью отказался, именно из-за нее он стал скитальцем и бродягой. Будь он безвестен, не преследовал бы его султан Махмуд, не следили бы за каждым его словом, за каждым действием муллы и имамы. В Хамадан Ибн Сина стремился именно в надежде найти спокойное место для работы.
Мы уже много знаем об Ибн Сине, знаем его жизнь почти до сорока лет, его труды, слыхали о книгах, которые им написаны, об учениках, которые собираются около него всюду, куда ни закинет его судьба, но мы еще не знаем, что, собственно говоря, представляет собой Ибн Сина как ученый и философ, в чем он новатор, в чем подражатель или продолжатель, чему обучает молодежь.
Попробуем в этом разобраться, пока Абу-Али с такими сложностями добирается до Хамадана.
Для того чтобы нам понять Ибн Сину и все его значение, надо постараться забыть множество вещей, известных нам с младших классов школы, но незнакомых в те далекие времена даже крупным ученым. Забыть, например, что Земля вращается вокруг Солнца, поверить тому, что она и только она — центр вселенной, забыть, что сердце гонит кровь по телу, о том, что существуют два круга кровообращения, поверить в демонов, овладевающих людьми и вызывающих психические припадки, забыть, что существуют кислород, водород и азот, не удивляться попыткам получить слиток золота из куска неблагородного металла с помощью таинственного «философского камня», исключить из своего обихода телефон, телеграф, радио, но поверить в приворотные корешки, в дурной глаз, в нечистую силу. Да и мало ли что нам надо было бы забыть и во что поверить, чтобы сравняться в знаниях со средним, и даже образованным человеком средневекового Востока.
Но вместе с тем не надо забывать, что образованный человек той эпохи, в которую жил Ибн Сина, был хорошо знаком с античной философией. До него дошли в переводах на арабский язык произведения Аристотеля. Пифагора, Эмпедокла, Аполлония Тианского, Платона, Плотина и других. Правда, многое дошло до него не в точных переводах, а либо в комментариях, либо в пересказах восточных философов, особенно подчеркивающих идеалистические и мистические высказывания античных мудрецов.
Запомните, однако, что это вовсе не значит, что одни лишь арабы являются проводниками знаний, и обусловлено всего лишь тем, что арабский язык был латынью Востока, им пользовались как научным языком и сирийцы, и персы, и таджики, и тюрки — словом, все народы, входящие в состав халифата.
Образованный человек не плохо знает математику — геометрию от Эвклида и алгебру от арабских и хорезмийских ученых. Это единственная точная наука, более или менее свободная от суеверия. Остальные науки, которые знает образованный человек, находятся еще только в зачатке — химия, география, физика, астрономия, геология, геодезия и другие предметы. Все его знания перемешаны с кучей неточностей, предрассудков, бездоказательных утверждений. Даже ученые люди считают метафизику заслуживающей большего доверия, чем физика, астрологию предпочитают астрономии, алхимию — химии.
В средние века в Азии, так же как и в Европе, царствовали мистицизм и вера в таинственные авторитеты. Вся жизнь была проникнута волшебствами и чудесами. Слухи о сверхъестественных явлениях распространялись с быстротой телеграфных сообщений. Никогда ни одна эпоха не была так богата предчувствиями, внутренними переживаниями, фанатизмом и фантастическими увлечениями.
Для современников Ибн Сины легендарный Гермес Трисмегист был высшим авторитетом. Они зачитывались «Теологией» Аристотеля, мистическими книгами вроде «Тайны тайн» и им подобными.
И вот когда над этой смесью знаний и предрассудков, прозрения и невежества поднимается человек смелый, прямой, убежденный и говорит на основании своего опыта, как это сделал Абу-Али, на основании своих экспериментов и исследований, что философского камня, судя по всему, нет, что демонов тоже нет, а психические заболевания зависят от физических причин, что отцы медицины Гален и Гиппократ, утверждая, будто Плеяды, Сириус, Арктур оказывают дурное влияние на здоровье, не правы, что деятельность гадателей — шарлатанство, что золота нельзя сделать из других металлов, что в грязной воде водятся мельчайшие живые существа, вредные для здоровья и разносящие болезнь, что интеллект человека сосредоточен в мозгу, а не в душе, и что даже сам аллах, если он существует, крайне ограничен в своих функциях, — неудивительно, что такой человек глубоко враждебен закостеневшим мракобесам, если же он еще и обучает всему этому молодежь, то можно его считать еретиком и опаснейшим вольнодумцем.
Неудивительно, что к такому человеку, за пятьсот лет до Декарта заявившему: «Я мыслю — следовательно, существую!»[45] — тянутся все жаждущие подлинных, подтвержденных опытом знаний, его ненавидят и преследуют ханжи и правоверные догматики. Неудивительно, что он готов скитаться и бедствовать, но не ехать к султану Махмуду в Газну.
На счету у Абу-Али уже много книг и трактатов. Если мы назовем только некоторые из них, и то видно будет, как много он поработал, как широк круг его интересов: «Книга собранного», «Книга итога и результата», «Книга благодеяния и греха», «Книга исцеления», «Книга спасения», «Книга споров», «Книга объяснения того, что обладает формой», «Трактат о судьбе и предопределении», «Трактат о буквах», «Сокращение начал геометрии Эвклида», «Пределы небесных тел», «Рассуждение о цикории», «Логика» и многие другие. Список этот еще будет увеличиваться.
Много написано им философских многотомных работ, начаты книги по географии, физике, химии, по геологии. Мы еще не касаемся крупнейшего его труда по медицине. Философские книги, которые уже написаны, как и те, что начаты, даже те, что только замыслены, все они преследуют одну цель, отражают законченные и продуманные взгляды не подражателя и комментатора, а самостоятельно мыслящего философа, по-своему глядящего на мир, создавшего свою концепцию всего сущего.
Абу-Али ибн Сина не был последовательным и законченным материалистом, и смешно было бы выдавать его за такового. Но таковых не было ни среди его предшественников, ни среди его последователей в течение еще многих и многих веков. Он был великим сыном своей эпохи и своей среды, и потому неудивительно, что оказался дуалистом, то есть философом, считавшим материю и дух двумя самостоятельными, независимыми началами. Однако материалистические тенденции столь явственно проступали в его высказываниях, что надо удивляться, как при жизни ему удалось избежать кары за еретичество.
В одной из книг он писал: «Бытие не имеет границ, оно не имеет рода… Нет вещи более распространенной, чем бытие, оно не имеет контура, потому что нет вещи более известной, чем оно… оно есть то, после чего идут все вещи».
Абу-Али считал вслед за Аристотелем, что материальный мир вечен и несотворен, что все тела природы состоят из материи. «Нет абстрактной телесной формы без материи, — говорил он, — телесная форма содержится в самой материи, и тело образуется из форм этой материи…» Материя, как предпосылка всего действительного, есть нечто первичное, не возникающее и не исчезающее.
Мир, по мнению Ибн Сины, возник не по произволу бога, а в силу непреложной необходимости. Мир так же вечен, как и абсолютное начало — бог. Причина и действие существуют одновременно. Если бог, как причина мира, вечен, то и мир, как результат его действия, вечен. Движение внутренне присуще природе, но оно может быть потенциальным и только потом проявляться.
Он смело ставил множество принципиальных философских вопросов и не менее смело решал их, оригинально, по-своему, хотя не редко и противоречиво. Эта противоречивость была естественным отражением и следствием той полной противоречий эпохи, в которой жил и творил Абу-Али. Ибн Сина был одним из первых, если не первым из средневековых ученых, отошедшим от признанных догм и по-своему, самостоятельно поставившим вопрос об отношении тела и духа. Он творчески и принципиально подошел к этой проблеме, и до него и впоследствии волновавшей бесчисленные поколения философов. Он попытался установить некую промежуточную инстанцию — нафс (цушу), которая, будучи по субстанции одинакова с духом, близка к телу и является якобы непосредственным двигателем тела. Эта непоследовательность обусловливалась самой эпохой, средой, воспитанием, учениями предшественников и многими другими факторами.
И тем не менее Ибн Сина во многом был новатором, многое из его взглядов осталось в философии и дало новые яркие ростки. Так, например, его идея о ступенчатости в развитии сил разума оказала влияние на испанского философа Хуана Уарте, а через него на Бэкона, Декарта, Спинозу и других позднейших мыслителей. Свои воззрения по этому поводу Абу-Али неоднократно излагал ученикам и впервые, как мы помним, поделился ими с юношами, учившимися у него в хорезмийские годы. Его требование логической строгости построения мысли, доказательности выдвигаемых положений, признание значения чувственных восприятий в познании были необычайно смелы для его времени и очень прогрессивны.
В «Книге исцеления», а также в «Книге знания» Абу-Али придает большое значение изучению природы, отстаивает принцип единства логического мышления и опыта, разума и эксперимента. Он только ту науку считал подлинной, в которой теория соединяется с практическим применением.
Все эти идеи, так же как и ряд высказываний о логике, оказали большое влияние на развитие философской мысли во всем мире. Ибн Сину как философа чтили не только на Востоке, но и в средневековой Европе.
Свои научные исследования и открытия Абу-Али старался изложить письменно и распространить среди ученых, неоднократно предупреждая своих учеников, чтобы они не передавали этих знаний в руки невежд и ханжей, так как те могут использовать их во вред людям.
Чтобы не подвергаться преследованиям духовенства, Ибн Сина вынужден был маскироваться, скрывать свои подлинные взгляды. В конце книги «Указания и наставления» он с горечью написал:
«О брат!
Истинно я сбил для тебя в этих указаниях масло истины и дал тебе в тонкостях изречений то из мудрых наставлений, чем угощают, оказывая почет. Храни же это от тех, кто не блюдет своей чести, от невежд и от тех, кто лишен сверкающего разума, опыта и привычки заниматься науками».
Тягостную эту борьбу сверкающего разумом и предвидением Ибн Сины с невеждами и реакционерами мы можем оценить только теперь. В те же времена мало кто понимал его, мало кто сочувствовал его научной смелости и хорошо еще, когда ценил как замечательного врача, не вдаваясь в его философские конфликты с догмами ислама.
Но все это понять и оценить мы можем только теперь, а тогда для большинства людей Абу-Али был только скиталец-врач.
Все хамаданские ученые с утра собрались в садовом павильоне дворца, напуганные известием об ухудшении здоровья повелителя. Они толпились в тесном маленьком помещении и жадно ловили каждый слух, каждую новость, доносившуюся до них из дворца Шамс-уд-Давла.
— Неужели нет никаких средств? — раздраженно и желчно обратился старый законовед к математику, словно тот должен был знать это. — Неужели нельзя спасти его?
— Спасти можно, — ответил за математика придворный философ, — но пойдут ли на это врачи?
— О каком средстве говоришь ты, почтенный?
К философу повернулись все головы.
— Я-то средства не знаю, но мне сказали, что к нам в Хамадан прибыл Абу-Али ибн Сина. Он, наверное, знает…
— Абу-Али ибн Сина?! — чуть ли не хором закричали ученые. — Как, неужели Абу-Али здесь? И за ним еще не посылали?..
— Так вам Убейдаллах и пошлет! — засмеялся поэт. — Он его пригласит в последнюю минуту, а потом заявит, что Абу-Али уморил повелителя.
— Но как же быть? Как дать знать эмиру, что Абу-Али здесь? Ведь только он может помочь ему? — волновался законовед.
А математик уже бежал ко дворцу, к покоям эмира.
Окольными путями добился он того, что ему вызвали любимого слугу повелителя. Сообщив о прибытии Ибн Сины, он настоятельно повторил несколько раз:
— Так не забудь, что я первый узнал о приезде Абу-Али и, трепеща о здоровье повелителя, да будет благословенно его имя, побежал сообщить об этом. Ты не забудешь?..
Спохватившись, побежали ко дворцу и остальные ученые, пытаясь через знакомых слуг передать весть о приезде Абу-Али эмиру или его родным, лишь бы миновать придворных медиков, стеной стоявших около постели повелителя Хамадана.
К вечеру сообщение дошло по назначению, и начались розыски ученого по всему городу.
Наконец его нашли в скромном домике местного купца.
— Достойного и мудрого врача Абу-Али ибн Сину требуют во дворец к пресветлым очам повелителя, да будет прославлено его имя вовеки! — выкрикнул посланный.
— Эти дураки, — задыхаясь, раздраженно обратился Шамс-уд-Давла к введенному к нему Абу-Али, — хотят меня уморить! — Он указал на стоящих в ногах кровати врачей. — Редко я встречал таких ослов! Пятые сутки у меня колики, а они все совещаются, и все их средства только усиливают боли. Ой, больно мне! Уберите сейчас же припарки и убирайтесь вон! — неожиданно закричал он и в изнеможении откинулся на подушки.
Эта сцена живо напомнила Абу-Али болезнь эмира Бухары Нуха ибн Мансура. Видно, все повелители были на один манер.
Врачи засуетились. Абу-Али подошел к главному медику Убейдаллаху ат-Тейми и почтительно приветствовал его. Тот церемонно поклонился и на все вопросы Абу-Али со скрытой издевкой отвечал:
— Ты мудрее и ученее нас, почтенный Абу-Али, ты сам увидишь все. Зачем тебе слушать мои глупые объяснения? — Снова поклонившись, он на мгновение припал к постели повелителя и важно удалился.
«Берегись, Абу-Али, — насмешливо подумал ученый, провожая глазами его грузную фигуру. — Не бери чаши из рук Убейдаллаха!»
За главным медиком удалились и остальные. Абу-Али остался один около стонущего к кряхтящего эмира. Он знал, что десятки глаз прильнули к замочным скважинам, десятки ушей слушают за стеной.
Не торопясь, Ибн Сина достал из принесенного с собой ящичка порошок, дал принять его правителю Хамадана. Когда тому стало несколько легче, приступил к обследованию.
Сорок дней и ночей провел Абу-Али около постели Шамс-уд-Давла. От любого другого больного можно было бы отлучиться, но не от Шамса. Как только Ибн Сина уходил хотя бы ненадолго, эмир тут же устраивал какую-нибудь пирушку и растравлял язву в кишечнике, которая только-только начала рубцеваться под влиянием режима, диеты и лекарств Ибн Сины. За пирушку эмир расплачивался новыми болями, корчами и коликами
Находясь при эмире, Абу-Али невольно присутствовал при докладах его приближенных, при решении государственных дел. Так он познакомился с положением страны и убедился, что оно совсем не блестяще, так же как и состояние эмирской казны.
В покоях Шамса Абу-Али постоянно сталкивался с государственным казначеем Тадж-ул-Мулком. Это был хитрец с ласковым лицом и нежным голосом. Делая вид, что он больше всего беспокоится и печется о делах Хамадана, Тадж не забывал себя. Хаджибы хамаданского войска ненавидели его лютой ненавистью, ходили жаловаться к Шамсу, но все равно казначей считал нужным снабжать войска деньгами только перед походами. Добрые отношения были у него с одним лишь хаджибом личной охраны эмира.
После одной из постоянно повторяющихся ссор из-за денег, недополученных войском, проходившей на глазах у повелителя, Шаме, резко отвернувшись от казначея и хаджиба, подошел к Абу-Али.
— Я плохо чувствую себя, друг мой, — сказал он, искоса поглядывая, как почтительно кланяются, уходя, его приближенные. — Эти солдаты и казначеи совсем закрутили мне голову! — воскликнул он, бросаясь на тахту. — Напои меня чем-нибудь, чтобы прошла боль. Мне надо поговорить с тобой.
— Чем же мне поить тебя, повелитель, если ты, как мне передавали, вчера ел не то, что тебе полагалось?..
Эмир поглядел на него гневными глазами.
— Мне надоели твои приказания. Я эмир и не позволю, чтобы со мной так обращались. Ты можешь командовать больными из простолюдинов, а не государями!.
— Когда меня зовут к больному, я не спрашиваю, родился ли он во дворце, или в последней лачуге. Я помогаю ему так, как велит мне моя совесть и моя наука. Только им я повинуюсь во всех случаях, — с достоинством ответил Абу-Али.
Эта благородная независимость подействовала даже на Шамса. Он задержал врача и покорно выслушал его советы.
— Придется мне тебя слушаться, — посмеиваясь, заговорил эмир — Через месяц я должен быть здоров, как самый крепкий и сильный солдат моего войска.
— Через месяц ты не будешь еще так здоров, но будешь чувствовать себя лучше и то, если будешь меня слушаться.
— А я говорю, что должен быть таким, каким был в молодости! Что ты за доктор, если не можешь вылечить своего повелителя!. Ты смотри, мои придворные, которые гораздо старше меня, куда здоровее… — Лицо Шамса стало капризным и злым.
— Я не аллах, а только врач, — сухо заметил
Абу-Али, — и я не могу в такой короткий срок восстановить то, что ты разрушал годами.
— Что за придворные у меня, — вздохнув, сказал Шаме. — Один говорит, что не может ковать деньги, другой уверяет, что не может усмирить своих воинов, третий не может вылечить меня! Зачем вы все мне тогда нужны? Видно, мне самому надо быть и казначеем, и хаджибом, и врачом!
Шаме злился
Абу-Али спокойно, размеренными движениями собирал свои инструменты и лекарства. Он знал, что у эмира за последнее время создалась привычка все рассказывать ему, и сейчас ждал, когда же он объяснит причину своего дурного настроения.
— Мне надо идти в поход! — выпалил, наконец, Шаме, глядя в упор на Абу-Али. — Ты это понимаешь?
Ученый молчал.
— Ты слыхал сегодня, как пуста моя казна? Ты слыхал, как ссорятся казначей и хаджибы? Только в походе можно добыть золото. Так вот, через месяц, не позже, я должен выехать из Хамадана. Понятно? Что же ты об этом думаешь?
— Что касается твоего здоровья, то думаю, что, соблюдая все предписания, ты сможешь руководить войском. Но мне не понятно, государь, почему ты видишь в войне единственную возможность пополнить казну?
— А откуда же иначе можно достать золото, хлеб, скот, товары и рабов? Ты же сам слышал доклад везира? Население обеднело, лето было неурожайным, сборщики податей не в силах взыскать недоимки. Да и налоги уже собраны за два года вперед.
— Вот это-то и плохо. Если хозяин, желая снять плоды, срубит яблоню, то на следующий год не будет ни яблони, ни яблок. Подати надо не увеличивать, а уменьшать, тогда в казну потечет больше дохода. Когда налег высок, его в силах уплатить только десять человек, а девяносто других разорятся и уже ничего не будут вносить. А когда он не обременителен — заплатят все сто. И с них ты возьмешь в общем гораздо больше, чем с десяти. А будут налоги легче — купцы ввезут больше товаров, ремесленники изготовят больше изделий. Тогда и война тебе не понадобится. Кроме того, надо позаботиться и об орошении земли — у вас в Хамадане на это мало обращают внимания, а от этого зависят урожаи. Да что мне-то говорить тебе, ты сам все это должен знать лучше других…
— Я боюсь, что ты-то говоришь о том, в чем мало смыслишь, — грубо прервал его Шаме. — Пока я буду вводить орошение, поощрять развитие торговли и ремесел, мои войска взбунтуются от голода, а соседи, воспользовавшись этим, захватят Хамадагг. Когда я получил в наследство свою страну, она была вся в долгах, так же как и сейчас, я никогда не мог подумать об изменении существующего положения, все доходы государства были или от войн, или от налогов. Не мне это менять… Вот и сейчас мои солдаты требуют денег и обязательно поднимут мятеж, если им не заплатить. Лучше скажи мне, удачен ли будет мой поход? Ты ведь знаешь небесную науку? Благоприятствуют ли светила моему выступлению?
— Я действительно немного разбираюсь в движениях планет, могу высчитать, когда каждая из них завершит свой круг и окажется в том или ином созвездии. Но я не верю, чтобы они были способны управлять событиями и судьбами людей на земле.
— Ну, это мне сделает мой астролог. В этом деле он, как видно, понимает больше тебя…
Шаме серьезно готовился к походу, действительно не хотел болеть, и Абу-Али мог теперь доверить его своим помощникам.
По распоряжению эмира Абу-Али предоставили небольшой хороший и удобный дом, недалеко от дворца. Едва переехав туда, ученый засел за рукопись.
Наблюдение за болезнью Шамс-уд-Давла пополнило его знания о желудочных заболеваниях. Он напряженно следил за действием различных лекарств на организм повелителя и записывал все признаки болезни, состояние сердца и пульса, характер сна, настроение больного, периодичность припадков и многое другое. Сопоставив все эти наблюдения с тем, что замечал ранее у других больных, Абу-Али решил собрать их в одно целое. Так зародилась его «Книга о коликах» — «Китаб-ул-куландж», предназначенная для врачей.
Отдыхая от работы, Абу-Али охотно бродил вечерами по Хамадану. Городок беспорядочно раскинулся у подножья гор, поэтому узкие улицы его то стремительно лезут вверх, то скатываются вниз. Редкая из них проходит прямо короткий путь от городских ворот к площади. А площадей в городе множество, на них вырыты общественные колодцы, около которых кипит жизнь. По вечерам здесь собираются окрестные жители поговорить о событиях дня, посудачить о соседях и пожаловаться на тяготы жизни. Абу-Али любил пройти по площадям медленным шагом, прислушиваясь к разговорам. Часто заходил он в старенькие мечети, где царил покой гробниц, с любопытством осматривал толстые высокие стены города, история постройки которых терялась в глубине веков. Среди камней он находил обломки еще более древних зданий или с удивлением останавливался перед мощными каменными глыбами, сохранившими барельефы с изображениями крылатых быков, луристанских колесниц, сказочных чудовищ с телами животных и лицом человека.
Привлекали ученого и работы ремесленников. В последние недели чувствовалось особое оживление в рядах кузнецов и оружейников. Всем было уже известно о предстоящем походе. Начальники отрядов и дихканы, собирающиеся принять участие в войне, покупали и заказывали оружие. До позднего вечера горели горны, слышались частые удары молотов. Мастера спешили заготовить щиты и шлемы, выковать побольше мечей и копий. Не всегда можно было так заработать! Лихорадочно работали и седельщики, вырезывая из дерева ленчики, набивая волосом кожаные подушки седел, сшивая сбрую и переметные сумы.
Эти приготовления к войне вызывали грусть и возмущение в душе Абу-Али. Гораздо радостнее было смотреть на мастерство переписчиков-каллиграфов или художников, украшавших затейливыми узорами страницы книг, на искусных ковровщиц, под быстрыми руками которых распускались яркие цветы, обрамленные причудливым орнаментом.
Правду сказать, не всегда Абу-Али после этих прогулок возвращался домой. Хамаданские знакомые наперебой зазывали к себе прославленного ученого.»
Мужественная красота Ибн Сины, которому было уже за сорок, его величественное спокойствие мудреца, вдохновенное лицо и одиночество привлекали местных красавиц. Не от одной получал он записочки и знаки внимания, которые заставляли покачивать головой скромного Абдул-Вахида.
Как-то ему попалось небрежно брошенное учителем четверостишье:
Душа, ты связана с желанием и страстью.
Спеши: мгновению обязана ты властью.
Любви не покупай, богатств, чинов не требуй.
Кто счастья не ценил, тот близится к несчастью.[46]
Абдул-Вахид, тщательно собиравший и сохранявший каждую бумажку, исписанную рукой учителя, прочел это стихотворение и почему-то покраснел.
…Приготовления эмира к походу заканчивались. Каждый день в город прибывали закупленные у кочевников верблюды, стягивались отряды гулямов из дальних гарнизонов и крепостей. Это были буйные, недисциплинированные воины. Они обирали местных жителей и торговали на городских базарах награбленным. Все ждали с нетерпением дня, когда эта свора покинет Хамадан. В свою очередь, эмир поджидал дихкан с ратниками, которых им полагалось выставлять от каждого поместья. Большинство из них сообщило, что не явятся, так как опасаются нападения соседей. Эмир слал гонцов за гонцами, но скоро убедился, что все способные носить оружие уже собраны и ждать больше некого.
Абу-Али с отвращением посматривал на разноплеменных воинов, собравшихся под знаменами хамаданского эмира. Он, так же как и все население города, ждал того дня, когда армия, наконец-то, тронется в поход. Но накануне отъезда Шамс-уд-Давла вызвал его к себе и приказал быть с ним в пути.
Ученому вовсе не хотелось отрываться от своих работ — «Книги о коликах» и одновременно начатой «Книги о сердечных лекарствах».
— Зачем я тебе? — спросил он эмира. — В военных делах я ничего не смыслю и не могу быть тебе полезным.
— Я хочу иметь с собой своего врача. Аллах знает, не станет ли мне в походе хуже. К тому же меня могут ранить.
— Но у тебя есть постоянный походный врач Убейдаллах ат-Тейми.
— Я перестал ему верить. Ты поедешь со мной.
Делать было нечего. Абу-Али собрался быстро.
Путь на Керманшах лежал через горную, труднопроходимую страну. Он то поднимался на покрытые снегами перевалы, то вился по узким ущельям, где всегда можно было ждать неприятельской засады. Люди и животные быстро теряли силы. Кони разбивали ноги об острые обломки скал. Воины большую часть пути шли пешком. Шаме, рассчитывая застать противника врасплох, вел войско кружными путями — едва проторенными горными тропами. Но его гулямы начали грабить и убивать, ка к только вышли за пределы Хамадана Тогда недовольные и обиженные жители селений бросились в Керманшах к Аназу и сообщили ему о передвижении воинов Шамса.
Правитель Керманшаха давно относился к соседу настороженно и подготовился к обороне лучше, чем Шамс-уд-Давла к наступлению.
Хитро задуманный, но Плохо организованный поход был заранее обречен на провал. Этого не видел только Шамс-уд-Давла.
После первых же дней пути и первых же стычек войска хамаданского правителя оказались без провианта и боевых припасов. Приходилось идти по голодной и пустынной области. Плодородные земли были отгорожены умело построенной полосой укрепленных селений Аназа. Это предрешило исход событий. Неудачи тяжело подействовали на правителя Хама-дана. У него снова начались боли, он свалился в маленькой грязной горной деревушке, служившей последние два дня местом расположения его ставки.
Но самая неприятная неожиданность была впереди. Не прошло и суток после первого поражения, как выяснилось, что гулямы Шамса-уд-Давла охотно сдаются в плен солдатам Аназа.
— Здесь мы хоть голодать не будем! — заявляли они, разузнав у местного населения, что последние годы в Керманшахе были очень урожайными.
Разъяренный Шамс-уд-Давла призвал к ответу своих военачальников. Старший хаджиб, человек несдержанный и грубый, в ответ на упреки Шамса заявил прямо:
— Солдат босой и с голодным брюхом не солдат. Мы предупреждали тебя, но ты больше слушал своего казначея, который считает, что чем воин голоднее, тем он злее…
Колики довели Шамса до исступления, но он не желал оставаться один — все время призывал подчиненных, требовал отчетов, объяснений, описания битв и стычек.
Абу-Али грустно глядел на эту бесполезную суету и, должно быть, яснее всех видел причины, породившие такие печальные последствия. Лишь поздно ночью, совсем изнемогши от боли и волнения, правитель Хамадана допустил к своей особе врача.
— Ты, наверное, радуешься? — скрипнув от боли зубами, спросил он у Абу-Али, принявшегося за его лечение.
Тот усмехнулся.
— У меня нет причин радоваться.
— Ну как же! Ты же убеждал меня не предпринимать похода! Грозил поражением, грозил болезнью… Твои предсказания сбылись.
— Я никогда не радуюсь чужому несчастью, повелитель. То, что я говорил, подсказывал мне мой здравый смысл. Ты же поступал по своим соображениям. Если я оказался прав, то нисколько не злорадствую по этому поводу, наоборот, готов приложить все силы к тому, чтобы помочь тебе делом и советом.
— Так что же, по-твоему, надо сейчас предпринять?
— По-моему, надо положить тебя на носилки и, пока темно, унести отсюда. Я боюсь, что ты останешься совсем без войска. Посмотри, сколько твоих гулямов, забыв свой долг, перешло к противнику. Если Аназ не сумасшедший и не трус, он на рассвете начнет наступление. Надо его опередить. Пошли также немедля небольшой отряд, чтобы проверить дорогу на Хамадан.
— Аназ не будет наступать завтра, он не успеет еще подготовиться. Кроме того, завтра мы сами должны продолжать наступление, — возразил Шаме.
— Ты спрашивал мое мнение, повелитель, я сказал его тебе. Ты ведь все равно будешь поступать так, как находишь нужным…
Эмир довольно долго лежал неподвижно, закрыв рукой впалые, окруженные синевой глаза.
Не будь он болен, Шаме и не подумал бы спрашивать совета у такого далекого от военных дел человека, как Абу-Али. Он искренне считал себя великим стратегом и воином по той простой причине, что до сих пор его походы кончались успешно.
В этот раз противник оказался гораздо более сильным и подготовленным, но Шаме не хотел считать причиной поражения недостаточную продуманность своего похода. Для него причиной неудачи была только болезнь. Будь он здоров, поход наверняка окончился бы победой. Не замечал он и того, что жители Керманшаха, сплотившиеся вокруг Аназа, отстаивали свою родную землю, свои родные дома, — это придавало им ту силу, которой не было у наемных воинов Шамса.
Никакие увещевания Абу-Али не доходили до эмира. То, что ясно было ученому, оставалось совершенно неубедительным для правителя. Для него гораздо важнее оказалось сообщение о том, что еще один его отряд переметнулся к противнику, — это решило дело. Шаме сделал вид, что болезнь его еще ухудшилась, отдал приказание военачальникам слушаться распоряжений доктора, как его собственных, и спокойно принял известие о том, что носилки приготовлены и ждут повелителя.
Покидая непокорную землю Керманшаха, Шаме не знал, как примут его, побежденного, в Хамадане. Не плохо было бы иметь человека, на которого можно свалить всю вину за неудачный поход. Среди хаджибов такого виновника найти было трудно, за ними стояла армия, которая не дала бы в обиду своего. Только не искушенный в придворных интригах ученый, не имевший еще влиятельных друзей в Хамадане, всегда мог при нужде стать костью, брошенной недовольным. С такими мыслями Шаме возвращался в свою столицу.
…Уже по дороге в Хамадан Абу-Али заметил, что Шамс-уд-Давла необычно внимателен к нему. Это было мало свойственно грубоватому и самонадеянному правителю.
Можно было подумать, что болезнь смягчила его характер и сгладила его упрямство. Но осторожный Абу-Али уже достаточно хорошо знал правителя, чтобы поверить этому.
Он не раз замечал, что его распоряжения нравятся Шамсу своей деловитостью и точностью. Хитрый правитель, даже тогда, когда ему стало значительно лучше, продолжал жаловаться на недомогания, уклонялся от решений, связанных с отступлением от Керманшаха, предоставляя заниматься этим Абу-Али и хаджибам. До сих пор Шаме искренне считал, что делает благодеяние Ибн Сине, приближая его к себе, и только многократная помощь Абу-Али, без которой правитель погиб бы, заставила его изменить мнение об их отношениях. Эмир решил, что если возвращение в Хамадан совершится благополучно и не придется Абу-Али объявлять виновником неудачного похода, то стоит его привлечь к управлению государством.
На одном из привалов Шамс-уд-Давла неожиданно для Абу-Али стал уговаривать его принять пост везира Хамадана.
— Ты видишь, государство рушится… Войско разбегается. Казна моя пуста. Помоги нашей несчастной стране и ее несчастному правителю. — Шаме хитрил и старался сыграть на доброте и доброжелательстве Абу-Али.
Пост везира совершенно не привлекал ученого, но он понимал, что Шаме гораздо более прав в своих жалобах, чем сам думает. Хамаданский народ голоден, разорен, несчастен. На чудной, плодородной земле из года в год погибал урожай. Неразумное, недальновидное хозяйничанье опустошало города. Все мало-мальски состоятельные люди старались уезжать отсюда, чтобы не быть вынужденными давать эмиру никогда не возвращаемые ссуды.
Абу-Али ясно отдавал себе отчет и в том, что ему, чужому здесь человеку, нелегко будет понять все взаимоотношения, столетиями создававшиеся между эмирами и народом. Абу-Али отказался, объяснив все свои доводы правителю. Шаме принял отказ по виду совершенно равнодушно, но в глубине души он твердо решил назначить ученого везиром.
Это прекрасно понял Абу-Али. Уезжать ему из Хамадана не хотелось, и он поставил себе задачей как следует подготовиться к своей будущей должности, если уж отказаться не удастся.
Прошло больше недели, как Абу-Али вернулся в Хамадан. Абдул-Вахид был вне себя от радости по поводу возвращения учителя.
Добродушный парень суетился, стараясь всем угодить, многое делал невпопад, но упрекнуть его или посмеяться над ним ни у кого не хватало духу. Оставшись один, он занимался перепиской глав из «Ал-Канона», и сейчас на столике в комнате ученого лежали высокие стопки бумаг, радующие глаз четкостью каллиграфического почерка.
Один за другим появлялись хамаданские друзья, ученики и знакомые Абу-Али, прослышавшие о его приезде. Ученый все еще не мог прийти в себя, все еще не мог поверить в то, что он уже дома. Многое в жизни он повидал, помнил вторжение в Бухару караханидов, стычки на улицах родного города, помнил частые казни на площадях Бухары и Ургенча, видал раненых, умирающих, но впервые во весь рост встала перед ним жестокая бессмыслица войны.
Пылающие деревни, дикая резня, стоны умирающих — все это казалось ему настолько противоречащим рассудку, настолько бесчеловечным, что Абу-Али даже во сне стал видеть потоки крови и искалеченных людей. Как никогда, остро понимал он, что война ничего не может изменить, никак не способна улучшить жизнь и ведет людей к горю и несчастью.
Шамс-уд-Давла после своего возвращения в город дня не мог прожить без Абу-Али. Ученого вызывали во дворец с утра. Шаме заставлял его присутствовать при совещаниях, встречах, разговорах с везиром, казначеем и даже принимать вместе с ним послов. Эта честь мало радовала Абу-Али, но он понимал, что Шаме знакомит его с делами.
В один из ближайших дней эмир Шаме прислал за Абу-Али особенно рано и твердо заявил ему:
— Отныне ты будешь везиром! Купцы и саррафы сказали мне, что дадут заем только в случае твоего назначения.
Чувствуя, что надо либо принимать пост, либо покидать Хамадан, Абу-Али почтительно склонился перед повелителем.
— Я готов согласиться, если ты разрешишь мне предварительно ознакомиться с делами государства.
— Разрешаю! — махнув рукой, заявил Шаме, довольный тем, что уломал, наконец, строптивого ученого.
Едва Абу-Али приступил к этому ознакомлению, как для него совершенно ясна стала картина тех хищничеств и злоупотреблений, которые совершал его предшественник. Бывший везир беззастенчиво присваивал себе значительную часть государственного дохода, умножая свое и без того крупное состояние. Родственникам и друзьям он раздавал богатые поместья. В диванах царило взяточничество и казнокрадство. Кадии решали дела в пользу тех, кто больше давал. Хаджибы, не стесняясь, пользовались деньгами, отпущенными для войска.
Только сейчас понял Абу-Али, за какое тяжелое дело он взялся.
Купцы и ремесленники Хамадана приняли назначение Абу-Али везиром как свою победу. Купеческий старейшина самолично привез во дворец деньги, обещанные правителю, и сказал Абу-Али:
— Наше купечество верит тебе. Первый раз мы даем взаймы повелителю, зная, что этот заем послужит на пользу Хамадану. Если хоть часть этого золота будет истрачена на проведение дорог, на охрану наших караванов, на устройство оросительных каналов, оно вернется к нам сторицей. Не дозволяй же ему бесплодно распыляться…
Но как только распространилась весть, что в казне получены деньги, сейчас же на них оказалось множество охотников. Первыми явились хаджибы, следом за ними прибежал векиль[47] дворца: жены и дочери повелителя требовали деньги на наряды, драгоценности, домашние расходы. Оказалось, что даже наследник правителя двенадцатилетний Сама-уд-Давла и тот наделал долгов.
Абу-Али, отказавшись выдать хотя бы динар, отправился к эмиру.
У эмира уже находились оба хаджиба, которым ученый ничего не дал. Первый из них — рябой, коротконогий перс с исполосованным шрамами лицом — отвернулся к окну, сделав вид, что не заметил прихода Абу-Али; другой — высокий стройный курд с роскошными усами, хаджиб личной охраны эмира, наоборот, нагло поглядел на нового везира и кивнул ему головой, как своему короткому знакомому. Пестрые шелковые халаты хаджибов, расшитые пояса, покрытое золотом и драгоценными камнями оружие придавали им торжественный и внушительный вид.
Едва Шамс-уд-Давла обратился к Абу-Али с вопросом о причинах задержки жалованья войску, в зал вошел Тадж-ул-Мулк.
Тадж придал своему лицу самое любезное и радостное выражение, на которое только был способен, и сладким голосом приветствовал везира.
— Я прах у твоих ног, о Абу-Али! Я готов не спать ночи, лишь бы стать твоим верным помощником…
Абу-Али передернул плечами. Его и раздражал и смешил этот пронырливый придворный, сумевший сделаться совершенно необходимым во дворце. Пока что Тадж-ул-Мулк оставался казначеем и правой рукой Шамса во всех его затеях. Ходили слухи, что он обязательно присутствовал на всех семейных советах во дворце, куда никого другого никогда не допускали. Ученый с усмешкой поглядел на его смазливое лицо не то евнуха, не то старообразного мальчика и в сотый раз спросил себя, сколько же ему лет: тридцать или шестьдесят?
— Ибн Сина, — обратился к везиру Шамс-уд-Давла, — распорядись, чтобы выдали деньги хаджибам.
— Государь, — ответил Абу-Али, видя, что Тадж-ул-Мулк поеживается, — хаджибы, должно быть, ошиблись. Судя по распискам, они требуют гораздо большую сумму, чем им причитается.
— Солдатам не плачено больше чем за год, — угрюмо заявил начальник войска. — Они вот-вот взбунтуются.
— Прости меня, хаджиб, — заметил Абу-Али, — совсем еще недавно, в месяце мухарреме, ты получил для них жалованье за полгода. Вот твоя расписка.
Хаджиб повертел в руках клочок бумаги, поглядел искоса на Тадж-ул-Мулка и, ничего не говоря, отошел в сторону.
Курд, поводя огромными глазами и покачивая своей перетянутой талией, подошел к Абу-Али.
— Ну, моей-то расписки нет, — насмешливо про тянул он, — подавай-ка деньги!
— И твоя расписка нашлась, — спокойно произнес ученый.
— Денег в этом году я не получал и расписки никакой не давал, — стоял на своем хаджиб. — Вот уж десять месяцев как мои солдаты без жалованья…
— Так вот твоя расписка годовой давности, — доставая бумагу, произнес Абу-Али. — Год назад ты получил жалованье на две тысячи двести человек. А всем известно, что в личной охране повелителя…
— Тысяча! — воскликнул, вмешиваясь в разговор, Шаме. — Всегда была и есть тысяча!
— О чем же говорить? У тебя есть чем заплатить твоим воинам.
Лицо эмира исказилось гневом.
— Как! — воскликнул он, поворачиваясь к хаджибам. — Вы осмелились жаловаться мне, когда вами все давно получено! И вы смели мне грозить бунтом! Чтобы завтра же все было роздано. Если хоть один солдат останется без жалованья, хаджибу снесут голову! Понятно?
Оба хаджиба молча вышли из зала. Начальник войска исподлобья мрачно поглядел на везира, а курд, смеясь, помахал ему на прощанье рукой.
Тадж-ул-Мулк, молча прислушивавшийся к этому разговору, дождался, когда хаджибы вышли из комнаты, и вкрадчиво заметил эмиру:
— Стоило ли тебе так гневаться, повелитель! Хаджибы, конечно, присваивают себе деньги солдат, но это всегда и везде так было. Зато ты можешь полагаться на них. Не надо вооружать их против себя. Тем более, что везир у нас — человек неопытный. Он привык обращаться с науками, а не с людьми. Ему еще надо поучиться, как поддерживать отношения с нужными тебе подданными.
— Ты покровительствуешь мошенникам хаджибам? — разъярился эмир. — Это ты выдавал им деньги не вовремя и прикрывал их штуки! — Шаме-уд-Давла кричал на казначея, не обращая внимания на присутствие Абу-Али. — Я заставлю проверить все дела! Не допущу, чтобы меня водили за нос! Хаджибы и так сожрали все государство…
Шамса едва уговорили не волноваться. Но, успокоившись, он потребовал вина и, несмотря на протесты Абу-Али, выпил два кубка подряд.
Слухи, разбегавшиеся по всему городу, рисовали Абу-Али ненавистником военных, защитником крестьян, ремесленников и купечества.
В значительной степени это было правдой и подтверждалось действиями везира. Слухи росли, и на каждую крупицу истины приходились сотни выдумок.
— Он хочет Хамадан, наш прекрасный Хамадан, превратить в гнездо черни и торгашей! — шипели во дворце. — Он околдовал повелителя… Везир так глуп, что сам отказывается от подарков и денег да и другим не позволяет брать. С таким везиром не разбогатеешь…
— Он продался купчишкам, — уверяли богатые землевладельцы. — Он собирается из Хамадана сделать базар!
— Он посягает на войско, он предает Хамадан! — вопили хаджибы, больше всего боявшиеся потерять свои выгодные и видные должности.
Купцы и ремесленники облегченно вздохнули при назначении Абу-Али, но они еще не имели достаточной силы, чтобы стать ему твердой опорой, а противники везира давно были объединены.
Хаджибы так и не выполнили приказания эмира о выдаче жалованья войскам из тех средств, которые они считали своими. Зато они подкупили нескольких сотников и десятников и научили их сеять среди солдат слухи, будто Абу-Али отказался выдавать деньги на войско, что он собирается разослать столичный гарнизон по отдаленным пограничным местечкам, а то и вовсе распустить по домам. Какие-то подозрительные муллы бродили по казармам и лагерям, внушая воинам, что Ибн Сина чернокнижник и еретик, околдовавший повелителя, что он не верит в коран и собирается жечь священные книги. Невежественные солдаты легко поддавались на эту удочку. В войсках росло недовольство.
Государственные заботы оставляли для науки только ночь. Однако «Ал-Канон» рос, все больше расширялась и естественнонаучная энциклопедия «Книга исцеления».
Абу-Али радовался тому, что работа над обещанными ученикам и почитателям книгами так успешно близится к завершению. Всякий труд, пользу которого он чувствовал, окрылял его.
До глубокой ночи сидел он за рукописью, дополняя и исправляя написанное накануне.
Сейчас он вспоминал книгу Ал-Фараби «Геммы мудростей». Не во всем он был с нею согласен, но логичная последовательность мыслей замечательного ученого всегда пленяла Абу-Али.
Он писал, и в то же время ухо его воспринимало доносящийся с улицы шум. До него все яснее доходил гул какой-то толпы и отдельные выкрики.
— Ахмад! — негромко окликнул Абу-Али, не отрываясь от работы, своего слугу. — Кажется, где-то по соседству пожар. Сходи посмотри!
Слуга, привыкший спать чутко, немедленно вскочил, вышел, но тут же вернулся.
Его круглое лицо было бледным.
— Хозяин, — сказал он дрожащим голосом, — к нам в ворота стучат какие-то солдаты… Похоже на мятеж. Я сейчас выйду к ним, а ты постарайся уйти через заднюю калитку…
Но Ибн Сина, не слушая слугу и проснувшегося Абдул-Вахида, вышел на крыльцо.
Действительно, кто-то уже ломал ворота. Через дувал бросали камни. Шум все усиливался, словно море подошло сюда, к самым дверям тихого жилища везира.
Абу-Али попробовал окликнуть ломившихся, надеясь на то, что присутствие хозяина, быть может, образумит толпу. Но голос его потонул среди рева возбужденных голосов. Ученый понял, что если кто и услышит его, то не для того, чтобы выслушать.
Он вернулся было в комнаты, чтобы успокоить своих растерявшихся домашних, но застал их за лихорадочной деятельностью. Слуга запирал сундуки с домашним скарбом, видимо считая его очень ценным. Абдул-Вахид торопливо собирал рукописи и засовывал их в мешки. Он знал, что именно это было самым дорогим для его учителя.
Абу-Али, несмотря на их уговоры, снова вышел на крыльцо. За прошедшее короткое время мятежники взломали калитку и ворвались во двор. Здесь они рассыпались по дворовым постройкам. От их пылающих смоляных факелов по стенам и деревьям плясали зловещие тени. Метавшиеся по двору люди своим мрачным обличием мало чем отличались от этих теней.
Абу-Али спокойно и прямо стоял на ступенях Приглядевшись, он разобрал, что почти все нападавшие были солдатами городского гарнизона. В толпе он заметил и нескольких мелких военачальников. Не принимая участия в прямом грабеже и взломах, они больше подзуживали и покрикивали. «Руби его, руби!» — кричали наиболее голосистые. Но во всей властной фигуре ученого, освещенной неверным пламенем факелов, было такое непоколебимое спокойствие, что толпа невольно остановилась и не смела приблизиться даже к порогу.
— Кто разрешил вам врываться в мой дом? Что вам здесь надо? — голос Абу-Али прозвучал повелительно. Резкие металлические нотки, появлявшиеся в нем, когда ученый сердился, теперь оказали свое действие. Шум мгновенно стих. — Это что — мятеж? Позвать сюда немедленно начальников этой своры!
Поведение Абу-Али, видимо, озадачило толпу и заставило ее оглянуться на своих зачинщиков. Узнав в лицо подстрекателей-сотников, Абу-Али насмешливо назвал их по имени.
— Чего же вы боитесь? Подходите, скажите, что вам надо…
— Где наше жалованье? Почему ты хочешь услать нас из города? — раздалось несколько голосов
Абу-Али попытался было ответить, но солдаты загалдели так, что голос ученого потонул в общем крике. В толпе появились неизвестно откуда взятые веревки, солдаты сгрудились, и Абу-Али был схвачен десятком рук.
Однако спокойствие и выдержка ученого спасли его. Солдат, видимо, смутил вид этого спокойного, величественного везира. Они даже не попытались его повалить, ударить или вообще проявить излишнюю грубость. Один из вожаков связал ему руки и тут же повел в тюрьму под конвоем десятка солдат.
Арест произошел так быстро и так слаженно, что причиной его могло быть только чье-то распоряжение, очевидно исходившее из дворцовых кругов.
Город спал. Абу-Али проходил по улицам, высоко подняв голову и презрительно глядя на своих конвоиров. В его ушах звучали строки из книги о философах древности: «Спокойствие — мудрость сильного».
Едва слуга и Абдул-Вахид успели вынести книги и рукописи из дома, как воины взломали запертые двери, и все имущество везира было разграблено, расхищено, разбито…
Не теряя времени, старшие хаджибы известили Тадж-ул-Мулка, что их общий замысел — убить Абу-Али и свалить вину на самоуправство солдат — провалился. Казначей помчался во дворец, приказал разбудить эмира и, подведя его к окну, указал на площадь, кишевшую возбужденными гулямами.
— Вот до чего довел их наш бедный друг Абу-Али, — с великим сокрушением сказал Тадж-ул-Мулк. — Говорил я ему, чтобы он не восстанавливал против себя этих бунтарей. А сейчас или они его убьют, или тебе, о повелитель, придется казнить его. Иначе как бы не повернулось недовольство воинов против твоего дворца… Как мне жаль этого несчастного ученого!..
До смерти перепуганный эмир Шаме готов был пойти на что угодно, но в этот момент в опочивальню вбежал векиль дворца.
— Новая беда, о повелитель! — воскликнул он. — Вторая толпа собралась на базаре и движется сюда. Ко дворцу идут купцы, ремесленники и хаммалы Они прослышали, что жизнь везира в опасности, и собираются его выручать…
Этой новости эмир вовсе не ожидал. Не ожидал ее и Тадж-ул-Мулк. Поняв, что в дело ввязалась большая сила и возникла угроза резни, от которой может пошатнуться трон, хитрый казначей на мгновение растерялся. С большим трудом нашел он выход из положения. Он посоветовал эмиру пообещать хаджибам не допускать ученого к власти и пока что держать в тюрьме, народ же постараться убедить, что тюрьма в настоящее время самое надежное убежище для ученого.
Эмиру на оставалось ничего другого, как послушаться совета Тадж-ул-Мулка. С этим решением повелителя пришлось примириться и горожанам, вставшим на защиту своего везира.
Абу-Али так и не узнал никогда, чего стоило богатым и влиятельным друзьям его освобождение.
Все полтора месяца, что он провел в тюрьме, они пытались добиться для него свободы любым путем— подкупом тюремщиков, подготовкой побега или просьбами, обращенными к повелителю.
Совершенным бедняком вышел Абу-Али из тюрьмы. Поздним вечером он скромно постучался у дверей одного из своих хамаданских знакомых — Абу-Сада ибн Дахдука.
— Пустишь ли ты меня в свой дом? Скроешь ли бедняка, потерявшего все? — тихо спросил Абу-Али у хозяина.
Тот вместо ответа раскрыл объятия.
Престарелый шейх Абу-Сад вел свое происхождение от Хусейна, сына четвертого халифа Али, и считался духовным главою местных шиитов К Совершая в течение многих лет постоянные паломничества в Кербелу,[48] к могиле своего пращура, он завел там обширные торговые связи и составил себе крупное состояние. Последнее время он жил на покое, окруженный учениками и почитателями. Ибн Сина, которого он принял не только по рекомендации почтенных и богатых местных купцов, но и из личного к нему уважения, мог чувствовать себя здесь в полной безопасности. Даже сам эмир никогда не рискнул бы нарушить неприкосновенность дома Абу-Сада из опасения вызвать восстание всего шиитского населения страны.
О том, где находится Абу-Али, не знал никто, кроме Абдул-Вахида и преданного слуги. Жил ученый в саду, в большой, увитой виноградом беседке» и целые дни писал. Он начал книгу о восточной мудрости, но одновременно с ней написал несколько трактатов, которые Абдул-Вахид уносил для переписки в жалкий окраинный домик, где он проживал в ожидании изменения судьбы своего учителя.
— О, как я понимаю теперь суфиев и их последователей! — шутя говорил Абу-Али своему верному ученику. — Я и сам, пожалуй, готов стать проповедником нищенства! Не иметь ничего — значит стряхнуть с себя все обязанности. Может быть, действительно в этом и кроются корни счастья? Никогда у меня не было более спокойной жизни, чем сейчас и тогда, когда я жил в Джурджане бедняком… Никогда я не мог так плодотворно работать. Никогда мне в голову не приходили такие простые и такие нужные мысли! Смотри, рукописи мои растут, — Абу-Али жестом показал на груду исписанной бумаги. — Я заканчиваю уже третий трактат, он будет называться «Расследование спорных положений». Разобрав несколько случаев, когда хамаданские факихи вынесли неправильные решения, я попробовал вспомнить свои занятия законоведением и думаю, пришел к более справедливым выводам… А в свободное время, знаешь ли ты, друг мой, чем я занимаюсь?
Абдул-Вахид вопросительно поглядел на учителя. Тот достал с полки странный инструмент, формой своей напоминающий разрезанную пополам тыкву с очень длинным стеблем. Вдоль инструмента были натянуты три струны.
— Вот над чем я бился. Мне хочется назвать его гиджак, — улыбаясь, сказал Абу-Али и протянул инструмент ученику.
Тот осторожно взял его и почувствовал, что корпус еле заметно дрожит в руках от каждого сказанного поблизости от него слова — так легко и отзывчиво оказалось дерево, из которого он был выдолблен. Сам инструмент, казалось, готов запеть от легчайшего прикосновения пальцев. Возвращая его, Абдул-Вахид просительно поглядел на учителя. Абу-Али понял его и еще раз улыбнулся мимолетной ласковой усмешкой, которая одинаково относилась и к ученику и к своему новому созданию.
— Я никогда не думал, — почтительно заметил Абдул-Вахид, пока учитель доставал смычок, — что и нож и дерево покоряются тебе так же, как покоряется всякое знание.
Тихий вечер спускался над Хамаданом. Посинело небо. Выше поднялись розовые закатные облака. Темными стали купы деревьев. К ночлегу понеслись легкие птичьи стаи. Тихо-тихо, словно ветер, пролетевший по вершинам деревьев, запел в руках Абу-Али гиджак.
Абдул-Вахид, присевший на ступеньках беседки у ног Абу-Али, видел, наверное, почти то же, о чем думал, играя, его учитель — широкие просторы родных степей, синие дали неба, далекую юность и какую-нибудь Мариам или Ширин, протягивающую тонкие, нежные руки…
Долго играл Абу-Али, пока луна не поднялась, посеребрив вершины деревьев, пока из дому не пришел хозяин звать к ужину. Тогда только поднял голову Абдул-Вахид и едва слышно прошептал:
— Этим можно лечить душу и исцелять всякое горе, учитель!..
А через какой-нибудь час, за вечерней трапезой, хозяин дома сказал:
— Тебя, о достопочтенный Абу-Али, разыскивают по всему городу: Шамс-уд-Давла жаждет тебя видеть. Он опять болен, и без тебя никто не может ему помочь. Меня расспрашивали сегодня, не знаю ли я, где тебя можно найти.
Абу-Али помолчал несколько минут. В душе его боролись чувство долга врача и обида на Шамса, который не сделал ни единого шага к тому, чтобы предупредить или подавить заговор мятежников, или по крайней мере позаботиться о немедленном освобождении своего везира из тюрьмы. Эмир, видимо, относился к Ибн Сине, как к любому другому своему придворному.
Быть может, других он даже предпочитал, так как лучше понимал их нескрываемую корысть, останавливаясь в недоумении перед бескорыстностью и человеколюбием ученого, за которыми всегда можно было подозревать молчаливое осуждение правителя. И вот этот человек, недавно предавший его, сейчас, ища спасения от недугов, снова жаждет видеть его.
Абу-Али поднял склоненную голову. Долг врача, как всегда, победил.
— Если повелитель болен, я обязан быть у его постели, — решительно сказал он. — Завтра я сам пойду во дворец. Сегодня моя последняя свободная ночь. И я в твоем распоряжении, друг, — поклонился он хозяину.
Возвращение Абу-Али во дворец было встречено так, словно бы ничего не случилось. Больной эмир ворчал, ныл, жаловался, как обычно, на всех окружающих, а после своего выздоровления опять навязал Абу-Али пост везира и как ни в чем не бывало уверял его в своем особом расположении. Истинная причина этого расположения заключалась, пожалуй, в том, что купечество, доказавшее свое доверие ученому и поддержавшее его во время опалы, снова пообещало эмиру заем в случае восстановления Ибн Сины на посту везира. Абу-Али не мог забыть, что своим освобождением он обязан купцам. Делать было нечего, — чтобы отплатить за услугу, пришлось принять эту хлопотливую должность.
Но теперь в его душе не было той горячности, с которой он раньше занимался делами государства. Он убедился, что здесь, в Хамадане, все его усилия, направленные на улучшение жизни народа, встретят постоянное сопротивление придворных. Знатные тупицы никогда не задумаются над тем, как вывести страну из тяжелого полуголодного существования. Абу-Али одному не пробить стены косности и непонимания. К тому же трудно забыть обиду, нанесенную ему правителем.
Дни Абу-Али проводил за работой во дворце или в диване. Но по вечерам к нему сходились гости. Он любил собирать у себя местных ученых и молодежь. Все это были люди, которые хотя бы отчасти понимали его. Многие из молодых людей Хамадана слушали его лекции в глухие ночные часы — единственно свободное время ученого.
Иные гости приходили в дорогих одеждах, другие в скромных затрепанных халатах — хозяин одинаково радушно встречал как тех, так и других. За его столом хватало места и для старого философа и для юного талиба[49] медресе.
Но ночные часы были так быстротечны в сравнении с суетливым днем! Как ни был мил воздух собраний, посвященных науке, искусствам, государство властно требовало внимания. Своих забот ни на кого не переложишь, ответственности везира с себя не сбросишь. Приходилось возвращаться к постылым обязанностям первого сановника страны.
Казна опять была пуста. За время отсутствия Абу-Али никто не побеспокоился об ее пополнении, хотя это и было прямой обязанностью Тадж-ул-Мулка. Власти забросили начатые было оросительные работы. В Хамадане повторился недород.
Присмиревшие после возвращения Абу-Али на пост везира военачальники снова начали поднимать голову и уговаривать эмира собраться в поход, соблазняя его недалеким и богатым Таримом.
— Я знаю, что ты против войны, — не глядя ученому в глаза и криво усмехаясь, сказал как-то Шаме. — Я не собираюсь советоваться с тобой об этом. Я пойду в поход, взяв с собою Убейдаллаха ат-Тейми, а га останешься здесь. Я хочу быть уверенным в том, что страна моя в верных руках.
Голос эмира задрожал, и Абу-Али услышал в нем подлинное, непритворное волнение. Он всмотрелся в лицо Шамса. Оно было болезненным, бледным, одутловатым.
«Ему уже, кажется, недолго ходить в походы, и, вероятно, он чувствует это», — подумал ученый, а вслух произнес:
— Ты совсем не думаешь о своем здоровье, повелитель, между тем годы идут, и ты не становишься здоровее.
Эмир Шаме махнул рукой.
— Мне надоело голодать и пить твои микстуры. Удачный поход вылечит меня лучше, чем все врачи… Я хочу, — немного помолчав, начал он снова, — чтобы ты приглядел здесь за Тадж-ул-Мулком. Иногда мне приходит в голову, что он не прочь был бы передать трон моему сыну, не дожидаясь времени, назначенного аллахом. Уж слишком он очаровал мальчика и вошел к нему в доверие. Такие вещи бесцельно не делают. Сама привязан к тебе, поговори с ним… Может быть, он перестанет слушаться Таджа…
— Я давно предупреждал тебя об этом, повелитель. Боюсь, не поздно ли сейчас…
— Я знаю, — ответил Шаме, виновато поглядывая на Абу-Али. — Я знаю, ты всегда бываешь прав. Зря я не слушался тебя раньше, когда я был сильнее и страна моя тоже была сильнее и богаче… Вернувшись из похода, я буду править по-другому…
Это был один из последних разговоров Ибн Сины с эмиром.
Уже через несколько дней Шаме объявил о выступлении в поход.
На равнине под стенами Хамадана выстроилось войско, готовое в путь. Звуки барабанов и карнаев[50] оглашали огромную площадь, занятую отрядами эмира. Плясали на месте застоявшиеся кони, сдерживаемые тугими поводьями. Солнце играло на медных и стальных шлемах, щитах и конской сбруе. По дороге, уходившей на юго-запад, тянулась нескончаемая вереница обозных верблюдов, посланных вперед, чтобы не задерживать движения войска.
Из городских ворот выехал отряд всадников. Это был Шаме, его приближенные, хаджибы и телохранители Эмир сидел довольно прямо на своем жеребце, но невдалеке стояла крытая повозка, куда повелитель должен был пересесть в пути. Его пышный тюрбан, алый бархатный чапан, меч и сбруя коня сверкали бесчисленными драгоценностями, так же как и одежда его свиты. Все это придавало походу вид увеселительной прогулки. Сзади эмира, поднятое лихим наездником, развевалось яркое шелковое знамя, шитое золотом.
Эмир дал повод коню, и тот легко вынес его вперед. Оглушительно завыли карнаи Гарцуя перед неподвижно стоящими войсками, Шаме выхватил свой меч и трижды взмахнул им в воздухе Хаджибы отдали команду, повторенную сотниками, десятниками, и войско двинулось.
Мимо Абу-Али промчались командиры. Один из них, сверкнув зубами и белками глаз, помахал ему рукой. Ученый узнал хаджиба личной охраны эмира.
Везир провожал Шамса до первого села. При прощании эмир не напомнил ему о своей просьбе, но так поглядел на него, что Абу-Али понял все без слов. Глаза Шамса выражали тревогу.
Абу-Али почтительно поклонился, прижимая руку к груди. Эмир несколько повеселел.
— Я верю тебе, — шепнул он, выходя из палатки, где происходило прощание.
Не прошло и десяти дней, как тело Шамс-уд-Давла — раздутый, полуразложившийся труп того, кто почти двадцать пять лет правил Хамаданом, — солдаты на руках принесли в столицу.
Похоронный поезд сопровождали войска, самовольно прервавшие поход и устремившиеся назад, присягать новому повелителю, маленькому сыну Шамса — Сама-уд-Давла.
Похороны и присяга были как бы личным торжеством Тадж-ул-Мулка. Все эти дни он вел себя так важно и многозначительно, словно присягали ему, а не наследнику эмира. Он не скупился на самые доброжелательные улыбки и обещания. Он даже похлопал по плечу Абу-Али и уверил его, что они прекрасно будут работать вместе. Не зря Тадж-ул-Мулк столько лет обвораживал женское население дворца. Вдова Шамс-уд-Давла безоговорочно передала юного правителя заботам Тадж-ул-Мулка. Бывший казначей стал самым важным лицом в государстве.
Абу-Али не стал дожидаться, когда хитрый царедворец начнет отказываться от своих обещаний, и постарался, не принося присяги, скрыться из дворца. Оставаться дома было слишком рискованно, а уезжать пока что было еще некуда, к тому же он надеялся, что в Хамадан приедут приглашенные им родные.
Старый друг, купеческий старшина, помог Абу-Али скрыться. В скромном жилище торговца благовониями Ал-Аттара ученый на какое-то время почувствовал себя в такой же безопасности, как тогда в доме Абу-Сада ибн Дахдука.
Один из друзей, тайно посещавший Абу-Али, передавал ему пожелания купечества и ремесленного сословия Хамадана видеть именно его везиром и руководителем молодого правителя.
— Я хочу уйти от государственных дел, — твердо ответил Абу-Али, — мое дело — наука. В ней я силен, а придворные происки мне чужды, я не умею и не хочу в них разбираться. Все мои мысли только о том, чтобы дождаться родных и уехать с ними куда-нибудь в тихое далекое место.
— Придется тебе бежать, — решил купеческий старшина. — Пока что напиши правителю Исфагана Ала-уд-Давла. Он покровительствует ученым, в его дворце ты найдешь себе тихое пристанище. Дай мне письмо, я его отошлю с верным человеком…
Абу-Али, не раздумывая долго, поступил так, как советовал друг. Когда он написал письмо, ему показалось, что он сделал самый решительный шаг, на который только был способен. Успокоившись на этом, Абу-Али сел за работу.
В доме Ал-Аттара у него не было ничего, даже листа своей бумаги, не говоря уже о книгах или записках. Хозяин принес ему пачку толстой самаркандской бумаги и несколько тростинок — больше Абу-Али ни в чем не нуждался. Он сел за работу. Большим подспорьем была его замечательная память. Каждая книга, которую он однажды прочитал, отпечатывалась в ней навсегда. Даже в книгах, только просмотренных им, Ибн Сина умел находить основную мысль автора и запоминать ее. Ему не нужны были ни выписки, ни справки, он помнил не только основную суть произведения, но и многие отдельные выражения.
Живя в чужом доме, неуверенный даже в завтрашнем дне, он целиком отдавался работе. «Труд для меня жизнь, — повторял Абу-Али, — все остальное только существование!»,
В доме Ал-Аттара были написаны им самые большие разделы давно задуманной философской и естественнонаучной энциклопедии — «Китаб-аш-шифа» — «Книги исцеления». Один из разделов посвящен был теологии, другой — естествознанию. В нем Ибн Сина решительно расправился с псевдонауками. Здесь же он изложил свои геологические воззрения и коснулся многих явлений природы.
Излагая свое мнение об изменении рельефа Земли, то есть занимаясь той дисциплиной, которая нынче входит в состав геологии, он писал: «Могла существовать двоякая причина образования гор. Они произошли либо от поднятия земной коры, которое могло быть следствием сильного землетрясения, либо от действия вод, которые, пролагая себе новый путь, оставляли долины и просачивались сквозь слои, представлявшие разные степени плотности, иногда очень мягкие, иногда очень твердые. Ветры и воды разлагали одни из этих слоев, а другие оставляли неприкосновенными». Такие воззрения сделали бы честь и более близкому к нашим дням ученому
Но особенно серьезно отнесся Ибн Сина к разделу «Этика», помещенному им в специальной философской части будущей книги. Здесь он подробно высказал свои политические взгляды, которых пока что только мельком касался в некоторых трактатах. Очевидно, на его общественную программу повлияли, с одной стороны, тягостные впечатления от общения с сильными мира сего, тяжелые социальные бедствия, свидетелем которых ему доводилось быть, а с другой стороны, юношеские воспоминания о сравнительно целеустремленном мировоззрении карматов.
То, о чем говорил Ибн Сина в своей «Этике», было, конечно, утопией, но он твердо верил в возможность создания государства на этих принципах. Излагая их, Абу-Али незаметно для себя оставался в кругу взглядов, порожденных феодальным строем, при котором он жил. Это сказалось, к примеру, в том, что он признавал разумным и необходимым разделить общество на три основные части — руководящие, или управляющие, граждане, работники и воины. В этом обществе допускалось, правда в очень ограниченных размерах, рабство. В идеальном государстве, по мнению Ибн Сины, должен царить строгий порядок и дисциплина в соответствии с иерархией, установленной внутри каждой из трех частей.
Но когда Ибн-Сине удавалось освободиться от влияния ограничивающей его действительности, высказывания его становились более смелыми, передовыми и самобытными. Он считал, что в государстве не должно быть ни одного человека, не занятого работой или полезной для общества деятельностью, ни одного, кто не занимал бы назначенного для него места Он требовал самых суровых кар против лентяев, бездельников. Он говорил также о том, что общество должно обеспечивать нетрудоспособных, больных, калек, и решительно осуждал бытовавшее в его время мнение, что такие люди являются обузой и должны уничтожаться.
Ученый приветствовал рост народонаселения, а основу общества видел в прочной, хорошей семье, с большим количеством детей.
Что касается той части общества, из которой выдвигаются правители, то к ней Абу-Али относился без особенного уважения. Он снова повторял свою мысль, высказывавшуюся им еще в Джурджане, о праве народа на восстание против несправедливого правителя и о праве его переизбрания.
В принципы Ибн Сины входило покровительство торговле и ремеслам.
Не раз во время работы над этой частью книги Абу-Али ловил себя на мысли о том, что ведь он, пожалуй, в недолгую бытность свою везиром пытался воплотить в жизнь кое-какие свои принципы, и, усмехаясь, подводил итоги того, к чему это его привело.
В то время когда Абу-Али так плодотворно работал, скрываясь в доме Аттара, до Хамадана добрался, наконец, его младший брат Махмуд ибн Сина. Долгий и тяжелый путь проделал он, пробираясь с купеческим караваном по взволнованной, беспокойной Азии. Он приехал повидаться с братом и разведать» нельзя ли перебраться из Хорезма в более спокойный Хамадан.
Уже в дороге Махмуд ибн Сина услыхал от встречных купцов о событиях в столице. Они сообщи ли ему, что везир отказался от своего поста и исчез из города. Маххмуд не верил в то, что Абу-Али мог уехать, не оставив ему никакой весточки. Но новости заставили Махмуда быть крайне осторожным. Он остановился в средней руки караван-сарае и назвался чужим именем. Не торопясь, исподволь, он старался узнать, где брат и что с ним, пока в конце концов не разыскал купца, который знал о предстоящем прибытии брата Абу-Али.
…Поздней ночью Махмуд ибн Сина пробирался за слугою купца по узким извилистым улицам Хамадана. Луна уже зашла, город был погружен в густой мрак. Казалось, что они идут по бесконечному подземному лабиринту, и Махмуд удивлялся тому, как его провожатый находит без фонаря те переулки, куда надо было сворачивать. Наконец слуга тихо постучал в какую-то калитку, она немедленно открылась, и пришедших провели в дом.
Братья, не видевшиеся почти десять лет — со времени отъезда Хусейна из Ургенча, бросились друг другу в объятия и от волнения долго не могли произнести ни слова. Первым пришел в себя старший. Он усадил Махмуда и пристально оглядывал его, не узнавая в постаревшем, утратившем былую живость сорокалетием человеке того Махмуда, каким помнил его ранее. Тут ему пришло в голову, что и сам он, наверное, сильно изменился. На лице его появилась горькая усмешка.
Всю ночь проговорили братья, вспоминая прошлое, обсуждая будущее, и расстались лишь на рассвете, когда Махмуду пора было незаметно покинуть дом. Между ними было решено, что, как только Абу-Али получит ответ из Исфагана, они вместе отправятся туда.
Осуществить принятое решение помешал братьям все тот же Тадж-ул-Мулк. Одно из писем Ала-уд-Давла к ученому попало ему в руки. В ту же ночь солдаты правителя ворвались в дом Ал-Аттара и захватили там Ибн Сину.
На высокой обрывистой скале несколько столетий тому назад построили хамаданцы крепость Фардджан для защиты подступов к столице. Толстые высокие стены с бойницами, тяжелые подъемные ворота на ржавых скрипучих цепях, служившие одновременно и мостом, и несколько построек внутри этих стен — казарма для немногочисленного гарнизона, дом коменданта и тюрьма, где много лет томился старый помешанный человек, преступление которого давным-давно было забыто.
Вот что должно было стать домом для Абу-Али.
Едва ученый очутился в предоставленном ему помещении, в уме его начали складываться горькие строки:
Вхождение мое в эту крепость явно, как ты сам видишь,
Но совершенно сомнительно дело моего выхода из нее[51]
Это дело действительно было совершенно сомнительно, если судить по тому несчастному, который многие десятилетия оставался здесь, потеряв не только молодость и память, но и рассудок. Кто знает, не суждена ли такая же участь и Ибн Сине?
Но ученый не позволял себе долго задумываться над этим. Он писал целый день, поднимаясь с рассветом, и только к вечеру, когда спускалась прохлада, выходил на крепостную стену. Тихо водя смычком по струнам гиджака, задумчиво глядел Абу-Али на синевшие горы, на белую шапку Эльвенда.[52]
Постепенно сгущались тени, чернее становились леса на горных склонах, на небе одна за другой зажигались звезды, напоминая узнику те далекие дни, когда они с Натили поднимались по ветхим ступеням минарета бухарской мечети. Многое изменилось с тех пор! Сколько людей ушло из жизни!..
Комендант крепости — старый спокойный человек, много испытавший в жизни, полагая, что Абу-Али пытается по звездам определить день своего освобождения, говорил ему:
— Не искушай судьбу, сын мой! Судьба сама найдет тебя, и ты от нее не уйдешь… Разве могут звезды сказать тебе о будущем? Пытать судьбу у звезд — забава богатых, это заработок базарных астрологов!
— Нет, отец, — улыбается Абу-Али, — я говорю со звездами не о будущем, а о прошлом.
— Прошлое тоже когда-то было будущим, как будущее в свое время станет прошлым. И хотя звезды видели прошлое и увидят будущее, они все равно ничего не расскажут. Им мало дела до нас!
Комендант был простым, неграмотным воином, но в разговорах с ним Абу-Али сам обретал го спокойствие, которым веяло от старика. Большой, грузный, заросший густой негой щетиной, он напоминал добродушного медведя, и только серьезные и вдумчивые глаза говорили о том, что под этой странной наружностью живет большая душа.
Старик был бесхитростен и словоохотлив. Он страдал бессонницей и радовался, что есть человек, с которым можно за разговорами провести хотя бы часть ночи. Так познакомился Абу-Али с жизнью этого простого солдата, выходца из бедной горной деревушки, участника множества походов Шамса и его отца.
Все виденное и пережитое им старик рассказывал с такими точными подробностями, что Абу-Али хотелось дословно записать все его рассказы, но, пораздумав, он отобрал лишь главное.
Так в его уме постепенно сложилась философская повесть «О Хайе, сыне Якзана» — «Живом сыне Бодрствующего».
Яркий, талантливый поэт, Абу-Али впервые решил выступить с прозаическим произведением не как ученый, а как художник слова, как писатель.
Повесть «О Хайе, сыне Якзана» написана, как и большинство небольших трактатов, в форме послания — рисалэ. В ней Абу-Али рассказал о зарождении и росте души простого, близкого к природе человека, с помощью своего ума и добрых чувств сумевшего познать сущность окружающего его мира. Душа Хайя странствует в пространстве повсюду — от низменных мест ада до вершин эмпирея. Это повесть не о внешних проявлениях жизни — это рассказ о внутренней жизни человека. Тонко, завуалированно и вместе с тем достаточно ясно высказал Абу-Али в этом произведении свои мысли и чувства. В книге есть благородная простота природы, величие спокойной жизни, приподнятой над бытовой суетой, усталость от тяжелых забот и неурядиц повседневной борьбы, ненависть к нравам и установлениям феодального общества, а также достаточно явственная критика догм ислама.
Работа над повестью скрашивала однообразие существования узника. Благодаря ей и общению со стариком-комендантом заточение не превратилось в пытку. Впервые Абу-Али ибн Сина был всецело предоставлен своим мыслям и имел возможность отвлечься от всего «житейского». Никому он не был доступен, ни о чьих делах не печалился.
Впервые без помех Ибн Сина мог ощутить все величие вселенной и все ничтожество корыстной, мелкой жизни, которой жили окружающие его люди. Строки книги полны мудрых раздумий, близких каждому, кто может хоть ненадолго приподняться над бытовой суетней.
Книгой этой в будущем будут зачитываться многие поколения. Высокое мастерство Ибн Сины, освещение больших кардинальных философских вопросов дали повести силу не только на много столетий пережить своего создателя, но и отразиться в книгах более поздних авторов.
До наших дней дошел роман Ибн Туфейля «Хай, сын Якзана», в основной своей мысли повторяющий повесть Ибн Сины.
«Божественная комедия» Данте тоже в какой-то степени испытала влияние произведения Абу-Али.
В построении своем она повторяет его художественную манеру. Как старик Хай сопровождает Ибн Сину в его странствиях по вселенной и показывает ему великое и малое, так же Виргилий идет рядом с Данте по кругам ада, чистилища, рая.
День за днем проходили месяцы, и ни один звук внешнего мира не доходил до Абу-Али. Но нет покоя в маленьких феодальных владениях, затерянных среди земель могущественных соседей, и нет прочности в тронах их правителей!
Как-то утром комендант сообщил ученому, что, очевидно, где-то поблизости начиналась война: хамаданские солдаты сегодня ночью разбили лагерь под стенами крепости, а на рассвете двинулись дальше, в сторону Исфагана. Абу-Али понял, что это первая весть о близкой свободе.
Предчувствие его было правильным. Не прошло и недели, как крепость Фардджан, где Ибн Сина доживал четвертый месяц, оказалась приютом самых знатных людей Хамадана. Исфаганский правитель Ала-уд-Давла, тот самый, с которым переписывался Абу-Али, в несколько дней выиграв войну, вошел в Хамадан, а бежавший оттуда Сама-уд-Давла и его опекун Тадж-ул-Мулк с придворными укрылись в крепости.
Правители страны и заключенный ими в тюрьму узник оказались в равном положении.
Тадж-ул-Мулк сразу же сообразил, что хорошее отношение исфаганского эмира Ала-уд-Давла к Абу-Али может помочь побежденному правителю Хамадана в предстоящих переговорах с победителем.
— Я надеюсь, достопочтенный Абу-Али, что к тебе относились с полагающимся почтением? Надеюсь, что ты не нуждался здесь ни в чем? — обратился Тадж-ул-Мулк к ученому, сияя одной из своих обворожительнейших улыбок. — Мы хотели найти тебе убежище, где никто не мог бы тебя тронуть пальцем. Мне так памятно нападение на твой дом взбунтовавшейся черни!
Бывший казначей прошел в свое помещение, не дожидаясь ответа ученого, но Абу-Али понял, что с этих пор должен считать свое пребывание в крепости не заключением, а заботой о сохранении его жизни, проявленной повелителем.
Делать было нечего, приходилось терпеть ту паутину коварства, которую неустанно плел лукавый Тадж-ул-Мулк, тем более что Абу-Али не в силах был в чем-нибудь помешать ему.
Во время мирных переговоров Абу-Али виделся с повелителем Исфагана только во дворце, в присутствии множества людей. Тадж-ул-Мулк сделал все, чтобы не допустить их встречи с глазу на глаз. Однако знаки уважения, проявленные победителем по отношению к ученому, показали всю бесполезность ухищрений бывшего казначея.
Через доверенного человека исфаганский эмир передал Абу-Али несколько приветственных слов и просьбу подождать его возвращения из похода на соседние владения, когда он сможет, наконец, с честью принять у себя дорогого гостя.
Благоволение Ала-уд-Давла к ученому было отмечено в придворном мире Хамадана.
Из заключения Абу-Али привез не только повесть «О Хайе, сыне Якзана». Он почти дописал весь «Канон врачебной науки», который разрастался в очень большую работу, едва укладывавшуюся в пять книг, затем окончил «Книгу исцеления» и трактат «О правильном пути».
Преданный Абдул-Вахид и остальные ученики Абу-Али, с нетерпением ожидавшие его возвращения, немедленно взялись за переписку его трудов.
Тадж-ул-Мулк предложил Абу-Али снова занять тот же дом, из которого год назад его первый раз уводили в тюрьму наемники правителя. Дом с тех пор стоял необитаемым, а ученый продолжал жить у друзей, не торопясь возвращаться назад к разграбленному очагу. Но в чужом жилище работалось не так плодотворно, как к этому привык Ибн Сина. Абдул-Вахид замечал это и давно хотел привести в Порядок дом, полученный Ибн Синой, да все не мог подобрать себе подходящих помощников.
Когда Абдул-Вахид впервые вошел в это полуразрушенное строение, когда-то полное жизни, труда и книг, вид его надорвал ему сердце. Он был потрясен этими руинами. Солдаты правителя, не то под влиянием вина, запасы которого они нашли в подвалах, не то руководимые чьей-то злой волей, свирепо разгромили дом. Мало того, что все бывшее на виду оказалось либо расхищенным, либо уничтоженным, но даже стены во многих местах были разломаны, полы подняты, потолки закопчены. Видно было, что тут искали каких-то сокровищ. Не находя их в одном месте, продолжали поиски в другом. В сознании этих жалких бродяг твердо угнездилась мысль, что везир должен быть богачом.
«Как прав учитель, когда он говорит, что миром сейчас правят тирания, хищения и кровь, — подумал Абдул-Вахид грустно. — Что другое могло толкнуть людей на такой разгром имущества честного и благородного ученого, никогда и никому не сделавшего зла!»
Добрые друзья Абу-Али, его брат Махмуд, оставшийся жить в Хамадане, и ученики пришли на помощь и общими усилиями восстановили дом.
Абдул-Вахид радовался каждой отделанной комнате, каждому «повешенному ковру. Все дальше уходило то гнетущее чувство, которое он испытал, когда впервые переступил порог разграбленного жилища.
Но самым хорошим был день, когда, наконец, внесли в дом те мешки с книгами и рукописями ученого, которые в свое время так торопливо набивали Абдул-Вахид со слугами, спасая труды Ибн Сины от мятежников.
Трое носильщиков, сопровождавших слугу Ибн Сины, осторожно опустили на пол свою ношу и приостановились, стирая крупные капли пота с изнуренных лиц.
Слуга, сняв пояс и вытащив из него кошелек, отсчитывал в углу мелкие медные монеты, раскладывая их на три стопки. Абдул-Вахид и младший из учеников, Бахманьяр, развязывали мешки, высыпая их содержимое прямо на ковер.
— Подумай-ка, книги! — воскликнул один из носильщиков. — А я-то думал, что за тяжесть, вроде бы камни, а тронешь рукой — шелестят. Это, наверное, все кораны… Твой хозяин имам, что ли? — обратился он к слуге.
— Угу… — неопределенно промычал тот, продолжая свои подсчеты.
— Да, — заметил другой, — имамам не плохо живется. Правду говорят люди, у них ковры густые, а животы тугие…
Легкий небольшой свиток свалился с груды книг и бумаг, когда ученики вытрясли последний мешок, и подкатился к ногам старого носильщика, который все еще никак не мог отдышаться и тяжело, хрипло кашлял. Трясущимися руками поднял он бумагу и медленно развернул ее, прежде чем бросить в общую кучу. С бумаги глянуло на старика тонкое горбоносое лицо Абу-Али, нарисованное газнийским живописцем.
— Посмотрите, друзья, — хрипло воскликнул старик, — а ведь это, пожалуй, наш бедняга доктор! Не аллах ли запечатлел его лик!
Носильщики столпились около товарища, испуганно разглядывая портрет. Простые люди не только не видывали никогда изображений человека — они не знали даже того, как это могло быть сделано. Трепетными руками они касались свитка, недоумевая, благодать ли это аллаха, или дьявольское наваждение.
— Помоложе он тут немного, — смущенно заметил тот носильщик, что жаловался на тяжесть книг. — А все такой же, каким был у нас… Твой хозяин небось тоже его гибели помог! — крикнул он слуге. — Наши муллы и имамы его терпеть не могли… Так и выслеживали, к чему бы придраться!
— Ну и как, выследили? — вмешался в разговор заинтересованный Абдул-Вахид.
— Да по-разному говорят… — осторожно ответил за всех старик. — Никто толком не знает, как это вышло. Только известно, что сгубили его злые люди. Не к кому теперь податься простому человеку… — Старик держал в дрожащих руках развернутый свиток, и лицо его кривилось гримасой горечи и боли.
— Он вылечил мою дочь, — тихо сказал один из носильщиков.
— Может быть, и я не кашлял бы так, когда бы-доктор был жив… — заметил старик, вздохнув.
— А разве доктор умер? — спросил ученик, помогавший Абдул-Вахиду.
— Как же, — грустно ответил кто-то. — Разве вы не слыхали? Весь Хамадан говорил о том, как наш покойный правитель замуровал его живого в каменный мешок… Сколько у нас слез пролили!
— Э, братцы, — весело воскликнул слуга, не обращая внимания на знаки Абдул-Вахида, которому хотелось дослушать до конца историю гибели учителя, — не слушайте базарной болтовни! Скоро вы опять увидите вашего друга! Жив он и даже здоров!..
От неожиданности старик выронил портрет, и тот, снова свернувшись в свиток, покатился по полу.
Носильщики уставились на слугу. Глаза их были красноречивее всяких слов. И слуга прекрасно все понял.
— Жив! Говорю вам, жив! Посидел в крепости, помучился там, но все же его выпустили.
— А ты не врешь? — недоверчиво прошептал старый носильщик. — Не утешай! Нам таких утешений не надо…
— Врать мне не приходится. Ваш доктор — мой хозяин… Вот переселимся сюда, опять к нему ходить начнут. Можете и вы, заглянуть, если дело будет. А пока что, получайте ваши денежки…
Слуга протягивал носильщикам деньги, но те, не принимая их, глядели на него повеселевшими глазами.,
— Господин, — умоляюще обратился старик к Абдул-Вахиду, — ты-то скажи нам, не обманывает нас этот парень?..
Абдул-Вахид подтвердил слова слуги.
Носильщики вышли из дому, оживленно переговариваясь.
Раскладывая по полкам книги и рукописи, Абдул-Вахид то и дело отрывался от этого занятия, чтобы прочесть страничку наудачу раскрытой книги или перелистать рукопись, только что собранную из отдельных разрозненных листков, в спешке попавших в разные мешки.
— Каких огромных и разнообразных знаний человек наш учитель, — заметил он товарищу, рассматривая каллиграфически переписанный том. — Только что я собирал листы трактата о сердечных болезнях, а сейчас у меня в руках «Книга споров». Ты вынул «Книгу по географии о государствах и краях земли», а под ногами у тебя я вижу листы трактата «Об углах». Ты погляди на эти полки, которые мы почти заполнили! Сколько мыслей вложено в каждую книгу и сколько надо познать, чтобы осуществить такой труд!
Бахманьяр подошел к полке и принялся разглядывать стоящие рядами книги
— Вот его «Универсальная астрономия», о которой он говорил нам на занятиях, вот два тома «Книги о благодеянии и зле», а подле нее «Введение в музыкальное искусство», — показывал ему Абдул-Вахид. — А вот трактаты, которые с радостью бы сожгли многие лжеученые.
Он опустился на ковер и разложил прямо перед собой мятые листы рукописи, только что вытащенные из мешков.
— Один из чих опровергает звездочетов и астрологов, а во втором учитель осмеивает веру в талисманы, амулеты, заговоры, колдовство. Он пишет, — Абдул-Вахид тревожно огляделся кругом, но, убедившись, что никого чужого нет, продолжал — «Пророчества, столь распространенные в среде мусульманских святых и духовенства, вызываются не чем иным, как душевными заболеваниями, и не имеют в себе ничего божественного… «Неудивительно, что, высказывая подобные мысли, нашему учителю приходится писать такие предисловия, как в послании «О душе»: «Я тайны открыл, чтобы поучить моих наиболее близких учеников… Но я запрещаю моим друзьям и моим ученикам, которые признали бы мое учение, сообщать мои мысли людям не зрелым, а также хранить рукопись в ненадежном месте…» Ахмад! — окликнул слугу Абдул-Вахид. — Смотри-ка, я кладу все это сюда! В случае чего, убирай эту пачку рукописей в первую очередь…
Книг было очень много. Уже заняты были все полки, а еще оставался один большой неопорожненный мешок. Абдул-Вахид развязал его и извлек на свет пухлые томики в сафьяновых переплетах.
— А это что? — спросил, наклоняясь над книгами, Бахманьяр.
— «Канон врачебной науки» — самая большая работа учителя, — ответил Абдул-Вахид и принялся перелистывать страницы.
Почти все эти книги были неоднократно им переписаны, и потому, что бы ни открыл он, все было ему знакомо и близко. Но юный ученик Ибн Сины не был еще знаком с этой работой, так же как и мы. Поэтому неплохо бы и нам вместе с Бахманьяром познакомиться с этим трудом Абу-Али, ставшим классическим на многие века, воспитавшим многие и многие поколения врачей не только на Востоке, но и на Западе.
Если мы откроем первую страницу первого тома «Канона врачебной науки», то прежде всего удивимся тому, что там нет восхваления небесного владыки, как нет посвящения земному, что было обязательным в те далекие времена, когда Абу-Али писал свою работу. Ученый начинает прямо и решительно: «Я утверждаю: медицина — наука, познающая состояние тела человека, поскольку оно здорово или утратит здоровье, для того чтобы сохранить здоровье и вернуть его, если оно утрачено… Когда говорят, что в медицине есть нечто теоретическое и нечто практическое, то не следует думать, как воображают многие исследователи данного вопроса, будто этим хотят сказать, что одна часть медицины — познание, другая часть — действие. Напротив, тебе должно знать, что под этим подразумевается нечто другое. А именно: каждая из двух частей медицины — не что иное, как наука, но одна из них — это наука об основах медицины, а другая — о том, как ею заниматься».
То, что сказано здесь, — это кредо автора. Дело медицины — прежде всего уметь сохранить здоровье человека, а во-вторых, возвратить его, если оно потеряно. Обязанность врача искать причины не только болезни, но и здоровья. И практика, постоянная и систематическая, — лучший помощник медика, один из основных путей познания.
«Канон» написан тысячу лет назад врачом, лишенным множества тех вспомогательных средств диагностики, которыми вооружена медицина наших дней. Мало того, у Ибн Сины не было представления об основном факторе организма — о кровообращении. Его открыли позже, Ибн Сине же, по наследству от греков досталось учение о четырех соках — учение, которое нам кажется верхом наивности, но царившее в медицине в течение двух тысячелетий. Соки эти — кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Кровь находится в артериях, флегма — в мозгу, желтая желчь — в печени, черная желчь — в селезенке.
Несмотря на то, что это учение о соках очень усложняло лечение, Ибн Сина был настолько вдумчив, настолько практика сделала его превосходным диагностом, замечательным клиницистом, что книга его во многом, даже с точки зрения сегодняшнего дня, интересна. Автор смело и последовательно проводит свою линию. Важнейшее — это опыт, личное наблюдение, не раз и не два повторенное. В основе книги, как и всей медицинской практики Ибн Сины, — трезвый реализм, наблюдение, эксперимент. Он присматривается, изучает и тогда только выносит решение точное, категорическое, твердое. И в этом решении даже теория соков не является помехой. Ибн Сина находит «путь определения болезни и метода ее излечения вопреки тем препятствиям, которые чинит врачам теория.
«Канон» — огромный по объему труд: в нем пять книг, около двухсот печатных листов.
В первой книге — теоретические основы медицинских взглядов Ибн Сины, философия медицины и отчасти — история. Он рассматривает человека от головы до пят. Здесь сжатый, но содержательный очерк анатомии человека, раскрывающий тайну Ибн Сины — подпольное анатомирование трупов. Иначе ничем нельзя объяснить точных знаний Ибн Сины. Здесь учение о соках и о различии в телосложении и конституции людей. Подробно рассматриваются причины как здоровья, так и болезней, разбираются симптомы болезней и их комбинации у различных людей. Ибн Сина не. один раз повторяет, что индивидуумы различны и к каждому надо подходить со своей меркой. Отдельный раздел в книге посвящен пульсу и моче. Уделено внимание режиму, физическим упражнениям и диететике.
Во второй книге описаны «простые» лекарства. Дано семьсот восемьдесят пять растительных, животных и минеральных средств с указанием их происхождения, способа добывания и методов приготовления и применения.
Третья книга посвящена «местным болезням». Тщательно рассматриваются болезни головы: глаз, ушей, горла, языка, носа и другие.
В четвертой — общие болезни тела. Много внимания уделено различным видам лихорадок.
Пятая — отдана описанию и способам приготовления и употребления сложных лекарств.
То, что сделал Абу-Али ибн Сина как врач, то, что нашло отражение в его «Каноне врачебной науки», — это великий научный подвиг, равного которому трудно найти. Скованный со всех сторон условностями, суевериями, предрассудками, противоречивыми знаниями, переданными ему врачами прошлого, Ибн Сина сумел сделать очень многое. Мы попробуем вспомнить хотя бы и не полностью то. чем он обогатил науку: Ибн Сина первый заподозрил, что существуют какие-то мельчайшие существа, вызывающие заболевания, портящие воду, передающие болезнь. Он первый обратил внимание на то, что пищевые вещества могут быть лекарствами. Что точно так же могут быть заменителями лекарств физические упражнения, ванны и чистота. Он поднял вопрос о физическом и нравственном воспитании детей с раннего возраста и, таким образом, оказался отцом современной педиатрии. Ибн Сина определил различие между чумой и холерой. Обратил внимание на заразительность оспы. Первый описал проказу, решительно отделив ее от «слоновости». Разграничил плеврит и воспаление легких. Подробно описал язву желудка. Нашел и определил признаки менингита. Открыл и описал прикрепление «истинных» мышц глаза и сделал еще множество открытий, применявшихся им во врачебной практике и создавших ему славу гениального врача. Все это нашло отражение в «Каноне».
То, что мы прочли на трех-четырех страницах, стоило Ибн Сине многих лет упорного труда; такой же труд должны были затрачивать его ученики, чтобы постигнуть хотя бы начала медицинских знаний.
— А знаешь ли ты взгляды нашего учителя на то, каким должен быть врач? — строго спросил Абдул-Вахид Бахманьяра.
И на отрицательный ответ того заметил:
— Шейх не раз повторял нам, что человек, посвятивший себя врачеванию, должен быть добр, прост, бескорыстен, честен, правдив. Внешний вид его должен быть исполнен достоинства; речь немногословна; взор прямой и открытый; одежды безукоризненной чистоты, благоуханны, но скромны. Весь облик его должен внушать доверие и симпатию. Сердечность врача является одним из средств лечения…
Пока Абдул-Вахид бегло знакомил Бахманьяра со взглядами учителя на облик врача и «Каноном», расставляя его тома на полке, слуга принес еще несколько книг, места которым не нашлось. Абдул-Вахид раскрыл первую поданную ему — это была «Книга исцеления». Он улыбнулся ей, как старой знакомой. Она столько раз была переписана его рукой, что он знал ее почти что дословно, и все же с удовольствием прочел первые бросившиеся в глаза строки:
«Следует, чтобы мы приступили к изучению естественной истории. Здесь мы изберем тот способ, по которому прошла философия последователей школы Аристотеля, и употребим усилия в трудном вопросе. Мы видели многих людей науки, которые, когда трактуют о делах неважных и о вопросах, правильность которых легко выясняется, тратят на это все свои силы, приводя разные доводы и другие средства исследования. Когда же они касаются действительно трудного вопроса и предметов, требующих продуманных доказательств, то быстро оставляют их. Мы надеемся пойти по другому пути…»
«Как последователен учитель, — подумал Абдул-Вахид, вздыхая, — он действительно никогда не идет по легкому пути, никогда не оставляет чего-то недодуманного, непознанного… Не каждый из нас способен быть его достойным учеником… Сколько раз я сам отступал перед трудностями! Сколько раз учитель сердился на меня за это, и, должно быть, только моя преданность заставляла его терпеть мое неразумие…»
На какое-то время хорошее настроение Абдул-Вахида померкло. Он разбирал книги, расставлял их молча, изредка тяжело вздыхая.
Младший ученик Абу-Али, Бахманьяр, с удивлением поглядывал на Абдул-Вахида. Мрачность была тому совсем не свойственна. Обычно он любил и поговорить и посмеяться.
А тут уже целых полчаса он молча занимается работой.
Но Бахманьяр скоро так увлекся разглядыванием рукописей, что забыл о настроении Абдул-Вахида.
— Оказывается, наш учитель пишет не только по-арабски! — воскликнул он. — Гляди-ка, здесь есть трактаты ка дари!.. Удивительно!..
— Чему ты удивляешься? — буркнул старший ученик — Дари — его родной язык. Почему же ему не писать на нем?
— Но это же не принято!
— Попробуй скажи это при шейхе! Он покажет тебе, что принято, что не принято… Он нам не раз говорил, что каждый человек должен любить и беречь свой родной язык, обогащать его… Сам он готов был бы всегда писать только на дари. Но, к сожалению, языком науки у нас является арабский. Это язык общий для ученых очень многих народностей. Для того чтобы они понимали нас, приходится пользоваться им. А о дари шейх говорит, что он — один из самых музыкальных языков мира, он словно бы приспособлен для поэзии и пения… Шейх всегда с радостью пишет на нем… У него немало книг написано на дари…
Абдул-Вахид отошел в глубину комнаты и стал там листать одну из старых работ Абу-Али — изложение «Начал геометрии Эвклида» с чертежами и рисунками.
«Это тоже для нас, учеников, составлял шейх-ур-раис, — думал он с нежностью. — Это из ранних джурджанских работ..: Он рассказывал как-то, что принялся за нее, живя у медника на базаре, после того как три дня почти ничего не ел… Но что это? — Абдул-Вахид вынул из книги несколько тоненьких листочков. — Вероятно, учитель хотел дополнить книгу…»
Он прочитал первый листок, чтобы определить, к какой главе он относится. На узкой, мелко исписанной страничке стоял заголовок:
Удивленный Абдул-Вахид читал дальше. Он никогда не слыхал от учителя, чтобы тот вел записки о своей жизни. Но как это хорошо, как важно для учеников и для потомков! Жаль только, что все здесь так кратко изложено. Немного о детстве, об ученье, о стареньком наставнике Натили. Изложение обрывается на возвращении из Дихистана в Джурджан.
«В Джурджане ко мне присоединился Абу-Убей-ал-Джузджани. И я сочинил о своем положении касыду с таким двустишием:
Когда я стал великим, нет для меня простора.
Когда цена мне возросла где найду я спрос?..
Абдул-Вахида очень тронуло упоминание о нем. Не забыл учитель. «Он, наверное, забросил эту запись и не станет ее продолжать, но не зря он последним упомянул мое имя, — подумал Абдул-Вахид, — продолжать надо мне…»
Когда, наконец, разборка подходит к концу и комната постепенно приобретает все более аккуратный вид, усталый Абдул-Вахид, присев на край маленького столика, говорит Бахманьяру:
— Все эти полки заняты уже переписанными книгами нашего учителя, а все нижние — рукописями его трактатов. Когда посмотришь на такое богатство мыслей и чувств, на такую отдачу всех своих сил и знаний, чувствуешь, какой великий человек Абу-Али! Я не верю, что его труды когда-нибудь умрут! Пройдет сто лет, пятьсот, тысяча, и все равно люди будут помнить его, учиться у него… Река науки, которая сейчас течет только для избранных, разольется со временем по всему миру, и в самых далеких уголках света будут знать о нашем учителе, так же как будут знать обо всех могучих умах человечества!..
— Это ты, Абдул-Вахид, рассуждаешь здесь о человечестве? — послышался веселый голос Абу-Али, и он, улыбаясь, остановился на пороге комнаты. — Вы, наверное, очень устали, мои мальчики? — спросил он, подходя к ученикам. — Опять вы приготовили мне дворец, хотя я рад был бы и простой хижине… Ученый должен быть скромным… Знаешь, Абдул-Вахид, я нынче получил подарок, о котором давно мечтал.
— Подарок?
— Живой подарок! — Абу-Али посмеивался, глядя на недоумевающее лицо ученика.
Красивые темно-серые глаза ученого щурились, на висках довольно явственно выступали тонкие стрелки морщинок.
— Живой подарок… Ты слышишь, он воет, этот подарок?..
— Неужели волк?
— Да. Ловчий самого эмира позаботился о том, чтобы доставить самого крупного и здорового зверя. Теперь-то мы сможем поставить опыт…
Ибн Сина был доволен. Давно задуманный эксперимент принимал реальные очертания.
— Ахмад! — обратился ученый к слуге. — Завтра утром разыщи мне на базаре двух молодых, здоровых баранов. А вечером приведи хорошего плотника…
Ибн Сина в сопровождении Абдул-Вахида вышел в сад, окружавший дом. Сад был обширен, зелен и огорожен надежным забором. Абу-Али обошел его весь и наметил, где поставить клетки.
Давно, еще живя в Джурджане над мастерской медника, Ибн Сина обратил внимание на то, что шум, даже когда его не замечаешь в пылу работы, тяжело действует на мозг человека. После этого ему не раз приходилось самому или у своих больных сталкиваться с действием раздражителей. Те или иные впечатления тягостно влияли сначала на работоспособность, затем на настроение и в конце концов на здоровье. Точно он все еще не мог установить, что именно поражается раздражителями — мозг или нервы.
Сейчас он надеялся кое-что познать на опыте.
Через два дня в саду Ибн Сины можно было наблюдать такую картину. В одном углу стояли рядом две клетки; в одной метался огромный серый волк. Сильными лапами матерый хищник старался согнуть прутья решетки и успокаивался только тогда, когда ему бросали кровавые мясные лохмотья или полу-ободранные кости. В соседней — боязливо жался к стенам кудрявый упитанный барашек. В другом конце сада, куда не мог донестись даже запах хищника, тоже в клетке, блаженно пережевывал свежую траву второй баран.
Волк не мог дотянуться до своего соседа — барана, а тот даже не мог видеть хищника, и все же он не жил, а трепетал. Сначала он шарахался от каждого шума, забивался в угол, потом почти отказался от пищи и только жадно пил воду, затем и вода перестала его притягивать. Прошло всего несколько дней, а барашек уже не мог стоять на ногах и весь трясся как в лихорадке. Если бы Абу-Али не прекратил опыта, гибель барана была бы неизбежна И в это же время его товарищ, находившийся в одинаковых с ним условиях, но не имевший страшного соседа, толстел, здоровел и рос.
— Я думаю, никто из нас не считает барана существом мыслящим, — заметил Абу-Али в тот день, когда поручил Абдул-Вахиду перевести подопытное животное подальше от волка. — Очевидно, не мозг, а какие-то нервные центры в мозгу, общие и для человека и для животного, реагируют на раздражителя…
Расследованию причин поведения подопытного животного был посвящен один из последних уроков Ибн Сины в Хамадане.
Как ни любезны были к ученому Сама-уд-Давла и Тадж-ул-Мулк, жизнь в Хамадане его все больше и больше тяготила.
Прошло несколько лет. Немало воды утекло по арыкам Бухары, Хорезма, Исфагана…
Абдул-Вахид сидит на коврике перед светильником, подвешенным на тонких серебряных цепочках к потолку. На ладони левой руки он держит листок бумаги и быстро водит по нему каламом. Задумавшись, он перечитывает последнюю фразу: «Так прошло некоторое время, и все это время Тадж-ул-Мулк обольщал его чудесными обещаниями. Затем шейх понял, что ему необходимо бежать в Исфаган, и он покинул Хамадан вместе со мной, своим братом и двумя слугами. Чтобы нас не узнали и не задержали, мы переоделись в бедные одежды суфиев…»
Абдул-Вахид описывает, как после тяжелого и долгого пути подъехали они, наконец, к Исфагану.
Он вспоминает, какая толпа встречала их у ворот города. Ему говорили потом, что люди собрались здесь с утра — поглядеть на великого ученого, которого давно ждали. Приветственные крики народа провожали Абу-Али до дворца, до того самого момента, когда он, бросив поводья слуге, легкой походкой прошел впереди своих спутников по коврам, раскинутым через весь двор
Дальнейшее Абдул-Вахид не берется записывать, не расспросив предварительно учителя Все это было скрыто от его глаз Ворота дворца, широко открытые перед учителем, закрылись перед его скромным учеником.
Но, как видно, внимание эмира удивило всех присутствующих. Даже царственного гостя, пожалуй, принимали бы менее сердечно. Поистине эмир превзошел себя, такую честь он оказал ученому. Да оно и неудивительно: имя шейха-ур-раиса известно по всему Востоку. До сих пор султан Махмуд считает себя униженным Ибн Синой и вместе с тем по-старому жаждет привлечь ученого к своему двору. Но Ибн Сина избрал местом своего пребывания не роскошный замок в Газне, а скромное обиталище исфаганского повелителя. Это надо ценить!
Но возраст и перенесенные испытания дают себя знать. Много чести — много усталости. А удел смертного — это труд до последнего дыхания. Без сожаления оставляет Абу-Али затянувшийся прием во дворце Ала-ул-Давла, оставляет, чтобы завтра же с утра начать привычную трудовую жизнь.
Проходит всего несколько недель, и вот уже течет эта жизнь здесь, в Исфагане, в том же озарении светильника мысли, как это было в Бухаре, Хорезме, Несе, Рее, Хамадане — везде, куда скитания забрасывали ученого.
В чуть брезжущем свете раннего утра Абу-Али встает. Слуга подает ему таз с прохладной водой Абу-Али моется, делает несколько гимнастических упражнений, одевается.
На дворе уже рассвело. Начатая рукопись и чернильница приготовлены с вечера. Впереди еще часа два до прихода учеников. А утро — самое лучшее время для работы.
За эти часы Абу-Али успевает написать целую главу. Он весел, доволен и с воодушевлением начинает беседу, лишь только сходятся ученики.
Сегодня беседа посвящена истории права, и Абу-Али вдохновенно рассказывает ученикам о греческих законах. Завтра он будет говорить с ними о музыке, а послезавтра, быть может, о звездном небе. Его система — расширять представления молодежи, заинтересовывать ее, показывать ей новое, яркое, требующее своего познания. Но в иных предметах он методичен, требователен, кропотлив.
После лекции он вместе с молодежью покидает комнаты.
У ворот дома, на полянке под тенью густых деревьев, на скамьях, на камнях и просто на земле сидят сотни людей, ожидающих его выхода.
Крестьяне, ремесленники, городская беднота, путники, пришедшие за многие десятки километров повидать шейха, — все ждут его с нетерпением. Здесь калеки и больные, но здесь же и здоровые, которым нужно не лечение, а совет или помощь. Несколько в стороне стоят люди познатнее: богатые купцы, помещики, чиновники, которым не хочется смешиваться с толпой, хотя они и знают, что Абу-Али ни для кого не делает исключения, — все, кто обращается к нему, равны для него, будь то водонос или сановник. Абу-Али в сопровождении Абдул-Вахида и двух-трех учеников обходит ожидающих. Разбитая параличом девушка, юноша с вывихнутым плечом, эпилептик, трясущаяся от старости и голода старуха, брошенный на произвол судьбы чесоточный ребенок — все находят у Абу-Али внимание и помощь.
Время приближается к полудню.
Из нижних окон дома Абу-Али, где расположены кухни, слышен стук ложек, ножей, какие-то крики. Окно внезапно открывается, и повар, огромный толстый тюрк, с большим черпаком за поясом, истошно кричит:
— Эй! Кто сегодня задумал пообедать? Подходи! Всех угощаю!
Приглашение дважды повторять не приходится. Бедняки-посетители бросаются к окнам. Каждый день в доме ученого готовят на всю эту огромную семью:
Абу-Али с учениками тоже садится обедать в тени деревьев. После обеда надо ехать во дворец к правителю Еще вчера вечером Абу-Али уведомили о том, что привезли больного родственника эмира.
Остановив свою лошадь у маленькой калитки, ведущей через дворик в жилые помещения дворца, Абу-Али уже на пороге удивлен и оглушен воем и мычаньем, несущимися из небольшого садового павильона.
— Ему кажется, о мудрейший, — торопливо объяснил кто-то из приближенных, — что он жирная, откормленная корова и вот уже который день требует от нас, чтобы мы его зарезали и съели
— Скажите ему, — немного подумав, сказал Абу-Али, — что сейчас к нему придет мясник. А мне дайте, — обращается он к слугам, — фартук и нож.
Преобразившись в мясника, Абу-Али идет в павильон. Восторженный рев встречает его появление Он всматривается в больного Гот так поглощен своей болезненной идеей, что действительно что-то коровье появилось в его печальном, унылом лице и больших темных глазах.
«Как дорого расплачиваются потомки за излишества, допущенные их предками», — грустно думает Абу-Али, но говорит громко и властно
— Свяжите его! Сейчас мы его зарежем, — с этими словами он начинает точить нож о каменный порог павильона
Больной смотрит радостно и успокоенно. Нож наточен. Абу-Али подходит к принцу и начинает его ощупывать.
— Что это за безобразие! — накидывается он на одного из придворных. — Зачем меня беспокоили! Разве можно резать такую тощую корову! Она же никуда не годится! Кто будет есть такое жесткое, нежирное мясо! Начните ее немедленно кормить, тогда я недели через две смогу ее зарезать, — и с недовольным видом Абу-Али выходит из павильона.
— Я пришлю лекарства, — говорит он родственникам больного. — Будете давать ему с едой Мы его вылечим
..Абдул-Вахид день за днем продолжал свои бесхитростные записи о жизни учителя: «..И он стал одним из приближенных и доверенных Ала-уд-Давла. Однажды вечером в присутствии Ала-уд-Давла кто-то упомянул о вреде, который приносят календари, составленные на основании старых наблюдений, и эмир повелел шейху заняться наблюдениями за звездами и выдал необходимые средства. И шейх начал заниматься этим, поручив мне изготовление нужных для этого инструментов и прием на работу знающих мастеров. И при наблюдении обнаружилось много проблем. Но делу наблюдения за звездами наносился вред обилием походов и связанных с ними помех…»
— Чем ты занимаешься, мой друг? — услышал однажды Абдул-Вахид у себя за спиной голос учителя и вздрогнул, как пойманный на месте преступления подросток.
Ибн Сина уже несколько минут как вошел в комнату и читал через плечо ученика написанное им.
— Шейх, я продолжаю описание твоей жизни, которое ты сам начал, а затем бросил, — смущенно объяснил Абдул-Вахид.
— Стоит ли тратить на это время? — На лице Ибн Сины мелькнула мягкая улыбка. — Я не пророк Мухаммед! Это его жизнь правоверные должны знать во всех подробностях. Но какой интерес увековечивать подробности жизни скромного ученого, который стоит бесконечно дальше от аллаха, чем его пророк?
— Но ведь ты сам начал… — смущенно произнес Абдул-Вахид, — я думал, ты, шейх, не будешь на меня сердиться…
Абу-Али потрепал его по плечу.
— Я начал потому, что мне захотелось вспомнить ту тропинку, по которой я шел в молодости. А тебе-то это зачем?
— Шейх! То, что ты сделал для науки и человечества, будет жить века. Быть может, через тысячу лет потомки прославят твое имя и твои дела. Они захотят знать, кто же был великий Абу-Али ибн Сина, откуда он родом, как он жил и работал, какие события были в его беспокойной жизни…
— Если это будет так, как ты говоришь, то когда-нибудь появятся люди, которые обо мне напишут на основании моих книг и трудов…
Абу-Али помолчал, вглядываясь в ровные строчки записей Абдул-Вахида, а затем заметил:
— А то, что ты пишешь о походах, — верно. Насколько больше мы могли бы сделать, когда б не отрывались от науки для самого худшего, что есть в мире, — для войны…
…И в Исфагане Абу-Али тоже вынужден был против своей воли то участвовать в походах, то давать эмиру советы, как эти кампании лучше организовать, как снарядить войско, кому поручить командование.
Иногда удавалось отговориться от сопровождения повелителя работой над пересмотром календарей, к которой Абу-Али привлек и своего ученика — сына Ала-уд-Давла. До сих пор в Исфагане показывают развалины обсерватории, сооруженной в дворцовом саду для этих занятий. Иногда Ибн Сина мотивировал свой отказ от участия в походах тем, что без него некому приглядеть за постройками медресе и «Дома излечения», которые строились по настоятельной просьбе ученого.
Оба здания были победой Ибн Сины. Школа и больница — что могло быть более необходимым народу! То, что Ала-уд-Давла пошел на такие расходы, несколько примиряло ученого с воинственными наклонностями эмира. Другие правители только воевали, не думая ни о просвещении, ни о здоровье своих подданных.
Знаменательный разговор произошел по этому поводу между повелителем Исфагана и ученым. На плане больницы, сделанном Инб Синой, было написано: «Дарил шифа» — «Дом исцеления». Ала-уд-Давла, которому проект постройки понравился, подписал его, но исправил «Дом исцеления» на «Дом болящих» и в таком виде передал Абу-Али.
— Излечатся ли наши больные или нет — неизвестно, — заметил он. — Строим же мы для больных. Такое название будет более точным. Не правда ли?
— Повелитель! В названии «Дом исцеления» заключена надежда, в названии «Дом болящих» — безнадежность. Надежда же, по моим наблюдениям, один из лучших врачей в мире. А нам хорошие врачи нужны…
Ала-уд-Давла подумал и решительным жестом зачеркнул слово «болящих».
— Если ты утверждаешь, что надежда будет излечивать наших подданных, пусть будет по-твоему…
Ала-уд-Давла был, пожалуй, наименее жестоким и наиболее просвещенным из всех иранских владык.
И все же Абу-Али постоянно возвращался все к тем же горьким мыслям о несовершенстве общественного строя, о необходимости изменений в нем. Те мысли, что он в свое время высказывал в «Книге исцеления» по вопросам структуры государства, передумывались и пересматривались им не раз.
Должно быть, именно в Исфагане Абу-Али написал свою утопически-фиософскую повесть «Ат-Тайр» («Птица»). Здесь он изображает идеальное общество птиц, живущих где-то в горах. Там все равны, свободны, обладают высокими моральными качествами, помогают друг другу и стараются никому не вредить.
— Это мечта, — заметил Абу-Али своим ученикам, прочитав им повесть. — Неисполнимая мечта…
Мечта действительно была неисполнимой. Абу-Али жаждал идеального содружества, а жизнь кругом складывалась совсем по-другому. Жестокая бессмысленность войны все время врывалась в планы и расчеты стремящегося к спокойной работе ученого.
И все же постепенно добрая воля и добрый совет Абу-Али побеждали корыстные расчеты Ала-уд-Давла.
Эмир Исфагана делал все, чтобы прославиться в качестве знатока и почитателя наук и искусств. У него находили приют скитальцы — философы, математики, медики, алхимики, астрологи, поэты, музыканты. Но выше всех почитался Абу-Али ибн Сина.
Первый из первых, шейх-ур-раис, наставник и глава ученых, так величали при дворе Ала-уд-Давла Ибн Сину. Но это первенствующее положение среди сравнительно малознающих людей совсем не льстило ученому. Постоянно вспоминал он совместную работу с Бируни в Хорезме, то недолгое время, когда рядом с ним стоял не ученик, а соратник.
Очень редко доходили до Абу-Али сведения о великом хорезмийце, еще реже его письма Уже много лет, как Бируни жил в Газне, при дворе султана Махмуда. Вызвав его для доклада о последних днях хорезмшаха Ма’муна ибн Ма’муна, султан так и не отпустил его от себя. Изредка удавалось ученым переслать друг другу свои работы. Абу-Али передал с верным человеком первые три книги «Канона», а от Бируни получил начало его замечательной работы об Индии, которую тот писал все эти годы, вынужденный участвовать в походах султана Махмуда. Бируни, единственный из свиты султана, смотрел на Индию, как на прекрасную культурную страну с народом талантливым, трудолюбивым, честным, благородным и несчастным.
Абу-Али, как никто, понимал огромную ценность этого труда, ему хотелось бы обсудить его со знающими людьми, но таких вокруг него не было. Ученики, которых он обучал, может быть, со временем оценят вклад Бируни в науку, но сейчас ум их молод и не зрел.
Но все же отсутствие сподвижника не обрекало Абу-Али на полное одиночество. С первого же дня приезда ученого в Исфаган Ала-уд-Давла отдал приказ всем ученым, законоведам, философам в пятницу ночью собираться в его дворце для чтений и диспутов. «Академия» хорезмшахов не давала покоя тщеславию исфаганского эмира. Сам он постоянно присутствовал на этих собраниях и, не стесняясь, спрашивал ученого о том, что ему оказывалось непонятным.
— Я обращаюсь к такому же эмиру, как я сам, — говорил Ала-уд-Давла, посмеиваясь — Абу-Али — повелитель ученых, как я повелитель простых смертных…
Абу-Али кланялся, слушал любезности Ала-уд-Давла, но не верил ему. Он на долгом опыте убедился, что никогда ни один эмир не откажется от своей власти над ученым, предаст его, если ему это выгодно, и возвеличит его, если это тоже окажется ему выгодным.
На одном из собраний Абу-Али прочитал выдержки из философской работы, которую он начал писать на своем родном языке дари, на том самом языке, на котором говорило все население Исфагана и его правитель. Ала-уд-Давла был польщен и обрадован. Арабский язык он знал посредственно, это затрудняло понимание им научных вопросов. А сейчас с помощью такой книги он, пожалуй, сможет понимать все тонкости разногласий в спорах, сможет и сам ввернуть кое-какие замечания.
Ну как было не ценить такого придворного! Но Абу-Али писал на дари не в угоду эмиру, а для того чтобы его труд был доступен наибольшему кругу исфаганцев, для которых книга на дари была понятнее и ближе, чем на арабском. Книгу эту Абу-Али назвал «Даниш-наме» и посвятил ее Ала-уд-Давла.
…Абу-Али перевалило уже на шестой десяток. Но он был деятелен, энергичен, работоспособен. По-прежнему принимал множество больных, преподавал, писал книги. Загруженный до предела день не мешал ему попировать ночью, а после недолгого сна снова приступить к работе. Он никогда не был ни подвижником, ни ханжой, не стал таким и в зрелые годы.
Не чужд ему был и юмор. Об одном случае «научной шутки» Ибн Сины рассказал Абдул-Вахид
Дворец Ала-уд-Давла с тех пор, как в Исфагане поселился Абу-Али, был, как мы знаем, широко открыт для местных и приезжих ученых. Однажды эмира посетил известный филолог, специалист в области арабского языка Абу-Мансур ал-Джаббан. Он знал Ибн Сину как крупнейшего ученого, но, не желая унижать себя перед ним, надменно заметил в ответ на высказанное Абу-Али мнение:
— Воистину ты философ и мудрец, но ты не начитан в языкознании, твои слова об этом неудовлетворительны…
Ибн Сина выслушал заявление Ал-Джаббана молча, но не забыл его.
В последующие три года Абу-Али много времени посвятил изучению языкознания и даже выписал — из Хорасана книгу крупнейшего арабского лексикографа Абу-Мансура ал-Азхари «Исправление языка».
За эти годы Ибн Сина стал крупным специалистом по языку, досконально изучив предмет. Практикуясь и совершенствуя свои знания, он сочинил три касыды, в которых употребил наиболее редко встречающиеся в обиходе слова, а затем написал три книги: одну в стиле Ибн Амида, считавшегося одним из лучших стилистов Востока, другую в стиле знатока словесных наук покойного везира Исфагана Ас-Сахиба и третью в стиле ученого-языковеда Ac-Саби. Переплетя все книги в один том и придав ему старый и потрепанный вид, Абу-Али уговорил эмира показать эту книгу при следующем визите Абу-Мансуру ал-Джаббану.
Ученый старик пренебрежительно принял том и с важным видом начал его перелистывать.
— Мы нашли ее в поле во время охоты, — заметил эмир. — Мне хочется, чтобы ты посмотрел и сказал, что здесь содержится.
Чем больше Ал-Джаббан листал книгу, тем в большее приходил недоумение.
Книга была написана изысканным, безупречно точным языком, но так сложно, что целый ряд выражений оставался ученому-языковеду непонятным Он мялся и смущенно мычал, не зная, как объяснить их эмиру.
А тот, ехидно улыбаясь, обратился к Ибн Сине
— Может быть, ты, дорогой Абу-Али, хотя ты, конечно, не языковед, разрешишь недоумения Абу-Мансура?
— В этом нет ничего сложного. Это такие пустяки, которые может знать каждый. Все, что ты не понял в этой книге, почтенный Абу-Мансур, упоминается в книгах по языковедению. Я могу их тебе все назвать и даже указать страницы, где находятся смущающие тебя обороты…
По смеющимся глазам Абу-Али и насмешливой улыбке эмира Абу-Мансур угадал, чем вызван этот разговор и кто автор этих изысканных и таких различных по своему стилю произведений. Хорошо еще, что он нашел в себе мужество извиниться перед Ибн Синай за прошлую грубость и зазнайство.
А Абу-Али знакомство с новой дисциплиной заставило написать замечательную работу «Язык арабов», подобной которой в этой области еще не было создано. Абдул-Вахид с грустью сообщает, что эта выдающаяся работа не дошла до читателей, погибнув в черновике.
Годы, прожитые в Исфагане, были необычайно плодотворны. О том, как умел работать Абу-Али, рассказал нам тот же Абдул-Вахид:
«Еще в Джурджане шейх написал «Малое сокращение по логике», то самое, которое он затем поместил в начале своей «Книги спасения». Один экземпляр этой работы оказался в Ширазе. Тамошние ученые прочитали ее, и у них возник ряд недоумений по рассматривавшимся в ней проблемам Они записали свои вопросы на одной стопе бумаги. Кадий в Ширазе был в числе тех ученых. Он отправил эту стопу бумаги к Абул-Касиму ал-Кирмани, другу Ибрагима ибн Баба ад-Дейлами, занимавшегося наукой о сокровенном, и присоединил к ней письмо к шейху Абул-Касиму. И то и другое он переслал с всадником, направлявшимся в Исфаган. Судья просил вручить эту стопу бумаги шейху [Абу-Али] и взять с него обещание ответить на заданные вопросы. И вот Абул-Касим пришел к шейху в жаркий день, когда бледнело солнце, и вручил ему полученное письмо и стопу бумаги с вопросами ширазских ученых. Шейх прочел письмо и вернул его Абу-л-Касиму, а стопу бумаги положил перед собой. Пока присутствовавшие разговаривали между собой, он просматривал ее, затем Абул-Касим ушел, и шейх приказал мне принести белую бумагу и нарезать из нее несколько стоп. Я приготовил для него пять стоп, каждая из которых состояла из десяти листов размером в фараонову четверть. Мы прочли вечернюю молитву, принесли свечи, и шейх распорядился принести вино Усадив меня и своего брата, он велел нам пить вино, а сам начал писать ответы на те вопросы. И он писал и пил до половины ночи, пока меня и его брата не одолел сон. Тогда он велел нам уйти. На рассвете кто-то постучал ко мне в дверь: это был посланец шейха, который просил меня прийти к нему. Я при шел к шейху и застал его на молитвенном коврике, перед ним лежало пять стоп исписанной бумаги. И он сказал: «Возьми это, отправься к шейху Абу-л-Касиму ал-Кирмани и скажи ему, что я поспешил ответить на заданные мне вопросы, чтобы не задерживать посланного всадника». Когда я принес Абулл-Касим исписанные стопы бумаги, тот очень изумился и от правил посла, сообщив ширазским ученым об этом случае. И этот случай вошел в историю».[53]
…Идут годы. Все больше paстёт слава Абу-Али ал-Хусейна ибн Сины Все шире расходятся по всем восточному миру его замечательные книги, воспитывающие новые поколения образованных людей. У не го есть ученики и почитатели в Багдаде, Дамаске Египте. Ученые стекаются в Исфаган со всего Сред него Востока послушать шейха-ур-раиса. Ему пишут посылают рукописи, спрашивают советов. Он приносит славу маленькой области, давшей ему приют.
Эмир Ала-уд-Давла понимал это. Ни разу hi в чем не отказав ученому, он неизменно благоволил к нему и окружал заслуженным почетом.
Но гораздо больше радовало Абу-Али другое Ала-уд-Давла постепенно начинал понимать настоящую ценность науки. Он с готовностью поддерживал начинания Абу-Али, поручал ему серьезные, большие работы, в глубине души, может быть, рассчитывая на то, что они прославят еще больше Исфаган, а заодно и его самого. Его наследник, ученик Абу-Али, участвовал во многих замыслах и работах ученого. Он занимался в лаборатории, созданной Ибн Синой, помогал ему в астрономических наблюдениях. С помощью правителя и его сына Абу-Али создал такие точные измерительные инструменты, каких не быпо ни в одной обсерватории мира.
Досаждали только походы. Абу-Али никак не мог примириться с войной, с завоеваниями, никогда не ждал от них ничего доброго. В этом он старался убедить всех правителей, с которыми сталкивался в своей жизни, но тщетно. Тем тяжелее было прерывать научную работу и сопровождать Ала-уд-Давла.
К тому же годы скитаний и напряженного труда начали сказываться на здоровье. Абу-Али было уже за пятьдесят, по утрам он видел в отполированном металле зеркала бледное, утомленное лицо с сединой на висках и отеками под глазами. Стан его понемногу тоже становился тучнее.
Иные походы, будучи навязаны обстоятельствами, приносили много испытаний. Так произошло после смерти правительницы Рея — Сайиды. Словно того и ожидал, султан Махмуд быстро подвел войска к Рею и присоединил его к своим владениям. Положение Исфагана сразу же осложнилось. Абу-Али приходилось напрягать весь свой жизненный опыт и способности, чтобы помочь Ала-уд-Давла поддерживать хорошие отношения с Масудом, сыном Махмуда, назначенным наместником Рея. И все же воинственный Масуд предпринял поход на Исфаган и занял его. Все это произошло так внезапно, что успели покинуть город только эмир и ближайшие его советники. Даже семьи их остались в Исфагане, в том числе красавица сестра самого правителя.
Ала-уд-Давла с приближенными заперся в крепости. Они сидели там, ожидая ответа от Масуда на письмо, сочиненное Абу-Али. Ученый вложил в него все свое знание человеческой души и слабостей тщеславного Масуда. В ответ Ала-уд-Давла получил сообщение, что Масуд женится на его сестре и по этому случаю возвращает ее брату исфаганский престол.
Сравнительно спокойно прошли следующие два-три года. Но вот в Исфаган пришли вести о смерти султана Махмуда. Кончина султана, постоянно стремившегося быть покровителем Ибн Сины и так осложнявшего его жизнь, однако, совсем не обрело вала ни правительство Исфагана, ни самого Абу-Али Она только внесла лишние беспокойства. Масуд на следовал отцу и становился султаном Газны, в наместником Рея назначили Абу-Сахля Хорасанского, дурного соседа, более заинтересованного в завоевании Исфагана, чем в поддержании с ним добрых отношений.
Все чаще происходили стычки исфаганских войск с газнийскими, пока, наконец, войска Сахля не ворвались в город.
Смятение и ужас охватили исфаганцев. Никем не сдерживаемые гулямы жгли дома, грабили жителей, растаскивали лавки, громили базары Приближенные эмира и богачи скрылись из города, имущество и попало в руки победителей
Через некоторое время, оправившись от первого испуга, исфаганские войска внезапным ударом выбили противника из города и из страны. Исфаган был очищен от врагов, он мог приступить к своему вое становлению. Но какое бедствие испытал народ! Как разорены были жители!
Дом Абу-Али разграблен так же, как и другие Все имущество расхищено Но главное — погибли книги, рукописи, которых никому и никогда не по вторить.
На этот раз беда была непоправимой
Ученый подошел к своему дому. Он медленно во шел в двери, обошел одну за другой все комнаты Занавеси и ковры содраны, стенная живопись закопчена до неузнаваемости, на полу грязь, сено, камни В углу валяется один из сундуков, где хранились книги, он открыт и сломан. Искорежены и полки, где лежали написанные им книги и трактаты Абу-Али сгорбившись, как старик, стоит у притолоки своей рабочей комнаты. У него еще таилась какая-то надежда, что он найдет хотя бы отдельные листы последней своей работы, в которую им вложены все силы его зрелого, умудренного годами и опытом ума, — «Китаб-ул-инсаф» — «Книги справедливости» Но ничего нет. Плоды упорного труда исчезли. Только легкий ветер гонит по двору обгорелые обрывки бумаги.
Постарев сразу на десять лет, выходит Абу-Али из дому. Никакие слова сочувствия, которые пытается сказать ему Абдул-Вахид, не могут сгладить утрату. Слишком много души было отдано работе над той последней рукописью.
Опять это щемящее чувство одиночества. Абу-Али недоумевает — откуда оно? Разве не окружен он всегда людьми? Разве нет у него преданных друзей, любящих учеников? Разве это не восполняет всех утрат имущества, даже, наконец, рукописей? Внезапная мысль озаряет глубины мозга. Он слишком далеко ушел вперед от своего времени. Рядом с ним мало людей, которые приняли бы из его рук горящий факел знания и продолжали бы освещать путь следующим поколениям. Ученики, как ни старался он поднять их, растормошить, окрылить, далеко не все оправдали его надежды. Хорошие, способные, честные люди, они, конечно, будут делать все, что могут, но у большинства возможности ограничены. А врагов кругом множество, не сломятся ли они? Это он шагал вперед, не оглядываясь, все вперед и вперед. Чалмоносцы с их невежественным теологическим бредом, суфии с их непротивлением, ханжи с изуверским мракобесием, лжеученые, астрологи, алхимики, маги, гадатели, чудотворцы — все они сплотились против него, чтобы вырвать из рук и затушить огонь, который должен гореть, освещая путь человечеству. Но он крепко держит его, у него не вырвать, а вот удержат ли ученики?! Все враги, как совы, боятся света и жаждут тьмы. Его смерть, как бы она не стала их победой!.
Мысль о смерти последнее время почему-то все чаще и чаще приходит к Ибн Сине. Но он гонит ее. Нет, он еще крепок, он еще стойко сопротивляется болезням.
Все сегодняшние горестные мысли уступают одной — Абу-Али вспоминает, что гибель его произведений не так уж страшна: все им написанное распространено в десятках, а то и в сотнях экземпляров по всему Востоку. Окончательно погибла только «Книга справедливости», но и ее он помнит наизусть Может быть, когда-нибудь можно будет ее восстановить Лишь бы хватило здоровья.
Абу-Али не зря задумывается о здоровье Ело не когда крепкий организм уже не тот
Вот и сегодня с самого утра Абу-Али чувствует себя плохо. Боли в желудке и одышка.
«Годы дают себя знать! Пятьдесят шесть лет — неужели это уже старость? — думает он грустно — Так мало сделано и гак много задумано, что не хочется даже верить, что тебя может сторожить смерть!»
Словно в подтверждение его мыслей, снова начинаются резкие колющие боли.
Грелки, припарки — все это делает ему молодой старательный врач Но около ученого нет Абдул-Вахида — он уехал в поход с повелителем Исфагана А тут, как на грех, гонец привез приказ эмира Ала уд-Давла выезжать к нему в Айзедж.
Закрыв глаза, Абу-Али вспоминает лекарства, которые могут ему помочь. И приступает к лечению сам.
Через четыре-пять дней Ибн Сина поправляется настолько, что выезжает на зов эмира. Однако в дороге его сваливает новый припадок, настолько сильный, что у него уже не хватает сил следить за тем, как и чем его лечат. А врач, случайный дорожный спутник Ибн Сины, вводит в желудок ученого вдвое больше семян сельдерея, чем нужно, и еще усиливает этим кишечные изъязвления.
Так странно представить себе вечно деятельного Абу-Али беспомощно лежащим в маленькой низенькой комнатенке случайного караван-сарая. Он, всю жизнь делавший столько добра, такой отзывчивый к другим, лежит в страшных мучениях среди чужих, равнодушных людей Как печально сложилась жизнь! Ученики либо уехали из Исфагана, либо находятся сейчас в походе вместе с эмиром, брат Махмуд — в Хамадане
Абу-Али делается все хуже. Боли усиливаются.
— Надо дать ему опий, — говорит врач одному из слуг и лениво капает в чашу густую черную жид кость — Десять или пятнадцать капель — это не важно, — замечает он и, передав сосуд слуге, выходит из комнаты.
Однако силы больного еще не сломлены. Они кое-как справляются даже с гнусной небрежностью лекарей. Наконец преданный слуга самовольно увозит Абу-Али в Исфаган.
Вернувшийся из похода Ала-уд-Давла застает ученого лежащим в постели, но по-прежнему деятельным и погруженным в научные работы.
С повелителем вернулся и Абдул-Вахид. Абу-Али как будто бы начинает понемногу выздоравливать Во всяком случае, когда Ала-уд-Давла собрался в начале лета в захваченный им Хамадан, Абу-Али едет его сопровождать. Но опять по дороге его укладывает в постель припадок желудочных колик. Той самой болезни, о которой он написал большую работу.
Прекрасным летним утром въехал в Хамадан победитель Ала-уд-Давла в сопровождении великолепной свиты А вечером, когда все улицы города были залиты светом костров, факелов, плошек с маслом, когда ревели в честь завоевателя карнаи, четверо рабов внесли в город паланкин с безнадежно больным ученым.
Проститься с умирающим пришли все, кто его знал в Хамадане Абу-Али сделал последние распоряжения, приказал отпустить своих рабов, наградив их Имущество свое просил раздать беднякам.
— Поторопитесь выполнить мои распоряжения, — еле слышно говорил он. — Я хочу умереть нищим и свободным…
— Что приготовить для тебя, шейх? — в отчаянии спрашивает Абдул-Вахид, все еще не теряющий веры во всесилие врачебного искусства своего учителя.
Но ученый лишь слабо машет рукой.
Потом, собравшись с силами, произносит шепотом, с легкой усмешкой на худом, обтянувшемся лице:
От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.
Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел…[54]
Это были последние слова Абу-Али ал-Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сины, ставшего известным во всем мире под именем Авиценны.
980 г. — В селенье Афшана близ Бухары родился Хусейн ибн Сина.
986–987 гг. — Переезд семьи Ибн Сины в Бухару. Начало ученья.
994–996 гг. — Ибн Сина изучает медицину и становится известным врачом
995–996 гг. — Болезнь эмира Нуха ибн Мансура. Излечение его Ибн Синой. Молодому ученому разрешено работать в библиотеке Саманидов
999 г. — Взятие Бухары илек ханом Насром. Падение Саманидов. Гибель библиотеки.
1000 г. — Первые самостоятельные сочинения Ибн Сины: «Собранное», «Итог и результат», «Книга благодеяния и греха». Смерть отца. Переезд Ибн Сины с семьей в Хорезм.
1002 г. — Начало правления хорезмшаха Ма'муна ибн Ма'муна. «Академия» хорезмшаха
1002–1010 гг. — Блестящая плеяда ученых при дворе хорезмшаха. Приезд в Хорезм Бируни. Полемика Ибн Сины и Ал-Бируни по научным вопросам. Султан Махмуд Газнийский протягивает руки к Хорезму.
1011–1012 гг. — Бегство Ибн Сины из Хорезма. Переезды в Несу, Абиверд, Туе. Нишапур и др Султан Махмуд рассылает портрет Ибн Сины.
1012 г. — Приезд в Джурджан. Смерть султана Джурджана Кабуса ибн Вашмгира. Приход к власти его сына султана Манучехра (1012–1029). Ибн Сина диктует ученику книгу «Среднее сокращение по логике». Им написаны за джурджанский период: «Появление и возвращение», «Совокупные наблюдения», начат «Канон врачебной науки», сделано сокращение «Алмагеста» Птолемея.
1013–1014 гг. — Переезд в Рей. Излечение психического заболевания молодого правителя Рея. Работа над научными сочинениями. Переезд в Хамадан к тамошнему правителю Шамс-уд-Давла. Книга Ибн Сины «Сердечные лекарства»
1017 г. — Захват Хорезма султаном Махмудом Газнийским.
1017–1023 гг — Жизнь в Хамадане. Ибн Сина — везир хамаданского правителя. Научные работы. Нападение на дом Ибн Сины. Ученый скрывается. Шамс-уд-Давла снова призывает к себе Ибн Сину. Смерть Шамса во время похода. Наследник правителя преследует ученого. Заключение в крепость Фардджан. Работа в крепости. Повесть «О Хайе, сыне Якзана», «Книга руководства», «Книга с коликах» и др.
1023 г. — Бегство Ибн Сины в Исфаган к Ала-уд-Давла. Собрания ученых во дворце эмира. Ибн Сина — ближайший советник правителя. Плодотворная научная деятельность. Окончание «Канона врачебной науки». Работа над «Книгой знания» на таджикском языке, посвященной Ала-уд-Давла, и многие другие.
1036 г. — Поход Ала-уд-Давла на Хамадан и захват его.
1037 г. — Болезнь и смерть Ибн Сины.
Ибн Сина. Даниш-наме (Книга знания) Сталинабаз, 1957 г.
Ибн Сина, Канон врачебной науки. Ташкент, т. 1. 1954 г… т. II. 1956 г
Ибн Сина, Четверостишья. Перевод С. Липкина. Альманах «Литературный Таджикистан» № 5, 1953 г.
[Ибн Сина и Ал-Джузджани], Жизнеописание Абу-Али Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сины, рассказанное им самим и записанное его учеником Абу-Убейдом ал-Джузджани. Перевод с арабского М. Занда. Альманах «Литературный Таджикистан» 5, 1953 г.
В Асмус, Абу-Али ибн Сина. Журнал «Новый мир» N° б. 1952 г.
В. Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса». Записки Коллегии востоковедов, т. V.
Е. Бертель с, Авиценна и персидская литература. «Известия АП СССР (Отд. общ. наук)», № 1–2, 1938 г.
Е. Бертель г. Литература народов Средней Азии. Журнал «Новый миря № б, 1939 г.
А. Богоутдинов, Великий мыслитель средневековья. «Вестник АН СССР» № 6, 1952 г.
А. Богоутдинов, Выдающийся памятник философской мысли таджикского народа. Журнал «Вопросы философии» № 3, 1948 г.
А. Богоутдинов, Предисловие к книге Ибн Сины «Даниш-наме». Стали-набад, 1957 г
А. Я. Борисов, Авиценна как врач и философ. «Известия АН СССР (Отд. общ. наук)» № 1–2, 1938 г.
И Брагинский, Торжества разума. «Литературная газета» от 19 августа 1952 года.
Б. Гафуров. История таджикского народа. Изд. 2-е. М. 1952 г.
Г. Гинцбург, Арабская медицина и произведения Авиценны. Труды Института востоковедения АН СССР, вып. XXXVI, 1941 г.
М. Занд, Поэтическое творчество Ибн Сины. Альманах «Литературный Таджикистан» № 5, 1953 г.
Т. Измайлова, Авиценна (К 1000-летию со дня рождения). Л., 1952 г
Л. Климович, Светоч науки и культуры. Альманах «Дружба народов» № 3, 1952 г.
Е. Павловский, Великий ученый-энциклопедист. «Правда» от 18 августа 1952 года.
Б. Петров, Авиценна (К 1000-летию со дня рождения). «Вестник Академии медицинских наук СССР» № 4, 1952 г.
Б. Петров, Авиценна-клиницист. Журнал «Клиническая медицина» № 11, 1952 г.
Б. Петров, Ибн Сина — творец «Канона» (Предисловие к книге Ибн Сины «Канон врачебной науки»), т. I, Ташкент, 1954 г.
Т. Райнов, Ибн Сина. В книге «Великие ученые Узбекистана». Ташкент, 1948 г.
В. Рамодин, Великий ученый Средней Азии Иб» Сина (Авиценна) (980–1037) Изд. «Знание» М., 1952 г.
А. Садыков, К вопросу о возникновении химии в Средней Азии В книге «Материалы по истории отечественной химии». Изд. АН СССР, 1950 г.
A. Семенов, Абу-Али ибн Сина. Сталинабад, 1953 г.
B. Терновский, Авиценна, его жизнь и труды в области биологии и медицины Труды Казанского государственного медицинского института, т. II, 1937 г
C. Толстов, По следам древнехорезмийской цивилизации. Изд. АН СССР М.—Л., 1948 г.
Жильбер У. И, Тысячелетие со дня рождения Авиценны. Журнал «В защиту мира» № 8, январь 1952 г.,
С Улуг-Заде, Великий деятель культуры. «Правда» от 17 августа 1952 гоха.
П. Факторович, Великий ученый-естествоиспытатель. Журнал «Природа» № 7, 1952 г.
С. Шанявский, Могила Авиценны. Отдельный оттиск из журнала «Врач» № 5, 1900 г.
А. Шмидт, Рукописи произведений Авиценны в Государственной публичной библиотеке УзССР. Труды Института востоковедения АН СССР, вып. 36, 1941 г.
А. Якубовский, Абу-Али ибн Сина и его время (К 1000-летию со дня рождения по хиджремусульманской лунной эре). Журнал «Вопросы истории» № 9, 1952 г.
А. Якубовский, Махмуд Газневи. В сборнике «Фердовси». Изд. АН СССР, 1934 г.
Сборник «Портрет Ибн Сины». Изд. Института востоковедения АН УзССР, 1956 г.
Сборник «Ибн Сина. Материалы научной сессии». Изд. АН УзССР, Ташкент, 1953 г.
Вера Алексеевна Смирнова-Ракитина родилась в г Вязьме Смоленской области. Училась во Вхутемасе, затем на курсах книжной графики у художника Ф. И Рерберга. Несколько лет занималась живописью. Печататься начала с 1933 года. До войны в серии «Жизнь замечательных людей» вышли ее книги «Менделеев», «Мусоргский», «Глинка» (под псевдонимом — В. Слетова). Около двадцати лет работала в журналах. В 1955 году изд-во «Советский писатель» выпустило ее книгу «Повесть об Авиценне».