Игорь Суриков
Геродот
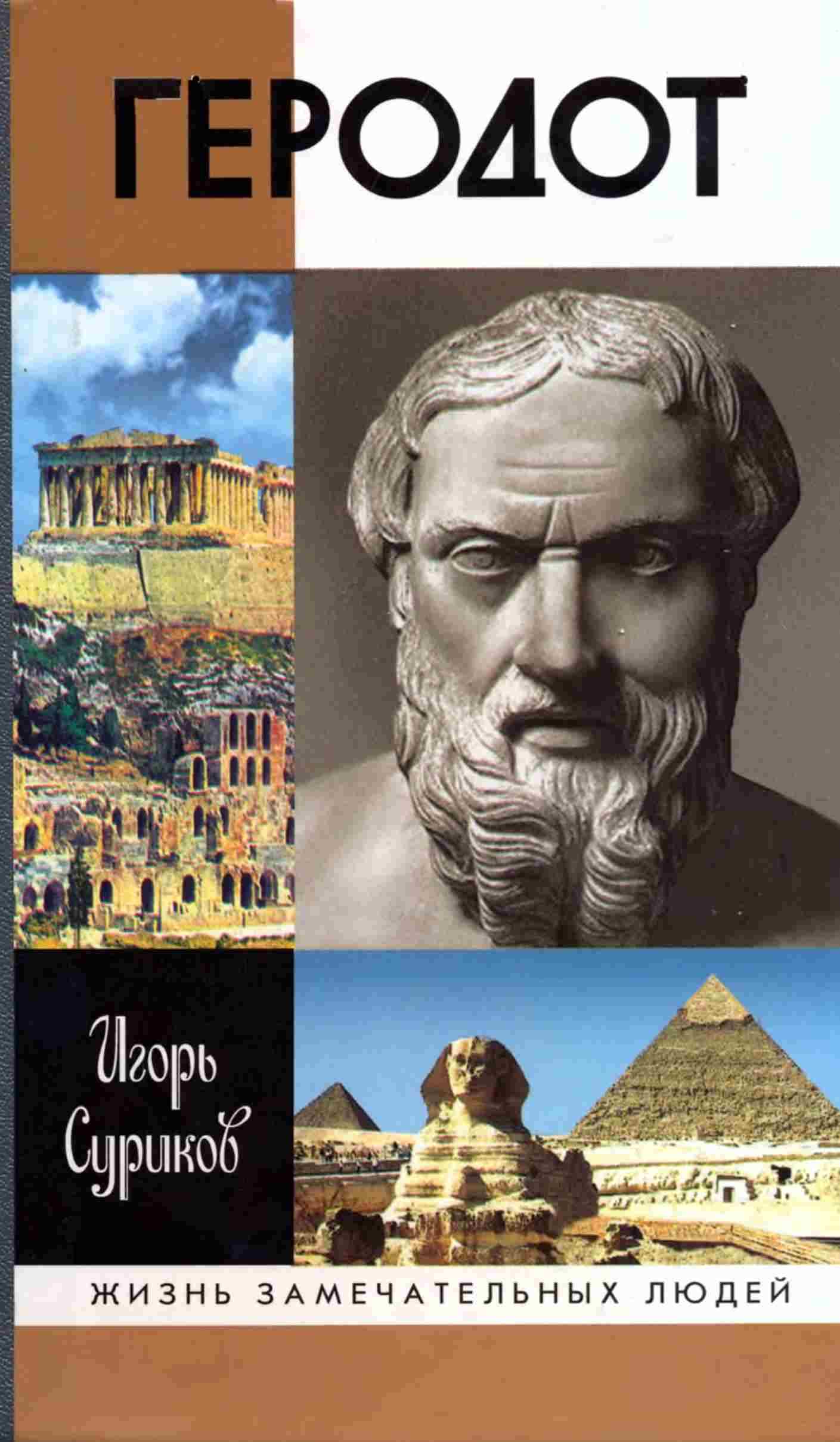
Человек, о котором рассказывается в этой книге, смело и без всякого преувеличения может быть назван одним из величайших представителей античной и мировой культуры. Уже в древности за ним прочно закрепился почетный эпитет «Отец истории» (
Этот грек из малоазийского Галикарнаса (Галикарнасса)[1] стал, как ныне модно выражаться, «знаковой фигурой» не по капризу судьбы, а вполне закономерно. Его сочинение очень непохоже на всё остальное, созданное в рамках столь обильной на литературные и научные шедевры эллинской цивилизации. «История» и по сей день не перестает удивлять и радовать читателя уникальным сочетанием таких разнообразных черт, как глубочайший интерес к событиям прошлого и настоящего, неутомимое стремление отыскать истину, широкий охват материала, яркий и занимательный стиль изложения, подчеркнутая терпимость ко всему «чужому», непохожему, — одним словом, открытость миру. Эти черты просто не могут не показаться актуальными и симпатичными даже в нашу эпоху, во всех отношениях далекую от Античности.
Сколь много Геродотом было сказано впервые — не только в греческом масштабе, но и в общеевропейском, даже в общемировом! Он был первым, кто изобразил исторический процесс в форме векового конфликта Запада и Востока и тем самым внес ключевой вклад в формирование самосознания, самоидентификации Запада, к которому принадлежал. Один современный ученый выразился даже так: «Геродот единолично создал концепцию западной цивилизации»{1}. Сказано, пожалуй, слишком сильно, но изрядная доля истины в таком суждении есть.
С Геродота начинается не только историческая, но и политическая мысль в Европе. В его труде впервые появляется развернутый и аргументированный диспут о преимуществах и недостатках различных форм правления. Он высказал необыкновенно перспективную мысль о том, что в принципе существуют три вида государственного устройства: монархия, олигархия и демократия; в первом случае власть принадлежит одному человеку, во втором — небольшой группе лиц, в третьем — всему народу (собственно, эти термины так и переводятся с древнегреческого языка: «власть одного», «власть немногих», «народоправство»).
Классификация, что и говорить, предельно строгая и четкая: ни прибавить, ни убавить. Политические теоретики последующих веков вносили в нее разве что вариации или детализации, из которых далеко не все выдержали проверку временем. Можно сказать, что в целом схема, предложенная «Отцом истории», и поныне не устарела{2}. В высшей степени интересно, что именно в труде Геродота впервые встречается само слово «демократия» — термин, которому была суждена столь громкая будущность.
Геродот был великим и неутомимым путешественником. Любознательность влекла его на север и юг, на запад и восток… Побывал он и в долине Нила, где пирамиды хранили память о древних фараонах, и на берегах Черного моря, и в баснословном Вавилоне, и в Италии. Разумеется, вдоль и поперек пересек он родную Грецию. Но вот парадокс: хотя Геродот и был греком, однако не в Греции он появился на свет, не в Греции и умер; она, в сущности, оставалась для него только «исторической родиной».
Странствиям Геродота посвящено немало страниц в нашей книге. А путешествовал он отнюдь не как досужий зевака; меньше всего он похож на современного туриста, который завтра забудет то, что видел сегодня. В каких бы краях он ни оказался, великий историк тщательно запоминал и записывал всё, что оказывалось перед его глазами, и всё, что удавалось услышать от местных жителей, — а расспрашивал он их постоянно. Поэтому его произведение исключительно богато не только фактами из истории Греции и Востока, но и сведениями о природе разных далеких местностей — о морях и горах, реках и городах, о диковинных животных и растениях — и образе жизни многих народов, их быте, нравах, обычаях… Велики заслуги автора не только перед исторической наукой, но и перед географической, а особенно — этнографической. Иногда даже говорят, что Геродот — не только «Отец истории», но и «Отец этнографии».
Историк, географ, этнограф, путешественник, политический мыслитель, а на некоторых этапах своей биографии даже и политический деятель — перед нами предстает удивительно разносторонняя и в то же время цельная, гармоничная фигура, плоть от плоти и воплощение духа своей страны и своей эпохи — классической Греции V века до н. э., в которой произошел невиданный взрыв творческой активности, стала по-настоящему раскрепощенной и свободной человеческая личность. Эта свобода и раскованность проходят красной нитью через всё сочинение Геродота. Он не связывает себя каким-либо жестким планом, сплошь и рядом отклоняется от основного предмета повествования — Греко-персидских войн, — чтобы дать обширные экскурсы в самые неожиданные темы: то о переселениях эллинских племен много веков назад, то о становлении царской власти в далекой Мидии (древнего государства на северо-западе Ирана), то о нравах скифов, то о разливах Нила, то о мифических муравьях величиной с собаку, стерегущих индийское золото… Он щедро делится со своими читателями (точнее, слушателями, поскольку во времена Геродота читать «про себя» было еще не принятое чтение любого произведения являлось, как правило, публичным) всем, что ему удалось узнать и что его заинтересовало.
Геродот принадлежит к тем — самым знаменитым — историческим персонажам, чьи имена известны, наверное, всем. Автору этих строк, помнится, на одной из московских улиц встретилась вывеска «Геродот» над дверью… продовольственного магазина. Владелец магазина вряд ли точно представлял себе, чьим именем он назвал свое заведение; иначе он сообразил бы, что такое название больше подходит, скажем, для книжной лавки. Тем не менее ясно, что само оно вызвало у хозяина ярко выраженные положительные ассоциации, раз он решился сделать его «маркой» своего предприятия. К тому же, по всей видимости, здесь был маркетинговый расчет на то, что покупатель, увидев знакомое и в то же время несколько загадочное слово, обязательно заглянет в магазин.
А теперь — о другой стороне медали. Как говорит старинная пословица, и на солнце есть пятна. Геродот был признан не только «Отцом истории», но уже в древности прослыл и «отцом лжи», безответственным фантазером, выдающим сказочные выдумки за истину. Сейчас трудно поверить, что для многих античных греков имя Геродота воспринималось примерно так, как в наши дни имя барона Мюнхгаузена.
Пиетет перед Геродотом всегда бок о бок соседствовал с его жесткой критикой. Аристофан пародировал его, Фукидид порицал его исследовательские методы, Плутарх гневно обвинял его в злонамеренных вымыслах и искажении фактов, ранние христианские историки уличали его в плагиате… «Антигеродотовская» традиция довольно сильна в науке и по сей день. Какие только упреки не сыпались (и продолжают сыпаться) на голову героя нашей книги: и в чрезмерном доверии к своим информаторам, которые подчас рассказывали ему откровенные побасенки, и в неумении правильно понять ход истории, и в недостатке патриотизма, и — наоборот — в национализме и шовинизме. Нам еще предстоит разобраться в том, насколько обоснованны все эти упреки. Во всяком случае, ясно одно: Геродот как личность, как ученый, как мыслитель был не только целостным и гармоничным, но и противоречивым, порождал самые различные суждения о себе… Это лишь усугубляет наш интерес к нему.
Писать биографии деятелей науки часто бывает трудно, поскольку рассказывать по большому счету почти не о чем. Многие из них являлись «кабинетными учеными», и их жизненный путь пролегал без каких-либо захватывающих перипетий. Геродот — не тот случай. На его долю выпала сложная, бурная, богатая событиями судьба. Инсургент, политэмигрант, эмиссар, колонист — кем он только не был… В жизни Геродота немало загадок, не проясненных или спорных эпизодов. Дело в том, что сам он — то ли из скромности, то ли следуя установившейся эпической традиции — не говорит о себе почти ничего, разве что местами замечает, рассказывая о той или иной стране, о том или ином чуде природы или искусства: тут я был, это я видел своими глазами.
Более поздние авторы, давая различные сведения о Геродоте, делают это сбивчиво, нередко с ошибками, порой противореча друг другу. Это придает нашему повествованию дополнительную интригу: появляется возможность не только представить биографию «замечательного человека» (а материалов для полноценного, яркого жизнеописания вполне хватает), но и попытаться заодно хоть немного распутать клубок биографических проблем, связанных с Геродотом.
Речь у нас пойдет не о полководце или государственном деятеле, а об ученом и писателе, художнике слова и мысли, то есть представителе не политической, а культурной сферы бытия. Главным деянием в жизни «Отца истории», которое, собственно, и сделало его таковым, был, безусловно, его труд. Соответственно, наша книга — не только о Геродоте, но и о его «Истории». Что побудило галикарнасского грека приступить к созданию своего эпохального произведения? Как он над ним работал, откуда черпал сведения и каким образом их использовал? Насколько достоверна приводимая им информация? Какие задачи он перед собой ставил? Чем отличается сочинение Геродота от аналогичных трудов его предшественников — и чем оно похоже на них? Каковы религиозные, философские, политические взгляды автора? В чем секрет его литературного мастерства? Успел ли Геродот закончить свой труд или он так и остался незавершенным? Наконец, какое влияние оказала «История» на последующее развитие исторической мысли и исторической науки — вплоть до наших дней? Вопрос следует за вопросом; наивно было бы полагать, что в рамках одной книги удастся дать на всё однозначные и непротиворечивые ответы. Но хотя бы попытаться найти решения части сложных проблем мы просто обязаны.
Кроме того, говоря о Геродоте, никак нельзя умолчать о его времени, о том мире, в котором он жил. Ведь как уже было отмечено выше, Геродот — один из самых ярких представителей своего века, выразителей его мироощущения. А время это, повторим, было уникальным периодом высшего расцвета «греческого чуда»: союз маленьких эллинских полисов (городов-государств) одержал фантастическую, невероятную победу над колоссальной Персидской державой, простиравшейся от долины Нила до берегов Инда. Отныне греки — самый сильный народ в мире, и это всеми признано; никакая внешняя опасность им не угрожает. Уж если кто-то и может одолеть греков, то только они сами, ослабив друг друга в междоусобной борьбе.
Зерна этой борьбы уже посеяны: понемногу разгорается соперничество между двумя крупнейшими городами Эллады. На одном ее полюсе — Афины, где сложилась и развивается самая знаменитая, самая яркая и законченная из античных демократий, провозглашены принципы свободы и равенства, власть реально принадлежит всему коллективу граждан, большие и малые политические вопросы решаются путем открытого обсуждения и голосования в народном собрании. На другом полюсе — Спарта, очень сильное, жестко военизированное и тоталитарное (но не олигархическое, как часто пишут) государство. Как в Афинах ценилась свобода, так в Спарте — дисциплина и повиновение старшим. Спартанцы, пренебрежительно относясь к наукам и искусствам, тем не менее создали своеобразный «духовный космос» с такими характерными чертами, как консервативная привязанность к традициям, глубокая религиозность, умение кратко и остроумно излагать свои мысли («лаконизм» происходит от названия Лаконики — области, центром которой была Спарта).
Эти две «сверхдержавы» греческого мира в конце концов сшиблись друг с другом, ударились, как кремень о кресало, и от искры вспыхнул пожар, пожравший Элладу. Геродоту, впрочем, не было суждено увидеть оставшееся пепелище: к тому времени он уже умер. А большая часть жизни «Отца истории» прошла в совсем другой обстановке, когда негативные тенденции пока что не проявились во всей силе. В обществе еще царили оптимизм, гордая убежденность в собственном могуществе, бодрая уверенность в завтрашнем дне.
Греки в V веке до н. э. — не только самый сильный, но и самый культурный народ. На центральном холме Афин — Акрополе — возводится неповторимый по гармоничности и совершенству форм архитектурный ансамбль, подымаются колонны храма Афины-Девы, Парфенона — шедевра мирового зодчества. Великий скульптор Фидий приступает к созданию уникальных колоссальных статуй из золота и слоновой кости. В мастерских Керамика (афинского квартала гончаров) изготавливаются глиняные вазы, покрытые замечательными росписями. В театре Диониса у подножия Акрополя ставятся бессмертные трагедии Эсхила и Софокла. Продолжается бурный расцвет философской мысли: на афинских площадях читают свои лекции заезжие «учителя мудрости» — софисты, а в толпе слушателей уже появляется, иронически улыбаясь, молодой Сократ. Формируется риторика — теория ораторского искусства. На острове Кос (совсем недалеко от Галикарнаса, родины Геродота) начинает свою врачебную практику Гиппократ, основатель научной медицины…
Какое место в этом политическом и интеллектуальном кипении занимал Геродот? Ведь в том, что он был его активным участником, одной из главных фигур «греческого Просвещения» V века до н. э., сомневаться не приходится. На этот вопрос нам тоже предстоит попытаться найти ответ.
Итак, эта книга — об «Отце истории» Геродоте, о его труде, о его времени, о его мире.
Сочинение Геродота начинается словами: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом» (Геродот. История. I. 1[2]).
Правда, уже в Античности была выдвинута версия, согласно которой эта фраза, представляющая собой краткое введение ко всему труду, не принадлежит самому «Отцу истории». Так, малоизвестный писатель I или II века н. э. Птолемей Хенн считал, что ее на самом деле дописал друг и наследник Геродота — некий поэт Плесиррой из Фессалии. Он будто бы готовил к изданию «Историю» после смерти автора, оставившего ее незавершенной; соответственно, Плесиррою пришлось «доработать» текст, в том числе снабдить его процитированным выше вступительным пассажем{3}.
Так ли это на самом деле, сказать нелегко. С одной стороны, Птолемей Хенн отнюдь не пользуется репутацией авторитетного ученого; его «Новая история», откуда взяты эти сведения, слывет собранием анекдотов и досужих вымыслов. С другой стороны, труд Геродота действительно не был окончен автором; видимо, смерть оборвала работу едва ли не на полуфразе. А раз произведение не окончено — значит, несомненно, кому-то пришлось готовить его к публикации (и совершенно не важно, звали «издателя» Плесирроем или как-нибудь иначе). Вполне возможно, что на этом этапе и было введено предисловие. В пользу такого предположения, кажется, свидетельствует то, что Геродот в упомянутой первой фразе назван в третьем лице, в то время как далее, на всем протяжении труда, он говорит о себе только в первом.
Впрочем, принадлежит ли вступительная фраза самому «Отцу истории» или, так сказать, «редактору», принципиального значения не имеет. Ясно одно: она вполне точно передает основное содержание труда. В сочинении Геродота речь идет именно об этом: о «прошедших событиях», «великих и удивления достойных деяниях как эллинов, так и варваров», а прежде всего — о их войнах друг с другом.
Итак, «эллины и варвары». Появляясь в самом начале «Истории», они как бы задают тон всему повествованию. Кто же они такие? Ведь для Геродота, похоже, всё человечество распадается на две названные категории.
С эллинами особенных проблем не возникает — это конечно же греки. Так они именовали себя с глубочайшей древности, так именуют и по сей день. Соответственно, страну свою они называли и называют Элладой. Слова «греки», «Греция» — латинского происхождения. Они употреблялись римлянами — западными соседями жителей Эллады, — а уже под влиянием римской традиции впоследствии распространились во всех европейских странах, в том числе и у нас.
Греки, или эллины, времен Геродота не образовывали единого государства, жили в условиях большой политической раздробленности. Греческий мир делился на несколько сотен маленьких, но совершенно независимых полисов. Полис обычно определяют как «город-государство», то есть политическое образование, включающее в себя городской центр и его сельскую округу (ясно, что без сельскохозяйственной территории, хотя бы минимальной, никакой государственный организм прожить просто не сможет).
Правда, определение полиса как «города-государства» неоднократно подвергалось критике — серьезной и отчасти справедливой. Отмечалось, что, хотя первое и основное значение древнегреческого слова «полис» действительно «город», все-таки между этими понятиями не всегда можно поставить знак равенства. Известны полисы, в которых имелся не один городской центр, а два, а то и больше.
Возьмем афинский полис, охватывавший всю Аттику — область на востоке Средней Греции, располагавшуюся на полуострове, который своеобразным «рогом» вдается в Эгейское море. В этом обширном полисе наряду с главным городом, самими Афинами, в V веке до н. э. вырос приморский портовый Пирей. В период наивысшего расцвета он по размеру не сильно уступал Афинам, а по уровню городского благоустройства даже превосходил их. Судя по всему, городом, пусть небольшим, было и еще одно поселение в Аттике — Элевсин, прославленный знаменитым святилищем богини Деметры. Но в полисах такого типа один город всё же обязательно выделялся, играл роль столицы.
Но некоторые полисы вообще не обладали ярко выраженным городским центром. Такова была Спарта: она представляла собой, в сущности, пять лежавших по соседству, но разрозненных деревень, не имевших даже городской стены. Однако и Афины, и Спарта были не типичным примером, не нормой, а исключением в мире греческих полисов.
Равным образом не все согласны с тем, что полис можно считать государством. Существует точка зрения, согласно которой о государстве можно говорить только тогда, когда есть отдельный государственный, бюрократический аппарат, не совпадающий с обществом, неподконтрольный ему. В греческих же полисах такого бюрократического аппарата как раз не было: граждане направляли внутреннюю и внешнюю политику своими совместными решениями в народном собрании. Но если исходить из этого критерия, оказывается, что, например, Древний Египет, Вавилония, Персия были государствами, а Афины, Спарта, Коринф — не были. Но чем же тогда они являлись, обладая всеми остальными важнейшими признаками государственности: полным политическим суверенитетом, системой органов и учреждений, осуществлявших власть, письменно зафиксированными правовыми нормами — законами, стабильной территорией?
Одним словом, тезис о том, что античный полис — не государство, парадоксален, особенно если вспомнить о том, что сама наука о государстве зародилась в Древней Греции (Геродот был одним из первых ее представителей). Поэтому среди ученых-историков, исследующих древнегреческий полис, решительно преобладает мнение, что он был государством. Другое дело, что государственность в разные эпохи, в неодинаковых условиях может принимать различные формы, совершенно не схожие между собой. И в этом смысле ее полисный тип действительно представляется очень непохожим на те формы, которые привычны для нас. Но на этом и основан принцип историзма: не следует подходить к явлениям предшествующих эпох с современными мерками.
Однако при использовании определения полиса как «города-государства» необходимо помнить о том, что в Античности и понятие «город», и понятие «государство» имели во многом иной смысл, нежели тот, который мы теперь вкладываем в них.
Слово «полис» по-древнегречески действительно означает «город». Но когда в наши дни говорят «город», имеют в виду некую территорию, улицы и площади, жилые дома и общественные здания… Когда же древний грек говорил «полис», он имел в виду город в смысле совокупности граждан — свободных и полноправных его жителей. Полис для эллина — это «люди, а не стены» (
С другой стороны, «полис» означает также и государство, но также в не вполне привычном для нас смысле. Мы понимаем под государством некую единую территорию, которая находится под управлением определенной верховной и независимой власти. Именно таковы современные государства, будь то Франция, Китай, Россия или любое другое. Для грека же территория — отнюдь не главное; первостепенным является тот же гражданский коллектив, который осуществляет на ней власть своими силами.
Полис, покинутый своими гражданами, в древнегреческом восприятии никак уже не мог считаться таковым: он не был больше ни городом, ни государством. В то же время, скажем, войско на походе могло в некоторых ситуациях выступать в качестве полиса — постольку, поскольку оно являлось коллективом граждан, хотя, естественно, не обладало ни городскими постройками, ни сельской территорией.
Одним словом, полис — очень сложное понятие. Он являлся не только городом и не только государством. Его уточненное определение может быть таким: полис — это городская гражданская община, конституирующая себя в качестве государства. В этом определении, как можно заметить, акцент делается на основополагающей роли коллектива граждан. Не случайно в правовой теории и практике греческого мира полис — это именно граждане и только граждане. Так, в межгосударственных отношениях полисы официально именовались не «Афины», «Спарта» или «Коринф», а «афиняне», «спартанцы» или «коринфяне», что для нас совсем уж непривычно. Это хорошо видно даже при беглом прочтении как античных исторических трудов, так и сохранившихся документов: воюют друг с другом, заключают мир, вступают в союз всегда только афиняне и спартанцы или, скажем, милетяне и самосцы.
Конечно, граждане были не единственными людьми, населявшими полис. На его территории жили и другие лица, не пользовавшиеся гражданскими правами: рабы, женщины, переселившиеся в данный полис жители других городов (метеки). Все они, разумеется, не могли не быть частью общества. Но в состав гражданской общины, полиса как такового они не входили.
В греческом полисе приобрело очень выраженную форму противопоставление граждан всем прочим категориям населения. Гражданский коллектив был в известной степени некой замкнутой кастой, которая держала в своих руках всю власть в государстве. Можно назвать полис корпорацией граждан, сплотившейся перед всем остальным миром — как окружавшим полис, так и «проникавшим» в него в лице жителей без гражданских прав. Отсюда — определенная военизированность полиса, постоянная готовность к мобилизации всех сил для отражения угрозы со стороны враждебной внешней среды. Идеальным воплощением полиса была изобретенная в нем фаланга — сомкнутый строй тяжеловооруженных пехотинцев (гоплитов), «ощетинившийся» навстречу противнику и могучий своим коллективным порывом.
Не случайно одним из самых основополагающих элементов всего бытия полиса считалась политическая независимость, обозначавшаяся термином «автономия» (в переводе с древнегреческого — «жизнь по собственным законам»). Любой, даже самый маленький полис держался за эту самостоятельность всеми силами. Конечно, случалось, что она нарушалась — полис на время подпадал под чужую власть. Но свободолюбие греков, как правило, не позволяло им терпеть такую ситуацию: они продолжали бороться за возвращение собственному государству независимости и чаще всего рано или поздно добивались своего.
Свобода была, пожалуй, главной ценностью для грека полисной эпохи. Речь идет не только о независимости полиса, но и о свободе гражданина. Сам статус гражданина являлся, в сущности, новаторским. Он впервые появился в широких масштабах и стал общераспространенным как раз в полисном мире Эллады. Ранее, в древневосточных цивилизациях, безусловно преобладающим был статус подданного. Подданный всецело зависит от произвола монарха или иного вышестоящего начальства; гражданин, в отличие от него, наделен совокупностью неотъемлемых прав и подчиняется только закону.
Для того чтобы входить в состав граждан, человек должен был соответствовать целому ряду требований. Прежде всего, гражданином мог быть только свободный человек; понятия «гражданин» и «раб» во времена Геродота были несовместимы. Далее, необходимо было родиться мужчиной. Полисная цивилизация всецело построена на решительном преобладании мужской части населения. Женщины не имели не только политических, но и остальных гражданских прав, даже имущественных.
К важнейшим требованиям относилось происхождение от предков-граждан — по крайней мере по прямой мужской линии. С «приезжими», выходцами из других городов и их потомками полис делился гражданскими правами в высшей степени неохотно — разве что за особые заслуги. В некоторых полисах это требование еще ужесточалось. Так, в демократических Афинах с середины V века до н. э. гражданином мог быть лишь человек, происходящий от граждан не только по отцовской, но и по материнской линии.
Полноправный гражданин должен был обладать земельным наделом. Человек был собственником земли, поскольку он являлся гражданином — и наоборот. Индивид лично свободный, но не входивший в число граждан, не мог получить в собственность земельный надел. Именно весь коллектив граждан полиса выступал верховным собственником полисной земли. Гражданская община наделяла участками всех своих членов, а при необходимости могла и отобрать их.
Гражданин был обязан участвовать в военных мероприятиях полиса, то есть служить в полисной армии. Собственно, армии всех полисов (вплоть до того момента, когда в этом типе социально-экономического устройства наметились кризисные явления) представляли собой не какие-то отдельные профессиональные структуры, а именно ополчения граждан, тождественные народным собраниям. Потому-то войско в походе и могло при желании легко превратиться в «полис без территории». Государство даже не обеспечивало своих воинов доспехами и оружием — каждый был обязан экипироваться за свой счет.
Всеобщая воинская повинность порождалась необходимостью защищать свободу и целостность полиса, его независимость и законы, собственность членов гражданской общины. Эта повинность, впрочем, была не только обязанностью, но и привилегией, ибо она тоже являлась одним из критериев статуса гражданина. Лица, не входившие в гражданский коллектив, привлекались в войско лишь в редчайших случаях самой крайней необходимости. Ведь участие в военных походах — это не только труд, лишения, опасность для жизни, но еще и возможность обогатиться за счет добычи, заслужить почет от сограждан и повысить свой авторитет. Чем выше была роль гражданина на полях сражений, тем выше его авторитет в политической жизни.
Граждане имели право (и были обязаны) принимать участие в управлении государством. Именно гражданский коллектив в форме народного собрания осуществлял — реально или хотя бы номинально — высшую власть. В любом полисе именно народное собрание считалось верховным органом управления, выносящим окончательное решение по всем важнейшим вопросам. Правда, фактически оно было полновластным только там, где утвердилась демократия. Наряду с такими полисами существовали и олигархические, где наибольшие полномочия концентрировались в руках самых знатных и богатых граждан; но даже и они без народного собрания не обходились.
Полисная государственность не предусматривала особых органов власти, оторванных от народа, то есть полисы являлись — редчайший случай в мировой истории — государствами без бюрократии. Должностные лица в них были исключительно избираемыми. Выборы проводились либо путем прямого голосования граждан, либо, что для нас совсем уж необычно, путем жеребьевки. Жребий считался самым объективным способом избрания, поскольку исключал любые пристрастия сограждан. Кроме того, в жребии видели проявление воли богов, а в них верили все: религиозное мировоззрение было абсолютно преобладающим, атеистов практически не существовало.
Гражданин греческого полиса мог с полным основанием сказать о себе то же, что в XVIII веке заявил абсолютный монарх Людовик XIV: «Государство — это я». Но при этом он являлся воплощением государства не в одиночку, а лишь в совокупности с другими такими же гражданами, как он. Таким образом, в греческом полисе, пожалуй, впервые в мировой истории сформировалось правильное и стабильное республиканское устройство, при котором общество и государство не были отделены друг от друга.
С античным греческим полисом связаны два открытия колоссального значения. Об одном из них мы уже упоминали: это идея свободы. В древневосточных царствах не существовало даже такого понятия. Каждый кому-то подчинялся: могущественный вельможа точно так же был рабом царя, как и последний крестьянин. Да и царь не был свободен — над ним стояли боги. В Греции же идея свободы гражданина приобрела весьма развитые формы. Но эллин никогда не путал свободу со вседозволенностью, анархией, возможностью делать всё что душе угодно, ведь это нарушало бы свободу окружавших его людей. Свобода мыслилась только в рамках законности: независимость от произвола любого другого лица, подвластность только законам и законным властям, пока они действуют в рамках закона. Гражданин обладает четко очерченными правами; права эти неотъемлемы, лишиться их можно опять же только по предписанию закона (например, в качестве наказания за преступление). Таким образом, свобода и закон неотделимы друг от друга; соответственно, свобода человека предполагает и его ответственность за свои действия.
Другим открытием была идея равенства. Оно в греческом мире понималось прежде всего как равенство граждан перед законом, равноправие. Эллины прекрасно понимали, что равенства во всем быть не может: всегда останутся сильные и слабые, талантливые и бездарные, богатые и бедные. Уравнивать всех по одному шаблону, загоняя в «прокрустово ложе», бесполезно и бессмысленно. Напротив, в Греции умели ценить яркую личность. Мир полисов отнюдь не был миром серой, безликой массы, где все похожи друг на друга. Не случайно древнегреческая цивилизация произвела на свет огромную плеяду выдающихся деятелей культуры и политики. Среди греков был чрезвычайно силен дух состязательности, «атональный дух», как его часто называют (от греческого слова «агон» — состязание). Что бы ни делал эллин — занимался спортом или государственной деятельностью, сочинял стихи или расписывал глиняную вазу, — он вступал в соревнование с коллегами по профессии. Прекрасно сказал об этом еще на рубеже VIII–VII веков до н. э. поэт Гесиод (Труды и дни. 25–26):
Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник;
Нищему нищий, певцу же певец соревнуют усердно.
Зависть в нашем понимании — чувство не слишком достойное. Но то, о чем пишет Гесиод, было завистью творческой, плодотворной, заставлявшей греческих мастеров делать свое дело как можно лучше, блеснуть качеством — ведь только так можно превзойти остальных.
Итак, с тем, что все люди разные, в Греции никто не спорил. Однако права у всех граждан должны быть одинаковыми, перед законом они должны быть равны. В греческих полисах сложился настоящий «культ закона», закон воистину ставился во главу угла. Как писал философ Гераклит Эфесский, «за закон народ должен биться, как за городскую стену» (
Читателю, наверное, уже стало ясно: полисы могли быть лишь очень небольшими по территории и населению. Даже самые крупные из них, такие как Спарта или Афины, можно условно сопоставить разве что с карликовыми государствами современной Европы типа Лихтенштейна, Монако, Люксембурга.
Так, Спарта — крупнейший по территории полис греческого мира — имела в период своего наибольшего расширения площадь 8400 квадратных километров, куда входили область изначального обитания спартанцев — Лаконика — и завоеванная ими позже Мессения. Население этого полиса составляло около 200–300 тысяч человек, из них полноправными гражданами были не более девяти тысяч. Афинский полис на высшей точке процветания, в середине V века до н. э., охватывал собой область Аттику площадью 2500 квадратных километров. Населения там было больше, чем в Спарте: по разным подсчетам, от 250 до 350 тысяч человек, из них полноправных граждан — в пределах 45 тысяч[3].
Но Спарта и Афины были скорее исключениями, «полисами-гигантами». У «нормальных» же полисов территория по большей части не превышала 100–200 квадратных километров, а население — пяти тысяч человек, из которых гражданами являлись не более тысячи. Были и совсем маленькие полисы с территорией в 30–40 квадратных километров, на которой жили несколько сотен человек. Таким образом, типичный полис был крошечным государством, состоявшим из города (скорее городка) и ближайших окрестностей. Его можно было полностью обойти из конца в конец за несколько часов или, поднявшись на холм, увидеть всё государство целиком. Все граждане должны были знать друг друга в лицо. Это было неизбежно и необходимо: только при таких условиях коллектив граждан мог реально осуществлять власть, присутствуя на народных собраниях. (Понятно, что в современных государствах с их большими размерами никакие народные собрания просто не могут иметь места).
В Афинах, разумеется, было не так — на улицах можно было встретить сколько угодно незнакомых людей. Но Афины, повторим, были редким исключением, своего рода «греческим Нью-Йорком», и у попавшего в них жителя маленьких Платей или Флиунта наверняка сразу же начинала идти кругом голова.
«Миниатюрность» полиса была обусловлена рядом причин экономического, политического и культурного характера. Важную роль здесь играла так называемая стенохория — земельный голод, недостаток пригодных для возделывания земель. В большинстве греческих областей полисы располагались буквально вплотную друг к другу, и расширяться им было просто некуда: ни один из них не мог расти больше, чем позволяли соседи. Малые размеры гражданского коллектива порождались необходимостью сохранять и поддерживать этот коллектив как реальное единство. В чрезмерно разросшемся полисе народное собрание переставало быть подлинным воплощением общины граждан. Так, в Афинах из 45 тысяч граждан регулярно посещали народное собрание около шести тысяч. Это, конечно, искажение принципа полисного народоправства, хотя не такое уж и сильное: когда в собрании решался действительно жизненно важный вопрос, на заседание приходило гораздо больше людей — даже те, кто в менее серьезных случаях проявлял аполитичность.
Кроме того, мировоззрению античных эллинов была в высшей степени свойственна пластическая идея меры и формы. Ко всему безмерному, беспредельному грек испытывал инстинктивное отвращение, отождествляя его с неоформленным, хаотичным. «Ничего слишком», «Лучшее — мера» — такие афоризмы часто раздавались из уст эллинских мудрецов. Именно чувство меры породило едва ли не все крупнейшие достижения древнегреческой культуры: и доведенные до совершенства пропорции статуй, и отточенную ритмику поэтических произведений, и самодостаточные космогонические системы философов… На политическом уровне то же чувство меры жило в концепции полиса. Он был, помимо прочего, еще и произведением искусства: грек любовался им, как художественным изделием своего ума и рук. Огромные древневосточные державы, безостановочно расползавшиеся вширь и не знавшие предела, должны были представляться ему чем-то чуждым и даже чудовищным.
Вот что пишет о мере применительно к государству один из величайших философов в древнегреческой истории, завершивший и обобщивший классическую традицию, — Аристотель: «Опыт подсказывает, как трудно, чтобы не сказать невозможно, слишком многонаселенному государству управляться хорошими законами; по крайней мере мы видим, что все те государства, чье устройство слывет прекрасным, не допускают излишнего увеличения своего народонаселения… Для величины государства, как и всего прочего — животных, растений, орудий, — существует определенная мера… Так, например, судно в одну пядь не будет вообще судном, равно как и судно в два стадия[4]» (
Греческий полис как бы сам обозначал себе пределы, ставил в какой-то момент точку в собственном расширении. Для каждого конкретного полиса эти границы роста, разумеется, были неодинаковыми. Для Афин они совпали с пределами Аттики. Спарта пошла дальше: для нее точкой, поставленной в расширении полисной хоры, стало покорение вдобавок к Лаконике еще и Мессении. Собственно, Спарта, насколько можно судить, уже переросла меру; отсюда и все трудности, которые в дальнейшем испытывало это государство, и все перипетии странной судьбы; на некоторых из них нам еще предстоит остановиться.
Для подавляющего большинства полисов предел роста наступал едва ли не сразу после их возникновения. Приходилось переходить с экстенсивного пути развития на интенсивный — выживать не за счет присоединения новых территорий, а за счет оптимального использования имеющихся ресурсов — как материальных, так и духовных, человеческих. А это в цивилизационном плане конечно же было благом.
Подчеркнем снова: каким бы миниатюрным ни был полис, он обязательно имел все атрибуты независимого государства: органы власти, войско, финансы. И за эту свободу и независимость полис держался всеми силами, отстаивая ее от любых покушений со стороны соседей.
Наш экскурс об античном полисе мог показаться читателю скучноватым и затянувшимся, однако он был совершенно необходим. Не получив четкого представления об этом феномене, мы многое не сможем понять — и Древнюю Грецию в целом, и время Геродота, и само творчество великого историка.
До сих пор говорилось об эллинах. Теперь же речь пойдет о варварах, которые, как мы видели, играют не меньшую роль в труде «Отца истории».
«Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда…» — чеканные строки Редьярда Киплинга памятны, наверное, каждому. Все понимают, что противопоставление Запада и Востока проводится поэтом не в географическом, а в цивилизационном смысле. Перед нами — концепция, которая настолько определяла собой всю мировую историю на протяжении многих веков, что стала в результате одним из наиболее устойчивых архетипов картины мира, во всяком случае, европейского человека. Представление о «Западе» и «Востоке», находящихся в перманентной вражде, зачастую само уже кажется извечным. Однако же у него есть конкретные время и место возникновения: V век до н. э., Греция.
Для грека классической эпохи все люди четко делились на «эллинов» и «варваров». Под последними понимались все остальные этносы мира, будь то финикийцы и египтяне, обладавшие высокой культурой (намного более древней, чем культура самих греков!), или же скифы или фракийцы, которые еще даже не успели создать собственной государственности. Впрочем, чаще прочих под варварами подразумевались все-таки народы Востока, что вполне естественно, поскольку контакты именно с этим регионом были у греческого мира особенно ранними и активными.
Слово «варвар» (
Собственно существительное «варвар» начинает интенсивно использоваться в Греции несколько позже — авторами рубежа VI–V веков до н. э., старшими современниками Геродота: историком Гекатеем Милетским, философом Гераклитом Эфесским, поэтом Симонидом Кеосским. Но употребляется оно без каких-либо пояснений, как само собой разумеющееся: варвар — это любой не эллин.
Деление всех людей на «эллинов» и «варваров» сыграло огромную роль в складывании этнического самосознания античных греков. Однако не следует считать, что сразу же с возникновением слова «варвар» немедленно выкристаллизовалась в законченном виде идея двух противоположных (и вечно противоборствующих) «культурных миров». Следует разделять два явления: представление об «эллинах» и «варварах» — далеко не то же самое, что противопоставление «эллинов» и «варваров», причем противопоставление тотальное и, самое главное, эмоционально окрашенное (эллин заведомо лучше, чем варвар). Именно это последнее в конечном счете утвердилось у греков:
Грек цари, а варвар гнися! Неприлично гнуться грекам
Перед варваром на троне.
(Еврипид. Ифигения в Авлиде. 1400–1401)
Еще несколько лет спустя те же мысли авторитетно и более «наукообразно» озвучивает великий Аристотель: «У варваров… отсутствует элемент, предназначенный по природе своей к властвованию… Варвар и раб по природе своей понятия тождественные» (
С этого момента слово «варвар», которое изначально было вполне нейтральным, начинает приобретать ярко выраженную эмоциональную отрицательную окраску, становится близким к ругательству; это значение оно продолжает сохранять и по сей день: мы называем варваром невежественного, грубого, жестокого человека.
У очень многих, если не у всех этнических коллективов на каком-то этапе их истории (как правило, весьма раннем) возникает понимание того, что окружающие этносы — именно «другие», «иные», «чужие», чаще всего обусловленное языковыми различиями. Создается впечатление, что мир делится на тех, кто говорит на «правильном» (понятном в данном коллективе) языке, и остальных, кто на нем не говорит. Так, в среде ранних славян все иноземцы фигурировали как «немцы», то есть «немые» (обозначение этим словом жителей Германии — плод уже последующей, более близкой к нам эпохи). Так же обстоит дело и с «варварами». Это слово, как однозначно признается всеми, имеет звукоподражательную этимологию: изначально для грека
Данные представления еще не предполагают ксенофобии, идеи неоспоримого превосходства «своих» над «чужими». Здесь всего лишь констатация наличия «своих» и «чужих», проявление обычной диалектики мифологического мышления, которое вообще оперирует преимущественно сопоставлениями двух противоположных начал: «земля — небо», «мужчина — женщина», «сырое — вареное» и т. п.). До появления идеи тотального конфликта двух миров пока еще очень далеко.
В какой-то момент греки просто «открыли для себя варваров»{4}, осознали, что кроме них самих в мире существуют еще и «иные». В полном масштабе это произошло в ходе Великой греческой колонизации архаической эпохи (VIII–VI веков до н. э.), грандиозного переселенческого движения. Эллины, гонимые нуждой со своей родины, где скудные природные ресурсы не позволяли прокормить разросшееся население, отплывали на кораблях в далекие экспедиции, обосновывались на новых местах и в конце концов покрыли своими городами побережья Средиземного и Черного морей. Греческие колонисты просто не могли не сталкиваться с туземным населением. Однако встреча с «иными» — это стимул не только к
В архаическую эпоху мы еще не находим принципиальной враждебности между «эллинским» и «варварским» мирами. Греция в эти времена еще не отделяет себя от грандиозного мира Древнего Востока, на западной периферии которого она находится{5}. Соответственно, «Восток» и «Запад», «Европа» и «Азия» если и противопоставляются друг другу, то исключительно как географические, а не цивилизационные понятия. Более того, оппозиция «Европа — Азия» еще совпадает не с привычной нам оппозицией «Запад-Восток», а скорее уж с оппозицией «Север — Юг». Да и всё еще взаимозаменяемо в этой формирующейся, мобильной ментальной вселенной: героиня греческой мифологии Европа, давшая имя соответствующей части света, по своему происхождению самая натуральная азиатка — дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом и перевезенная им на Крит.
Развивая эту мифологическую метафору, подчеркнем, что в архаическую эпоху цивилизационного «похищения Европы» еще не произошло. Греки, особенно аристократы, охотно вступают в дружественные и матримониальные связи с аристократами и царями «варварских» стран. Афинские евпатриды Солон и Алкмеон совершали поездки ко двору царей Лидии (государства на западе Малой Азии). Другой знатный афинянин — Мильтиад, будущий победитель персов при Марафоне, — взял в жены дочь фракийского царя и был в дружбе с владыкой Лидии Крезом. Подобных примеров множество. Различия между миром греческих полисов и миром восточных монархий — политические, социальные, культурно-ментальные, — разумеется, осознавались, но не воспринимались как повод для конфликта. Принималось как аксиома, что обычаи у людей могут быть разными.
Здесь нельзя не вспомнить одну историю, рассказанную Геродотом: «Царь Дарий во время своего правления велел призвать эллинов, бывших при нем, и спросил, за какую цену согласны они съесть своих покойных родителей. А те отвечали, что ни за что на свете не сделают этого. Тогда Дарий призвал индийцев, так называемых каллатиев, которые едят тела покойных родителей, и спросил их через толмача, за какую цену они согласятся сжечь на костре своих покойных родителей. А те громко вскричали и просили царя не кощунствовать. Таковы обычаи народов, и, мне кажется, прав Пиндар, когда говорит, что обычай — царь всего» (
В пестром, разнообразном, сложном, необъятном мире приходилось жить грекам архаической эпохи. И они с жадным любопытством впитывали всё новое, бросались, как в водоворот, в жизнь Востока, которая предоставляла им богатые возможности. Среди греческих воинов вошло в моду вербоваться наемниками в армии «варварских» правителей, которые щедро платили за подобного рода услуги.
Особенно много таких наемников-греков находилось в Египте, на службе у фараонов. На левой ноге колоссальной статуи Рамсеса II в Абу-Симбеле, на юге Египта, по сей день сохраняются надписи на древнегреческом языке: имена Архонт, Пелек, Гелесибий, Телеф, Пифон{6}… Загадка разгадывается просто: эллинские воины, участвовавшие в 591 году до н. э. в походе фараона Псамметиха II к южным границам его страны, были поражены грандиозностью увиденного и «увековечили» свое присутствие (вот в какую глубокую древность уходит обычай оставлять «автографы» на достопримечательностях!).
Но не только в качестве солдат отправлялись греки в чужие земли. Их ждали там и как торговцев, и как врачей. Появились и эллины-путешественники, если можно так выразиться, «туристы». Для общения с ними во многих странах Востока даже начали готовить переводчиков, ведь сами гордые сыны Эллады никак не желали изучать иностранные языки.
В эпоху Геродота, в V веке до н. э., когда имело место истинное, а не мифологическое «похищение Европы», всё резко изменилось. Начало процессу положили, безусловно, Греко-персидские войны.
Исконная территория обитания персов — народа индоевропейского происхождения, как и греки, — находилась в юго-восточной части Ирана. Персы по-настоящему громко заявили о себе во второй половине VI века до н. э. При царе Кире (558–529) и его преемниках Персия после ряда успешных завоеваний превратилась в могущественное государство, простиравшееся от Северо-Западной Индии до Египта. Такой империи еще не бывало в истории человечества: необъятной была ее территория, многомиллионным и многонациональным — население, неисчерпаемыми — природные ресурсы, огромным — экономический и военный потенциал.
Новая мировая держава постоянно разрасталась, стремясь подчинить себе все окрестные земли. В 546 году до н. э. персы покорили Лидию, давно уже находившуюся в тесных контактах с греческими полисами. Последний лидийский царь Крез, чье имя ассоциируется с огромным богатством, то ли погиб в огне пожара при взятии его столицы, то ли попал к Киру в плен, а Лидия была превращена в очередную провинцию государства Ахеменидов, управлявшуюся персидским сатрапом-наместником. Тем самым власть Персии распространилась до восточных берегов Эгейского моря.
На этом побережье находилось много греческих городов — Милет, Эфес и другие, в том числе и будущая родина Геродота — Галикарнас. Все эти полисы тоже были вынуждены подчиниться врагу. Одни сдались без боя, другие попытались оказать сопротивление, но силы были слишком неравны. Уже тогда сказалась обычная для полисного мира политическая раздробленность. Однажды на собрании представителей малоазийских греков прозвучало предложение объединиться в федеративное государство. По утверждению Геродота (I. 170), совет этот дал не кто иной, как Фалес Милетский — один из «семи мудрецов», основатель античной философии, выдающийся математик и астроном, одним словом, фигура огромного масштаба в истории интеллектуальной культуры. Впрочем, возможно, Геродот здесь что-то напутал, поскольку к 546 году до н. э. Фалеса вроде бы уже не было в живых. Но не исключено, что он выступил со своей инициативой раньше.
Из чьих бы уст ни прозвучало предложение о политическом объединении, оно не вызвало никакого энтузиазма и принято не было. Каждый греческий полис превыше всего ценил собственную независимость, держался за нее изо всех сил. Но теперь, по иронии судьбы, из-за подобной любви к свободе приходилось терять свободу. Греки Малой Азии не смогли организовать объединенный отпор врагу и были покорены поодиночке.
Прошло еще несколько десятилетий. На персидский престол взошел Дарий I (522–486) — пожалуй, самый выдающийся государственный деятель в истории державы Ахеменидов. При нем она достигла наибольших размеров, именно тогда персы сделали первый шаг в Европу. В 514 году до н. э. Дарий, переправившись с сильным войском через Черноморские проливы[5], двинулся в поход на скифов, обитавших в степях Северного Причерноморья. Скифская кампания оказалась безрезультатной. Однако персы обосновались на северном побережье Эгейского моря, превратили в свою провинцию Фракию и поставили в вассальную зависимость Македонию. Персидское владычество теперь распространилось на регионы, находившиеся в непосредственном соприкосновении с Грецией. Македония была отделена от самой северной греческой области, Фессалии, только горным массивом Олимп. Становилось ясно: именно Эллада должна стать следующей жертвой экспансии Ахеменидов.
Неизбежное военное столкновение греков и персов вылилось в длительную, растянувшуюся на полвека серию Греко-персидских войн (500–449). Чудовищно несоизмеримыми казались силы сторон, которым предстояло сойтись в решающей схватке: громадной мощи Персидской империи должны были противостоять разрозненные, не создавшие единого государства, находившиеся в постоянной борьбе друг с другом полисы Греции, зачастую ослабленные внутренними конфликтами.
Между этими полисами не было единомыслия по отношению к персидской угрозе. Некоторые, в том числе весьма крупные и значительные города-государства (Аргос, Фивы), были склонны подчиниться «великому царю» либо сохранять нейтралитет. Своеобразной была позиция такого авторитетного общегреческого религиозного центра, как Дельфийский оракул, к мнению которого прислушивались в любом полисе: дельфийское жречество не то чтобы проповедовало откровенно персофильские взгляды, но было в принципе не прочь заручиться благосклонностью Дария. Во всяком случае, Дельфы на первом этапе войн выступали против сопротивления, считая его бесполезным и заведомо обреченным на неудачу.
Греция представлялась восточным владыкам легкой добычей, а война наверняка виделась непродолжительной и победоносной. Однако события приняли совершенно иной оборот. Вооруженный конфликт оказался в высшей степени затяжным, вылился в целую цепь военных столкновений, отделенных друг от друга мирными передышками.
В лице Персидской державы на Элладу как бы двинулся весь Восток, весь «варварский» мир, объединенный под скипетром Ахеменидов. Разумеется, в таком свете дело представлялось только самим грекам. Цари Персии и ведать не ведали, что, пытаясь завоевать маленький народ за Эгейским морем, они вступают в глобальный межцивилизационный конфликт, дают первотолчок «столкновению цивилизаций». Для персов шла речь лишь о расширении их великой империи: как раньше они подчинили лидийцев и вавилонян, египтян и фракийцев, так намеревались покорить и греков.
Будучи последователями зороастризма, Ахемениды декларировали свою приверженность началам справедливости и добра, претендовали на роль представителей «сил света»; под этим лозунгом ими и совершались агрессивные войны. Поэтому персам необходим был повод для нападения на Грецию. Но в подобных ситуациях его, как правило, долго ждать не приходится.
В 500 году до н. э. против персидского владычества восстали греческие полисы Малой Азии. Разумеется, Дарий, выслав огромный флот и войско, за несколько лет подавил сопротивление своих «взбунтовавшихся подданных». При этом выяснилось, что ионийским грекам помогали греки метрополии. Присылка военных контингентов из Афин и союзной с ними Эретрии (на острове Эвбея) стала для персов желанным поводом для вторжения в саму Грецию.
Два обстоятельства вносили в ситуацию довольно пикантные нюансы. Еще в 510 году до н. э. изгнанный из Афин тиран Гиппий отправился в пределы Персидской державы и в конечном счете оказался при дворе Дария, всячески побуждая всесильного владыку к походу против своих бывших сограждан, вызываясь быть советником и проводником.
Второе обстоятельство заключалось в серьезном дипломатическом промахе афинян. В 506 году до н. э., опасаясь нападения со стороны Спарты, они «отправили посольство в Сарды заключить союз с персами… Когда посольство прибыло в Сарды и изложило свое поручение, то Артафрен[6], сын Гистаспа, сатрап Сард, спросил: „Что это за народ, где обитает и почему ищет союза с персами?“ Получив разъяснение послов, сатрап дал им такой краткий ответ: „Если афиняне дадут царю землю и воду, то он заключит союз, если же нет, то пусть уходят“. Послы же, желая заключить союз, согласились, приняв это на свою ответственность. Впрочем, по возвращении на родину они подверглись суровому осуждению за эти самостоятельные действия» (V. 73).
Видимо, слабо разбираясь в тонкостях персидской ритуальной дипломатии, афинские послы не очень представляли себе, что означает требование «дать землю и воду» и какими последствиями оно чревато. А ведь для персов такая церемония означала принятие в подданство. Потому-то и настаивал на этом Артаферн, брат царя Дария. Афиняне желали получить сильного союзника — а получили повелителя. Послы явно не разобрались в обстановке, за что их и осудили на родине. Но даже если заключенный ими договор и был дезавуирован народным собранием, то для персидских властей это уже не имело ровно никакого значения: для них Афины отныне являлись частью их владений.
И вот теперь этот подчиненный город ведет себя в высшей степени странно: не желает повиноваться, более того — высылает военную помощь мятежным малоазийским грекам! Персы приказали афинянам возвратить к власти тирана Гиппия — те ответили решительным отказом. В Афины прибыли персидские послы с ультимативными требованиями — их сбросили в пропасть, что было серьезнейшим нарушением дипломатической этики, да и просто элементарных норм обращения с чужеземцами: послы во все времена считались неприкосновенными.
Теперь уже Дарий никак не мог не отомстить «непокорным подданным». В 490 году до н. э. от берегов Малой Азии двинулась через Эгейское море на Грецию карательная экспедиция. На кораблях находилось приблизительно двадцатитысячное войско, небольшое по персидским масштабам: царь счел, что этих сил достаточно для победы. Возглавлял поход молодой племянник Дария Артаферн (сын сатрапа Артаферна), но фактическое руководство находилось в руках опытного военачальника Датиса. Вместе с ними плыл и Гиппий.
Прибыв к Эвбее, первым делом персы расправились с Эретрией: город был взят и полностью разрушен, а жители — поголовно (кроме спасшихся бегством) увезены в Персию в рабство. Затем каратели высадились на территории афинского полиса — на северо-востоке Аттики, близ местечка Марафон (в 42 километрах от Афин). Навстречу им выступило ополчение афинян, которым командовал полководец Мильтиад. До того он был тираном на полуострове Херсонес Фракийский под ахеменидским владычеством и хорошо изучил военную организацию и тактику персов.
Афинян было не более десяти тысяч, но при Марафоне они одержали блестящую победу над двукратно превосходящими силами противника. Греческая фаланга с честью выдержала проверку на прочность, показала себя самым эффективным для того времени способом построения войск. Поразительно, что со стороны греков в сражении погибли лишь 192 бойца (имена их были сохранены в памяти благодарных потомков), тогда как потери персов составили более шести тысяч. Развеяв миф о непобедимости персов, битва при Марафоне в огромной степени подняла боевой дух афинян и впоследствии стала символом величия Афин. До наших дней на Марафонском поле сохраняется могильный холм — памятник павшим в битве афинским воинам.
Для греков Марафон был, бесспорно, великой победой. Но для Ахеменидов он отнюдь не был великим поражением, которое заставило бы их отказаться от захватнических планов в отношении Эллады. Напротив, персы теперь жаждали реванша. Дарий воспринял разгром персидского отряда как личную обиду и начал готовить новый поход на греков. На этот раз речь шла уже о полномасштабной армии вторжения, которая должна была подавить противника своей численностью, пройтись по непокорной стране огнем и мечом. К счастью для Греции, подобная акция не могла быть осуществлена немедленно; требовалось немалое время, чтобы собрать воинские контингента из различных частей огромной Персидской державы.
Дарий же через несколько лет скончался, а вступивший на престол его сын Ксеркс (486–465) должен был затратить довольно значительное время на упрочение своей власти и подавление мятежей, вспыхнувших в окраинных областях Персии, как обычно случалось при переходе власти от одного царя к другому. Греки получили десятилетие мирной передышки. Было чрезвычайно важно правильно использовать эти годы: предугадать основные направления и характер грядущего удара и достойно подготовиться к нему.
В Афинах основным предметом разногласий стал способ отражения врага. Многие афиняне под влиянием победы при Марафоне возлагали упования на сухопутные вооруженные силы, прежде всего на гоплитскую фалангу. Именно на этих позициях стоял Мильтиад. Впрочем, дни славы марафонского победителя были сочтены: афинским гражданам показалось, что он слишком кичится своим военным успехом. Мильтиад оказался в опале, даже попал под суд и был приговорен к крупному штрафу, а вскоре после этого умер от старой раны, полученной в одном из походов. Его политическим преемником стал Аристид, славившийся своей безупречной справедливостью и неподкупностью.
Главным сторонником иной точки зрения выступал молодой, но исключительно талантливый и популярный политик Фемистокл. Он лучше, чем кто-либо другой, сознавал: сколько ни укрепляй сухопутное войско, оно все равно окажется бессильным перед колоссальной армадой, чьего вторжения в Элладу ожидали с году на год. Спасение могли принести только действия на море. Фемистокл призывал создать в Афинах по-настоящему мощный, многочисленный и боеспособный флот. В конце концов именно это мнение возобладало.
Подготовка к отражению удара персов велась не только на внутреннем афинском, но и на общегреческом уровне. С востока приходили все более тревожные вести: Ксеркс, укрепив свое положение на троне, приступил к выполнению завета отца — стал собирать воинские контингента со всех концов своей обширной державы для грандиозного похода на Балканскую Грецию. Угроза гибели нависала над всей Элладой, и многие полисы начали наконец осознавать необходимость совместных действий. Правда, в ряде греческих городов продолжали преобладать «пораженческие» настроения, однако, к счастью, не они определяли теперь общую позицию эллинов.
Самым сильным в военном отношении полисом по праву считалась Спарта, и было очень важно заручиться ее участием. Сложность заключалась в том, что ее граждане воевать умели, но не любили — берегли силы. Наконец, медлительных и консервативных спартанцев удалось подвигнуть на участие в решительной борьбе с персидским нашествием. В 481 году до н. э. на конгрессе в Коринфе был создан Эллинский союз для отражения вражеской агрессии. В него вошли около тридцати полисов — из нескольких сотен, разбросанных по греческому миру. Возглавила союз, естественно, Спарта; второе по значимости место занимали Афины. Были созданы союзные вооруженные силы, утверждено единое командование во главе со спартанскими царями.
Весной 480 года персидское войско переправилось из Азии в Европу через пролив Геллеспонт. Ксеркс лично возглавил новое вторжение в Элладу. Новому владыке империи Ахеменидов удалось собрать огромную армию, одну из самых крупных в мировой истории. Геродот, говоря о численности сухопутных сил Ксеркса, называет фантастическую цифру — более пяти миллионов человек (VII. 186). Современные ученые считают, что реально в составе персидского войска находилось несколько сотен тысяч человек. Но и это было значительно больше того, что могли выставить эллины. Армию Ксеркса сопровождал колоссальный флот, включавший около 1200 кораблей: наряду с финикийскими судами там были корабли подвластных персам греческих полисов Малой Азии и близлежащих островов (персидский владыка стремился таким образом проверить и укрепить их лояльность). В числе прочих двигалась на Элладу и небольшая эскадра Галикарнаса — родного города Геродота. Командовала ею правительница этого полиса Артемисия, с которой нам еще предстоит познакомиться ближе.
Полчища Ксеркса наводнили Фракию, Македонию и вторглись в Северную Грецию. Фессалийские города в подавляющем большинстве добровольно сдались персам. Казалось, полная победа близка. Но затем агрессоры столкнулись с первой трудностью.
Узкий и длинный Фермопильский проход был единственным относительно удобным путем из Северной Греции в Среднюю. Дорога шла между отрогами гор и болотистым морским заливом. Именно там поджидал персов отряд Эллинского союза всего из семи тысяч человек, в числе которых были знаменитые 300 спартанцев во главе с царем Леонидом.
Греки, соорудив укрепления в самом узком месте прохода, несколько дней отражали удары многократно превосходившего их по численности персидского войска. Лишь когда отборный персидский отряд прошел по скалам в обход Фермопил по указанной одним из местных жителей потайной тропинке и ударил оборонявшимся грекам в тыл, защитники прохода вынуждены были отойти, за исключением спартанцев, которым отступать было запрещено законом. Все 300 воинов, включая царя Леонида, пали в неравном бою.
В то же самое время у мыса Артемисий на севере Эвбеи состоялось морское сражение. Несмотря на количественное превосходство, персы и здесь не сумели одержать верх: бой закончился «вничью». Уже это было для эллинов немаловажным успехом: занятые позиции удалось удержать; кроме того, получил «боевое крещение» афинский флот, составлявший основную часть союзных греческих морских сил. Однако после получения вести о поражении сухопутного войска при Фермопилах держать морскую оборону уже не имело смысла. Новой базой греческих кораблей стал остров Саламин в Сароническом заливе.
Теперь персам открылась дорога в самое сердце Эллады. Ксеркс направлялся в Аттику, где его жертвой должны были стать Афины. Из афинского полиса было срочно эвакуировано население: женщины и дети перевезены в безопасное место (город Трезен в Арголиде[7]), а боеспособные мужчины переправились на Саламин, где присоединились к флоту.
Персы взяли беззащитный город, сожгли и разрушили его, перебив несколько сотен стариков, не пожелавших покидать родные стены. Вскоре к Афинам прибыл и громадный персидский флот. Но здесь персов ожидала ловушка: Фемистокл сумел навязать им морской бой в проливе между Саламином и Аттикой. В сентябре 480 года до н. э. произошло знаменитое Саламинское сражение, ставшее кульминационным пунктом Греко-персидских войн. Из общей численности греческого флота (380 судов под командованием спартанского наварха Еврибиада) почти половину (180 кораблей) составляла афинская эскадра, возглавлявшаяся Фемистоклом. Победа греков была полной и безоговорочной.
После поражения при Саламине Ксеркс с остатками флота был вынужден возвратиться в Азию, а афиняне смогли вернуться на пепелище родного города. Опасность, однако, еще не миновала: достаточно сильная персидская армия (несколько десятков тысяч человек) во главе с опытным военачальником Мардонием перемещалась по Элладе, повсюду сея разрушения. Но в 479 году до н. э. греческим полисам удалось собрать объединенное войско под командованием спартанского полководца Павсания, сопоставимое по размеру с персидским. Битва, бесславно завершившая греческий поход Ксеркса, произошла у городка Платеи на юге Беотии. В ходе длительного и трудного для обеих сторон сражения греческая фаланга вновь продемонстрировала свое превосходство, нанеся персидским силам окончательное поражение. Мардоний был убит, остатки его армии бежали из Греции.
Тогда же объединенный флот греков, которым командовали теперь спартанский царь Леотихид и афинский военачальник Ксантипп, переправился к берегам Малой Азии, где персы готовили силы для нового вторжения в Элладу. В сражении при мысе Микале, развернувшемся одновременно на суше и на море, резервные силы персов были уничтожены.
Это сражение произошло в один день с Платейским, что вряд ли было случайным совпадением — скорее греки имели четкий, скоординированный план действий на всех направлениях.
Греко-персидские войны продолжались после этого еще 30 лет. Но с притязаниями Ахеменидов на власть над Грецией было покончено, а стратегическая инициатива перешла к грекам. После 479 года до н. э. военные действия развертывались почти исключительно на море. Новой целью войны со стороны эллинов стало освобождение от персидского владычества греческих полисов Малой Азии и островов. Греческий флот отвоевывал у персов город за городом, и эти города немедленно включались в борьбу с общим врагом.
В это время от руководства Эллинским союзом самоустранилась Спарта, считая, что основная цель достигнута — враг из Греции выдворен. Переход главной роли в военных действиях против Персии к Афинам привел к коренному изменению всего альянса: вместо Эллинского союза возник так называемый Афинский морской союз.
После ряда новых кампаний в 449 году до н. э. воюющие стороны заключили «Каллиев мир» (по имени видного дипломата, главы афинской делегации, прибывшей в персидскую столицу Сузы). Договор закрепил победу эллинов над державой Ахеменидов.
Главным условием мира было разграничение персидской и афинской сфер влияния: на юге граница прошла в районе юго-западного побережья Малой Азии, на севере — у входа в Черное море. Таким образом, персидский царь обязывался не вводить свой военный флот в Эгейское море. Сухопутная граница проходила на расстоянии приблизительно 75–90 километров от моря. Кроме того, договор предусматривал предоставление Персией независимости греческим городам в Малой Азии.
Итог Греко-персидских войн кажется совершенно неожиданным, едва ли не фантастическим: маленькие и раздробленные полисы смогли одержать победу над огромной державой Ахеменидов. Полис как община граждан, объединенных и сплоченных общей системой ценностей, набором неотъемлемых прав и обязанностей, одержал верх над древневосточным царством, опиравшимся на рыхлую массу подданных.
В трудный момент, когда приходилось отстаивать независимость родины, эллины проявили сплоченность, энтузиазм, мужество. Таких высоких целей не было у персов, что отрицательно сказывалось на боевом духе их армии (нередко воинов приходилось гнать в бой ударами бичей).
Наконец, чрезвычайно важную роль сыграло значительное преимущество военной организации эллинов — как в сухопутных боевых действиях, где на полях сражений блистала греческая фаланга, так и на море, где греческие триеры оказались более быстроходными и маневренными, чем персидско-финикийские корабли, а греческая тактика — значительно более изощренной.
В результате Греко-персидских войн полисный тип цивилизационного развития, характерный для греческого мира, отстоял свое право на существование от внешних посягательств и одержал окончательную победу в Элладе и Эгеиде.
Наш рассказ о Греко-персидских войнах оказался достаточно подробным, и это не случайно. Если не представлять себе — хотя бы в общих чертах — их хода, то не удастся найти «пути» к Геродоту. Правда, сам будущий «Отец истории» не мог принимать участие в описанных выше событиях: он родился в десятилетие между Марафонской и Саламинской битвами. Но именно войны греков с персами он сделал главной темой своего труда, именно ради них взялся за перо.
Коль скоро речь идет об «эллинах и варварах», важно отметить, каким образом успешный исход военных действий повлиял на отношение греков к народам Востока. Победа над столь могучим противником послужила сильнейшим катализатором становления этнического и цивилизационного сознания в V веке до н. э. Если ранее греки просто осмысляли мир в рамках противопоставления «мы — они» (что не является чем-то беспрецедентным, а, напротив, характерно для традиционных обществ), то теперь они — во многом под влиянием внешнего толчка — в полной мере осознали уникальность собственного исторического пути, свою «непохожесть» на остальных. Этот феномен сознания начал оказывать обратное воздействие на реальное бытие: именно элементы уникальности и «непохожести» всячески культивировались и стимулировались.
Соответственно греки как никогда ранее стали противопоставлять себя всем остальным народам (особенно народам Востока), объединяемым понятием «варвары». Слово «варвар», прежде имевшее вполне нейтральную эмоциональную окраску, постепенно приобрело отчетливо негативный, уничижительный оттенок. Это было связано с тем, что Греко-персидские войны осмыслялись эллинами как смертельная — и победоносная — схватка греческого мира со всем восточным миром.
В этих условиях в массовом сознании закрепился масштабный миф о Греко-персидских войнах. Следует сказать, что в рамках любой эпохи и любой цивилизации крупный и трудный военный конфликт очень скоро приобретает «мифологическое измерение», становится мощным источником мифотворчества — отчасти спонтанного, отчасти же сознательного. Не стали, конечно, исключением и греки. В их последующих представлениях вооруженное столкновение с Ахеменидской державой получило чрезвычайно героизированный, а значит, одномерный облик: будто бы эллины сплоченно, сознательно и с полным пониманием последствий поднялись на борьбу против общего врага, а отступники и предатели понесли заслуженную кару.
В действительности картина была значительно сложнее. Никакого единства между греческими государствами по отношению к персидской угрозе в начале V века до н. э. не наблюдалось. Достаточно вспомнить, что в состав Эллинского союза вошли всего лишь три десятка полисов, а остальные либо были на стороне Ахеменидов, либо занимали выжидательную позицию. При этом как те города, которые решили выступить против захватчиков, так и те, которые не присоединились к их движению, руководствовались отнюдь не идеями общего плана об «эллинах» и «варварах», а конкретными соображениями.
Впоследствии эта реальная, но не слишком героическая картина всё более бледнела и отступала на задний план. Исторический миф о Греко-персидских войнах сыграл огромную роль во всей судьбе Эллады — стал ключевым для оформления греческой «национальной» идентичности. Рождение этого мифа, собственно, и знаменовало собой то самое «похищение Европы», в результате которого состоялась последующая европейская история в ее настоящем виде.
Геродот, наряду с афинскими драматургами (прежде всего Эсхилом), был в первую очередь причастен к созданию этого грандиозного здания. «Отец истории» разворачивает сюжет об эллинах и варварах в широкую, многогранную картину, которая, как видно уже из первых строк его фундаментального труда, становится, без преувеличения, его главным содержанием.
Безусловно, «варвары» у Геродота не выступают некой единой массой: это слишком уж грубо противоречило бы фактам. К тому же великий историк уделяет чрезвычайно пристальное внимание образу жизни, быту, обычаям чужеземных народов. И он просто не может не заметить, насколько все они отличаются — не только от греков, но и друг от друга. Единая «модель варварства» никак не вырисовывалась, если исходить только из доступных для изучения фактов: что могло быть общего между полудиким скифом и египтянином, в историческом багаже которого не одно тысячелетие высокой культуры?
Но все-таки концепция исторического процесса разрабатывается Геродотом с позиции априорно заданной картины тотального противостояния двух миров. Достаточно перечитать первые главы «Истории» (I. 1–5), где разбирается достаточно пикантный сюжет — о похищениях женщин эллинами и «варварами» друг у друга, что якобы послужило причиной конфликта между ними. Финикийцы похитили аргосскую царевну Ио — греки-критяне похитили из Финикии Европу (рационализированная версия мифа о пресловутом «похищении Европы»!), причем «только отплатили финикиянам за их проступок». Следующее похищение совершили опять же греки (аргонавт Ясон увез из Колхиды Медею). Наконец, троянский царевич Александр (Парис), «который слышал об этом похищении», умыкнул из Спарты Елену Прекрасную: «…он был твердо уверен, что не понесет наказания, так как эллины тогда ничем не поплатились». Но греки в ответ пошли на Трою войной, с чего уже по-настоящему и начался вековой конфликт Запада и Востока. Парадоксальным образом Геродот приписывает эту концепцию… персам, хотя излагает чисто греческие мифы.
Нетрудно заметить, что в этом рассказе «варвары» выступают как нечто единое. Финикийцы, колхи, троянцы почему-то должны нести ответ за деяния друг друга, более того — вступаются друг за друга, заняв «круговую оборону» против греков. В действительности, конечно, ничего подобного быть не могло: колхи во II тысячелетии вряд ли даже догадывались о существовании финикийцев, и наоборот.
Бросается в глаза то замечательное обстоятельство, что странный рассказ о
Так почему было не начать прямо с истории Креза? Зачем ей предшествует загадочный пассаж о женщинах, который довольно чужеродно смотрится на фоне дальнейшего изложения? То, что исторический трактат Геродот открывает мифологическим отступлением, вполне в духе предшествующей традиции. Удивительно другое: в интересующем нас экскурсе, как в зеркалах, дробится и переливается, многократно повторяясь, один и тот же мотив — тот самый мотив похищения женщины. Ио, Европа, Медея, Елена — все они как бы предстают разными ипостасями одной героини. Начав свое сочинение с мифологемы похищения и тем самым поставив ее в исключительно сильную позицию, «Отец истории» дает понять, что и всё дальнейшее содержание его труда следует рассматривать «под знаком похищения». Освобождение Греции из-под власти Персии, Запада из-под власти Востока — не что иное, как «похищение Европы из Азии». Напрямую об этом, разумеется, нигде не сказано; но Геродота и его читателей объединяла общность структур сознания, во многом еще мифологических, благодаря которой они могли прочесть эту мысль «между строк».
Для Геродота «варвар» — уже враг, но еще не абсолютное зло. Тотального пренебрежения к негреческому миру мы в его «Истории» не находим; соответственно, декларирование превосходства греков над остальным человечеством было автору совершенно чуждым. Он никогда не забывает указать, если то или иное явление культурной жизни, по его мнению, заимствовано греками у соседей; очень часто в его «Истории» эллины выступают учениками, а варвары — учителями.
Но всё же «антиварварская» установка греческого мировоззрения, со временем достигшая многократно более высокого по сравнению с Геродотом накала, берет свое начало в его взглядах, достаточно умеренных и взвешенных. Геродот не отождествляет «варвара» и раба, как век спустя Аристотель. Но на самом деле тот просто расставил точки над i, досказал до конца то, что начал говорить «Отец истории». Одним словом, не будет большим преувеличением сказать, что Геродот, первым изобразивший исторический процесс в мифологизированной форме векового конфликта Запада и Востока, внес ключевой вклад в формирование идентичности европейской цивилизации.
Что же в глазах Геродота принципиально отличает эллинов от всех «варваров», как бы последние ни разнились между собой? Ответ на этот вопрос можно дать, если внимательно прочитать несколько эпизодов геродотовской «Истории».
Один из них — разговор Ксеркса и бежавшего к нему, подобно многим другим знатным грекам, свергнутого спартанского царя Демарата (VII. 101–105). Как-то персидский владыка устроил смотр своим грандиозным силам, собранным для похода на Элладу. Весьма довольный увиденным, он позвал спартанца, находившегося при войске в качестве одного из советников, и, похваляясь, сказал ему: «Демарат! Мне угодно теперь задать тебе вопрос. Ты эллин и, как я узнал от тебя и от прочих эллинов, с которыми мне пришлось говорить, не из самого ничтожного и слабого города. Скажи же мне теперь: дерзнут ли эллины поднять на меня руку? Ведь, мне думается, даже если бы собрались все эллины и другие народы запада, то и тогда не могли бы выдержать моего нападения, так как они не действуют заодно. Но все же мне желательно узнать твое мнение. Что ты скажешь о них?»
Ксеркс наверняка ожидал льстивого, раболепного ответа: «О владыка, никто на свете не способен противостоять тебе». Не было бы ничего удивительного, ответь опальный спартанский царь именно так: он жил в Персии на положении беженца; его судьба и сама жизнь зависели от воли Ксеркса. Дерзить, говорить слишком смелые вещи в подобных ситуациях бывает опасно. Однако грек, предварительно осведомившись: «Царь! Говорить ли мне правду или тебе в угоду?» и получив милостивое разрешение быть искренним, продолжил совсем не в том духе, в каком ожидал Ксеркс. Приведем выдержки из его не по-спартански пространной речи:
«Бедность в Элладе существовала с незапамятных времен, тогда как доблесть приобретена врожденной мудростью и суровыми законами. И этой-то доблестью Эллада спасается от бедности и тирании. Я воздаю, конечно, хвалу всем эллинам, живущим в дорийских областях. Однако то, что я хочу теперь тебе поведать, относится не ко всем им, но только к лакедемонянам[8]. Прежде всего они никогда не примут твоих условий, которые несут Элладе рабство. Затем они будут сражаться с тобой, даже если все прочие эллины перейдут на твою сторону… Они свободны, но не во всех отношениях. Есть у них владыка — это закон, которого они страшатся гораздо больше, чем твой народ тебя. Веление закона всегда одно и то же: закон запрещает в битве бежать перед любой военной силой врага, но велит, оставаясь в строю, одолеть или самим погибнуть».
В другом эпизоде (VII. 134–137) речь идет также о спартанцах, Сперфии и Булисе, посланных в Персию в буквальном смысле на гибель. Предыстория этого решения такова. В Спарте, как и в Афинах, были убиты персидские послы, прибывшие требовать покорности. Через некоторое время, однако, жители Спарты, отличавшиеся искренней религиозностью и благочестием, забеспокоились, понимая, что совершено очень нечестивое деяние, которое может навлечь гнев богов. На народном собрании было решено: кто-то из граждан должен стать искупительной жертвой и тем снять грех со всей общины. Двое названных спартанцев, хотя сами не были ни в чем виновны, вызвались добровольно, и их отправили к владыке персов. В пути они повстречали персидского полководца Гидарна. Тот отнесся к ним дружески, пригласил в гости и за обедом спросил: почему же спартанцы так решительно не хотят подчиниться «великому царю»? Тот умеет ценить доблесть, и под его властью не так уж плохо живется. Греки ответили: «Гидарн! Твой совет, кажется, не со всех сторон одинаково хорошо обдуман. Ведь ты даешь его нам, имея опыт лишь в одном; в другом же у тебя его нет. Тебе прекрасно известно, что значит быть рабом, а о том, что такое свобода — сладка ли она или горька, — ты ничего не знаешь. Если бы тебе пришлось отведать свободы, то, пожалуй, ты дал бы нам совет сражаться за нее не только копьем, но и секирой».
Наконец Сперфий и Булис прибыли в Сузы, но и там они вели себя совсем не так, как привыкли подданные Ксеркса. Спартанцы предстали пред царскими очами. По обычаю положено было пасть ниц и поклониться царю до земли. «Однако они наотрез отказались, даже если их поставят на голову. Ведь, по их словам, не в обычае у них падать ниц и поклоняться человеку, и пришли сюда они не ради этого, а по другой причине». Погибнуть спартанцы были готовы, а встать на колени перед всесильным Ксерксом — не согласны! Тут же они и изложили ему цель своего визита: быть казненными в ответ на убийство послов. К чести персидского владыки, он в этой ситуации проявил великодушие — не причинив Сперфию и Булису зла, объявил, что снимает тяготеющую над ними вину, и отпустил на родину.
Оба случая, как считают, сочинены самим Геродотом. Но столь категорично это нельзя утверждать, поскольку и Демарат, и Сперфий с Булисом — реальные исторические лица, и в Персии они действительно были. Другой вопрос, откуда Геродоту могло стать известно, о чем именно говорили Демарат с Ксерксом или два спартанца с Гидарном.
Содержание описанных бесед историк явно домыслил «от себя», а значит, устами этих греков озвучил собственную позицию.
Суть же этой позиции, как видим, такова: главное отличие варваров от эллинов в том, что все они — даже знатные, богатые, доблестные — живут в условиях постоянного рабства, находятся всецело во власти царя, обязаны подчиняться и терпеть любой его произвол (его описания нередки в труде «Отца истории»). А мир эллинов — это мир
То, что в «Истории» Геродота и Демарат, и Сперфий с Булисом говорят конкретно об одном греческом полисе — своей родине, Спарте, — пожалуй, не имеет принципиального значения. Имеются в виду, конечно, все греки. Спарта, судя по всему, взята здесь просто как наиболее полное воплощение «эллинского» духа — так же, как Персия выступает наиболее полным воплощением духа «варварского».
Геродот был греком, но не из Греции в узком смысле слова — страны на юге Балканского полуострова. Балканскую Грецию именуют также «старой Грецией»; это — колыбель древнегреческой цивилизации.
Но была и Греция в широком смысле слова. В сущности, в понимании самих античных эллинов Греция была везде, где жили они сами. И эта «большая Греция» (или, как говорят ученые, греческий мир) ко времени Геродота охватывала обширные пространства — от Крыма на севере до дельты Нила на юге, от Кипра в самой восточной части Средиземного моря и чуть ли не Геракловых столпов (Гибралтарский пролив), которыми это море завершается на западе. Удивительно точным и полным воплощением духа этого народа-странника стал один из любимейших героев греческих мифов — мореход и воин Одиссей, неутомимый путешественник по Средиземноморью.
Но куда бы греков ни занесла судьба, они повсюду сохраняли, не растворяясь в чуждой среде, свои язык и культуру, нравы и обычаи, свойственные им уникальные политические формы. Где оказывались греки, там немедленно появлялись полисы.
Разумеется, никаких полисов еще не было, когда эллины впервые появились на юге Балканского полуострова на рубеже III–II тысячелетий до н. э., придя туда с севера, из района Придунайской низменности. Для первой греческой цивилизации — ахейской, или микенской, — были характерны совсем другие государственные структуры: «дворцовые царства» — монархии, опиравшиеся на бюрократический аппарат. Это гораздо больше напоминало не полис классической эпохи, а систему управления стран Древнего Востока: исторический путь греков еще не стал своеобразным, собственно античным. Всё изменилось после вторжения в Элладу новой волны греческих племен в конце II тысячелетия. Эти пришельцы сокрушили ахейскую цивилизацию, разрушили и сожгли дворцы. На их пепелищах несколько столетий спустя зародился полисный мир.
Греки — народ индоевропейского происхождения, предки их были степными кочевниками; теперь, оказавшись в совершенно иных географических условиях, им пришлось приобщиться к новому образу жизни.
С трех сторон — запада, юга и востока — Балканская, или материковая Греция омывается морем, а от северных соседей ее отделяют горные цепи. С географической точки зрения она четко подразделяется на три региона — Северную, Среднюю и Южную Грецию.
Северная Греция разделена почти пополам горным хребтом Пинд, протянувшимся в меридиональном направлении. К западу от Пинда лежит суровая горная область Эпир, а к востоку — область Фессалия, представляющая собой обширную плодородную равнину, со всех сторон окруженную горами. От остальной материковой Греции ее северная часть отделена труднопроходимыми горными цепями, через которые ведет единственный относительно удобный путь на юг — узкое и длинное Фермопильское ущелье на востоке полуострова.
Средняя Греция начинается на западе двумя окраинными областями — прибрежной равнинной Акарнанией и холмистой Этолией. Далее располагается географическое «сердце» Эллады. Здесь в небольших долинах между горными хребтами находился ряд маленьких областей — Локрида, Дорида, Фокида. В последней, на склонах знаменитой горы Парнас, был главный религиозный центр греческого мира — Дельфы с храмом Аполлона. Еще дальше на восток лежала богатая равнинная Беотия, центром которой был крупный город Фивы. Наконец, на крайней восточной оконечности Средней Греции, отделенный от Беотии горами Киферон и Парнет, подобно рогу выдается в море полуостров Аттика с центром в городе Афины. В этой области, которой суждено было сыграть наибольшую роль в жизни греческой цивилизации, невысокие горные хребты чередуются с малоплодородными, каменистыми равнинами.
Южная Греция — это большой полуостров Пелопоннес, соединенный с остальной Элладой лишь узким перешейком Истм, на котором стоял крупный город Коринф. В центре Пелопоннеса — обширная лесистая возвышенность Аркадия, одна из самых отсталых областей древней Эллады. На побережьях полуострова, кроме его северной области Ахайя, лежат пригодные для земледелия равнины: на западе — Элида (со вторым крупнейшим греческим религиозным центром Олимпией, где располагалось святилище Зевса), на востоке — Арголида. Особенно плодородны местности на юге Пелопоннеса — Мессения и Лаконика. Центром Лаконики — равнины, пересеченной хребтом Тайгет, — была знаменитая Спарта.
Какими же путями природные, географические условия Древней Греции влияли на ее историческую судьбу? Чтобы понять это, необходимо всмотреться в карту внимательнее и попытаться определить главные элементы ландшафта, характерные для региона обитания греков. Двумя основными природными факторами, воздействовавшими здесь на жизнь человека, были море и горы.
Уникальность географического положения Греции прежде всего в том, что она была, пожалуй, самой «морской» страной Древнего мира. Многочисленными выступами, полуостровами и островами Эллада глубоко врезалась в море. А можно сказать и наоборот — это море окружало Элладу отовсюду, глубоко вдаваясь в сушу причудливой формы заливами. Роль моря в формировании древнегреческой цивилизации трудно переоценить. Море не разделяло, а соединяло эллинов, манило и звало к себе, способствовало развитию мореплавания, в котором античные греки стали непревзойденными мастерами. «Море цивилизовало греков», — справедливо пишет швейцарский ученый Андре Боннар{7}. Оно постоянно присутствовало в их жизни: в Греции почти нет мест, где путник, поднявшись на гору или холм повыше, не увидит водный простор хотя бы вдали, блестящей на солнце полоской. Добраться от одного города до другого зачастую было гораздо легче и быстрее именно по морю.
…На рубеже V–IV веков до н. э. отряд греческих воинов-наемников, волею судьбы занесенный в самое сердце Персидской державы, пробирался на родину по ущельям и перевалам Малой Азии. Афинянин Ксенофонт, один из командиров отряда, оставил воспоминания об этом походе. Двигаясь от одной горной деревни к другой, обороняясь от нападений местных воинственных племен, утопая в снегу на каменистых тропах, греки мечтали об одном — поскорее увидеть море. Только это позволило бы им почувствовать себя в родной и привычной обстановке. И вот наконец ряды солдат огласил крик шедших впереди дозорных: «Таласса! Таласса!» («Море! Море!»). Ликованию не было предела (
Особенно удобным для мореходства было восточное побережье Балканской Греции. Здесь сильно изрезанная береговая линия имеет множество гаваней, подходящих для пристаней и портов. Эгейское море довольно спокойно, штормы в сезон навигации случаются редко. Цепочки островов, протянувшиеся по нему подобно мостам (расстояние между ними никогда не превышает шестидесяти километров), в раннюю эпоху развития мореплавания служили хорошими ориентирами и местами промежуточных стоянок (далеко отплывать от суши греки остерегались). Потому-то освоение древними эллинами новых земель было изначально направлено на восток, а не на запад, где удобных гаваней мало, а более бурное Ионическое море не столь благоприятно для навигации.
В неменьшей степени определил исторические судьбы античной Эллады рельеф местности. Греция — одна из самых гористых в Европе стран: горные хребты и цепи занимали в древности около 80 процентов ее территории. Греческие горы не слишком высоки. Самая значительная их вершина — знаменитый Олимп, отграничивавший на севере Грецию от Македонии, — поднимается над уровнем моря чуть меньше чем на три тысячи метров. Но при своей не поражающей воображения высоте греческие горы, как правило, круты, обрывисты, труднопроходимы. Встав тесно сплоченными рядами, они оставляют между собой не так много более или менее удобных проходов.
Горы хорошо защищали Элладу от внешних захватчиков. Страна на протяжении своей истории неоднократно получала десятилетия, а то и века спокойного развития без вражеского вторжения, что по меркам Древнего мира было большой редкостью. Но, с другой стороны, горы разъединяли греков. Население жило в небольших изолированных долинах, что располагало к замкнутому, обособленному существованию. От одной деревни до другой подчас было по прямой несколько километров пути. Но вставала на дороге скала, приходилось обходить ее — и путь растягивался на день, а то и больше.
Эгейский мир
Объединиться в одно государство было в этих условиях затруднительно. Конечно, сыграли свою роль и многие другие факторы как конкретно-исторического, так и мировоззренческого плана, в том числе неискоренимый индивидуализм греческого «национального характера». Тем не менее совсем отрицать роль природных условий в формировании «особого пути» Эллады тоже, очевидно, не следует.
Море — «бесплодная пучина», как называли его греки, — и скудные, каменистые почвы горных склонов — вот что окружало жителей большинства областей Эллады. Греция бедна пресной водой. Рек там немало, но даже крупнейшие из них — Ахелой в Западной Греции, Пеней в Фессалии — не идут ни в какое сравнение с великими водными артериями Древнего Востока — Нилом, Тигром и Евфратом. А реки наиболее развитой части Греции (Асоп в Беотии, Кефис в Аттике, Еврот в Лаконике, Алфей в Элиде) больше похожи на ручьи и летом часто пересыхают.
В мягком субтропическом климате Греции среднегодовая температура составляет 16–19 °C, редкие осадки (в основном дожди, снега практически не бывает) выпадают почти исключительно в зимнее время. Летом стоит жаркая, сухая погода, с обилием солнца; малая влажность делает воздух ясным и прозрачным.
Однако на каменистых, малоплодородных и трудных для возделывания греческих почвах урожаи зерновых культур (ячменя и пшеницы) были низкими, за исключением Лаконики, Беотии и Фессалии. Многие греческие полисы вынуждены были закупать зерно в Египте, Сицилии, далекой северной Скифии.
Гораздо лучшие результаты приносили виноградарство (особенно развитое на островах) и оливководство (главным его центром была Аттика). Совокупность трех земледельческих культур — зерновых, винограда и оливок (ее называют в науке «средиземноморской триадой») — составляла в древности основу сельского хозяйства не только Греции, но и всего Средиземноморья. Разумеется, этой «триадой» дело не ограничивалось. В огородах и садах зрели овощи и фрукты, самым известным из которых был инжир (фига, смоква). Греки разводили крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, домашнюю птицу.
Древняя Греция была довольно богата полезными ископаемыми. Горнодобывающий промысел в классическую эпоху находился на высоком уровне: разрабатывались месторождения железа (в Лаконике и Беотии), меди (на острове Эвбея), серебра (на острове Сифнос в Эгейском море, а особенно крупное — в Аттике, в местечке Лаврий). Глубина шахт достигала 120 метров. Но в Греции почти совсем не было золота (единственное исключение — остров Фасос на севере Эгеиды), и на его поиски эллины снаряжали экспедиции в Малую Азию, Фракию и даже в далекую Колхиду (нынешнюю Грузию).
Из добывавшейся практически повсеместно глины делали кирпичи, но прежде всего посуду; в ее изготовлении греки не только достигли ремесленного мастерства, но и добились крупных художественных достижений. Великим сокровищем античной Эллады был мрамор, благодаря которому возникли знаменитые греческие храмы, другие памятники архитектуры и скульптуры. Лучший мрамор добывали на эгейском острове Парос и в Аттике, на горном хребте Пентеликон. Наконец, строевой лес, которым были покрыты горы Северной Греции, позволял сооружать корабли.
В целом древнегреческую природу нельзя назвать щедрой и милостивой к человеку. Эллада была и всегда оставалась страной бедной; ее обитатели должны были строить свою цивилизацию в неустанной борьбе с самыми разными трудностями. Впрочем, работы по «улучшению», «усовершенствованию» природы (ирригационные и т. п.) в Древней Греции никогда не достигали таких масштабов, как в странах Древнего Востока: в этом, видимо, не ощущалось нужды. Отношение древних греков к природе никогда не было хищническим, потребительским. Для человека Античности природа была «храмом», а не «мастерской».
Но при всей своей бедности греческая природа отличалась исключительной живописностью и красотой. Видимо, это сыграло немалую роль в складывании древнегреческой цивилизации, оказав влияние на само мироощущение древних греков, их непревзойденное чувство прекрасного, породившее великие произведения литературы и искусства.
Неотъемлемой частью территории античной Эллады являлись многочисленные острова Эгейского моря. Крупнейшие из них — Эвбея (у берегов Балканской Греции), Лесбос, Хиос, Самос, Родос (у малоазийского побережья); более мелкие — Киклады («собранные в круг») располагаются в юго-западной части Эгеиды, а Спорады («рассеянные») разбросаны по всему остальному морю. Наконец, на юге, на границе Эгейского и собственно Средиземного морей, лежит самый крупный греческий остров — Крит.
Западное побережье Малой Азии (теперь принадлежащее Турции) было очень рано — еще во II тысячелетии до н. э. — постепенно заселено и освоено греками. Здесь находились области Эолида (в северной части прибрежной полосы); Иония — главная жемчужина этой части эллинского мира (в центре и на прилегающих островах), с процветавшими городами Милетом, Эфесом, Фокеей и другими; южнее — вторая, малоазийская Дорида. Именно там и лежал Галикарнас, родина Геродота.
Мы начинаем уже понемногу выходить — вместе с самими эллинами — из пределов «малой Греции» на более широкие просторы. Иония располагалась уже довольно далеко от Афин или Спарты. Но этим дело не ограничилось, греки постоянно расширяли ареал своего обитания, особенно интенсивно делали это в архаическую эпоху, на которую пришлось знаменательное событие — Великая греческая колонизация. Временем ее начала можно считать 770-е годы до н. э., когда было основано небольшое греческое поселение на островке Питекуссы у западных берегов Италии. Спустя столетие все южное побережье итальянского «сапожка» и большой остров Сицилия оказались буквально усеяны новыми эллинскими городами, крупнейшим из которых были Сиракузы. Забирались греки и дальше на запад: на территории нынешней Франции возник богатый город Массилия (современный Марсель), появились колонии в Испании.
Греческая колонизация продвигалась, помимо западного, и в северо-восточном направлении. Освоив полуостров Халкидику, выдающийся с севера в Эгейское море, и зону Черноморских проливов (здесь важнейшей колонией был Византий, нынешний Стамбул), греки вышли на просторы Черного моря, которое они называли Понтом Эвксинским, то есть «Морем Гостеприимным». В Северном Причерноморье возникли колонии, крупнейшими из которых были Ольвия в устье Днепра, Херсонес (на территории современного Севастополя) и Пантикапей (Керчь) в Крыму.
Главными центрами вывода колоний стали развитые торговые города с малой сельскохозяйственной территорией: Коринф и Мегары на Истме, эвбейские полисы Халкида и Эретрия, ионийский Милет, выходцы из которого основали более семидесяти колоний. Афины же мало участвовали в колонизационном движении, Спарта основала лишь одну колонию — Тарент в Южной Италии (в конце VIII века до н. э.): этим полисам с обширной территорией пока хватало собственных земель и ресурсов.
Город, выводивший колонию, назывался метрополией. Перед отправлением колонистов стремились выбрать место предполагаемого поселения с учетом удобства гаваней, плодородия земли и, по возможности, дружелюбия местных жителей (впрочем, если туземцы не желали сохранять хорошие отношения, греки не останавливались перед тем, чтобы покорить и поработить их, — конечно, если имели для этого достаточно сил).
В метрополии составлялись списки желающих отправиться в колонию, назначался глава экспедиции — ойкист (по прибытии на место он обычно возглавлял и вновь основанный город); колонисты, взяв с собой священный огонь с родных алтарей, на кораблях пускались в путь. Прибыв на место, они первым делом приступали к созданию всех атрибутов греческого полиса: возводили оборонительные стены, храмы и постройки общественного назначения, делили между собой окрестную территорию на земельные участки (клеры).
Впрочем, случалось, что основание колонии было частной инициативой какого-нибудь аристократа или группы аристократов. Вот один из таких примеров, взятый из труда Геродота, рассказывающего об основании поселения афинян на полуострове Херсонес Фракийский (в северо-восточной части Эгейского моря, у входа в пролив Геллеспонт):
«Владело Херсонесом фракийское племя долонков. Эти-то долонки… отправили своих царей в Дельфы вопросить бога об исходе войны. Пифия[9] повелела им в ответ призвать „первым основателем“ в свою страну того, кто по выходе из святилища первым окажет им гостеприимство… В Афинах в те времена вся власть была в руках Писистрата[10]. Большим влиянием, впрочем, пользовался также Мильтиад[11], сын Кипсела… Этот-то Мильтиад сидел перед дверью своего дома. Завидев проходивших мимо людей в странных одеяниях и с копьями, он окликнул их. Когда долонки подошли на зов, Мильтиад предложил им приют и угощение. Пришельцы приняли приглашение и, встретив радушный прием, открыли хозяину полученное ими прорицание оракула. Затем они стали просить Мильтиада подчиниться велению бога. Услышав просьбу долонков, Мильтиад сразу же согласился, так как тяготился владычеством Писистрата и рад был покинуть Афины. Тотчас же он отправился в Дельфы вопросить оракул: следует ли ему принять предложение долонков. Пифия же повелела согласиться. Так-то Мильтиад, сын Кипсела (незадолго перед этим он одержал победу в Олимпии с четверкой коней), отправился в путь вместе со всеми афинянами, желавшими принять участие в походе, и долонками и завладел страной. Призвавшие же Мильтиада долонки провозгласили его тираном» (VI. 34–36).
Специально подчеркнем, что практически каждая колония, при каких бы обстоятельствах она ни возникла, с самого момента своего основания была совершенно независимым полисом — это коренным образом отличает греческую колонизацию от колонизаторской деятельности европейских держав Нового времени. При этом колонии обычно поддерживали тесные связи с метрополией — экономические, религиозные, а порой и политические (так, Коринф посылал в основанные им колонии своих уполномоченных).
Колонии становились богатыми и процветающими городами; они торговали со «старой Грецией» и оказали большое обратное влияние на ее развитие. Некоторые из них со временем сами основывали собственные колонии.
В ходе Великой греческой колонизации огромные территории были заселены и прекрасно освоены эллинами. Южная Италия и Сицилия стали даже называться Великой Грецией. Практически все колонии греков были прибрежными поселениями. Великий философ Платон образно охарактеризовал эту ситуацию: «Мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота» (
Греция, таким образом, оказывается понятием не территориальным, а этническим: Греция — это греки. И еще Древняя Греция — понятие не государственное, а цивилизационное, культурное. Господство полнейшей политической раздробленности ничуть не мешало всем грекам осознавать свою принадлежность к единому этносу; при этом афиняне или спартанцы, милетяне или самосцы могли вступать в войны друг с другом, сражаться до полного уничтожения врага.
В конце VI века до н. э. вступили в вооруженный конфликт два соседних полиса Великой Греции — Сибарис и Кротон. Сибарис славился огромным богатством, роскошной жизнью своих граждан, название которых со временем стало нарицательным для обозначения изнеженных бездельников. Кротон, не столь богатый, был сильнее в военном отношении — за счет очень строгой дисциплины, введенной всем известным Пифагором — выдающимся философом, ученым и пророком-чудотворцем. Кротонские пифагорейцы одержали полную победу над расслабленными роскошью сибаритами; Сибарис был полностью уничтожен, стерт с лица земли, жители его частью были перебиты, частью обращены в рабство. Но даже те, кому удалось спастись бегством, влачили отныне жалкое существование изгоев, лиц без отечества и гражданства. Ведь их полис больше не существовал, а только в рамках полиса для грека была возможна нормальная жизнь.
Но даже воюя друг с другом, эллины никогда не забывали, что они — один народ. Еще со времен Гомера повсеместно признавалось, что все обитатели греческого мира ведут один образ жизни, имеют общую культуру, общую религию с поклонением одним и тем же богам, общий язык. Правда, надо оговориться, что даже ко временам Геродота древнегреческий язык дробился на диалекты, на которых говорили отдельные ветви эллинского этноса.
Делению античных греков на племенные группы сами они, разумеется, давали мифологическое объяснение. Наверное, почти у каждого народа есть свой «национальный» миф о его происхождении. Легенды эллинов о первопредке начинали повествование об истории рода людского с Девкалиона.
Девкалион был сыном титана Прометея — того самого, который принес на землю Зевсов огонь. В воде потопа, насланного владыкой Олимпа, погибло всё человечество, спаслись только Девкалион с женой Пиррой, давшие жизнь новому поколению людей.
Миф о Всемирном потопе имеет немало параллелей у народов Передней Азии — шумеров, аккадцев и др.; его наиболее известная библейская версия о Ное была позаимствована древними евреями из Вавилонии. Происхождение легенд о потопе в Месопотамии вполне объяснимо природными условиями: Тигр и Евфрат периодически выходили из берегов, случались разрушительные наводнения. Совсем другое дело — Греция. Эта страна засушлива, крупных рек в ней нет. Какой же природный катаклизм мог породить миф о Девкалионовом потопе? Может быть, дожди? Но трудно представить себе такие осадки, которые могли бы вызвать действительно катастрофические последствия. Остается только одна возможная причина грандиозного наводнения, повлекшего гибель больших масс людей: гигантские морские волны — цунами, особенно если учитывать, что греки, как правило, селились на побережьях, которые в первую очередь подвержены ударам морской стихии.
Была ли природная катастрофа такого масштаба в бассейне Эгейского моря во II тысячелетии до н. э. (именно об этом историческом периоде повествуют греческие мифы)? Ученые теперь уже с уверенностью отвечают утвердительно. На острове Крит процветала высокоразвитая, удивительно яркая и самобытная так называемая минойская цивилизация, созданная догреческими обитателями этих мест. Критяне стали первыми учителями греков, когда те пришли на юг Балканского полуострова. И в середине XV века до н. э. их цивилизация внезапно погибла. Случилось это, согласно самой доказательной гипотезе, именно после катастрофического стихийного бедствия, одного из самых мощных за последние несколько тысячелетий. На юге Эгейского моря, примерно в ста километрах к северу от Крита, находится небольшой островок Фера[12]. На нем-то и произошло извержение гигантского подводного вулкана, располагавшегося в лагуне, в центре острова.
Большая часть самой Феры была просто стерта с лица земли. Стихия ударила и по Криту. На нем одновременно произошло сильнейшее землетрясение. Через несколько секунд от эпицентра до Кносса — критской столицы — и других городов докатилась мощная взрывная волна, усугубившая разрушения. А вскоре на северное критское побережье обрушились гигантские волны, достигавшие высоты в несколько десятков метров. Прославленный критский флот, царивший в Эгейском море, был уничтожен. Наконец, на Крит выпал вулканический пепел, покрывший землю толстым слоем. Земледелие и скотоводство на длительное время оказались невозможными. Селения лежали в развалинах.
Нельзя сказать, что у гипотезы гибели минойской цивилизации нет слабых сторон. В частности, нет ответа на вопрос: если от извержения вулкана так сильно пострадал Крит, почему его последствия не ударили с той же силой по материковой Греции, находящейся лишь ненамного дальше от Феры? Однако ничего более убедительного, чем «вулканическая» концепция, наука на сегодняшний день не предложила. Во всяком случае, извержение на Фере, несомненно, имело место, о чем говорят многометровые напластования лавы и пепла, покрывающие остров.
Если считать, что в мифе о Девкалионе отразились именно эти события, многое встает на свои места и картина становится целостной. Получается, что цунами обрушились не только на Крит, но и на греческое побережье, вызвав там наводнение.
Как бы то ни было, легендарный Девкалион оказался этаким «древнегреческим Ноем», всеобщим прародителем. Сыном Девкалиона, согласно мифам, был Эллин. Само его имя говорит о том, что этот персонаж считался первопредком всего греческого народа, героем-эпонимом[13]. Потомки же Эллина — Дор, Эол, Ион, Ахей — стали родоначальниками отдельных греческих племенных групп — дорийцев, эолийцев, ионийцев, ахейцев. Таково вполне типичное для архаичного мифологического мышления объяснение самых различных явлений, в том числе, как здесь, деления народа на отдельные субэтносы. Впрочем, как, когда, почему греки распались на племенные группы — об этом можно строить только более или менее вероятные догадки. Во всяком случае, во II–I тысячелетиях до н. э. разделенное существование стало уже фактом.
Насколько можно судить, проживавшие по отдельности в условиях горного ландшафта, затруднявшего контакты, части древнегреческого этноса начали изолироваться друг от друга — язык раздробился на диалекты.
По большому счету диалекты существовали и существуют в рамках самых разных языков. В России, например, до совсем недавнего времени говорили (а кое-кто говорит и теперь) в северных районах на «о», а в южных — на «а». Пониманию это ни в коей мере не мешает; разве что непривычный выговор может вызвать улыбку собеседника. Правда, диалекты русского языка различаются только в устном его варианте. Письменная, литературная норма едина. Южанин или москвич может говорить «карова» и «стакан», а северянин скажет «корова» и «стокан», но оба они напишут эти слова одинаково: «корова» и «стакан». Диалекты же древнегреческого языка различались не только в устной, но и в письменной форме. Например, имя богини, которую мы сейчас знаем как Афину, писалось на дорийском диалекте «Атана», на ионийском — «Атене», на аттическом варианте ионийского диалекта — «Атена» и т. д. Но при этом спартанец, афинянин, милетянин могли спокойно разговаривать между собой, изредка подтрунивая над произношением собеседников.
Диалектов и, соответственно, говоривших на них племенных групп было в Элладе довольно много. Но самыми многочисленными являлись четыре субэтноса — ахейцы, эолийцы, ионийцы, дорийцы, сыгравшие наибольшую историческую роль.
Ахейцы были важнейшей племенной группой в самом начале истории Древней Греции, во II тысячелетии до н. э. Именно они создали первую греческую цивилизацию — ахейскую, или микенскую. Но в конце этого тысячелетия они были оттеснены в горные области в центре и на севере Пелопоннеса, а отчасти выселились на далекий Кипр. Эолийцы и родственные им племена занимали самые северные районы Балканской Греции — Фессалию и Беотию, обитали на северных островах Эгейского моря и в северной части малоазийского побережья (область Эолида). Но всех превзошли своей известностью ионийцы и дорийцы. Первым принадлежала в Балканской Греции Аттика с Афинами, в Эгейском море — острова центральной части акватории, в Малой Азии — область Иония, с юга граничившая с Эолидой. Вторые, придя в Элладу позже всех остальных греческих племенных групп и дольше других оставаясь непричастными к высокой цивилизации, вначале обосновались в маленькой области Дориде в Средней Греции, а оттуда совершили нашествие на Пелопоннес. Именно дорийцы, по распространенному в науке мнению, сокрушили ахейскую цивилизацию.
В I тысячелетии до н. э. почти весь Пелопоннес был заселен дорийцами и родственными им племенами. На юго-востоке полуострова возник самый мощный и знаменитый дорийский город — Спарта. В Эгейском море дорийцы занимали острова самой южной его части (в том числе к Крит), в Малой Азии — ее крайнюю юго-западную оконечность (вторая Дорида). Таким образом, этническая карта Греции и Эгеиды в период расцвета античной цивилизации напоминает слоеный пирог: севернее всех живут эолийцы, в центре — ионийцы, южнее — дорийцы.
Геродот был родом из Галикарнаса, из Дориды, следовательно, принадлежал к дорийцам. Однако свою «Историю» он написал не на родном дорийском, а на ионийском диалекте. Почему он так поступил, нам еще предстоит выяснить.
Всё же греческие субэтносы отличались друг от друга не только диалектами, но и особенностями общественного и культурного быта. Особенно ярко они проступали у дорийцев, по праву считавшихся самой воинственной племенной группой. Завоевывая новые территории, они подчиняли себе местное население, ставя его в особую форму зависимости, близкую к рабской. Покоренные местные жители в различных дорийских областях носили особые названия: в Спарте это были илоты, в Аргосе — гимнеты, на Крите — клароты и мноиты. Когда началась Великая колонизация, дорийцы перенесли этот обычай за пределы Греции. На новых местах эксплуатации подвергались туземные негреческие племена: в Сиракузах (колонии дорийского Коринфа) — киллирии, в Гераклее Понтийской на южном берегу Черного моря (колонии дорийских Мегар) — мариандины и др.
Считалось, что дорийцы отличаются также консерватизмом образа жизни и мышления, приверженностью к аристократической форме правления, строгой военной дисциплиной, патриархальной простотой нравов. Правда, если для спартанцев эти черты действительно в высшей степени характерны, то Коринф, Мегары, Сиракузы, а также Родос и другие полисы были крупными ремесленно-торговыми центрами, в которых, при бьющей ключом экономической активности, жизнь вряд ли была особенно консервативной.
Например, Геродот пишет, что ремесленников в Греции больше всего презирают в Спарте, а меньше всего — в Коринфе (II. 167). Нужно заметить, что отношение к ремесленникам для античных греков было индикатором общего мировоззрения. Так, достаточно консервативный и не склонный одобрять крайние формы демократии Аристотель писал: «Наилучшее государство не даст ремесленнику гражданских прав» (
Ионийцев же считали (в том числе они сами) более динамичными, легкими на подъем. Если квинтэссенцией «дорийского типа» считались спартанцы, то для «ионийского типа» в классическую эпоху эту роль играли афиняне. Вот их сравнительная характеристика, взятая из труда другого великого древнегреческого историка, младшего современника Геродота — Фукидида. В одном из эпизодов этого произведения коринфские послы так говорят спартанцам:
«Вероятно, вам еще никогда не приходилось задумываться о том, что за люди афиняне, с которыми вам предстоит борьба, и до какой степени они во всем несхожи с вами. Ведь они сторонники новшеств, скоры на выдумки и умеют быстро осуществить свои планы. Вы же, напротив, держитесь за старое, не признаете перемен, и даже необходимых. Они отважны выше сил, способны рисковать свыше меры благоразумия, не теряют надежды в опасностях. А вы всегда отстаете от ваших возможностей, не доверяете надежным доводам рассудка и, попав в трудное положение, не усматриваете выхода. Они подвижны, вы — медлительны. Они странники, вы — домоседы. Они рассчитывают в отъезде что-то приобрести, вы же опасаетесь потерять и то, что у вас есть. Победив врага, они идут далеко вперед, а в случае поражения не падают духом. Жизни своей для родного города афиняне не щадят, а свои духовные силы отдают всецело на его защиту. Всякий неудавшийся замысел они рассматривают как потерю собственного достояния, а каждое удачное предприятие для них — лишь первый шаг к новым, еще большим успехам. Если их постигнет какая-нибудь неудача, то они изменят свои планы и наверстают потерю. Только для них одних надеяться достичь чего-нибудь значит уже обладать этим, потому что исполнение у них следует непосредственно за желанием. Вот почему они, проводя всю жизнь в трудах и опасностях, очень мало наслаждаются своим достоянием, так как желают еще большего. Они не знают другого удовольствия, кроме исполнения долга, и праздное бездействие столь же неприятно им, как самая утомительная работа. Одним словом, можно сказать, сама природа предназначила афинян к тому, чтобы и самим не иметь покоя, и другим людям не давать его» (
Впрочем, ионийцам малоазийского побережья, кроме вышеперечисленных черт, приписывали еще особую любовь к прекрасному, тонкое эстетическое чутье, но замечали за ними некоторую «изнеженность» и склонность к ненужной роскоши, недостаточную силу духа, отсутствие дисциплины и воинских талантов.
Может быть, ничто более ярко не демонстрирует различия между «дорийским» и «ионийским» типами, чем сравнение стилей архитектуры, созданных этими племенными группами. Дорический стиль, возникший в Балканской Греции, отличался монументальностью, строгостью, стремлением к пропорциональной соразмерности частей постройки. При этом здания были несколько приземистыми и тяжеловесными. Ионический стиль сформировался, судя по всему, первоначально среди греков Малой Азии и прилегающих островов. Для него были характерны, напротив, легкость, изящество и прихотливость линий, декоративность. Если можно так выразиться, дорические храмы более серьезны, ионические — более легкомысленны. Их легче всего различать по форме капители — верхнего завершения колонны. В дорическом варианте она представляет собой простую каменную «подушку», в ионическом — заканчивается изысканными спиральными завитками-волютами.
Характерно, что афиняне в лучших произведениях своего зодчества (например, в прославленном Парфеноне) стремились сочетать самые яркие черты дорического и ионического стилей. Это, наверное, отнюдь не случайно: жители Афин пытались совместить в себе то, что прославило оба ведущих эллинских субэтноса. Они хотели быть по-ионийски творчески активными и культурно развитыми, но при этом по-дорийски сильными и мужественными, решительно отвергая упреки в «изнеженности». Прекрасно сказал об этом многолетний лидер афинского полиса — Перикл: «Мы развиваем нашу склонность к прекрасному без расточительности и предаемся наукам не в ущерб силе духа» (
Вот в таком пестром, неоднородном и в то же время внутренне едином мире родился и прожил свою жизнь Геродот. А теперь, так сказать, изменим масштаб рассмотрения, возьмем более крупную «лупу», приблизимся к тем местам, где происходило формирование его личности. Это было, как мы уже знаем, западное побережье Малой Азии, обращенное к Эгейскому морю.
Как и почему этот регион стал неотъемлемой частью греческого мира? Произошло это довольно рано. «Мосты» из островов, протянувшиеся по Эгейскому морю от Греции к малоазийским берегам, так и манили эллинских мореходов отправиться по этому пути.
Уже в середине II тысячелетия до н. э. возник Милет. Упоминания о нем сохранились в открытом археологами дипломатическом архиве великой Хеттской державы, располагавшейся на востоке Малой Азии и нередко вступавшей в контакты (то дружественные, то враждебные) с греками-ахейцами.
Но основное освоение этих заморских земель произошло несколько позже — в конце II тысячелетия до н. э., в ходе ионийской колонизации. Как мы уже знаем, в результате так называемого дорийского нашествия рухнула блестящая ахейская цивилизация. В обстановке хаоса и смятения большие массы людей пришли в движение. В страхе перед завоевателями остатки ахейцев покидали насиженные места и бежали, в основном на восток — на острова Эгейского моря, малоазийское побережье, отдаленный Кипр. Дорийцы, обосновавшись на Пелопоннесе, тоже устремлялись в море. Они заселили острова Крит, Родос, юго-западную оконечность Малой Азии.
Одной из немногих областей Балканской Греции, не затронутых дорийским нашествием, оказалась Аттика. Сюда хлынул из Пелопоннеса поток беженцев — ионийцев, ранее обитавших на севере полуострова. Впрочем, многие не остались в Аттике (да она бы и не вместила всех), а сделали ее чем-то вроде «перевалочной базы». Большинство переселенцев на кораблях отправились дальше на восток: вначале на острова Центральной и Восточной Эгеиды (Эвбею, Наксос, Парос, Самос, Хиос и др.), а в конечном счете — в Малую Азию. Узкая полоса ее западного побережья была так быстро и прочно обжита ионийцами, что стала с тех пор называться Ионией.
В этой области, граничившей на севере с Эолидой, на юге — с Доридой, на востоке — с «варварскими» странами Лидией и Карией, со временем возникло 12 ионийских городов. (Теперь мы всё чаще будем обращаться к свидетельствам самого Геродота.) Вот как описывает «Отец истории» местность Ионии:
«Эти-то ионяне… основали свои города, насколько я знаю, в стране под чудесным небом и с самым благодатным климатом на свете. Ни области внутри материка, ни на побережье (на востоке или на западе) не могут сравниться с Ионией. Первые страдают от холода и влажности, а вторые — от жары и засухи… Дальше всего к югу лежит Милет, затем идут Миунт и Приена. Эти города находятся в Карий… Напротив, следующие города расположены в Лидии: Эфес, Колофон, Лебед, Теос, Клазомены, Фокея… Кроме того, есть еще три ионийских города: два из них — на островах, именно Самос и Хиос, а один — Эрифры — на материке… Двенадцать азиатских городов… гордились своим именем. Они воздвигли общее святилише, назвав его Панионий, и постановили не допускать туда других ионян… Панионий — это священное место на Микале, посвященное ионийским союзом Посейдону Геликонию (расположено оно на северной стороне горной цепи). Микале же — это мыс на западе малоазийского материка, напротив Самоса. Туда собирались ионийские города на праздник, названный ими Панионии» (I. 142–148).
Островная и малоазийская Греция (V–IV века до н. э.)
Приставка «пан-» в переводе с древнегреческого означает «все-». Соответственно, Панионий — это «всеионийское» святилище, главный религиозный центр области. Ее города, таким образом, составляли религиозно-политический союз.
В начале VII века до н. э. к Ионии отошел тринадцатый город — Смирна, ранее входившая в состав Эолиды. Геродот рассказывает об этом: «Жители Смирны дали убежище беглецам из Колофона, побежденным при восстании и изгнанным из своей родины. Впоследствии эти колофонские изгнанники воспользовались случаем, когда горожане справляли за городскими стенами праздник в честь Диониса, закрыли ворота и овладели городом. Остальные эолийцы поспешили на помощь городу, но заключили с колофонскими изгнанниками соглашение, по которому эолийцы оставили город, после того как ионяне отдали им домашнее имущество» (I. 149).
Впрочем, век спустя Смирна была разрушена напавшими лидийцами и в течение довольно длительного времени фактически не существовала, а затем была восстановлена, но не на старом месте, а чуть поодаль. Парадоксальным образом это привело к тому, что из всех ранних ионийских городов старая Смирна лучше всего изучена, ведь ее остатки, не уничтоженные позднейшей застройкой, хорошо поддавались археологическому исследованию. В результате раскопок было подсчитано, что в начале архаической эпохи на территории Смирны размещалось всего лишь около пятисот жилищ, что предполагает население примерно в две тысячи человек; соответственно, в Смирне того времени должно было быть около пятисот граждан.
Таким образом, изначально поселения ионийских греков были очень небольшими. Однако со временем они выросли в крупные, исключительно богатые города с процветающей торговлей и культурой. Вот как описывает образ жизни обитателей Колофона его уроженец — поэт VI века до н. э. Ксенофан:
К роскоши вкус переняв у изнеженных ею лидийцев,
Не помышляли они, что тирания близка,
И на собрания шли, щеголяя одеждой пурпурной;
Многие тысячи их, ежели всех посчитать.
Гордо они выступали, искусной прической красуясь,
Распространяя вокруг мазей и смол аромат.
(
В Ионии сложился своеобразный тип полисной государственности. Местные особенности во многом обусловливались географическим положением и природными условиями региона. С одной стороны, ионийские полисы (Милет, Эфес, Фокея, Самос, Хиос и др.) лежали на оживленных торговых путях, обладали удобными гаванями. С другой стороны, их хора (сельская территория) была хотя и довольно плодородной, но явно недостаточной по размеру для сколько-нибудь крупного населения. Поэтому уже в архаическую эпоху в Ионии существовал значительный «земельный голод», что стало одной из главных причин активнейшего участия греков-ионийцев в Великой греческой колонизации.
В VIII–VI веках до н. э. Иония во многих отношениях шла в «авангарде» греческого мира: в ней бурно прогрессировали ремесленное производство и торговля, а по накалу и продолжительности внутриполитической борьбы мало какой регион Эллады мог сравниться с Ионией. Боролись друг с другом группировки аристократов; известны и случаи противостояния богатых и бедных. Междоусобные конфликты часто приводили к установлению тиранических режимов.
Важным фактором формирования «ионийского варианта» греческой цивилизации являлось расположение области на периферии древневосточных царств, которые были источником постоянной угрозы. С VII до начала V века до н. э. Лидия подчинила своей власти ряд греческих городов Ионии. Впрочем, гораздо более суровым оказалось персидское владычество, установившееся с 546 года до н. э. Персы вмешивались во внутренние дела ионийских полисов, устанавливая там политические режимы по своему усмотрению. А разгром Ахеменидами Ионийского восстания стал для области подлинным бедствием: многие из ее знаменитых городов, и прежде всего Милет, лежали в развалинах.
В ходе Греко-персидских войн Иония была освобождена от власти Персии. Но уже вскоре на смену ей пришло засилье Афин, весьма жестко диктовавших ионийцам свою волю. В 404 году до н. э., уже после смерти Геродота, афинское господство в регионе сменилось спартанским, а в 387-м Иония вновь попала под персидский контроль и оставалась под ним полвека, вплоть до начала походов Александра Македонского в 334 году.
То обстоятельство, что на протяжении всей классической эпохи ионийские полисы практически никогда не были полностью независимыми, пагубно сказалось на их общеисторической роли: в V–IV веках до н. э. Иония уже утратила былое политическое, экономическое и культурное значение.
Но во времена, когда писал «Отец истории», еще сохранялись воспоминания о том «чуде, которым была Иония» относительно недавно. В архаическую эпоху она являлась подлинным культурным центром греческого мира, самым развитым в этом отношении регионом. Ведь эта греческая область лежала ближе всего к миру цивилизаций Древнего Востока, непосредственно граничила с азиатскими царствами и находилась с ними в постоянном контакте. Грекам-ионийцам было чему поучиться и что позаимствовать у восточных соседей. Влияние Востока на ранних стадиях развития эллинской цивилизации было значительным на самых разных уровнях; так, корни древнегреческой алфавитной письменности происходят из Финикии; многие мифы эллинов (например, о борьбе олимпийских богов с титанами) имеют прообразы в религии вавилонян и хеттов.
В Ионии сформировался гомеровский героический эпос, появилась лирическая поэзия. Здесь были построены самые грандиозные во всем греческом мире храмы — Геры на Самосе, Аполлона в Дидимах близ Милета и Артемиды в Эфесе, который впоследствии был причислен к «семи чудесам света». Та же область — родина философии и науки. Фалеса Милетского (конец VII — начало VI века) с полным основанием можно назвать первым философом и первым ученым: ему принадлежит первая в мире натурфилософская концепция общего характера, согласно которой всё произошло из воды. Он же первым в Античности заранее вычислил дату солнечного затмения, доказал несколько геометрических теорем. Подавляющее большинство других ранних представителей философской и научной мысли — Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Пифагор, Ксенофан и другие — тоже были родом либо из Милета, либо из соседних ионийских городов.
В Ионии родилось и историописание. Гекатей Милетский, самый крупный представитель первого поколения древнегреческих историков, также был уроженцем самого славного из ионийских городов. В результате деятельности Гекатея и его современников и сподвижников языком древнегреческих исторических трудов на некоторое время прочно стал ионийский диалект. В частности, на нем написал свой труд и «Отец истории», хотя и был по происхождению дорийцем. Впрочем, вопрос о причинах этого до сих пор вызывает споры среди ученых. С одной стороны, высказывается мысль, что Геродот «рано приобщился к передовой ионийской культуре»{8} и писал свое произведение по-ионийски именно потому, что такова была сложившаяся к его времени традиция. С другой стороны, существует мнение, согласно которому родной полис Геродота, Галикарнас, в V веке стал уже фактически ионийским городом{9} и, соответственно, для историка родным являлся именно ионийский, а не дорийский диалект. Дать однозначный ответ на сегодняшний день вряд ли возможно.
Сложившаяся в Ионии особая ветвь древнегреческой цивилизации, отделенная морем от самой Эллады, ни в коей мере не была отрезана от нее непроходимым барьером. Ионийцы вполне разделяли все перипетии исторической судьбы остальных греков. Главной особенностью «ионийского варианта», пожалуй, было то, что этот регион находился на «перекрестке культур». Когда между различными культурными традициями устанавливается своеобразный «диалог», это, безусловно, идет на пользу всем вступившим в общение народам. Их цивилизации взаимно обогащают друг друга, синтез культур выводит их на качественно новый уровень.
Если можно так выразиться, «отраженный свет Милета» падал не только на ближайшие к нему ионийские города, но и на соседние Эолиду и Дориду. Там культура тоже процветала. Так, на эолийском острове Лесбосе сложилась замечательная школа мелики (песенной лирики), крупнейшими представителями которой стали знатный аристократ, поэт-политик Алкей и одна из самых знаменитых женщин в мировой истории, величайшая античная поэтесса Сапфо. Дорида же породила сразу двух основоположников важнейших научных дисциплин. На острове Кос жил и действовал великий врач Гиппократ, «Отец медицины», которая благодаря его усилиям превратилась из набора чисто практических приемов в подлинную, теоретическую науку. Второй же — герой нашего повествования Геродот.
Сужая «поле поиска», мы всё более приближаемся к «малой родине» Геродота. Область Дориду, граничившую на востоке с «варварской» страной Карией, составляли, в отличие от Ионии, не 12, а только шесть греческих городов, объединявшихся в религиозный союз, культовым центром которого был храм Аполлона на Триопийском мысе, выдававшемся на длинном и узком, протянувшемся на запад Книдском полуострове.
Об этих городах Геродот сообщает: «…Дорийцы из нынешней области пятиградья (которая прежде называлась шестиградьем)… не допускали своих сограждан участвовать в религиозных обрядах за непочтительность к храму. При состязаниях в честь Аполлона Триопийского они издревле, по обычаю, давали победителям в награду медные треножники. Победители, однако, не должны были брать с собой эти треножники из святилища, но посвящать их богу. Как-то раз победу одержал один галикарнасец по имени Агасикл, который пренебрег этим обычаем, унес треножник домой и повесил там на гвозде на стену. В наказание за это пять городов — Линд Иалис, Камир, Кос и Книд — отстранили шестой город-Галикарнас от участия в религиозных обрядах» (III. 144).
Четыре из шести городов находились на прибрежных островах: Кос располагался на одноименном острове; Линд, Иалис и Камир — на Родосе (во времена Геродота этот остров еще не был ничем знаменит; лишь когда три его города позже объединились в единый полис, он достиг невиданного богатства и процветания). Остальные два города были материковыми: Книд, далеко выдвинутый в море на крайнем мысу полуострова, и, наконец, Галикарнас — самый северный полис Дориды. Как видим, он был исключен из религиозного союза малоазийских дорийцев. Тем не менее он оставался частью Дориды, хотя имел в своей истории и составе населения ряд интересных особенностей.
Родной город «Отца истории» находился неподалеку от входа в Керамический залив Эгейского моря, на самом морском побережье. Путешественнику, подплывавшему к Галикарнасу, прежде всего бросалось в глаза, что он живописным полукругом раскинулся по склонам вокруг очень удобной гавани, имеющей лишь один неширокий вход в середине. Береговая линия здесь обращена на юг, и окрестные холмы хорошо защищают поселение от ветров — северного, восточного, западного.
Древние греки вообще придавали очень большое значение тому, в каком направлении ориентирован город, какие ветры в нем преобладают. Основатель медицинской науки Гиппократ — а мы знаем, что он жил здесь же, совсем рядом, на Косе, — посвятил этому вопросу специальный трактат «О воздухах, водах и местностях». Что же сказано в нем о городах, обращенных на юг, подобно Галикарнасу?
«Город, который расположен к теплым ветрам, именно к тем, которые дуют между зимним восходом и заходом солнца[14], и они ему свойственны, от северных же ветров закрыт, — в таком городе должно быть много воды и солоноватой, и дождевой, летом — теплой, а зимой — холодной. Жители его имеют головы влажные и изобилующие слизью и, вследствие истечения слизи из головы, желудки их часто расстраиваются, и они часто отличаются слабым видом тела и не могут хорошо ни есть, ни пить, ибо те, у которых головы будут слабы, никогда не будут хорошо пить, потому что их сильнее беспокоит похмелье» (
Как видим, не очень лестную характеристику дает великий врач жителям городов, расположенных «лицом» к югу. Люди, у которых слабые головы, — это выражение в Античности звучало столь же насмешливо, как и в наши дни. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что недостатки Гиппократ выискивает и для городов, обращенных на другие стороны света, делая исключение лишь для тех, которые смотрят на восток, — самых здоровых для жизни, по его мнению (именно на восток был ориентирован город Кос, где работал он сам).
В географическом положении Галикарнаса была интересная особенность: он был неплохо защищен и от южных ветров — узким и длинным Книдским полуостровом, протянувшимся за Керамическим заливом. Таким образом, «малая родина» Геродота отличалась специфическим микроклиматом, не дававшим по-настоящему разгуляться воздушным потокам ни с одной стороны.
Галикарнас красиво смотрелся с моря, но еще лучше было обозревать его, сойдя с корабля и поднявшись в одну из самых высоких частей города — туда, где в античную эпоху существовал театр (правда, во времена Геродота его там, скорее всего, еще не было). Сверху распахивался великолепный вид на окрестности, от широких перспектив захватывало дух: налево — врезается глубоко в сушу Керамический залив, прямо — вдалеке, заслоняя горизонт, узкой полоской тянется Книдский полуостров, а почти рядом со входом в гавань лежит маленький островок Арконнес; направо открывался бы бескрайний простор Эгеиды, если бы его почти полностью не загораживал Кос. Лишь местами проглядывает открытое море. Одна из типичных «экологических ниш», в которых столь часто возникали греческие полисы; маленький, ограниченный со всех сторон, уютный и исключительно живописный мирок. Маленький, но при этом включающий в себя большое разнообразие ландшафтных элементов: здесь и водная стихия, и горы, и острова… Именно этот пейзаж имел возможность созерцать ежедневно в своем детстве и юности будущий «Отец истории».
Сверху особенно четко вырисовываются замкнутые очертания гавани. К востоку от входа в нее располагается Зефиоий «колыбель» Галикарнаса, его историческое ядро, цитадель-акрополь. Когда-то это был остров, но затем его соединили с материком. Именно отсюда пошел город.
А напротив, на западной стороне входа в бухту, — район Салмакида. Здесь есть источник, «имеющий дурную славу, будто он способствует изнеженности тех, кто пьет из него. Обычно изнеженность людей, по-видимому, приписывается действию воздуха или воды; однако причины изнеженности не в этом, но скорее в богатстве и распущенном образе жизни» (
Между Зефирием и Салмакидой, на северной, обращенной к материку стороне гавани раскинулось большинство кварталов Галикарнаса. В середине выделяется агора — почти квадратная площадь, главный центр общественной жизни и важнейшее место торговли. Галикарнасская агора расположена почти у самой воды, что, конечно, очень удобно для купцов.
Рядом с агорой в IV веке предстоит подняться грандиозной, величественной постройке — Мавзолею, гробнице карийского правителя Мавсола, чья резиденция находилась в Галикарнасе. Мавзолей (правильнее — Мавсолей) попал в перечень семи чудес света и положил начало всем мавзолеям последующих эпох. Но во времена Геродота его еще не было.
…Геродот на удивление мало говорит о родном городе на страницах своей «Истории». На первый взгляд это не бросается в глаза. Но достаточно привести для сравнения пример другого видного древнегреческого историка, Эфора (IV век до н. э.), уроженца города Кимы (тоже на эгейском побережье Малой Азии), который настолько часто упоминал о собственной родине в написанном им историческом труде, что это выглядело даже назойливым. Описывая события, происшедшие в эллинском мире, он обязательно сообщал, что в этом году случилось в Киме. А поскольку она была городком небольшим и на судьбы Греции никак не влияла, то сообщения Эфора чаще всего имели следующий вид: «В это самое время жители Кимы жили в мире» (
Как видим, Геродот придерживался совершенно иного подхода. Создается впечатление, что это не случайно. Отношения галикарнасского историка с согражданами далеко не всегда были безоблачными. Возможно, что он избрал жизнь вечного странника не в последнюю очередь потому, что тяготился своей провинциальной «малой родиной».
Впрочем, в геродотовское сочинение вошли-таки сведения о некоторых наиболее знаменитых гражданах этого полиса, причем отличившихся далеко не всегда в «хорошую» сторону. Вот, например, рассказ о галикарнасце Фанесе, воине-наемнике на службе у Амасиса, одного из последних египетских фараонов. Судя по всему, был он не просто рядовым воином, а командиром отряда, человеком влиятельным, лично знакомым с фараоном. «Фанес имел большой авторитет среди наемников и был посвящен во все дела в Египте», — пишет историк (III. 4). В это время в поход на нильское царство собирался персидский владыка Камбис, сын Кира. И его действия были сильно облегчены тем, что «Фанес поссорился с Амасисом и бежал из Египта на корабле, чтобы предложить свои услуги Камбису». Немедленно посланная погоня настигла беглеца, но тот прибегнул к хитрости: «Он напоил своих стражей допьяна и бежал в Персию». Там он объяснил Камбису самый короткий и безопасный путь до Египта через Аравийскую пустыню. Узнав об этом, другие греческие наемники, служившие Амасису, жестоко отомстили изменнику: «Были у Фанеса сыновья, оставленные отцом в Египте. Этих-то сыновей наемники привели в стан… и затем… закололи их над чашей одного за другим. Покончив с ними, наемники влили в чашу вина с водой, а затем жадно выпили кровь» (III. 11).
Эту историю, в которой земляк Геродота выступал в очень неприглядном образе человека, предавшего своего благодетеля, историк мог бы не рассказывать без всякого ущерба для своего повествования. То, что он ее передал, безусловно характеризует его как объективного ученого, лишенного «местечкового патриотизма», который заставлял бы его умалчивать о постыдных деяниях галикарнасцев.
Однако, когда его соотечественники проявляли себя делами доблестными, Геродот писал об этом с нескрываемым удовольствием. Так, другой уроженец Галикарнаса, Ксенагор, в 479 году до н. э. присутствовал при ссоре Масиста, брата Ксеркса, и другого знатного перса — Артаинта. Оба полководца осыпали друг друга упреками вскоре после неудачной для персидского войска битвы при Микале. «Артаинт… наконец, распалившись гневом, выхватил персидский меч, чтобы прикончить Масиста. А Ксенагор… стоявший сзади Артаинта, заметил, что тот бросается на Масиста; схватив его поперек туловища, он поднял и затем бросил наземь. В это время подбежавшие телохранители заслонили Масиста. Этим поступком Ксенагор заслужил великую благодарность как самого Масиста, так и Ксеркса: он ведь спас царского брата. За этот подвиг царь сделал Ксенагора правителем Киликии» (IX. 107).
Галикарнасский грек, получивший в управление целую область Ахеменидской державы (Киликия находилась на юго-востоке Малой Азии), — это звучало, конечно, внушительно, особенно если учесть, что Ксенагор получил назначение в результате не придворных интриг и протекций, а смелости и находчивости, проявленных в трудную минуту.
Но наибольшее внимание из всех жителей Галикарнаса Геродот уделяет Артемисии — правительнице города в начале V века. Она — один из самых запоминающихся персонажей всего произведения, а если говорить о женщинах — несомненно, самая яркая героиня, о которой нам еще предстоит вести речь.
Обобщая скудные данные о Галикарнасе, содержащиеся у Геродота, со сведениями других античных авторов (особенно географа Страбона), мы все же можем составить общее представление о том, как складывалась судьба города.
Колония Галикарнас была основана дорийцами — выходцами из Арголиды, северо-восточной части Пелопоннеса. В качестве метрополии Геродот называет Трезен, располагавшийся неподалеку от Саронического залива. Он не отличался ни величиной, ни историческим значением, но все-таки имел определенную известность как родина величайшего афинского мифологического героя Тесея — победителя Минотавра и других чудовищ. Поэтому в дальнейшем Афины и Трезен поддерживали дружественные отношения, были в каком-то смысле «городами-побратимами». Когда в 480 году до н. э. под угрозой приближавшихся полчищ Ксеркса из Аттики пришлось эвакуировать население, именно трезеняне гостеприимно дали убежище афинским женщинам и детям.
В вопросе о метрополии Галикарнаса с Геродотом солидарны и другие античные писатели — Страбон, Павсаний. Правда, некоторые, не столь авторитетные в данном отношении авторы (Витрувий, Помпоний Мела) говорят, что Галикарнас заселили выходцы из Аргоса — столицы Арголиды. Но, думается, даже одно мнение «Отца истории» должно перевешивать здесь все остальные, ведь он родился и вырос в Галикарнасе и точно должен был знать, откуда происходили его отдаленные предки[15].
Страбон называет даже имя ойкиста — это был некий Анфес, правитель Трезена, изгнанный из своей области (
Что же касается времени основания Галикарнаса, то Страбон явно ошибается, считая, что трезеняне переселились в Малую Азию тогда, когда в Арголиду пришли сыновья Пелопа, следовательно, еще до Троянской войны и тем более до вторжения дорийцев. Это совершенно исключено: если бы в Галикарнасе обосновались выходцы из до-дорийского Пелопоннеса, то совершенно непонятно, почему в последующие эпохи жители города относились к дорийской племенной группе и говорили на дорийском диалекте. Современные ученые единодушно считают, что заселение Галикарнаса греками произошло значительно позже, в хронологическом промежутке XII–X веков, в эпоху освоения эллинами территорий на малоазийском побережье Эгеиды.
Дорийцы пришли не на пустое место, а в регион, где уже имелись туземные обитатели. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что название города — Галикарнас (уже упоминалось, что более верным написанием было бы «Галикарнасе») — не является исконно греческим: оно принадлежит к так называемой субстратной лексике, то есть к одному из языков, на которых говорило догреческое население бассейна Эгейского моря. Яснее всего о данном факте свидетельствует двойное «с» на конце корня. Аналогии встречаются, например, в названиях некоторых городов Крита, таких как Кносс, Тилисс и др. Вообще хорошо известно, что именно в топонимике следы древнейших жителей той или иной местности сохраняются особенно долго, на протяжении многих веков. Так, названия многих городов и рек на Восточно-Европейской равнине имеют финно-угорские корни, хотя племена (меря, мурома), которые дали эти названия, давным-давно уже не существуют, а край заселен русскими.
Этносом, на землях которого возник Галикарнас, были карийцы. Они были одним из самых высокоразвитых и в то же время самых загадочных народов древней Малой Азии. В частности, предметом постоянных споров уже в Античности был вопрос о их происхождении. Вот что пишет о карийцах Геродот: «Карийцы пришли на материк с островов. В глубокой древности они были подвластны Миносу, назывались лелегами и жили на островах. Впрочем, лелеги, по преданию, насколько можно проникнуть вглубь веков, не платили Миносу никакой дани. Они обязаны были только поставлять по требованию гребцов для его кораблей. Так как Минос покорил много земель и вел победоносные войны, то и народ карийцев вместе с Миносом в те времена был самым могущественным народом на свете. Карийцы изобрели три вещи, которые впоследствии переняли у них эллины. Так, они научили эллинов прикреплять к своим шлемам султаны, изображать на щитах эмблемы и первыми стали приделывать ручки на щитах… Затем, много времени спустя, карийцев изгнали с их островов дорийцы и ионяне, и таким-то образом они переселились на материк. Так-то рассказывают о карийцах критяне. Сами же карийцы, впрочем, не согласны с ними: они считают себя исконными жителями материка, утверждая, что всегда носили то же имя, что и теперь» (I. 171).
Если верить «Отцу истории», карийцы сыграли просто-таки культуртрегерскую роль в развитии раннего греческого военного дела. Самым значительным из их нововведений было, бесспорно, изобретение рукоятки для щита, крепившейся с его внутренней стороны и позволявшей держать его левой рукой (ранее щиты имели кожаные перевязи, надевавшиеся на шею и левое плечо, что сковывало движения пехотинца). Использование рукоятки было гораздо удобнее и имело очень важное значение для формирования строя гоплитской фаланги.
Что же касается вопроса о происхождении карийцев, то из двух передаваемых Геродотом версий — критской и собственно карийской — вторая на сегодняшний день выглядит предпочтительнее. Насколько можно судить, они все-таки не были «осколками» исконного, доиндоевропейского населения Эгеиды («лелегов»). Лингвисты установили, что карийцы являлись индоевропейцами[16] и говорили на языке, который принято относить к хетто-лувийской (анатолийской) группе, к которой принадлежат наречия живших по соседству лидийцев, ликийцев и др. Таким образом, все эти народы родственны и являлись потомками древнейшего населения, обитавшего в Малой Азии уже с II тысячелетия до н. э.
Карийцы упоминаются в древнейшем греческом литературном памятнике — гомеровской «Илиаде». Перечисляя союзников Трои, прибывших ей на помощь, поэт, в частности, называет:
Настес вел говорящих наречием варварским каров,
Кои Милет занимали и Фтиров лесистую гору,
И Меандра поток, и Микала вершины крутые…
(
Как видим, кары (карийцы) локализованы там, где жили впоследствии, — в области на юго-западе Малой Азии, которую греки называли Карией. Интересно, что для Гомера карийцы — воплощение варваров. Однако проходит не так уж много времени, и карийцы оказываются, напротив, едва ли не самым эллинизированным из «варварских» народов Востока, наиболее приблизившимся к грекам как по образу жизни, так и по исторической судьбе.
В архаическую эпоху одновременно у греков и карийцев получает широкое распространение наемничество. И те и другие странствуют по Восточному Средиземноморью, поступают целыми отрядами на военную службу к различным правителям и получают репутацию великолепных солдат. Карийцы и греки-ионийцы вместе пришли в Египет, когда там в борьбе с различными соперниками утверждался у власти фараон Псамметих I (середина VII века до н. э.). Пришельцы с севера помогли ему в этом: «…Ионян и карийцев, которые занимались морским разбоем, случайно занесло ветрами в Египет. Они высадились на берег в своих медных доспехах, и один египтянин, никогда прежде не видавший людей в медных доспехах, прибыл к Псамметиху в прибрежную низменность с вестью, что медные люди пришли с моря и разоряют поля. Царь же… вступил в дружбу с ионянами и карийцами, и великими посулами ему удалось склонить их поступить к нему на службу наемниками. А когда он склонил их, то со своими египетскими сторонниками и с помощью этих наемников свергнул других царей… Ионянам же и карийцам, которые помогли ему вступить на престол, Псамметих пожаловал участки земли для поселения друг против друга на обоих берегах Нила» (II. 152–154).
Так одновременно в долине Нила появились греческие и карийские поселения. В Египте найдено немало надписей, сделанных карийцами. Они обзавелись алфавитным письмом несколько позже греков (судя по всему, в VII веке до н. э.), причем свой алфавит не позаимствовали у соседей-эллинов (как сделали, например, этруски, римляне и др.), а изобрели самостоятельно, на основе какой-то из западносемитских письменностей.
История Карий и впоследствии была тесно связана с историей восточных греков: они одновременно попали под лидийское, а затем и под персидское владычество. Карийцы присоединились к грекам, поднявшим Ионийское восстание, и довольно долго оказывали персам героическое сопротивление, сдавшись только после падения Милета.
Из греческих городов на юго-западе Малой Азии особенно тесные связи с карийцами имел как раз Галикарнас. Среди других полисов Дориды он был обречен на это своим географическим положением. Родос и Кос — острова; Книд, изолированно расположенный на выступе материка, — почти остров (однажды книдяне даже начали прокапывать канал через перешеек, но отступились, получив прорицание из Дельфийского оракула). Галикарнас же напрямую соприкасался с центральными районами Карий: в нескольких десятках километров находилась Миласа — главный город карийцев.
Карийское поселение было и еще ближе — в Салмакиде, буквально напротив Зефирия, где обосновались будущие галикарнасцы. Греки и карийцы, таким образом, были разделены лишь нешироким проливом, и между ними не могли не установиться контакты разного рода. Вот, например, что говорит Геродот об ионийцах, прибывших в Милет, также располагавшийся на территории Карий: «Те же ионяне, которые выступали прямо из афинского пританея[17] и считали себя самыми благородными, не привели с собой на новую родину женщин, но женились на кариянках, родителей которых они умертвили. Из-за этой-то резни родителей карийские женщины под клятвой ввели у себя обычай и передали своим дочерям: никогда не вкушать пищи вместе со своими мужьями и не называть мужей по имени за то, что те умертвили их отцов, мужей и детей, а затем взяли их в жены. Всё это произошло в Милете» (I. 146).
Жестокое поведение пришельцев-греков объяснялось необходимостью решить одновременно две задачи: «расчистить» себе место обитания, для чего вытеснить, перебить или подчинить местных жителей, и обеспечить новому городу дальнейшее существование, а для этого обзавестись семьями. Женщин же с собой в колонизационные экспедиции часто не брали (как в описанном Геродотом случае), рассуждая, что лишние рты во время длительного плавания совершенно не нужны, а представительниц слабого пола нетрудно будет отыскать по прибытии.
Разумеется, ситуация далеко не всегда и не везде складывалась столь брутально, как в Милете. В Галикарнасе, насколько можно судить, отношения с «варварами» приняли дружественный характер. Дорийцы из Зефирия и карийцы из Салмакиды, очевидно, заключили между собой брачный союз и начали активно родниться; в результате население города со временем стало смешанным. Это хорошо заметно по ономастике галикарнасцев: бывало, что часть членов одной семьи носила греческие имена, а другая — карийские. Именно так обстояло дело и в семье Геродота. Впрочем, несмотря на сильный карийский элемент, преобладавшим компонентом оказался все-таки эллинский: греческий язык был официальным в галикарнасском государстве, греческими были образ жизни и культура.
Постепенно греческий Галикарнас и карийская Салмакида слились, причем последняя оказалась инкорпорирована в состав первого. Впрочем, в двух разноэтничных частях полиса во времена Геродота еще сохранялись собственные органы местного самоуправления, о чем однозначно свидетельствует надпись, хранящаяся ныне в Британском музее и являющаяся официальным документом второй трети V века до н. э.{10} Из нее следует, что Галикарнас из-за неоднородного состава населения представлял собой нетипичный «двойной» полис, с двумя гражданскими общинами — греческой (галикарнасцы) и карийской (салмакиты), впрочем, для решения важных вопросов собиравшимися на объединенное народное собрание, выступавшее как верховный орган власти. В совокупности общины назывались «все галикарнасцы».
Законсервировавшийся смешанный «греко-варварский» характер, которым отличался Галикарнас, был редким явлением в мире эллинских полисов. Может быть, именно поэтому соседние дорийцы смотрели на галикарнасцев с некоторым предубеждением. Напомним, что Галикарнас был исключен из «шестиградья» — религиозного союза городов Дориды — из-за незначительного проступка одного из его граждан. Может быть, истинной причиной было их «нечистое» происхождение?
О событиях, происходивших в Галикарнасе на протяжении архаической эпохи, мы знаем очень мало — из-за молчания Геродота. Впрочем, известно, что галикарнасцы принимали достаточно активное участие в морской торговле греков с Египтом. В середине VII века до н. э. в дельте Нила была с разрешения фараонов создана фактория Навкратис, основанная эллинскими купцами, выходцами из целого ряда ионийских, дорийских и даже эолийских полисов (Милета, Самоса, Митилены, Книда и др.). В их числе Геродотом (II. 178) назван и Галикарнас.
В первой половине VI века до н. э. вся Кария была покорена Лидийской державой, беспрецедентно разросшейся и охватившей почти всю западную половину Малой Азии. Вместе с Карией вошел в состав Лидии и Галикарнас — либо при последнем лидийском царе Крезе (560–546), либо, что более вероятно, при его отце и предшественнике Алиатте (605–560).
Но лидийское владычество оказалось не слишком долговременным. В 546 году до н. э. Лидию захватил персидский царь Кир, а уже на следующий год полководец Кира Гарпаг по приказу своего господина стал вооруженной силой подчинять греческие города малоазийского побережья. Начал он с полисов Ионии, а затем пошел на Карию. Геродот пишет: «Карийцы покорились Гарпагу, не покрыв себя славой: ни сами карийцы, ни эллины, живущие в их стране, при этом не совершили никаких подвигов» (I. 174). Сказанное, разумеется, относится и к Галикарнасу, который, стало быть, сдался без боя. Геродот не акцентирует внимание на этом не слишком приятном для него обстоятельстве. Ведь находившиеся неподалеку ионийские греки в большинстве вели себя совершенно иначе: «…вступили в борьбу с Гарпагом и доблестно сражались каждый за свой родной город» (I. 169), хотя и безуспешно.
Когда при персидском царе Дарий I была осуществлена административная реформа державы Ахеменидов и государство разделено на обширные наместничества-сатрапии, Кария (с Галикарнасом), расположенные к востоку от нее другие «варварские» регионы (Ликия и Памфилия) и города греческих областей эгейского побережья — Дориды, Ионии и Эолиды — вошли в состав первой сатрапии (III. 90). На каждую сатрапию была наложена подать, которую та должна была ежегодно выплачивать в царскую казну. Для первой сатрапии ее сумма составляла 400 талантов серебра[18], что в целом можно назвать умеренной данью. Кроме того, все подчиненные Ахеменидам области были обязаны выставлять вооруженные отряды в войско персидского владыки, если он отправлялся куда-нибудь походом.
Нельзя сказать, чтобы положение греческих городов Малой Азии, в том числе и Галикарнаса, стало при новых порядках особенно приниженным. Ахеменидское господство не вело к экономическому упадку, персы не вмешивались во внутренние дела покоренных городов, если те проявляли лояльность. Вхождение в состав колоссальной державы позволяло делать головокружительные карьеры тем из подданных-греков, которые к этому стремились (мы упоминали галикарнасца Ксенагора, назначенного наместником Киликии).
Но свободолюбивые греки тяготились чужеземным владычеством. К тому же при поддержке персов во многих малоазийских полисах пришли к власти тираны, ведь ахеменидской администрации удобнее было иметь дело с единоличными правителями, чем с непредсказуемыми гражданскими общинами.
Так получилось и в Галикарнасе. Судя по всему, именно в период персидской оккупации полис попал под власть целой династии тиранов, ахеменидских вассалов, смешанного греко-карийского происхождения. О галикарнасской тирании источники дают лишь обрывочные сведения. Ее основателем (во всяком случае, первым известным представителем) был некий Лигдамид, правивший в конце VI века до н. э.
К тому времени уже много воды утекло с тех пор, как в VII веке на Малую Азию обрушились с севера полчища киммерийцев. Грозные захватчики несколько десятилетий хозяйничали на обширном полуострове, оставляя за собой развалины и пожарища, сокрушили несколько малоазийских царств, нападали и на греческие города эгейского побережья, а потом внезапно исчезли со страниц истории. Киммерийцев возглавлял вождь Дугдамме; это имя было искажено греками в «Лигдамид» и в такой форме почему-то стало впоследствии популярным среди аристократии бассейна Эгеиды. Так звали тирана крупного и богатого острова Наксос в центральной части Эгейского моря, правившего приблизительно в 540–524 годах. Такое же имя носили и несколько правителей из галикарнасской тиранической династии. Лигдамид I, судя по всему, был карийцем, но в жены взял гречанку, уроженку Крита (лишний пример того, как переплелись судьбы двух народов).
От этого брака родилась самая знаменитая представительница династии. Редчайший случай в истории греческих полисов: во главе государства встала женщина — Артемисия. Геродот пишет: «После кончины своего супруга она взяла верховную власть в свои руки» (VII. 99). Имя супруга историк не сообщает; есть предположение, что его звали Мавсолом{11} (не следует путать его с жившим спустя век с лишним тезкой, в честь которого был возведен Мавзолей).
Кстати, из сообщения Геродота вырисовывается интересная ситуация: если муж Артемисии тоже являлся тираном и ее непосредственным предшественником на престоле, то получается, что он был сыном того же Лигдамида I и родным братом собственной супруги. Впрочем, ничего экстраординарного здесь нет: среди карийской знати браки между братьями и сестрами были распространены. Артемисия, правда, носила чисто греческое имя (производное от имени богини Артемиды). Однако ее отчасти карийское, «варварское» происхождение проявлялось, в частности, в том, какую активную политическую роль играла эта женщина — в резком контрасте с «нормальными» гречанками, как правило, устраненными почти из всех сфер общественной жизни.
Геродот с нескрываемым удивлением и даже восхищением рассказывает об Артемисии. Звездный час ее карьеры пришелся на 480 год до н. э., когда Ксеркс во главе мощнейших сухопутных и морских сил двинулся на Элладу. Малоазийские греки, в качестве его подданных, тоже были вынуждены участвовать в походе на балканских соплеменников. От них требовались прежде всего корабли, укомплектованные экипажами.
Во флоте Ксеркса находилась и Артемисия, причем занимала не рядовую позицию: ей было поручено командовать объединенной эскадрой четырех греческих городов — родного Галикарнаса, а также соседних Коса, Нисира и Калимны. Это не означает, что она властвовала над всеми перечисленными полисами. Очевидно, Ксеркс просто счел, что присланные ими небольшие контингента в тактических целях целесообразнее слить в один. А вот факт, что единое руководство было поручено именно Артемисии, свидетельствует о том, что галикарнасская правительница пользовалась доверием «Великого царя».
Помимо кораблей, предоставленных полисами, Артемисия дополнительно снарядила пять военных судов за собственный счет. Следовательно, она отправлялась в экспедицию на Грецию не по принуждению, а скорее с энтузиазмом и во всяком случае с горячим стремлением отличиться перед Ксерксом, заслужить еще большее его благоволение. Это ей в полной мере удалось: она стала одним из самых блистательных героев Греко-персидских войн с ахеменидской стороны. В частности, по словам Геродота, «советы, которые Артемисия давала царю, из всех советов участников похода были наиболее полезными» (VII. 99).
На советах Артемисии «Отец истории» останавливается наиболее подробно. Когда перед Саламинской битвой Ксеркс со своими полководцами решал, следует ли дать грекам морское сражение, галикарнасская правительница, в противоположность остальным, пыталась отговорить царя от немедленного вступления в бой и рекомендовала выждать, подчеркивая, что время играет на персов. «Все, кто относился к ней доброжелательно, огорчились: они думали, что Артемисию постигнет царская опала за то, что она отсоветовала царю дать морскую битву. Напротив, недоброжелатели и завистники (царь ведь оказывал ей наибольший почет среди всех союзников) радовались возражению, которое, как они думали, ее погубит. Когда же мнения военачальников сообщили Ксерксу, царь весьма обрадовался совету Артемисии. Он и раньше считал Артемисию умной женщиной, а теперь расточал ей еще больше похвал. Тем не менее царь велел следовать совету большинства военачальников» (VIII. 69).
В битве при Саламине, состоявшейся против воли Артемисии, она тем не менее проявила героизм. Пожалуй, именно ее корабли отличились более всех других, находившихся в составе флота Ксеркса. Афинский командующий Фемистокл даже прямо в ходе боя дал приказ во что бы то ни стало захватить в плен галикарнасскую правительницу. Тому, кто приведет ее живой, была обещана награда — тысяча драхм. «Ведь афиняне были страшно озлоблены тем, что женщина воюет против них» (VIII. 93).
За Артемисией началась настоящая охота, но ей удалось спастись — то совершая подвиги, то прибегая к военным хитростям. На фоне паники, охватившей персидские морские силы, ее мужество и хладнокровие настолько бросались в глаза, что наблюдавший за сражением Ксеркс воскликнул: «Мужчины у меня превратились в женщин, а женщины стали мужчинами» (VIII. 88).
После саламинского поражения «Великий царь»[19] снова собрал военный совет. Туда была приглашена и Артемисия; более того, Ксеркс долго говорил с ней наедине. По словам Геродота, она посоветовала ему немедленно отправляться с флотом на родину, а в Греции оставить сильный сухопутный отряд во главе с Мардонием. На сей раз персидский владыка полностью согласился с ней. Разумеется, весь этот эпизод вызывает у внимательного читателя некоторое подозрение: кто мог знать, о чем именно беседовали Ксеркс и Артемисия
Чтобы показать свое полное доверие к галикарнаске, он дал ей последнее ответственное поручение: взять на свой корабль царских сыновей, сопровождавших отца в походе, и доставить их в Малую Азию, в город Эфес, где они были бы в безопасности. Выполнив это задание, Артемисия возвратилась на родину.
Именно в правление этой «женщины-тирана» родился Геродот. Но помнить он ее вряд ли мог и описывал ее жизнь и деяния, судя по всему, по рассказам своих старших современников. Дело в том, что вскоре после похода Ксеркса Артемисия скончалась, и власть перешла к следующим представителям тиранической династии.
Вначале правителем стал сын Артемисии — Писинделид (обратим внимание на чисто карийское имя). Но он, очевидно, прожил очень недолго, и ему наследовал Лигдамид II — то ли сын, то ли младший брат. Этому Лигдамиду было суждено стать последним тираном Галикарнаса в V веке до н. э. Для нас же важно то, что именно при нем протекала юность Геродота и совершились первые важные события в жизни будущего «Отца истории».
Лигдамид II фигурирует в упоминавшейся выше надписи из Галикарнаса. Ее содержание, собственно, как раз в том и заключается, что Лигдамид (он назван лишь по имени, без титулов) заключает договор с гражданской общиной «галикарнасцев и салмакитов» и совместно с ней вводит закон, касающийся некоторых вопросов собственности.
Получается, что в результате установления тирании в эллинских полисах складывалась ситуация своеобразного двоевластия. Очевидно, между тираном и народным собранием существовало какое-то разграничение властных полномочий по сферам политической жизни, но наиболее важные решения, затрагивавшие интересы обеих сторон, принимались совместно. Этим иллюстрируется чрезвычайно оригинальный статус греческого тирана: он выступает как некая автономная единица, «государство в государстве», живущее по своим собственным законам; узаконения же полиса над ним в принципе силы не имеют. Конечно, встречались и исключения, когда тиран демонстративно выказывал лояльность по отношению к полисным нормам; но это был лишь жест доброй воли, который делать было вовсе не обязательно и от которого можно было в любой момент отказаться.
В таких условиях — под персидским владычеством, в городе, управляемом тираном, — появился на свет и рос великий античный историк.
Одна из лучших книг о Геродоте принадлежит перу английского ученого Джона Майрса. Она так и называется: «Геродот — Отец истории»{12}. Это сугубо научное, трудное для восприятия исследование, но начинается оно красочным эпизодом.
…Конец 480 года до н. э. Галикарнасские корабли под командованием Артемисии возвращаются на родину после участия в неудачном походе Ксеркса. Жители города выходят в гавань, чтобы встретить своих земляков и сородичей. Среди встречающих — знатная гражданка Дрио. Она ведет за руку сына, четырехлетнего Геродота. Мальчик пристально всматривается в хмурые, невеселые лица моряков, вернувшихся без победы, и у него рождается вопрос, который потом будет мучить его всю жизнь и станет одним из главных побудительных мотивов к созданию исторического труда: «За что они сражались?»
Разумеется, вся эта яркая сцена — плод творческой фантазии Майрса. Не говорим уже о том, что совершенно бессмысленно гадать, о чем думал будущий великий историк в 480 году. Но и внешние факты, описанные здесь, тоже недоказуемы. Мы понятия не имеем, участвовал ли Геродот во встрече прибывших из Эллады галикарнасцев, более того, даже не можем с уверенностью сказать, что ему в это время было четыре года.
Но ведь во всех словарях и энциклопедиях, учебниках и хрестоматиях, монографиях и популярных книгах о Геродоте всегда указывается одна и та же дата его рождения — 484 год. Она основывается на единственном свидетельстве, сохранившемся у римского писателя-эрудита II века н. э. Авла Геллия. В его труде «Аттические ночи», представляющем собой копилку самых разнообразных, хотя и довольно бессистемно изложенных сведений, есть главка под названием «О времени жизни знаменитых историков Гелланика, Геродота и Фукидида». Приведем ее полностью:
«Гелланик, Геродот и Фукидид, авторы исторических сочинений, достигли большой славы примерно в одно и то же время, да и по возрасту не слишком сильно различались между собой. Ведь, кажется, в начале Пелопоннесской войны Гелланику было от роду шестьдесят пять лет, Геродоту — пятьдесят три, Фукидиду — сорок. Это написано в одиннадцатой книге Памфилы[20]» (
Пелопоннесская война между Афинами и Спартой началась в 431 году до н. э.; отсчитываем 53 года назад — и получаем 484 год как дату рождения Геродота. Но так ли это на самом деле?
Из трех приведенных Памфилой случаев в одном — возрасте Фукидида — несомненно, допущена ошибка: крайне маловероятно, что он был всего лишь на 13 лет моложе «Отца истории». Ведь известно, что Фукидид еще мальчиком присутствовал на публичном чтении Геродотом — уже маститым историком — отрывков из своего труда (
Геродот, как следует из указанных свидетельств, был приблизительно ровесником Олора — отца Фукидида, а стало быть, на целое поколение старше самого Фукидида. Последнему на момент начала Пелопоннесской войны еще не было тридцати. Он родился, по общепринятому ныне мнению, около 460–455 годов.
Коль скоро как минимум одна дата, содержащаяся в труде Памфилы, неверна, это заставляет с большой настороженностью относиться и к остальным. А проверить их мы не можем, поскольку независимых данных такой же степени точности в нашем распоряжении нет. Другие авторы, сообщающие о рождении Геродота, выражаются куда более расплывчато: «Геродот, родившийся во времена Ксеркса…» (
Поэтому рождение «Отца истории» следует помещать во вторую половину 480-х годов. Это могло произойти в 484 году, как считала Памфила, но с той же долей вероятности и на год-другой раньше или позже. Предложенная писательницей дата рождения Геродота, несомненно, так и останется во всех книгах как традиционная, устоявшаяся, но нужно учитывать, что она имеет приблизительный характер.
О своей семье, детских и юношеских годах Геродот ровным счетом ничего не сообщает читателям. Он вообще крайне скуп на автобиографические детали (не считая рассказов о своих многочисленных путешествиях). Добывать их приходится — буквально по крупицам — из других источников. Среди них наиболее подробна статья в анонимном византийском энциклопедическом словаре «Суда», составленном в X веке п. э., следовательно, отстоявшем от времени жизни и деятельности галикарнасского историка на целых полтора тысячелетия! Неудивительно, что в нем многие сведения спорны или не вполне достоверны. Тем не менее пользоваться ими — после надлежащего критического анализа — все-таки можно.
В «Суде» указано, что Геродот происходил из знатной галикарнасской семьи. Это выглядит вполне естественным: выдающийся деятель культуры в Греции того времени мог быть только выходцем из аристократических слоев. Аристократы, и лишь они, имели достаточные средства и досуг для получения хорошего, всестороннего образования.
Отца Геродота звали Лике. Имя это карийское, из чего, впрочем, не следует, что Лике (а значит, и Геродот) был не греком, а карийцем. Мы уже знаем, что в Галикарнасе благодаря сохранявшейся много веков традиции брачных связей между представителями двух живущих вместе народов сложилась своеобразная смешанная греко-карийская среда. Но абсолютно независимо от того, какая кровь текла в жилах Ликса и Геродота (а в том, что без карийской примеси здесь не обошлось, сомневаться не приходится), они были не варварами, а полноценными греками — по образу жизни и мышления, по языку и воспитанию, по самосознанию.
Сложнее обстоит дело с именем матери историка. В статье «Геродот» словаря «Суда» она названа Дрио. Однако в статье «Паниасид» того же словаря приведен другой вариант — Рео. Удивляться подобной путанице не следует: в мире греческих полисов имена женщин из порядочных семейств было не принято произносить в публичных ситуациях, «выставлять напоказ». Считалось, что это позорит их самих и их мужей. Вот, например, слова великого Перикла: «Та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой меньше всего говорят среди мужчин, в порицание или в похвалу» (
Какой из двух вариантов имени матери Геродота — Дрио или Рео — является верным, безоговорочно судить мы не можем. Обычно считается, что ближе к истине первый, но сколько-нибудь весомые аргументы отсутствуют.
В семье Ликса и Дрио (Рео) был еще один сын, Феодор. Но об этом брате Геродота мы ничего не знаем: видимо, он никак не проявил себя в дальнейшей жизни. Неизвестно даже, который из двух детей был старшим.
Впрочем, среди ближайших родственников Геродота имелся один действительно выдающийся человек — Паниасид. Впрочем, по вопросу о степени его родства с «Отцом истории» опять же полной ясности нет. В словаре «Суда» (статья «Паниасид») сказано: «Сообщают, что Паниасид — двоюродный брат историка Геродота: ведь Паниасид был сыном Полиарха, а Геродот — Ликса, родного брата Полиарха. Некоторые же сообщают, что не Лике, а Рео, мать Геродота, была сестрой Паниасида». Таким образом, Паниасид приходился Геродоту то ли дядей по матери, то ли двоюродным братом по отцу. Впрочем, родственные связи в любом случае налицо. Паниасид, судя по всему, был сильно старше Геродота и оказал на него большое влияние — как в плане творчества, мировоззрения, так и в политической деятельности.
Паниасид, сын Полиарха… Опять перед нами комбинация двух разноэтничных имен. Если в случае с Геродотом, сыном Ликса, отец носит карийское имя, а сын — чисто греческое, то здесь ситуация противоположная. Но кто же такой этот родственник Геродота?
Паниасид (Паниассид) был эпическим поэтом, едва ли не самым крупным в свою эпоху. Впоследствии он был включен в канонический список пяти величайших мастеров эпического жанра, в одном ряду с такими гениальными представителями античной литературы, как Гомер и Гесиод[21]. «Он возродил пришедшую в упадок эпическую поэзию», — сказано в словаре «Суда».
К эпохе, о которой идет речь (V век до н. э.), эпос как живая, развивающаяся отрасль поэтического творчества, казалось бы, давно отошел в прошлое. Он был в высшей степени характерен для ранней архаики, для гомеровских времен, а потом уступил место лирике. В начале классического периода уже и лирика затухала; грядущее было за драматическими жанрами, начинавшими бурно процветать в Афинах. Разумеется, старых авторитетных эпических поэтов не забывали, но подражать им уже не стремились. И вот в такую не самую благоприятную для эпоса пору появляется Паниасид, которому удается не только вдохнуть в эпос новую жизнь, но и обогатить его ранее не свойственными оттенками.
Паниасид известен как автор двух поэм, дошедших до нашего времени только во фрагментах — впрочем, достаточных для того, чтобы судить о их содержании. Одна из поэм называлась «Гераклия» (или «Гераклиада») и была посвящена, как явствует из заглавия, деяниям и подвигам величайшего из эллинских мифологических героев — Геракла. Этот сюжет вполне традиционен для древнегреческого эпоса. Совсем иное дело — «Ионика». Ее тему, согласно словарю «Суда», составляли «дела, связанные с Кодром и Нелеем и с ионийскими колониями». Кодр — легендарный афинский царь XI века до н. э., представитель мессенского правящего рода, бежавшего от дорийцев в Аттику. На новой родине Кодр получил царский престол и героически погиб, обороняя Афины от дорийского нашествия. Нелей же — его сын, один из вождей переселения ионийцев в Малую Азию.
Об этом переселении, насколько можно судить, и шла речь в поэме. В отличие от подавляющего большинства других эпических произведений, рассказывавших о событиях и героях глубокой древности: Эдипе и Агамемноне, Ахилле и Одиссее, Троянской войне, — где миф решительно преобладал над историей, «Ионику» мы можем назвать «историческим эпосом». В ней говорилось о делах, более близких по времени (вторжение дорийцев для многих греков было «водоразделом» между миром мифа и миром были) и, значит, более достоверных. Чтобы создать такую поэму, недостаточно было знать традиционные мифологические предания — требовалось внимательно изучить ранние страницы жизни полисов Ионии, даже побывать в них, пообщаться с жителями, послушать их рассказы о старине, то есть, по сути, проделать работу историка-исследователя.
Не приходится сомневаться в том, что Геродот был вдохновлен примером своего старшего родственника. Геродота можно назвать «эпическим историком»: он ориентировался на нормы эпоса, создавал масштабное, многокрасочное повествование, но только не в стихах, а в прозе{14}. Но пока перед нами — еще не великий историк, а юноша, пытливо всматривающийся в окружающий мир, старающийся отыскать собственный путь, единственный и неповторимый. И при определении этого пути личность «исторического эпика» Паниасида конечно же сыграла далеко не последнюю роль. Он заронил в душу Геродота интерес к прошлому своего народа.
Тот факт, что поэму о малоазийских ионийцах сочинил не иониец, а галикарнасский дориец с карийской примесью, даже вызывает некоторое удивление. Казалось бы, логичнее Паниасиду было бы описать основание своего родного Галикарнаса, чего он как раз и не сделал. Что перед нами — свидетельство большей симпатии поэта к соседям-ионийцам или же следования традиции? Ведь греческий эпос именно в Ионии достиг пика своего развития, проявившегося в гомеровских поэмах.
Произведения Паниасида были написаны на типичном «эпическом диалекте», восходящем к Гомеру. Этот диалект — искусственный, в реальной жизни на нем никто никогда не говорил, а использовали его исключительно аэды и рапсоды. Тут нужно пояснить, кто они такие и чем отличаются друг от друга.
Аэды — певцы-сказители, создававшие эпические произведения и исполнявшие их. Гомер, как его рисует античная повествовательная традиция и каким он предстает из своих сочинений, являлся именно аэдом. А рапсоды — это, так сказать, деградировавшие аэды, появившиеся позже. Они уже ничего не сочиняют сами, а выступают только исполнителями чужих эпических поэм. Аэда можно назвать вдохновенным творцом, беседующим с музами. Не случайно обращениями к музам начинаются «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Теогония» и «Труды и дни» Гесиода. Рапсод же, в сущности, только искусный ремесленник. К V веку до н. э. в греческом мире процветали только рапсоды; традиция аэдов практически иссякла. Ее-то и возродил Паниасид.
Но вернемся к вопросу об «эпическом диалекте». Итак, он был искусственно создан аэдами, как бы составлен ими из элементов различных диалектов, реально существовавших в древнегреческом языке. Есть в нем эолийские, дорийские слова и обороты. Но в основе все-таки лежит диалект ионийский — не в чистом виде, не в классическом, законченном варианте, каким мы его впоследствии встречаем у Геродота, а в той форме, которую он имел на ранней стадии своего развития. Эта особенность тоже являлась отражением той роли, которую сыграла Иония в истории античного эпоса.
Не могло ли случиться, что дориец Геродот написал свою «Историю» на ионийском диалекте под влиянием Паниасида, его интереса к Ионии, который он привил юному родственнику?
Насколько можно судить, именно Паниасид вовлек будущего «Отца истории», когда тот был еще совсем молодым, в политическую деятельность. Причем деятельность эта носила ярко выраженный характер освободительной борьбы. В жизни практически всех древних греков, граждан полисов, в том числе и деятелей культуры, политика занимала важнейшее место. В условиях полисной государственности с ее прямым народоправством иначе и быть не могло. Эллин архаической и классической эпох представлял себе полноценное бытие только в рамках суверенного, независимого города-государства — независимого как от внешнего владычества, так и от власти тирана внутри полиса. Если полной независимости не было, за нее следовало бороться.
Галикарнас во времена детства и юности Геродота не был независимым в обоих отношениях: город входил в состав державы Ахеменидов, и в нем правила династия тиранов. Если пытаться собственными силами освободиться от господства персов казалось бессмысленным, то тиранов можно было попробовать свергнуть.
«Отец истории» родился персидским подданным. Несомненно, в этом одна из главных причин его хорошего знания истории Ахеменидской империи, событий при дворе «Великого царя». Есть даже мнение, что свой труд он первоначально задумал именно как изложение истории Персии, а потом уже он плавно и органично переродился в рассказ о Греко-персидских войнах{15}.
Галикарнас под властью своих тиранов был весьма лояльным к персидским владыкам. Похоже, город даже не принял участия в Ионийском восстании начала V века; во всяком случае, об этом ничего не известно. Характерно, что впоследствии Геродот отрицательно относился к этой попытке малоазийских греков отпасть от Персии{16}.
Однако после неудачного похода Ксеркса на Элладу в 480–479 годах до н. э. ситуация в бассейне Эгейского моря начала стремительно меняться. В Греко-персидских войнах атакующей стороной были теперь греки, входившие в Афинский морской союза. Это военно-политическое объединение год от года разрасталось и крепло за счет вхождения в него всех греческих городов, освобождаемых от персов.
В Афинах в то время первенствующее положение занимал талантливый полководец и политик Кимон, сын Мильтиада: он активно участвовал в создании морского союза, много лет избирался стратегом[22] и был фактическим командующим союзными военно-морскими силами. Под его руководством афиняне неуклонно теснили персов из Эгеиды, нанесли им ряд крупных поражений на море и на суше. Самая эффектная из побед Кимона была одержана в начале 460-х годов до н. э. в битве у речки Евримедонт на юго-западном побережье Малой Азии: союзный флот, насчитывавший около двухсот триер, застал врасплох персидский флот, состоявший почти из 350 судов, причем до двухсот вражеских кораблей попали в плен. Затем афинский военачальник, высадившись на берег, нанес поражение сухопутному войску персов и захватил их лагерь, после чего снова вышел в море и разбил подходившую финикийскую эскадру из восьмидесяти судов. Таким образом (беспрецедентный случай в истории античного военного искусства) в один день была одержана тройная победа! Возможно, именно после битвы при Евримедонте был заключен первый мирный договор между Афинами и державой Ахеменидов{17}. Детали его неизвестны; возможно, персы давали обязательство не вводить свой флот в Эгейское море.
Некоторые греческие полисы Малой Азии по-прежнему оставались под контролем Ахеменидов, но их становилось всё меньше. В частности, эллинские города на юго-западе обширного полуострова вошли в состав Афинского морского союза сразу после битвы при Евримедонте, в их числе — и Галикарнас (около 468 года до н. э.){18}. Правда, в списках фороса — ежегодной подати, которую платили члены альянса в союзную казну, — галикарнасцы появляются лишь в 454 году{19}. Но этот факт говорит только об одном: поскольку сами эти списки были введены именно тогда в связи с перенесением союзного казнохранилища с острова Делос на афинский Акрополь, к указанному году Галикарнас уже находился в числе союзников. Выражаясь профессиональным языком историка, мы имеем terminus ante quern — дату, заведомо до которой произошло то или иное событие.
После освобождения от персидского владычества, пришедшего, как обычно, со стороны Афин, многие граждане Галикарнаса наверняка ожидали, что теперь они будут избавлены и от «внутреннего владыки» — тирана. Однако этого не произошло — афиняне не торопились свергать Лигдамида, несмотря на его принадлежность к традиционно проперсидски настроенной династии. Наверное, Афины при большой необходимости могли бы «убрать» этого правителя, используя свои военные силы, но не сочли нужным или не решились. Государственный переворот, инспирированный внешней силой, мог бы породить скандальную ситуацию («вот так освободители!»), оттолкнуть от афинян некоторых их малоазийских союзников.
Афины, в которых складывалась всё более развитая форма демократии, и на внешней арене покровительствовали демократическим режимам. Впоследствии, когда их мощь возросла, они уже ничтоже сумняшеся насаждали такие режимы в союзных полисах, ликвидируя предшествующие формы правления. Но пока афиняне придерживались более мягкой и умеренной политики, тем более что их тогдашний лидер, Кимон, отнюдь не относился к приверженцам радикального народовластия. Демократия в Галикарнасе не была установлена. Очевидно, афинским властям удалось договориться с Лигдамидом, и он остался у власти; или, может быть, правитель сам вовремя переметнулся на сторону новых хозяев Эгеиды и смог сохранить за собой галикарнасский «престол». Такая ситуация была в Афинском морском союзе редкой, но не уникальной. Известны два тирана — Тимн и Пигрет, — оставшиеся во главе своих маленьких городков того же Карийского региона даже после их вступления в союз. Судя по всему, пребывание полиса в этом союзе и сохранение тиранического правления не были несовместимы, если тиран был послушен воле Афин.
Надежды тех граждан Галикарнаса, которые являлись противниками тирании, оказались разрушенными — афиняне не помогли. И тогда они решили действовать на свой страх и риск. В их числе были и Паниасид (возможно, он даже возглавлял противостоявшую тирану политическую группировку), и совсем еще молодой Геродот. Те действия, которые они предприняли, привели первого к трагическому концу и полностью изменили жизнь второго.
Относительно этих событий в нашем распоряжении снова лишь самые скудные, краткие сведения. В словаре «Суда», в статье, посвященной Геродоту, читаем: «Переселился же он на Самос из-за Лигдамида, ставшего третьим, считая от Артемисии, тираном Галикарнаса» (поясним, что Лигдамида можно назвать «третьим» от Артемисии тираном лишь в том случае, если в счет включать саму Артемисию, но именно так обычно и делали античные греки). А в статье «Паниасид» того же словаря сказано: «Убит же он был Лигдамидом, который был третьим тираном Галикарнаса» (здесь, конечно, тоже имеется в виду «третьим от Артемисии», а не «третьим с начала установления тирании»).
На основании этого можно сделать следующую реконструкцию событий. Паниасид и Геродот составили заговор с целью свержения Лигдамида (разумеется, с участием других галикарнасских граждан). Но их планы обернулись неудачей: заговор был раскрыт. По приказу тирана, сохранившего власть, Паниасида как главного «виновника» схватили и казнили. Геродоту же, разумеется, нельзя было оставаться в родном городе. Молодой человек отправился на Самос.
Выбор этого места, надо полагать, не является случайностью. Остров Самос, один из сильнейших полисов в Эгейском море, принадлежал к числу немногих самых давних, надежных и привилегированных членов Афинского морского союза, которые не платили форос в союзную казну, а свою долю в общее дело вносили непосредственно военной силой, снаряжая эскадры кораблей. Самос традиционно поддерживал с Афинами активные связи, и вряд ли самосские власти решились бы без санкции фактической столицы союза принять политического изгнанника из другого государства, Галикарнаса.
Можно даже предположить, что попытка переворота, предпринятая Паниасидом, Геродотом и их сторонниками, была-таки осуществлена не без афинского одобрения. Безусловно, оно могло быть только тайным: афиняне не стали бы компрометировать себя, открыто вмешиваясь во внутренние дела другого полиса. Заговорщикам, очевидно, дали знать, что напрямую помогать им не будут, но и препятствовать тоже. Удастся им свергнуть тирана — всё совершится руками галикарнасских граждан; в случае неудачи афиняне обещали хотя бы обеспечить безопасность участникам заговора. Правда, Паниасида, лидера оппозиции, спасти не удалось; но тем заговорщикам, которые сумели избежать немедленных репрессий, было предоставлено убежище на Самосе. Вряд ли решение по перемещению принималось по отношению к одному Геродоту, тем более что он был еще очень молод, никому за пределами родного города не известен, а его дальнейшую блистательную судьбу, конечно, пока никак нельзя было предсказать.
Геродот удалился на Самос в составе группы галикарнасцев-оппозиционеров. Возможно, в их числе был и эпический поэт Херил. В посвященной ему статье словаря «Суда» находим довольно противоречивые сведения: «Херил с Самоса; некоторые же сообщают, что он был из Иасоса[23], другие же — что из Галикарнаса. Был современником Паниасида, а во времена Персидских войн, в 75-ю олимпиаду[24] был еще юношей. Говорят, что он стал рабом какого-то самосца, при этом имел красивый и цветущий вид. Он бежал с Самоса и, став товарищем историка Геродота, полюбил литературу… Херил же занялся поэзией и умер в Македонии при дворе Архелая, ее тогдашнего царя. Написал он следующее: поэму о победе афинян над Ксерксом. За эту поэму он получил по золотому статеру за каждую строку, и было поставлено, чтобы она читалась вместе с поэмами Гомера. Упоминаются и другие его поэмы, в том числе „Ламиака“».
Если хорошенько разобраться в путанице, свойственной «Суде», можно почерпнуть интересную информацию. Наверное, не случайно в связи с Херилом упоминаются имена Паниасида и Геродота. С последним у Херила вообще оказывается целый ряд точек соприкосновения: они были товарищами, писали, в сущности, об одних и тех же вещах — о победе греков над персами, — только Геродот в прозе, а Херил в стихах. Оба получили за свои произведения большую денежную награду: «гонорар» Геродота составил десять талантов серебра, что соответствует 60 тысячам драхм, а Херил, как видим, получил по золотому статеру за каждую строку своей поэмы. Золотой статер может быть приравнен примерно к 20 серебряным драхмам. Даже если поэма Херила была невелика — скажем, около тысячи строк (таковы, например, «Теогония» и «Труды и дни» Гесиода; «Илиада» и «Одиссея» Гомера в несколько десятков раз больше), — 4 то получается, что его поэтический труд был оценен в весьма крупную сумму: около 20 тысяч драхм (более трех талантов). Кто ее Херилу заплатил, в «Суде» прямо не указывается. Но есть все основания предполагать, что это были, как и в случае с Геродотом, афиняне, ведь именно их победу над Ксерксом воспел поэт!
Кроме того, Херил был связан с Македонией, а относительно Геродота также существуют очень похожие данные. Если учитывать, что в качестве одного из возможных мест рождения Херила назван Галикарнас, то вырисовывается следующая картина. Херил, как и Геродот, принадлежал к кружку молодых галикарнасских оппозиционеров, возглавляемому Паниасидом. После неудачи заговора против Лигдамида он в числе других оказался «политэмигрантом» на Самосе. Его судьба на первых порах сложилась менее удачно, чем у Геродота, — он даже оказался в рабстве у кого-то из самосцев и спасся только бегством. Но дружеские отношения между Херилом и Геродотом, наверняка установившиеся еще в юности, в Галикарнасе, сохранялись и впоследствии. Два писателя, безусловно, повлияли друг на друга, избрав одинаковую тематику.
Мы снова убеждаемся, что Геродот с ранних дней вращался в весьма специфической среде. Его окружением были эпические поэты, причем интересовавшиеся греческой историей. Невозможно представить, чтобы это осталось без последствий для мировоззрения великого галикарнасца.
Когда именно свершились описанные события — попытка свержения Лигдамида, гибель Паниасида, бегство Геродота на Самос? Они должны были произойти вскоре после освобождения Галикарнаса из-под персидского владычества и вступления его в Афинский морской союз. Пожалуй, можно даже предположительно назвать год. Христианский историк IV века н. э. Евсевий Кесарийский в своей «Всемирной хронике» дает краткую запись, датируемую 468/467 годом до н. э.: «Получил известность историк Геродот» (Евсевий. Хроника. 1-й год 78-й олимпиады).
Наверное, пришла пора объяснить читателю, что же означают эти странные даты с «дробями» — 468/467 год до н. э. и т. п. Летосчисление «от Рождества Христова», которым мы ныне пользуемся и которое лежит в основе григорианского календаря, разумеется, появилось уже после времен Геродота — несколько веков спустя. До того пользовались различными летосчислениями («эрами»); в частности, едва ли не в каждом полисе Эллады был собственный календарь. Для приведения в единую хронологическую систему событий, происходивших в различных регионах, историком III века до н. э. Тимеем из Тавромения был предложен общегреческий счет лет по олимпиадам — четырехлетним промежуткам между Олимпийскими играми. Они проводились в античную эпоху, в отличие от Олимпийских игр современности, всегда в одном и том же месте — городе Олимпии (на западе Пелопоннеса), но, как и в наши дни, раз в четыре года. Первые игры состоялись, как принято считать, в 776 году до н. э.; от них-то и велась нумерация всех последующих.
Разумеется, ученые-историки Нового времени перевели с летосчисления по Олимпиадам на христианское летосчисление все события, имевшие место до введения последнего. По большей части никаких проблем с таким переводом не возникало. Так, если было известно, что Марафонская битва состоялась осенью 3-го года 72-й олимпиады, то в пересчете получалась осень 490 года до н. э.
Имелось, однако, обстоятельство, которое в ряде случаев препятствовало такой точности. Дело в том, что в календарях большинства греческих полисов, в отличие от нашего григорианского календаря, год начинался летом, а не зимой. Именно так было и в Олимпии: летние Олимпийские игры (зимних Античность не знала) открывали собой новый год и новое четырехлетие — олимпиаду. Соответственно, если нам известно только то, что некое событие произошло в 3-й год 72-й олимпиады, без уточнения месяца или хотя бы времени года, то пересчет на привычную нам датировку допускал два в равной мере вероятных варианта: вторую половину 490 года до н. э. или первую половину 489-го. Такие-то даты и принято в науке писать с «дробями»: 480/489 год до н. э., показывая тем самым, что более точно определить время события невозможно. Именно так и в процитированном отрывке из Евсевия: 1-й год 78-й олимпиады соответствует 468/467 году до н. э.
Экскурс о летосчислениях мог показаться кому-то скучноватым и не очень нужным. Но не будем забывать: речь у нас идет об историке, более того — о великом историке, «Отце истории». А потому-то, хотим мы или не хотим, нам придется время от времени вникать в сложные хронологические проблемы. Ведь история и хронология всегда идут рука об руку, их оторвать друг от друга невозможно.
Но вернемся к свидетельству Евсевия Кесарийского. Оно не дает никаких пояснений, чем получил известность Геродот в указанный год. Своим историческим трудом? Это абсолютно исключено: в 468/467 году до н. э. ему не было и двадцати лет. Скорее всего, он не только не приступил еще к написанию своего сочинения, но и не помышлял о карьере историка. От сложной проблемы можно освободиться — сделав вид, будто ее нет, сочтя, что хронист ошибся. Это самый простой, но не самый плодотворный путь. К тому же хронология Евсевия в целом довольно надежна: он долго и скрупулезно трудился над ней, привлекая труды многочисленных предшественников.
Что, если допустить, что до Евсевия дошло смутное упоминание о самом первом появлении Геродота на исторической сцене — пока еще не в качестве деятеля культуры, ученого, а в качестве политика, тираноборца? Его имя вполне могло стать известным в связи с заговором против Лигдамида.
В греческом мире всегда очень высоко ценили людей, которые восставали против тирании; они даже становились объектами почитания. Достаточно припомнить афинских «тираноубийц» Гармодия и Аристогитона, организовавших в 514 году до н. э. заговор, направленный против тирана Афин Гиппия. Выступление заговорщиков оказалось безуспешным: им удалось убить только брата Гиппия — Гиппарха, а сразу после этого они были схвачены телохранителями и казнены. Тиран остался жив, более того, после покушения его правление стало более жестоким. Само их выступление было вызвано не политико-идеологическими соображениями, не принципиальной враждебностью тирании, а мотивами личной мести. И тем не менее после установления афинской демократии имена Гармодия и Аристогитона были окружены чрезвычайным почетом. Им поставили статуи в самом центре Афин — на главной городской площади; в их честь слагали песни и гимны. Они были объявлены героями, то есть существами сверхчеловеческого порядка. Многие афиняне, вопреки исторической истине, считали именно их основателями демократии.
Кстати, есть даже некое созвучие между этими двумя парами: Гармодий и Аристогитон — Геродот и Паниасид. В обоих случаях из двух заговорщиков один — цветущий юноша, другой — мужчина средних лет.
Эта гипотеза не претендует на статус безусловной истины. Но если она имеет право на существование, мы можем сделать дальнейший вывод: время заговора, в котором участвовал Геродот, и его бегства на Самос определяется именно датой Евсевия. Никаких противоречащих этому фактов или аргументов нет. Более того, названная дата очень хорошо согласуется с хронологией вхождения Галикарнаса в Афинский морской союз: получается, что противники тирании начали действовать сразу после освобождения от персидского владычества.
Переселение Геродота на Самос стало в каком-то отношении переломным моментом всей его биографии. Именно оно, надо полагать, определило дальнейшую судьбу юноши и в конечном счете привело его на путь историописания.
Действительно, если бы заговор против Лигдамида оказался успешным, то Геродот остался бы в родном полисе и продолжил активно участвовать в политической жизни. Ведь именно политика однозначно считалась самым достойным занятием для граждан греческих государств. Геродот был молод, вся жизнь у него была впереди, и вполне возможно, что он стал бы со временем лидером Галикарнаса. Таким образом, мы имели бы политического деятеля Геродота — пусть даже крупного по меркам своего города, но в масштабах эллинского мира всего лишь одного из тысяч. Но тогда мы, скорее всего, не узнали бы историка Геродота — единственного и неповторимого. Государственная деятельность вряд ли оставила бы ему время для интеллектуальных штудий.
Некоторые древнегреческие историки являлись одновременно и политиками. Но к написанию своих исторических трудов они приступали в период вынужденного досуга, чаще всего тоже в годы изгнания. Фукидид — младший современник Геродота и следующий после него представитель античной исторической науки, непосредственный продолжатель «Отца истории» на этой стезе и в то же время его довольно жесткий критик — был представителем одного из знатнейших афинских аристократических родов — Филаидов. В молодости он начал политическую и военную деятельность, был избран стратегом и, командуя эскадрой кораблей в Пелопоннесской войне между Афинами и Спартой, неудачно провел порученную ему операцию, в результате чего попал под суд и был приговорен к изгнанию из Афин. Именно в двадцатилетнем изгнании, не имея возможности непосредственно влиять на судьбы Греции, он и занялся описанием и вдумчивым анализом этих судеб. В IV веке до н. э. афинский политик Андротион, тоже вынужденный удалиться из полиса, написал «Аттиду» — исторический труд по истории Афин и Аттики с древнейших времен. А еще несколько десятилетий спустя сицилийский историк Тимей, напротив, написал свое пространное сочинение в пору многолетнего проживания в Афинах — тоже вдали от отечества. Примеры такого рода можно было бы множить и множить…
Почему нередко греки — причем, как правило, люди ярко выраженного политического темперамента — осваивали ремесло историка именно в подобных обстоятельствах? Да именно потому, что им не оставалось ничего иного: ведь политика для них была закрыта! Мы уже упоминали об этом последствии древнегреческого полисного партикуляризма: гражданин полиса пользовался всей полнотой политических прав только в этом полисе, а за его пределами он становился, в сущности, никем. Исключительно незавидной была судьба изгнанника, и не случайно в Элладе изгнание считалось вторым по тяжести наказанием после смертной казни.
Переселенец из одного полиса в другой в лучшем случае причислялся на новом месте жительства к сословию метеков. Таким людям хотя бы гарантировались безопасность, защита закона, дозволялось беспрепятственное проживание. Но метек, не располагая политическими правами, никак не мог участвовать в работе органов государственной власти. Если он пытался с помощью какой-нибудь хитрости принять такое участие (например, пробирался тайком на народное собрание), это расценивалось как очень серьезное преступление и могло привести даже к смертной казни. Метек не имел и имущественных прав, не мог приобрести участок земли и возделывать его, добывая себе хлеб насущный. Максимум, что ему позволялось, — арендовать дом в городе для своего проживания. Метеки ежегодно платили налог в государственную казну; граждане же регулярных налогов не платили, поскольку в Греции считалось, что высокое звание гражданина несовместимо с налогообложением. Лишь в чрезвычайных ситуациях с членов гражданского коллектива могли взыскать разовый экстренный налог — эйсфору.
Метек, поселяясь в полисе, был обязан найти гражданина, который согласился бы стать его «покровителем» (простатом). Простат как бы отвечал за метека перед полисом и в то же время представлял интересы своего подопечного в органах государственной власти. Ведь метек, будучи лицом неправоспособным, нe мог, в частности, выступать в суде — не важно, в качестве истца или ответчика.
Метек мог прожить в полисе сколь угодно долго, но гражданином от этого не становился. Более того, у метека могли родиться дети, у тех свои дети… Эти люди даже не видели своей настоящей родины и с самого момента своего появления на свет жили на территории чужого полиса, но гражданскими правами в нем они так и не пользовались.
Лишь в случае, если метек оказывал особо важную услугу государству — например, при серьезных финансовых затруднениях добровольно и неоднократно вносил в полисную казну крупную сумму из собственных средств, — в афинском народном собрании мог быть поставлен вопрос о том, чтобы в награду включить его в коллектив граждан. Но такие случаи в классическую эпоху были исключительно редкими. Принималось специальное постановление, касавшееся конкретного человека и не имевшее силы прецедента.
Принятие такого постановления было затруднено сложными процедурными препонами. Об этом рассказывается в речи одного из афинских ораторов IV века до н. э.: «Дарование афинского гражданства наш народ считает настолько прекрасной и важной наградой, что установил для себя законы, согласно которым такое право предоставляется — если народ захочет кого-либо сделать афинским гражданином… Прежде всего, у нашего народа есть закон, согласно которому разрешается даровать права афинского гражданства только тем, кто своими подвигами на благо народа афинян это звание заслужил. И даже после того, как народное собрание, убежденное в правильности своего решения, предоставит эту награду, закон не позволяет считать это решение правомочным, пока на следующем народном собрании не менее шести тысяч человек тайным голосованием (с помощью камешков-„бюллетеней“, которые опускали в урны. —
Даже если метек и становился гражданином, то все-таки не до конца равноправным: ему запрещалось, например, выставлять свою кандидатуру на высшие в афинском полисе должности архонтов, а также быть жрецом.
В других древнегреческих государствах так же, как в Афинах, гражданство предоставлялось очень редко и с большими затруднениями. Свободные и полноправные граждане полисов абсолютно не были расположены делиться с кем бы то ни было своей свободой и полноправием.
Причем для человека, оказавшегося в другом городе, стать метеком было еще далеко не самым худшим вариантом. Ведь тем самым он, выражаясь современным языком, получал «вид на жительство». Часто приезжий считался просто «чужаком» (ксеном), к которому отношение было однозначным: сделал свои дела — и до свидания, не задерживайся.
Ныне граждан древнегреческих полисов нередко обвиняют в том, что они не предоставляли полноправия метекам и другим чужеземцам. В этой связи говорят об узости, ограниченности античной полисной демократии. Однако эти упреки лицемерны. Ведь и современные, вполне демократические государства относятся к людям, прибывшим из других стран, в сущности, точно так же. И в наши дни повсюду имеются свои метеки, только называют их мигрантами.
Покинув в юности родной Галикарнас, Геродот потом почти всю жизнь прожил на положении метека; следовательно, занятие активной политикой было для него исключено. Несомненно, чем дальше, тем больше ему приходилось задумываться над тем, какой деятельности посвятить себя.
Вопрос о том, как прокормиться, полагаем, перед Геродотом не вставал. Он, как мы знаем, был выходцем из знатной — а следовательно, и богатой — семьи. Неизвестно, был ли жив его отец на момент заговора против Лигдамида, а если был — переселился ли вместе с сыном на Самос или же остался на родине.
Впрочем, всё это не имеет принципиального значения. Если Лике покинул Галикарнас, то, конечно, захватил с собой свое денежное состояние или по крайней мере его часть. Если же он продолжал там жить и разлучился с сыном, оказавшимся на чужбине, то не приходится сомневаться, что он находил возможность помогать Геродоту. Наконец, если отец будущего историка умер раньше его эмиграции, то Геродот стал наследником его имущества (по крайней мере половины, поскольку у него был брат).
Одним словом, молодой человек не испытывал нужды. Тем не менее вопрос о выборе пути перед ним стоял: будучи одаренным и энергичным, он не мог, разумеется, провести столь бурно начавшуюся жизнь в безделье. Но круг деятельности был для него сильно ограничен ввиду положения изгнанника и метека: отпадала политика — а именно к ней он, скорее всего, обратился бы, если бы позволили обстоятельства.
Можно было стать морским торговцем или открыть ремесленную мастерскую. Эти занятия, сулившие выгоды, разрешались и метекам; многие из них именно таким образом обрели благосостояние. Некоторые ученые считают, что и Геродот поступил так же и предпринимал свои многочисленные путешествия именно в качестве купца, перевозя на корабле товары из города в город и из страны в страну. Но это крайне маловероятно: сам историк и словом не обмолвился о торговых целях своих странствий — напротив, повсюду подчеркивает, что совершал их из бескорыстного, чисто исследовательского интереса.
Приведем один пример. Будучи в Египте, Геродот столкнулся там с культом местного бога, которого греки отождествляли с Гераклом. Но мифы о «египетском Геракле» и о греческом герое сильно отличались друг от друга. В частности, египтяне считали своего «Геракла» одним из древних богов, а в эллинской мифологии Геракл, наоборот, едва ли не самый молодой обитатель Олимпа, вначале бывший человеком, а после смерти за свои многочисленные подвиги удостоившийся причисления к небожителям.
Разногласия между священными преданиями разных народов заинтриговали Геродота, и он решил изучить проблему специально. Сам он пишет: «Так вот, желая внести в этот вопрос сколь возможно больше ясности, я отплыл в Тир Финикийский, узнав, что там есть святилище Геракла. И я видел это святилище, богато украшенное посвятительными дарами. Среди прочих посвятительных приношений в нем было два столпа, один из чистого золота, а другой из смарагда, ярко сиявшего ночью. Мне пришлось также беседовать с жрецами бога, и я спросил их, давно ли воздвигнуто это святилище. И оказалось, что в этом вопросе они не разделяют мнения эллинов. Так, по их словам, святилище бога было воздвигнуто при основании Тира, а с тех пор, как они живут в Тире, прошло 2300 лет. Видел я в Тире и другой храм Геракла, которого называют Гераклом Фасийским. Ездил я также на Фасос и нашел там основанное финикиянами святилище Геракла, которые воздвигли его на своем пути, когда отправлялись на поиски Европы. И это было не менее чем за пять поколений до рождения в Элладе Амфитрионова сына Геракла. Эти наши изыскания ясно показывают, что Геракл — древний бог» (II. 44).
Описанные здесь передвижения менее всего напоминают стиль поведения купца, для которого главное — доставить товар по назначению, продать его, получить прибыль и отправиться обратно; он ни за что не отклонится от своего пути, если в том нет прямой необходимости. А Геродот, как видим, ехал туда, куда влекла его логика познания. Из Египта он прибыл в Финикию, а там узнал о религиозных связях финикийцев с островом Фасос в северной части Эгейского моря, поплыл на этот остров (очень неблизкий путь!) и не успокоился, пока не отыскал истину или то, что представлялось ему истиной.
Геродот, являясь аристократом по рождению, не мог быть торговцем или ремесленником, ведь эти занятия в классической Греции считались не слишком почтенными, плохо совместимыми с достоинством свободного человека. Гораздо более уважаемым мыслился сельскохозяйственный труд в своем поместье, но к нему галикарнасский изгнанник, как мы видели, доступа не имел — не позволял статус метека. Ему оставалось, в сущности, одно: обратиться на стезю интеллектуальной, культурной деятельности. Все данные для этого у Геродота были. Он получил, вне всякого сомнения, хорошее образование и едва ли не с детства общался с широко эрудированными людьми, такими как Паниасид.
Но какую именно отрасль обширного культурного поприща мог он избрать? Стать либо философом и ученым-естествоиспытателем (в начале классической эпохи эти две специальности еще не отделялись друг от друга), либо оратором, либо поэтом. В наше время в этот перечень добавилась бы еще возможность стать мастером искусства: скульптором, живописцем или архитектором. Но для человека Античности эти профессии отнюдь не пользовались высокой репутацией, считались ремесленническими, что для нас совсем уж необычно. Мы ценим поэта и художника примерно одинаково, эти слова стали даже отчасти взаимозаменяемы («поэт — художник слова» и т. п.). Для жителей Эллады поэт — боговдохновенный певец, общающийся с музами, а художник — всего лишь высококвалифицированный ремесленник. Почитались преимущественно те формы культуры, которые были связаны со словом, с идеей, так сказать, «бестелесные», не связанные с изготовлением материальных вещей. Поэзией или философией могли заниматься на досуге люди самого высокого положения. Но невозможно даже представить себе, чтобы аристократ увлекся, скажем, ваянием или начал писать картины.
Подобное отношение выражено в словах писателя-моралиста Плутарха: «Кто занимается лично низкими предметами, употребляя труд на дела бесполезные, тот этим свидетельствует о пренебрежении своем к добродетели. Ни один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на Зевса в Писе (знаменитую статую Зевса в Олимпии работы Фидия. —
Философами Иония издавна была прославлена. Собственно, именно в ней — впервые в мировой истории — появилась философская мысль. И сразу же ионийские полисы родили целую когорту выдающихся мыслителей — Фалеса, Анаксимандра, Гераклита… Имелась влиятельная философская школа и на Самосе. Ее крупнейшим представителем являлся всем известный Пифагор. Есть мнение, что это именно он первым ввел в обиход сам термин «философия». Правда, основная деятельность Пифагора развернулась не на родном острове, а в населенной греками Южной Италии. Однако самосцы, конечно, хорошо помнили о своем знаменитом земляке. Упоминает о нем и Геродот, при этом называя Пифагора «величайшим эллинским мудрецом» (IV. 95). Разумеется, здесь историк передает самосскую точку зрения, с которой вряд ли согласились бы жители многих других греческих городов. Так, милетяне скорее признали бы мудрейшим из эллинов не Пифагора, а своего соотечественника Фалеса, афиняне — Солона, спартанцы — Хилона, лесбосцы — Питтака и т. д. В отличие от перечисленных лиц Пифагор даже не входил в число «семи мудрецов». Философы были на Самосе и после Пифагора; особенно на этом поприще прославился Мелисс, зарекомендовавший себя также крупным государственным деятелем и полководцем (
Впрочем, тому, что Геродот не вступил на путь философии, удивляться не приходится. Достаточно вчитаться в его труд, чтобы понять: этот человек не был рожден философом. Мышление его было не абстрактным — это необходимо, чтобы погружаться в философскую проблематику, — а, напротив, конкретным, образным. Его влекли к себе не идеи, а факты и события, прежде всего наиболее яркие и занимательные.
А что можно сказать о карьере оратора? Вот она, безусловно, пришлась бы Геродоту по плечу. Даром красноречия он, бесспорно, обладал. Ораторскому стилю присущи те черты, которые являются излишними для стиля философского: живость изложения, доходчивость, убедительность. В «Истории» Геродота всё это мы находим в избытке. Не случайно действующие лица трактата сплошь и рядом произносят речи — то краткие, то пространные. Раз Геродот составлял такие речи для своих персонажей, почему бы ему не писать их для себя самого?
Но в классической Греции ораторское искусство имело подчеркнуто политический характер. Ораторы, как правило, были крупными деятелями своих полисов, произносили речи в народном собрании и других органах власти, а тематикой этих речей были важнейшие вопросы государственной жизни. Геродоту же, с его статусом метека, выступать на эти темы никто бы не позволил. Правда, со временем в греческих полисах, особенно в Афинах, получила распространение профессия логографа. Тот, кто занимался ею, писал речи для других и получал от своего ремесла неплохие доходы. Известны случаи, когда логографами были метеки — например, Лисий, один из лучших представителей афинского красноречия. Но это было значительно позже и не встречалось во времена самосской юности Геродота.
Трудно ответить на вопрос, почему он не выбрал путь поэзии. Поэтическое творчество считалось в высшей степени подходящим для аристократа. Очень многие древнегреческие поэты — Солон, Алкей, Феогнид и другие — были выходцами из знати. А в случае с Геродотом к этому, казалось бы, располагали и все прочие обстоятельства: он вырос в общении с поэтами; крупнейший эпик эпохи, Паниасид, был его родственником и оказал на него большое влияние. Но почему-то в конечном счете Геродот не ступил на стезю Паниасида, а выбрал собственную.
Как это получилось? Приходится признать, что любой ответ может быть только предположительным, и ни доказать, ни опровергнуть его нет никакой возможности. Во-первых, не все люди обладают даром стихосложения — для этого необходим особый умственный и душевный склад. Вероятно, Геродоту гораздо легче работалось в прозе. Во-вторых, молодой человек обладал настолько ординальным самоощущением, что ему хотелось заняться чем-то совсем новым, редким, нетрадиционным. Философ, оратор, поэт — всё это были уже хорошо изведанные области интеллектуальной деятельности. Геродот же взялся за такую, в которой предшественников у него почти не было.
Итак, Геродот стал историком, и произошло это именно в пору его пребывания на Самосе. В словаре «Суда» сказано: «…На Самосе он и изучил ионийский диалект, и написал „Историю“ в 9 книгах».
Абсолютно верным это сообщение быть не может. Во-первых, с ионийским диалектом Геродот конечно же не мог не быть знаком еще до прибытия на Самос. Возможно, здесь имеется в виду «изучил его в совершенстве», чтобы владеть им свободно и писать как на родном. В любом случае тот диалект, на котором написана «История», — общеионийский, тогда как на Самосе был в ходу несколько отличавшийся вариант этого говора. Во-вторых, не вполне верно и утверждение, что труд Геродота был полностью написан на этом острове. Над своим сочинением историк работал всю жизнь, вплоть до кончины, то есть еще много времени спустя после того, как покинул Самос. Но зерно истины в цитированном свидетельстве, несомненно, все-таки есть. Научная работа Геродота началась на Самосе. А прожил он там, судя по всему, довольно долго — вполне возможно, что не менее двадцати лет. Разумеется, «Отец истории» отправлялся в свои многочисленные путешествия, но его основной резиденцией, судя по всему, вплоть до 444 года до н. э. оставался самосский полис.
В чем же заключался «толчок» к историческому творчеству, который Геродот получил здесь? Прежде всего в корне изменилось всё его окружение — стало более широким и многогранным. Из провинциального, несколько захолустного Галикарнаса юноша сразу очутился в одном из самых знаменитых центров античного мира, что, несомненно, произвело на него немалое впечатление. В одном месте его труда Самос назван даже «первым из эллинских и варварских городов» (III. 139)! Конечно, это преувеличение, но и оно говорит о том, что автор явно был восхищен местом, где ему теперь приходилось жить.
Думается, не случайно о Самосе и самосцах речь в труде «Отца истории» заходит несравненно чаще, чем о его родном городе. Собственно, значительную часть сведений о древней истории Самоса мы получаем именно от Геродота. Поэтому в своем рассказе мы будем активно привлекать его данные{20}.
Самос, крупный остров Эгеиды, лежит в восточной части моря, лишь узким проливом отделенный от побережья Малой Азии. Там, на материке, у самосцев тоже издавна были территориальные владения (так называемая Перея) с городком Аней.
Самос был заселен и освоен ионийцами на рубеже II–I тысячелетий — именно тогда, когда эта греческая племенная группа обосновалась в восточноэгейском ареале. Результатом колонизации стало появление области Иония, и Самос являлся ее неотъемлемой частью. Уже в начале архаической эпохи на нем сформировался полис, довольно быстро ставший одним из сильнейших эллинских городов-государств.
Основой могущества и процветания Самоса был его флот, весьма значительный по греческим меркам как в военной, так и в торговой составляющей. Военно-морские силы самосцев уже с VIII–VII веков позволяли им участвовать в вооруженных столкновениях даже в далекой от Ионии Балканской Греции. Так, в одном месте «Отец истории» мимоходом упоминает: «…самосцы помогали халкидянам против эретрийцев и милетян» (V. 99). Речь идет о Лелантской войне — едва ли не первом известном межполисном столкновении в истории греческого мира — вялотекущей и, как следствие, затяжной (с середины VIII до середины VII века). Постепенно в конфликт между соперничавшими Халкидой и Эретрией втянулся ряд других полисов, в том числе находившихся в отдалении от основного фронта военных действий. В числе союзников Халкиды были Самос и Коринф{21}, а Эретрию не случайно поддерживал Милет (милетяне и самосцы сами постоянно соперничали: их полисы находились неподалеку друг от друга, и им было что делить).
Именно к периоду Лелантской войны относится эпизод, о котором рассказывает другой великий историк — Фукидид: «По преданию, коринфяне первыми приступили к строительству кораблей способом, уже весьма похожим на современный, и в Коринфе были построены первые в Элладе триеры. Коринфский кораблестроитель Аминокл, который прибыл к самосцам приблизительно лет за триста до окончания этой войны[25], построил им четыре корабля» (
Не в первый раз у нас зашла речь о триерах; наверное, пора пояснить, что это такое. Триера была наиболее распространенным в античном греческом мире типом парусно-весельного судна. Впрочем, парусный такелаж на триере был предельно незамысловат и применялся редко, в основном же она двигалась на веслах, особенно во время морского боя. Весла по обоим бортам триеры располагались в три параллельных ряда (отсюда и название — «триера», «трехрядный» корабль). Весла были длинными и массивными, с каждым управлялся один гребец, а всего гребцов (и соответственно вёсел) на судне насчитывалось 150–170. Когда гребцы работали в полную силу, удавалось развивать скорость до десяти узлов[26] в сочетании с высокой маневренностью, что делало триеру мощной силой. Правда, обычно считается, что триера была изобретена лишь в VI веке до н. э., и это приходит в противоречие с приведенным выше свидетельством о том, что коринфянин Аминокл якобы уже гораздо раньше построил самосцам корабли такого типа. Может быть, применительно к эпохе Лелантской войны речь должна идти еще не о триерах, а о пентеконтерах — предыдущем типе военных кораблей, представлявших собой, в сущности, очень большие лодки с парусом и полусотней вёсел в один ряд. Известно, что и в дальнейшем основу самосского флота составляли не триеры, а пентеконтеры, более легкие и маневренные.
Как бы то ни было, флот Самоса был очень силен и осуществлял порой весьма дальние экспедиции. В то же время, когда шла Лелантская война, на юге Пелопоннеса Спарта покоряла соседнюю область Мессению. В Мессенских войнах самосцы также приняли участие — на стороне Спарты, которая и вышла победителем. Как пишет Геродот, спартанцы были признательны жителям Самоса, «так как самосцы прежде прислали им корабли на помощь против мессенцев» (III. 47). Правда, историк указывает, что здесь он передает точку зрения самих самосцев, без сомнения, ближе всего ему знакомую. Спартанцы же впоследствии придерживались иного мнения; впрочем, Спарта к началу классической эпохи всерьез переписала собственную историю, придав ей форму своеобразного «эгоцентрического мифа», и была отнюдь не склонна признавать свои долги перед кем бы то ни было.
Но более всего Самос прославился в период архаики торговым мореплаванием. Купцы, бороздившие на своих кораблях просторы Эгеиды, да и всего Средиземноморья, в те времена, как правило, были знатными аристократами. Ведь для того чтобы снарядить торговое судно, набрать экипаж, закупить партию товара для продажи на чужбине, нужен был изрядный начальный капитал, только богатые люди могли себе это позволить. А знатность и богатство в эллинском мире долго шли рука об руку.
Геродот рассказывает интересную историю об одном из таких самосских торговцев, по имени Колей, который установил связи с богатым царством Тартесс, располагавшимся на крайнем западе тогдашней ойкумены, в южной части Испании. Колей с товарищами отплыл с Самоса в Египет. «Однако восточным ветром их отнесло назад, и так как буря не стихала, то они, миновав Геракловы столпы, с божественной помощью прибыли в Тартесс. Эта торговая гавань была в то время еще не известна эллинам. Поэтому из всех эллинов самосцы получили от привезенных товаров по возвращении на родину (насколько у меня об этом есть достоверные сведения) больше всего прибыли… Самосцы посвятили богам десятую часть своей прибыли — 6 талантов» (IV. 152).
Следовательно, общий доход самосских купцов, посетивших Тартесс, составил 60 талантов, или 1560 килограммов серебра. И эта очень крупная сумма досталась самосцам в результате только одного плавания!
Жители Самоса приняли достаточно активное участие в Великой греческой колонизации. Есть даже мнение, что выходцы с острова поселились, в числе прочих мест, в такой периферийной «глубинке», как Северное Причерноморье, побережье Боспора Киммерийского (Керченского пролива), и были основателями расположенного там города Нимфей. Впрочем, этот вопрос однозначного ответа пока не нашел{22}.
Но совершенно точно известно, что самосцы участвовали в организации упоминавшейся выше общегреческой колонии-фактории Навкратис в Египте. Впрочем, в Навкратисе эти островитяне, насколько можно судить, держались особняком. Почти все остальные тамошние греки имели общее святилище — Эллений, а торговцы с Самоса воздвигли особый храм, посвященный Гере (II. 178).
Нужно заметить, что практически каждый древнегреческий полис имел собственное божество-покровителя из многочисленного эллинского пантеона. Античная религия была, как известно, подчеркнуто политеистической, но некоторая тяга к единобожию начала проявляться довольно рано, что выражалось и в выдвижении на первый план «отца бессмертных и смертных» — Зевса, и в культе божественных покровителей.
Скажем, жители Афин, конечно, прекрасно понимали, что верховный бог — Зевс, но больше любили и чтили всё же «свою» Афину. В ее честь были воздвигнуты главные афинские храмы, справлялись самые пышные и торжественные празднества полиса. Покровительницей Коринфа считалась Афродита, покровителем Милета — Аполлон и т. д. На Самосе же в этой роли выступала Гера, одна из самых могущественных древнегреческих богинь, сестра и супруга Зевса. Главное самосское святилище было посвящено Гере. Геродот по достоинству называет его одним из самых замечательных в греческом мире (II. 148).
Отношения Самоса с Египтом были добрыми. Фараон Амасис, пишет «Отец истории», подарил «в храм Геры на Самосе две свои портретные деревянные статуи, которые еще в мое время стояли в большом храме за порталом. Эти приношения на Самос царь сделал ради своей дружбы и гостеприимства с Поликратом, сыном Эака» (II. 182). Упомянутый здесь Поликрат — знаменитый самосский тиран, один из главных героев сочинения Геродота.
Сильный флот давал самосцам многие возможности. В частности, они не брезговали пиратством: их легкие, быстрые корабли позволяли им нападать на суда в Эгейском море и беззастенчиво грабить их. Подобного рода разбой стал одним из главных источников богатства самосской знати, считаясь в ее среде не зазорным, а скорее, наоборот, достойным делом. Одним из популярных имен у аристократов Самоса было имя Силосонт, которое может быть переведено как «грабитель, хранящий добычу». Геродот упоминает несколько случаев самосского пиратства.
В середине VI века спартанцы вступили в союз с лидийским царем Крезом и, приняв от него подарки в знак дружбы, решили сделать ответный дар. «Лакедемоняне изготовили медную чашу для смешивания вина, украшенную снаружи по краям всевозможными узорами, огромных размеров, вместимостью на 300 амфор[27]. Впрочем, эта чаша так и не попала в Сарды по причинам, о которых рассказывают двояко. Лакедемоняне передают, что на пути в Сарды чаша оказалась у острова Самоса. Самосцы же, узнав об этом, подплыли на военных кораблях и похитили ее. Сами же самосцы, напротив, утверждают: лакедемоняне, везшие чашу, прибыли слишком поздно и по пути узнали, что Сарды взяты персами, а Крез пленен. Тогда они будто бы предложили продать эту чашу на Самосе, и несколько самосских граждан купили ее и посвятили в храм Геры. Возможно также, что люди, действительно продавшие чашу, по прибытии в Спарту объявили там, что их ограбили самосцы» (I. 70).
Геродот, похоже, больше симпатизирует второй версии, что неудивительно: долго прожив на Самосе, он не мог не подвергнуться влиянию традиции, бытовавшей в среде его граждан. Нам же нападение самосцев представляется более вероятным, тем более что известны похожие инциденты. Например, фараон Амасис послал спартанцам в дар великолепный панцирь: «Панцирь был льняной со множеством вытканных изображений, украшенный золотом и хлопчатобумажной бахромой. Самым удивительным в нем было то, что каждая отдельная завязка ткани, как она ни тонка, состояла из 360 нитей и все они видны» (III. 47). Но и это ценнейшее изделие было перехвачено в пути вездесущими самосцами!
Впрочем, случалось им делать и добрые дела. В конце VII — начале VI века правивший в Коринфе могущественный тиран Периандр превратил свой город в центр крупной державы, подчинил ряд других полисов, в том числе остров Керкиру в Ионическом море. Как-то керкиряне разгневали Периандра, отличавшегося крутым и жестоким нравом. Геродот рассказывает, чем закончилась эта история: «Периандр, сын Кипсела, отправил 300 сыновей знатных людей с острова Керкиры в Сарды к Алиатту для оскопления. Когда же коринфяне с этими мальчиками на борту пристали к Самосу, то самосцы, узнав, зачем их везут в Сарды, сначала научили детей искать убежища в святилище Артемиды, а затем не позволили насильно вытащить „умоляющих о защите“ из святилища. А когда коринфяне не хотели давать детям пищи, то самосцы устроили праздник, который справляют еще и поныне. Каждый вечер, пока дети оставались в святилище как „умоляющие о защите“[28], самосцы водили хороводы и пляски девушек и юношей и во время плясок ввели в обычай приносить лепешки из сесама[29] с медом, чтобы дети керкирян могли их уносить и есть. Это продолжалось до тех пор, пока коринфские стражи не уехали с острова, оставив детей. Затем самосцы отвезли детей назад на Керкиру» (III. 48).
На Самосе бурно развивались ремесла и искусства; по их уровню остров находился на одном из первых мест в эллинском мире. Не случайно Дарий, переправляясь в 513 году до н. э. из Азии в Европу для похода на скифов, «главным инженером» строительства понтонного моста через Боспор Фракийский поставил именно самосца. Этот мост стал настоящим чудом тогдашней техники. «Дарий остался весьма доволен сооружением моста и строителя его Мандрокла самосца осыпал дарами. На часть этих богатств Мандрокл велел написать картины с изображением всего строительства моста через Боспор; на берегу сидящим на троне был изображен Дарий и его войско, переходящее по мосту через Боспор. Картину эту Мандрокл посвятил в храм Геры на Самосе» (IV. 88).
Есть версия, что именно самосцы первыми из греков начали создавать монументальные статуи (в человеческий рост и выше), позаимствовав технику их изготовления из Египта. В архаическую эпоху особенно прославились самосские мастера Феодор и Рек (Ройк). Они были равно искусными и в торевтике (художественной обработке металла), и в скульптуре, и в архитектуре… Так, Феодором был изготовлен огромный и великолепный серебряный кратер (сосуд для смешивания вина), вмещавший 600 амфор (24 тонны), то есть ровно в два раза больше того кратера, который спартанцы послали в подарок Крезу. А чашу работы Феодора уже сам Крез отправил в качестве посвятительного дара в Дельфы, в святилище Аполлона (I. 51). Очевидно, мастер продал ее царю или же сделал специально по его заказу. Творением рук Феодора был и знаменитый перстень Поликрата, с которым связана одна из самых знаменитых и занимательных историй, вошедших в труд Геродота (к ней мы еще обратимся).
Рек построил на Самосе храм Геры, превосходивший по величине едва ли не все храмы Греции. Вообще для архитектурного и инженерного искусства самосцев было характерно стремление создавать грандиозные постройки, которые должны были поражать воображение современников, и их усилия достигали требуемого эффекта! Так, Геродот в одном месте пытается оправдать перед читателями свое повышенное внимание к Самосу: «Остановился же я несколько подробнее на самосских делах потому, что самосцы воздвигли на своем острове три самых больших сооружения во всей Элладе. Во-первых, они пробили сквозной тоннель в горе высотой в 150 оргий[30], начинающийся у ее подошвы, с выходами по обеим сторонам. Длина тоннеля 7 стадиев, а высота и ширина по 8 футов[31]. Под этим тоннелем по всей его длине они прокопали канал глубиной в 20 локтей[32] и 3 фута ширины, через который в город по трубам проведена вода из одного обильного источника… Это одно из трех сооружений. Второе — это дамба в море, возведенная вокруг гавани. Дамба эта 20 оргий высотой и более 2 стадиев в длину. Третье сооружение — величайший из известных нам храмов. Первым строителем этого храма был Рек, сын Филея, самосец» (III. 60).
Остатки всех перечисленных здесь сооружений сохранились и тщательно исследованы археологами. Тоннель-водопровод действительно впечатляет. Его пробивали две команды строителей с двух сторон скалы, чтобы встретиться в центре. Малейшая ошибка в расчетах — и можно было промахнуться. Но стыковка двух частей тоннеля произошла практически «точка в точку», что говорит об исключительно высоком инженерном мастерстве. Что же касается храма Геры, возведенного около 560 года до н. э., то через несколько десятилетий он был перестроен и стал еще более колоссальным: 55,2 на 112 метров в плане. По размерам он совсем немного уступал только знаменитому храму Артемиды в соседнем Эфесе (55,1 на 115,1 метра), вошедшему впоследствии в перечень «семи чудес света»{23}. Всё это масштабное строительство велось на Самосе в правление тирана Поликрата.
В наиболее развитых древнегреческих государствах (а Самос был одним из них) на протяжении архаической эпохи происходила особенно острая внутриполитическая борьба — стасис, — бывшая тогда настоящим бичом Эллады: соперничали аристократические группировки, возглавляемые знатными лидерами. Если один из таких лидеров побеждал всех конкурентов, то возникала тирания{24}. Не стал исключением и самосский полис. На острове в VI веке до н. э. утвердилась династия тиранов, самым знаменитым из которых и был Поликрат (около 538–522), которого с полным основанием следует признать одной из самых колоритных личностей в истории античного мира. Геродот рассказывает о нем достаточно подробно — видимо, самосцы еще очень долго помнили о деяниях своего бывшего владыки:
«Сначала Поликрат разделил город на три части и правил вместе с братьями Пантагнотом и Силосонтом. Затем одного из братьев он убил, а младшего — Силосонта — изгнал. С тех пор Поликрат стал владыкой всего Самоса. Он заключил договор о дружбе с Амасисом, царем Египта, послал ему дары и получил ответные подарки. Вскоре за тем могущество Поликрата возросло и слава о нем разнеслась по Ионии и по всей Элладе. Ведь во всех походах ему неизменно сопутствовало счастье. У него был флот в 100 пятидесятивесельных кораблей (пентеконтер. — И. С.) и войско из тысячи стрелков. И с этой военной силой Поликрат разорял без разбора земли друзей и врагов. Ведь лучше, говорил он, заслужить благодарность друга, возвратив ему захваченные земли, чем вообще ничего не отнимать у него. Так-то Поликрату удалось захватить много островов и много городов на материке» (III. 39).
Прямо сказать, вырисовывается не очень симпатичный образ. Поликрат, судя по всему, был типичным тираном — одним из тех, кто придал отрицательный смысл самому этому термину, изначально для греков вполне нейтральному. Мы видим человека алчного, жестокого даже по отношению к родственникам и друзьям, да к тому же беззастенчивого циника. Он был настоящим «тираном-пиратом», и флот, находящийся под его командованием, — в сущности, флотом разбойничьим. Тем не менее Поликрата уважали — и соседи, и сограждане. Первые — потому, что побаивались. Вторые — потому, что эта «сильная личность», увеличивая собственные могущество, богатство, авторитет, тем самым увеличивала могущество, богатство, авторитет своего полиса. Можно сказать без преувеличения: именно в правление Поликрата Самос достиг наивысшего расцвета. Он был тогда ведущей морской державой во всем бассейне Эгеиды, с которой приходилось считаться всем. Как видим, даже фараон Амасис, правитель обширного государства, не счел зазорным заключить союз с отдаленным, не слишком большим островом. Видимо, Поликрат заставил с почтением говорить о себе даже далеко за пределами греческого мира.
В его правление Самосу удалось успешно отразить нападение Спарты — самого мощного из тогдашних греческих государств. Спартанцы, никогда не знавшие тирании, относились к ней резко отрицательно и время от времени устраивали рейды по другим греческим полисам с целью свержения засевших там тиранов, почти всегда успешные. Пожалуй, можно припомнить только один случай, когда тиран смог отстоять свою власть от спартанского нападения, — это был Поликрат. Сильное войско спартанцев безуспешно пыталось взять город то штурмом, то длительной осадой, но в конце концов отправилось на родину.
«По одному известию (конечно, недостоверному), Поликрат подкупил лакедемонян самосскими деньгами, будто бы приказав выбить монету из позолоченного свинца, а те, получив эти деньги, отплыли домой» (III. 56). На этот раз вряд ли в «Отце истории» говорит «самосский патриотизм»: признаваемая им недостоверной версия, вне сомнения, в самом деле является ложной. Невозможно предположить, чтобы спартанцы позволили себя так грубо провести. А даже если и так — рано или поздно обман не мог не раскрыться, и тогда разъяренные, жаждущие мести лакедемоняне явились бы на остров с еще более крупными силами, а этого не произошло. Видимо, исход войны отразил реальное соотношение сил. Уже сам факт, что жители Самоса дали спартанцам достойный отпор, не мог не вызвать уважения со стороны остальных греков. Ведь спартанские гоплиты по достоинству считались в Элладе непревзойденными воинами.
Накопленные Поликратом богатства позволили ему приступить к масштабному строительству тех грандиозных общественных сооружений, о которых речь шла выше. Он, как и остальные тираны архаической эпохи, чтобы придать больше блеска своему правлению и увековечить свое имя, приглашал к своему двору крупных деятелей культуры. Привлеченные высокими гонорарами, у Поликрата жили выдающийся поэт-лирик Анакреонт, знаменитый врач Демокед и др. (III. 121, 131). А вот философ Пифагор, как мы знаем, напротив, покинул Самос, не желая принимать власть тирана.
За что бы Поликрат ни брался — во всём ему сопутствовало везение. Он был настолько удачлив, что, как ни парадоксально, именно поэтому люди, симпатизировавшие ему, стали опасаться за его судьбу. Ведь в религиозном мировоззрении древних греков немаловажное место занимала идея «зависти богов»: считалось, что если мстительные небожители увидят, что кто-то из людей уж слишком счастлив, то обязательно обрушат на него различные невзгоды. «…Твои великие успехи не радуют меня, так как я знаю, сколь ревниво к человеческому счастью божество… Ведь мне не приходилось слышать еще ни об одном человеке, кому бы все удавалось, а в конце концов он не кончил бы плохо. Поэтому послушайся моего совета теперь и ради своего счастья поступи так: обдумай, что тебе дороже всего на свете и потеря чего может больше всего огорчить тебя. Эту-то вещь ты закинь так, чтобы она больше не попалась никому в руки» (III. 40) — такое письмо якобы написал Поликрату фараон Амасис. На самом деле высказанные в нем идеи имеют чисто греческое происхождение, и не приходится сомневаться в том, что послание, приписанное Амасису, Геродот сочинил сам. Здесь же мы цитируем его, во-первых, чтобы пролить свет на религиозные взгляды «Отца истории», во-вторых, потому, что это письмо предваряет один из ярчайших эпизодов в его сочинении — рассказ о перстне Поликрата.
Самосский тиран решил в качестве искупительного дара за «чрезмерное» благоденствие пожертвовать богам свой любимый перстень и выбросил его в море. Однако через несколько дней рыбаки, поймав большую и красивую рыбу, принесли ее Поликрату. В брюхе у нее оказался тот самый перстень — боги не приняли дар! Это означало, что они намерены мстить.
Поликрат действительно кончил очень плохо, но вряд ли из-за пресловутой «зависти богов», а скорее по собственной вине. Это было время крупномасштабных персидских завоеваний. Поликрат с присущим ему вероломством изменил прежнему союзнику, Амасису, и отправил эскадру кораблей в помощь царю Персии Камбису, готовившемуся идти на Египет. Но моряки ослушались его приказа — то ли не поплыли к Камбису вообще, то ли вскоре по прибытии бежали (III. 45). В любом случае персам это понравиться не могло.
Эта довольно рискованная внешнеполитическая игра и погубила Поликрата. Персидский сатрап Лидии Орет заманил его в свою резиденцию, обещав большие сокровища. Жадный до денег тиран не догадался, что ему устроили ловушку, и был предан страшной, мучительной казни. Геродот пишет: «Орет умертвил Поликрата таким способом, о котором я не хочу даже рассказывать» (III. 125).
Отправляясь к сатрапу, Поликрат оставил управлять Самосом своего секретаря Меандрия, — как он думал, на короткое время. Но когда пришла весть о гибели тирана, Меандрий удержал власть в своих руках. Правда, вначале он даже созвал народное собрание и обещал сложить свои полномочия — на условиях, что сограждане обеспечат ему безопасность, наградят деньгами и почетной жреческой должностью. Однако кто-то из самосцев сказал: «Да ты вовсе и не достоин быть нашим владыкой, так как ты подлой крови и сволочь. Ну-ка, лучше придумай, как дашь отчет в деньгах, которые присвоил». Геродот резюмирует: «Меандрий желал быть самым справедливым властителем, но ему не довелось стать таким… Меандрий понял, что если он выпустит власть из своих рук, то вместо него кто-нибудь другой станет тираном, и больше уже не думал отказываться от нее» (III. 142–143).
Но тут на сцене появляется новое действующее лицо. Точнее, не вполне новое — мы с ним уже знакомы. Выше упоминалось, что Поликрат изгнал с Самоса своего младшего брата Силосонта. Тот теперь решил воспользоваться ситуацией: вернуться на родной остров и захватить его. Сделал он это при помощи персов. В давние времена ему случилось оказать услугу будущему персидскому царю Дарию, и теперь он надеялся на щедрое вознаграждение.
У Геродота по данному поводу находим очередной занимательный рассказ: «Этому-то Силосонту выпало великое счастье. Однажды, одетый в красный плащ, он прогуливался по рынку в Мемфисе (одном из главных городов Египта. —
Да, такое не могло присниться Силосонту и в самом сладком сне: юный перс, еще недавно чуть ли не выклянчивший подарок у гордого греческого аристократа, внезапно стал владыкой огромнейшего в мире государства, который может всё или почти всё. Самосец-изгнанник конечно же не мог не воспользоваться столь выгодным стечением обстоятельств, тем более что в древних обществах принцип «долг платежом красен» фактически имел силу неписаного закона. Силосонт немедленно отправился в Сузы, предстал перед царем и напомнил ему об эпизоде с плащом. Дарий ответил: «Благородный человек! Так это ты сделал мне подарок, когда я еще не имел власти? Правда, этот подарок незначительный, но моя благодарность будет такой же, как если бы теперь я получил откуда-нибудь великий дар. В награду я дам тебе без счета золота и серебра, чтобы тебе никогда не пришлось раскаиваться в том, что ты сделал добро Дарию, сыну Гистаспа» (III. 140).
Но Силосонт просил только об одном: чтобы персы помогли ему вернуть власть над родным полисом. Сказано — сделано: Дарий дал ему персидский отряд, с которым младший брат Поликрата прибыл на Самос. Он просил командира отряда обойтись без насилия. Но самосцы, не желая подчиняться прибывшим чужеземцам, оказали сопротивление; те в ответ начали резню и опустошение острова. Самос вступил в полосу смут и в конце концов оказался под владычеством Ахеменидов. Эти события имели место около 522–518 годов. Силосонт правил на острове как вассальный тиран, а умирая, передал власть сыну Эаку.
Когда в 500 году до н. э. началось Ионийское восстание, самосцы примкнули к нему и изгнали Эака. Их вклад в дело борьбы с персами мог бы быть весьма значителен: самосский флот, как мы знаем, не имел себе равных в Восточной Эгеиде. Однако Самос вел себя довольно нерешительно. Судя по всему, далеко не все его граждане были уверены, что бунт против «Великого царя» имеет перспективы; среди них существовала сильная проперсидская группировка, призывавшая выйти из числа инсургентов, вновь подчиниться Дарию и возвратить Эака. Эта сложная ситуация на Самосе стала одной из главных причин неудачи восставших ионийцев.
В 494 году у острова Лада произошло решающее сражение между союзным ионийским флотом и военно-морскими силами персов. В разгар сражения почти все самосские корабли вдруг покинули строй и ушли домой. Их дезертирство, разумеется, не осталось незамеченным и стало дурным примером для остальных: начали обращаться в бегство и эскадры некоторых других ионийских городов. В результате морской бой был безнадежно проигран греками.
Нетрудно заметить, что Геродот в своем рассказе старается хотя бы отчасти оправдать поведение самосцев. «…Самосские военачальники… по совету Эака, сына Силосонта, решили (Эак ведь уже раньше по приказанию персов предлагал им покинуть ионян) разорвать союз с ионянами. Самосцы приняли это предложение как из-за полного развала дисциплины у ионян, так и от того, что теперь им стало совершенно ясно: одолеть царя они не могут. Ведь они хорошо знали, что одолей они даже теперешний флот Дария, то явится другой, впятеро больший» (VI. 13).
Снова видим, что длительное пребывание на Самосе не прошло для «Отца истории» даром: во многом он воспринял точку зрения людей, с которыми общался всё это время. Не сказалось ли влияние самосской традиции и на его отрицательном отношении к Ионийскому восстанию в целом?
Предательство самосцами общеионийского дела не осталось незамеченным со стороны персидского владыки. «Самосцы были единственными из восставших против царя Дария ионян, город и святилища которых не были преданы огню» (VI. 25). Эак вновь стал вассальным тираном полиса; потом его сменил некий Феоместор, которого персы почтили властью над Самосом за то, что он отличился в 480 году в Саламинской битве (VIII. 85), в которой самосцы, как и остальные ионийцы, были вынуждены воевать на стороне персов, против соплеменников.
Но после Саламина ситуация стремительно менялась. Узнав о поражении персидского царя, граждане Самоса поняли, что у них наконец-то появилась реальная возможность сбросить чужеземное владычество. В 479 году их послы прибыли к союзному греческому флоту, стоявшему у острова Делос, и умоляли о помощи. Принеся положенные клятвы, они заявили о вступлении своего полиса в Эллинский союз (IX. 90–92). Правда, официально они были приняты туда вместе с некоторыми другими островными государствами чуть позже, после битвы при Микале (IX. 106); но еще до нее морские силы союза сделали Самос своей базой. Так самосцы — на сей раз уже навсегда — вышли из империи Ахеменидов.
А в следующем году они стали соучредителями нового мощного военно-политического объединения — Афинского морского союза. В те времена, когда на острове проживал Геродот, Самос входил в эту организацию на привилегированных правах и фороса не платил. Он был низведен до положения рядового члена только после того, как поднял в 440–439 годах восстание против засилья Афин в союзе, но был разгромлен карательной экспедицией Перикла. Но Геродота на Самосе тогда уже не было…
Самосский период биографии Геродота стал временем его взросления, формирования как творческой и мыслящей личности. Именно тогда, подчеркнем, он избрал свой жизненный путь, единственный и неповторимый, и приступил к реализации задуманного. Узнавая яркие и разнообразные, порой занимательные, порой трагичные перипетии бурной судьбы одного из важнейших политических и культурных центров Эгеиды — судьбы, тесно связанной и переплетенной и с судьбой Ионии, и с судьбой всего греческого мира, и с судьбой великой восточной империи, — Геродот «выковывался» как историк, приходил к мысли о создании фундаментального труда о военном противостоянии Европы и Азии, на стыке которых лежал Самос. А те превратности, которые неоднократно переживал остров, которые, как морская качка в бурю, бросали его то вверх, то вниз, то к процветанию и могуществу, то к поражениям и ослаблению, могли навести «Отца истории» на тезис, который является одним из важнейших для всего его мировоззрения: «Много когда-то великих городов теперь стали малыми, а те, что в мое время были могущественными, прежде были ничтожными… Человеческое счастье изменчиво» (I. 5).
Самос был одним из трех мест, пребывание в которых в наибольшей степени повлияло на мировоззрение Геродота. Двумя другими были Дельфы и Афины.
Геродот, как нам уже приходилось замечать, немало странствовал на своем веку. Где только он не побывал! Ни один другой историк античного мира, вообще ни один античный автор не может сравниться с ним в этом отношении{25}.
Не приходится сомневаться, что один из первых его маршрутов, если не самый первый, был направлен в Дельфы, к оракулу Аполлона. Совершил он эту поездку наверняка еще в молодости.
Так уж было заведено в греческом мире: «юноше, обдумывающему житье», подобало отправиться в паломничество к самому почитаемому и авторитетному святилищу Эллады, чтобы там задать богу вопросы о своей будущей судьбе, попросить совета — к чему стремиться, чего остерегаться… Нельзя исключить, что будущий историк впервые побывал в Дельфах еще тогда, когда он жил на родине, в Галикарнасе. В таком случае, разумеется, в путешествии его должен был сопровождать кто-нибудь из старших родственников.
Ведь путешествие это было длительным и непростым. Прежде всего нужно было переправиться через Эгейское море — от берегов Малой Азии на Балканский полуостров. А дальше в Дельфы вели несколько путей, и можно было воспользоваться любым из них. Например, была возможность высадиться в Афинах и оттуда двигаться сухопутными дорогами: через Аттику, Беотию, затем через «горный узел» Средней Греции. Но в таком случае не раз приходилось бы переваливать через крутые, труднопроходимые скалистые хребты. Да и вообще греки, чрезвычайно тесно связанные с морем, предпочитали как можно большую часть любого пути преодолевать на корабле и как можно меньшую — по суше. Поэтому более вероятен иной вариант дельфийского маршрута Геродота: вначале прибыть к Коринфу и высадиться в Кенхреях. Коринф, лежавший на перешейке Истм, имел то огромное преимущество, что он располагал портами сразу на двух морях: Кенхреями в Сароническом заливе Эгейского моря и Лехеем в Коринфском заливе Ионического моря. Между двумя гаванями еще в архаическую эпоху был сооружен волок (диолк), чтобы перетаскивать военные, а затем и торговые суда. Геродоту, конечно, пользоваться диолком никакой нужды не было, поскольку он являлся обычным пассажиром, а не купцом с товарами. Нужно было просто пройти несколько километров и очутиться в Лехее. При этом имелась возможность сделать небольшой крюк и заглянуть в сам Коринф, чтобы ознакомиться с его достопримечательностями. А в Лехее — снова сесть на судно или, скорее, на большую лодку, поскольку предстоящий участок пути уже не был ни долгим, ни трудным. Плавание по Коринфскому заливу, мимо живописных хребтов, которые заслоняют горизонт со всех сторон, будто смыкаясь друг с другом, заканчивалось в области Фокида, на северном берегу. Здесь располагалась Кирра, дельфийская гавань. Оттуда нужно было подыматься в горы, к «срединному храму», лежавшему на склоне знаменитого Парнаса.
Да, «срединным храмом», «пупом земли» называли греки святилище в Дельфах: считалось, что это место — центр всего мира. Разумеется, всерьез так думали в более древние времена, когда Землю представляли в образе плоского диска. Ко времени Геродота уже появилось представление о ее шарообразности (насколько можно судить, первым его выдвинул Пифагор). Но на уровне обыденного сознания легенда о «пупе земли» сохранялась. На храмовой территории лежал большой круглый камень; говорили, что он и есть тот самый пуп, и рассказывали о нем различные мифы. Согласно самому распространенному из них, камень был помещен сюда самим Зевсом, а до того именно этот камень проглотил вместо Зевса его отец Крон, который, как известно, пожирал собственных детей, но в случае с будущим владыкой Олимпа был обманут.
Надо сказать, представление о Дельфах как «пупе земли» в глазах античного грека имело резон, так как этот город на самом деле находился фактически в географическом центре Эллады. Если воткнуть иголку циркуля в точку на карте с надписью «Дельфы», а кончик карандаша зафиксировать на каком-нибудь из крайних южных мысов Пелопоннеса и обвести круг, то в него попадут точнехонько греческие земли Балканского полуострова.
С покрытых снегом высей священного Парнаса в погожий день можно было увидеть и живописные долины Фессалии, где паслись конские табуны, и тучные (конечно, по греческим меркам) поля Беотии, раскинувшиеся вокруг обширного Копаидского озера[33], и лесистые ущелья Этолии, населенные гордым и диковатым племенем разбойников, и жмущиеся друг к другу селения Истма, жителям которых от века не хватало плодородных земель, и — за извилистой синевой залива — просторы полуострова Пелопоннес, и, наконец, совсем далеко на востоке, бескрайнюю Эгеиду с рассыпанными по ней островами. Если Геродот поднимался на Парнас (а при его любознательности это очень вероятно), то оттуда он прекрасно обозрел свою «историческую родину», на которой ему раньше бывать не приходилось, но в которой развертывались события, впоследствии ставшие главным содержанием его труда.
К тому же и время для восхождения у него имелось. Ведь грекам, добравшимся до Дельф, чтобы вопросить оракул, приходилось перед этим хорошенько подождать — порой несколько недель: вокруг было целое море таких желающих, и надо было записываться в очередь. А к тому же нередко прибывавшие официальные делегации от государств, связанных с Дельфами специальными договорными отношениями, имели приоритет перед частными лицами — их допускали к оракулу вне очереди.
Впрочем, дни ожидания вряд ли были для Геродота скучными. Юноша жадно впитывал обрушившуюся на него массу новых впечатлений. Паломники из разных греческих областей, естественно, коротали время за беседами, расспрашивали друг друга о новостях и делились собственными. В Дельфах — именно из-за громадного наплыва разной приезжей публики — можно было за несколько дней узнать больше, чем за несколько месяцев на Самосе или за несколько лет в Галикарнасе…
Кроме того, для граждан, ожидавших консультации у оракула, устраивались экскурсии. «Гиды» из числа жреческого персонала за умеренную плату водили их по городу и святилищу, показывали храмы и храмики, алтари, статуи. Обязательно подводили к главной храмовой постройке, посвященной самому Аполлону, блиставшей новизной и великолепием. В середине VI века до н. э., «когда амфиктионы[34] за 300 талантов (серебра. —
Жрецы-экскурсоводы обращали особое внимание гостей на многочисленные посвятительные дары, которые посылали в Дельфы и греческие, и «варварские» государства и правители, — из уважения к оракулу или в благодарность за удачное предсказание. Частные лица тоже делали такие посвящения, но они были более скромными; те же, которые приносились от государств, отличались обилием и великолепием. Они представляли собой, как правило, изделия из дорогих металлов, подчас весьма тонкой работы. Внутреннее помещение дельфийского храма было уставлено этими дарами и напоминало музей (впрочем, это можно сказать и о многих других греческих святилищах, во всяком случае, особо почитаемых{26}). Особенно богатые полисы сооружали для хранения своих даров специальные небольшие здания — сокровищницы, что позволяло, с одной стороны, несколько «разгрузить» основной храм, а с другой — способствовало лучшей сохранности драгоценностей и, самое главное, сохранению памяти о дарителях. Правда, на приношениях, стоявших в храме, как правило, также делались памятные надписи, но они стирались от времени, а то и злоумышленно.
В ряду сокровищниц, выстроившихся на одной из дельфийских улиц, особенно замечательной по архитектурным достоинствам была афинская, возведенная в начале V века до н. э.{27} В положенные часы двери гостеприимно раскрывались для посетителей. Жрецы водили «экскурсантов» по сокровищницам и по храму, охотно давали пояснения, кем, когда и по какому поводу прислан тот или иной роскошный дар. Ведь демонстрация несметных богатств служила вящей славе святилища и оракула. У Геродота мы неоднократно встречаем упоминания об этих посвящениях. Историк пишет о них подробно, с удовольствием, можно сказать, любовно. Чувствуется, что он понимал: это понравится читателям (точнее, слушателям: в V веке практика чтения «про себя» еще не привилась), будет для них интересным. Его описания дельфийских сокровищ удивляют своей детальностью, точностью топографии: ориентируясь по ним, любой грек, попав в Дельфы, мог без труда отыскать то или иное посвятительное приношение. Временами кажется, что перед нами — страницы из путеводителя:
«Гигес[36] же, вступив на престол, отослал в Дельфы немалое количество посвятительных даров (большинство серебряных вещей в Дельфы посвятил он). А кроме серебра, он посвятил еще несметное количество золота; среди прочих вещей, достойных упоминания, там 6 золотых кратеров весом в 30 талантов. Стоят они в сокровищнице коринфян… Мидас[37] также принес дары, именно свой царский трон, восседая на котором он творил суд. Этот достопримечательный трон стоит на том же месте, где и Гигесовы кратеры. А эти золотые и серебряные сосуды, посвященные Гигесом, дельфийцы называют Гигадами, по имени посвятителя» (I. 14).
«Алиатт… принес посвятительные дары в Дельфы: большую серебряную чашу для смешивания вина с водой на железной инкрустированной подставке — одно из самых замечательных приношений в Дельфах работы Главка хиосца» (I. 25).
«Крез приказал переплавить несметное количество золота и изготовить из него слитки в виде полукирпичей, 6 ладоней в длину, шириной в 3 ладони, высотой же в 1 ладонь. Общее число полукирпичей было 117; из них 4 — из чистого золота, весом 2½ таланта каждый; другие полукирпичи — из сплава с серебром, весом 2 таланта. После этого царь велел отлить из чистого золота статую льва весом в 10 талантов. Впоследствии во время пожара святилища в Дельфах лев этот упал с подставки из полукирпичей, на которых он был установлен. И поныне еще стоит этот лев в сокровищнице коринфян, но вес его теперь только 6½ таланта, так как 3½ таланта расплавились при плавке. После изготовления Крез отослал эти предметы в Дельфы и вместе еще несколько других, а именно: две огромные золотые чаши для смешивания вина — золотую и серебряную. Золотая чаша стояла в святилище как войдешь, направо, а серебряная — налево. После пожара чаши были также переставлены на другое место. Золотая чаша стоит теперь в сокровищнице клазоменян (вес ее 8½ таланта и 12 мин), а серебряная в углу в притворе храма. Вмещает она 600 амфор. Чашу эту дельфийцы наполняют вином с водой на празднике Феофаний[38]. Как утверждают в Дельфах, чаша эта — изделие Феодора из Самоса. И я тоже так думаю, так как она, видимо, на редкость чудесной работы. Потом царь отослал в Дельфы 4 серебряных сосуда, которые стоят и ныне в сокровищнице коринфян, и 2 кропильницы — золотую и серебряную. На золотой кропильнице начертана надпись, гласящая: „Посвятительный дар лакедемонян“. Это, однако, неверно: ведь эти кропильницы — посвятительный дар Креза. Надпись же на ней вырезал какой-то дельфиец, желая угодить лакедемонянам. Я знаю имя этого человека, но не хочу называть. Только статуя мальчика, через руку которого течет вода в кропильницы, — приношение лакедемонян, но ни та, ни другая из кропильниц. Вместе с этими Крез послал много и других даров без надписей. Среди них круглые чаши для возлияний, а также золотая статуя женщины в 3 локтя высотой (по словам дельфийцев, она изображает женщину, выпекавшую царю хлеб). Крез пожертвовал также ожерелья и пояса своей супруги» (I. 50–51).
«Родопис (греческая гетера, переехавшая в Египет и там разбогатевшая. — И. С.) пожелала оставить о себе память в Элладе и придумала прислать в Дельфы такой посвятительный дар, какого еще никто не придумал посвятить ни в одном храме. На десятую часть своих денег она заказала (насколько хватило этой десятой части) множество железных вертелов, столь больших, чтобы жарить целых быков, и отослала их в Дельфы. Еще и поныне эти вертела лежат в куче за алтарем, воздвигнутым хиосцами, как раз против храма» (II. 135).
«На Саламине царствовал тогда Евельфонт. Он посвятил в Дельфы замечательную кадильницу, находящуюся в сокровищнице коринфян» (IV. 162).
«Фокийцы перебили (в сражении с фессалийцами. — Я. С.) четыре тысячи человек… Десятую часть захваченной в этой битве добычи составляли огромные статуи, стоящие около треножника перед храмом в Дельфах» (VIII. 27).
После в высшей степени удачной кампании 480 года, ознаменовавшейся победой при Саламине, греки «разделили добычу между собою и отборную часть отослали в Дельфы. Из этой части добычи была сделана статуя человека, высотой в 12 локтей, с корабельным носом в руке (она стоит там же, где и золотая статуя Александра из Македонии[39]). При отсылке даров в Дельфы эллины сообща вопросили бога, достаточно ли он получил даров и доволен ли ими. А бог отвечал, что от других эллинов он получил довольно, но не от эгинцев. Он требует от эгинцев часть награды за доблесть в битве при Саламине. Узнав об этом, эгинцы посвятили богу три золотые звезды, которые водружены на медной мачте и стоят в углу святилища рядом с сосудом для смешения вина — даром Креза» (VIII. 121–122).
После победной кампании 479 года до н. э. — окончательного разгрома персов при Платеях, — «когда добыча была собрана, эллины отделили десятую часть дельфийскому богу. Из этой десятины был сделан и посвящен золотой треножник, который стоит в Дельфах на трехглавой медной змее непосредственно у алтаря» (IX. 81).
Последний дар, уникальный памятник Греко-персидских войн, частично сохранился до наших дней. Правда, в его описании Геродот допускает небольшую неточность: на самом деле медная колонна, служившая подставкой для треножника, была сделана в виде трех переплетающихся змей, а не одной трехголовой змеи, как он пишет. Высота колонны — около шести метров. Треножник был посвящен Аполлону спартанским полководцем Павсанием, главнокомандующим греков при Платеях. Фукидид дополняет рассказ Геродота:
«…Павсаний осмелился самовольно начертать на треножнике, посвященном эллинами в Дельфы как приношение из мидийской добычи, следующее элегическое двустишие:
Эллинов вождь и начальник Павсаний в честь Феба владыки
Памятник этот воздвиг, полчища мидян сломив.
Это двустишие лакедемоняне велели тотчас же выскоблить с треножника и взамен вырезать имена всех городов, воздвигнувших этот жертвенный дар после общей победы над Варваром» (
Насколько можно судить, Павсаний сделал надпись не на самом треножнике, а на колонне-подставке; оттуда-то ее и выскоблили, заменив новой. Сам треножник был утрачен в IV веке до н. э., но «змеиная колонна» еще много веков стояла в Дельфах, пока в IV веке н. э. римский император Константин I не перенес ее в свою новую столицу — Константинополь. Шли столетия, родилась и пала Византийская империя, Константинополь был захвачен турками и стал Стамбулом… А колонна и по сей день стоит на месте, где в позднеантичные и византийские времена находился ипподром. Она почти не пострадала — отломились только головы змей. И доныне на ней можно прочесть надпись с перечислением 31 греческого полиса — столько их входило в Эллинский союз на момент битвы при Плагеях{28}.
…Проходили дни ожидания, и наступало время, совершив предписанные очистительные обряды и жертвоприношения, идти к оракулу. Ныне мы нередко называем «оракулом» — серьезно или иронически — предусмотрительного, дальновидного человека, дающего точные прогнозы на будущее. Но в античном мире оракул — это вообще не человек. Древние греки под словом «оракул» понимали особое священное место, как считалось, насыщенное сверхъестественными таинственными силами, в котором благодаря этому возможно общение людей с миром богов, получение от них различной информации — в первую очередь, конечно, о будущем: кто же не хочет знать, «что день грядущий нам готовит»! Оракул — место прорицаний, а также соответствующее заведение в этом месте, со специальным жреческим персоналом для получения прорицаний и их интерпретации, «перевода» с языка богов на язык людей. Во всех концах греческого мира существовало немало оракулов, и предсказания от богов получали в них различными способами. Но самым авторитетным и знаменитым, намного превосходящим все остальные славой, богатством, влиянием, был именно оракул в Дельфах, где, как полагали, пророчества посылал сам Аполлон.
Почему среди многочисленных, исключительно живописных уголков среднегреческих гор именно этот, на склоне Парнаса, был особо выделен и помечен какой-то сугубой святостью? Какая незримая аура существовала там? Нам не обойтись без учета иррациональных элементов в сознании греков, которые часто вообще не учитываются, поскольку античные греки, по общепринятому мнению, создали чуть ли не самую рационалистическую цивилизацию в мировой истории. Но иррациональные представления эллинов, пусть они и не бросаются в глаза при беглом взгляде, оказывали влияние на самые разные стороны их поведения{29}.
Нужно представлять себе психологию религиозного человека, ведь во времена Геродота религиозными были если не все греки поголовно, то, во всяком случае, подавляющее их большинство: сомнения в существовании традиционных олимпийских богов были уделом лишь очень редких одиночек. Отнюдь не являлся атеистом и сам «Отец истории».
Даже и поныне в среде верующих есть такое понятие: «намоленное» место, то есть такое, в котором долго, много и усердно молились, и от этого в нем создалась некая особая теплота, само пространство в нем насытилось мистическими энергиями. В Дельфах же — более, чем где-либо, ведь место это стало сакральным с древнейших времен. По археологическим данным, религиозные обряды совершались там еще в микенскую эпоху, во II тысячелетии до н. э. Правда, тогда в Дельфах почитали еще не Аполлона, а некое великое женское божество, обладавшее хтоническим (связанным с землей, с земными недрами) характером. Не исключено, что то была сама Мать-Земля. Собственно, сами греки классической эпохи именно так и считали. По их мнению, изначально Дельфийский храм и оракул принадлежали именно Гее (Земле). Потом у святилища несколько раз менялись божественные «хозяева», и в конце концов оно перешло во владение светлого Феба-Аполлона. Вот как описывает это драматург Эсхил:
В молитвах именую прежде всех богов
Первовещунью Землю. После матери
Фемиду славлю, что на прорицалище
Второй воссела — помнят были. Третья честь
Юнейшей Титаниде, Фебе. Дочь Земли,
Сестры произволеньем, не насилием
Стяжала Феба царство. Вместе с именем
Престол дан бабкой внуку в колыбельный дар.
(
Внуком здесь назван именно Аполлон.
Как происходили прорицания в Дельфах? Об оракуле Аполлона существует колоссальная научная литература{30}, но ответы на многие вопросы так и не найдены, хотя античные авторы рассказывают о процедуре «пророческого сеанса» довольно единообразно. Ознакомившись с вопросом, поступившим от частного лица или государства, пифия — жрица-прорицательница — садилась на священный треножник в одном из помещений храма, где была расщелина в скале, образующей пол. Из расщелины поднимались дурманящие пары, вдыхая которые, пифия приходила в экстаз и выкрикивала невнятные речения, считавшиеся словами самого бога. Другие жрецы, стоя рядом, записывали выкрики пифии, «расшифровывали» их, приводили в литературную (часто стихотворную) форму и в таком виде вручали вопрошавшему. Однако археологи, на протяжении десятилетий тщательнейшим образом исследовавшие руины Дельфийского святилища, не обнаружили никаких следов расщелины. Возможно, трещина в какой-то момент закрылась — например, в результате одного из землетрясений, которые действительно часто случаются в Греции, регионе повышенной сейсмической активности.
В любом случае оставался вопрос: что же это были за пары, обладавшие способностью приводить человека в пророческий транс? В недрах Балканского полуострова не обнаружено газов с подобным действием. Те, кто пытался разгадать эту загадку, обращали внимание еще на то, что, согласно сообщениям некоторых источников, пифии, перед тем как она садилась пророчествовать, давали жевать листья лавра — растения, посвященного Аполлону. Может быть, именно лавр обладает галлюциногенными свойствами? Один ученый даже проводил на себе эксперимент — сжевал немало лавровых листьев, но в транс, естественно, так и не впал.
Выдвигалась гипотеза, что «священное безумие» пифии достигалось не физическими, а чисто психологическими средствами: жрица, зная о том, что ей предстоит прорицать, настраивала себя на соответствующий лад, и в результате к ней приходило вдохновение. Не исключено, что мы так никогда и не узнаем с полной определенностью, что же все-таки происходило в святилище. Интересно, что Геродот в своем труде не говорит ни о расщелине в скале, ни о листьях лавра, да и вообще практически не сообщает деталей вещания пифии. А ведь не рассказывают в подробностях обычно о том, что и так всем хорошо известно…
Остаются неясными и другие детали. Допускались ли сами посетители, пришедшие с вопросами, в священный чертог, где пророчествовала пифия, и слышали ли они ее собственные слова, или же они ожидали за дверьми, а жрецы выносили им готовый ответ? В последнем случае вероятность обманов и манипуляций, разумеется, значительно возрастала. Изучение античных свидетельств здесь не очень помогает, поскольку между ними существуют противоречия. Процитируем Геродота: «Афиняне ведь отправили послов в Дельфы вопросить оракул. После обычных обрядов в священном участке послы вступили в святилище и там воссели. Пифия по имени Аристоника изрекла им следующий оракул (в данном контексте — предсказание. —
Если понимать эти пассажи буквально, то получается, что вопрошающие сидели именно в том помещении, где вещала пифия, и она обращалась непосредственно к ним. Но как могла жрица в своем «помраченно-просветленном» состоянии говорить — экспромтом, без предварительной подготовки — правильным гекзаметром? И где же пресловутые жрецы-интерпретаторы? Или Геродот опять же не счел нужным специально упоминать об этом всем известном нюансе? Однозначного ответа снова нет.
…Какой вопрос задал юный Геродот Аполлону при своем первом посещении оракула и какой ответ получил? Безусловно, очень соблазнительно было бы предположить, что галикарнасец спросил бога о том, какое поприще ему избрать — именно так очень часто и делали, — а жрецы своим ответом натолкнули его на изучение истории. Признаемся честно, есть у нас некая интуитивная убежденность, что именно так оно и было, но доказать подобную гипотезу конечно же невозможно.
Во всяком случае, не может не броситься в глаза один аспект всей дальнейшей жизни Геродота. Для большинства греков посещение Дельфийского оракула так и оставалось единичным фактом биографии. Выяснив то, что ему было нужно, эллин следовал полученным указаниям и, как правило, к склонам Парнаса не возвращался — разве что возникала какая-нибудь новая, неожиданная и непредсказуемая ситуация, требовавшая еще одной консультации с божеством. А Геродот, насколько можно судить, бывал в Дельфах неоднократно и порой оставался надолго. Вспомним, с какой точностью историк описывает «топографию» дельфийских посвящений: он готов абсолютно уверенно и конкретно указать, в каком месте находится тот или иной драгоценный дар. Это явно выдает в нем человека, который прекрасно ориентируется на территории святилища. От одного-единственного посещения, пусть даже и длительного, таких знаний получить невозможно.
Не приходится сомневаться и в том, что будущий «Отец истории» со временем вступил в доверительные отношения с некоторыми влиятельными дельфийскими гражданами, в том числе и с жрецами оракула. Он активно расспрашивал их. Историк нередко ссылается на дельфийцев как на своих информаторов, — как правило, именно в связи со случаями, в которых фигурировало какое-либо вмешательство оракула Аполлона. Например, лидийский царь Алиатт, осаждая Милет, случайно сжег храм Афины в его окрестностях. «По возвращении же войска в Сарды Алиатт занемог. Болезнь между тем затянулась, и царь отправил послов в Дельфы — посоветовал ли ему кто-нибудь или же сам он решил — вопросить оракул о болезни. По прибытии послов в Дельфы пифия дала ответ, что бог не даст им прорицания, пока они не восстановят сожженный храм Афины… Такой рассказ я сам слышал в Дельфах» (I. 19–20).
Геродот.
Афина и Посейдон, спорящие за владычество над Аттикой.
Мидийские и персидские воины.
Крылатые человекобыки, стерегущие «ворота всех стран».
Греческая триера V века до н. э.
Гоплит в аттическом шлеме.
Оружие, найденное на месте Марафонской битвы 490 года до н. э.
Холм над могилой воинов, павших в Марафонской битве
Фермопилы.
Мраморный торс спартанского воина (царь Леонид?).
Оружие и доспехи гоплита.
Бронзовая «змеиная колонна», возведенная в Дельфах в честь битвы при Платеях 479 года до н. э. (ныне находится в Стамбуле)
Солон и Крез.
Солон.
Пифия, сидящая на треножнике с ветвью лавра в руке.
Апполон, восседающий на «пупе земли».
Развалины храма Аполлона в Дельфах
Святилище Аполлона в Дельфах. Священная дорога
Сокровищница афинян в святилище Аполлона в Дельфах.
Серебряная статуя быка длиной 2,30 метра и высотой 1,25 метра.
Стадион в Дельфах.
Театр в Дельфах
Мраморные куросы — статуи сыновей жрицы Клеобиса и Битона высотой 2,16 метра.
Бронзовая статуя Возничего высотой 1,80 метра-
дар Полизала, победителя на Пифийских играх.
Мраморный Сфинкс-посвятительный дар жителей Наксоса
Дельфйскому оракулу.
Карта мира по Геродоту
Девочка, читающая свиток папируса. Подобным образом читатели Геродота знакомились с его «Историей».
Геродоту даже показывали в Дельфах документы, следы знакомства с которыми можно найти в его труде. Вот, например: «Крез вновь отправил посольство в Пифо[40] с дарами всему дельфийскому народу, узнав его численность: каждый дельфиец получал по 2 золотых статера. За это дельфийцы предоставили Крезу и всем лидийцам право первыми вопрошать оракул, свободу от пошлин и налогов и почетные места на Пифийских играх, и, кроме того, каждый лидиец получил еще право гражданства в Дельфах на вечные времена» (I. 54).
Все исследователи единодушны в том, что здесь Геродот цитирует официальный документ, так называемый проксенический декрет. Такие декреты принимались народными собраниями различных греческих полисов с целью наградить почестями и привилегиями чужеземцев, оказавших этим полисам какие-либо благодеяния и услуги. Данное дельфийское постановление — один из самых ранних известных документов подобного рода. Проксенические декреты вырезались на каменных плитах и устанавливались на видном месте, чтобы каждый желающий мог их прочесть. Этот наверняка помещался в Дельфах, скорее всего, на агоре, где его и скопировал историк. Интересно, что Геродот, опиравшийся в своем труде в основном на свидетельства устной традиции{31}, весьма редко использовал письменные, документальные источники, и характерно, что одно из немногих исключений связано именно с Дельфами.
Некоторые свидетельства, приводимые Геродотом, демонстрируют его очень неплохую осведомленность в дельфийских делах — даже таких, которые нельзя назвать иначе как конфиденциальными, не подлежащими широкой огласке, поскольку они, мягко говоря, не укрепляли репутацию оракула.
В начале V века до н. э. спартанский царь Клеомен I начал борьбу против своего соправителя Демарата (в Спарте, как известно, правили одновременно два царя). Клеомен — исключительно яркая, властолюбивая личность{32} — хотел первенствовать и задался целью избавиться от Демарата. Будучи человеком циничным, он выдвинул против Демарата обвинение, что тот якобы не является сыном царя Аристона и, соответственно, должен быть смещен с престола. Клеомен прекрасно знал, что спартанцы, отличавшиеся благочестием, не оставят это обвинение без последствий (ведь царский статус считался сакральным) и отдадут дело на рассмотрение божества. И действительно, «было решено вопросить оракул в Дельфах: Аристонов ли сын Демарат. Когда по наущению Клеомена дело это перенесли на решение пифии, Клеомен сумел привлечь на свою сторону Кобона, сына Аристофанта, весьма влиятельного человека в Дельфах. А этот Кобон убедил Периаллу, прорицательницу, дать ответ, угодный Клеомену. Так-то пифия на вопрос послов изрекла решение: Демарат — не сын Аристона. Впоследствии, однако, обман открылся: Кобон поплатился изгнанием из Дельф, а прорицательница была лишена своего сана» (VI. 66). Геродот, как видим, знает всё в подробностях, вплоть до имен дельфийцев, оказавшихся замешанными в эту некрасивую историю.
Но наиболее ясно прослеживается дельфийская традиция в рассказе Геродота о попытке персов в 480 году до н. э. захватить и разграбить святилище Аполлона. Этот рассказ, переполненный чудесными, сверхъестественными элементами, несомненно, был записан историком со слов жрецов оракула. Приведем его полностью:
«…Часть (персидского войска. —
Дельфийцы же, узнав о намерении Ксеркса, пришли в ужас. В великом страхе они вопросили оракул: закопать ли им в землю храмовые сокровища или вывезти в другую страну. Бог же запретил им трогать сокровища и сказал, что сам сумеет защитить свое достояние. Получив такой ответ оракула, дельфийцы стали заботиться о собственном спасении. Жен и детей они отослали на другую сторону в Ахею (Ахайю. —
Варвары между тем были уже близко и издали могли видеть святилище. Тогда прорицатель по имени Акерат заметил, что священное оружие, которого никто не должен был касаться, вынесено из мегарона[41] и лежит на земле. Прорицатель пошел сообщить об этом чуде людям, оставшимся в Дельфах. А когда персы поспешно достигли храма Афины Пронеи, случилось еще более великое чудо, чем это. Конечно, весьма удивительно, что боевое оружие появилось само собой и лежало перед храмом. Однако то, что последовало за этим, было самым удивительным знамением из всех. Ибо в то самое мгновение, когда варвары появились у святилища Афины Пронеи, с неба пали перуны (молнии. —
Все эти чудесные знамения повергли варваров в ужас. Дельфийцы же, лишь только заметили бегство врагов, спустились с гор и многих перебили. Оставшиеся в живых персы бежали прямым путем вплоть до Беотии. По возвращении к своим, как я узнал, эти варвары рассказывали еще и о других явленных им знамениях: два воина выше человеческого роста преследовали их и убивали.
Это были, по словам дельфийцев, два местных героя — Филак и Автоной, храмы которых находятся поблизости от святилища Аполлона: Филака — на самой улице выше святилища Пронеи, Автоноя же — недалеко от Кастальского источника у подножия крутого утеса Гиампии. А низвергнувшиеся с Парнаса обломки скал уцелели еще и до нашего времени и поныне лежат в священной роще Афины Пронеи, куда они стремительно обрушились, прорвав ряды варваров. Так-то произошло отступление отряда персов от дельфийского святилища» (VIII. 35–39).
История, что и говорить, очень красочная. Но поверить в нее не помогают даже указанные Геродотом в качестве аргумента обломки скал: кто мог бы подтвердить, что они обрушились именно при данных обстоятельствах? В описании похода персов на Дельфы слишком уж много сверхъестественного; оно напоминает типичную храмовую легенду, предназначенную для того, чтобы показать непобедимую мощь божества.
Многие ученые считают, что процитированный рассказ от начала до конца представляет собой вымысел дельфийского жречества и не было вообще никакой попытки персидского отряда взять святилище — это в корне противоречило религиозной политике правителей Персии, проявлявших демонстративную терпимость по отношению к верованиям, богам, святыням покоряемых народов. А к Аполлону Ахемениды относились с особым расположением: возможно, сохранялась смутная память о том, что этот греческий бог имеет восточное (малоазийское) происхождение. До нас дошла (в поздней, но аутентичной копии) греческая надпись с переводом письма Дария I, в котором предписывалось оказывать Аполлону всяческое уважение{33}.
Когда в 490 году до н. э. персидский флот под командованием Датиса двигался по Эгейскому морю на Афины, попутно захватывая и разоряя попадавшиеся греческие острова, обращая в рабство их жителей, он оказался, в частности, поблизости от Делоса. Этот крохотный островок являлся одним из важнейших центров культа Аполлона, вторым по значению после Дельф. Согласно мифам, Аполлон и его сестра Артемида родились именно на Делосе; там находилось их святилище, чтимое всеми ионийцами. Военачальник персов обошелся с Делосом совершенно иначе, чем с остальными островами, о чем рассказывает Геродот: «Делосцы… покинув свой остров, поспешно бежали на Тенос. Когда персидский флот появился у острова, Датис, плывший впереди, приказал кораблям не бросать якорей возле острова, но по другую сторону, у Ренеи[42]. Сам же Датис, узнав, где находятся делосцы, велел через глашатая сказать им следующее: „Жители священного острова! Зачем вы убегаете, подозревая меня в недостойных замыслах? Ведь я и сам настолько благоразумен, да и царь приказал мне: отнюдь не разорять этой страны, родины этих двух божеств, и не обижать ее жителей. Так вот, возвращайтесь в ваши дома и живите на острове“. Это Датис велел сообщить делосцам через глашатая. Затем, возложив на алтарь 300 талантов благовоний, он воскурил фимиам. После этого жертвоприношения Датис отплыл со своими кораблями» (VI. 97–98).
Это отнюдь не похоже на поведение нечестивых расхитителей святынь. Правда, Ксеркс отличался меньшим почтением к чужим религиям, чем его отец Дарий, но всё же не до такой степени, чтобы идти на прямые святотатства и тем самым навлекать на себя гнев могущественных богов!
В другом эпизоде «Истории» Геродота приводятся слова, сказанные в 479 году до н. э. персидским полководцем Мардонием на военном совете: «Есть изречение оракула о том, что персам суждено прийти в Элладу и разграбить дельфийское святилище и затем погибнуть. А зная это, мы не пойдем на Дельфы и не станем грабить святилища. Поэтому-то нам и не угрожает гибель. Итак, пусть все, кто предан персам, радуются в надежде на грядущую победу» (IX. 42).
Слова Мардония звучат горькой иронией: ведь читатели прекрасно знали, что вскоре персидский полководец погиб, а войско его было разгромлено. Но для нас особенно интересно, что эта цитата входит в прямое противоречие с рассказом о походе персов на Дельфы. Если этот поход действительно имел место, почему же Мардоний не упоминает его, хотя это было бы лучшим аргументом? И самое главное: зная о вышеназванном прорицании, связывавшем гибель персидской армии с разграблением дельфийского храма, разве отдал бы Ксеркс приказ грабить его?!
Мы снова и снова убеждаемся, что перед нами — благочестивая жреческая легенда, направленная на то, чтобы «выгородить» Дельфы, представить их роль в Греко-персидских войнах в максимально благоприятном свете. Такая же тенденция прослеживается, например, и в еще одном пересказанном Геродотом эпизоде, тоже связанном с тяжелой годиной похода Ксеркса: «Между тем дельфийцы, страшась за свою судьбу и участь всей Эллады, вопросили бога. Бог ответил им: нужно молиться ветрам, так как боги ветров будут могучими союзниками Эллады. Дельфийцы же с верою приняли прорицание и прежде всего сообщили ответ оракула всем свободолюбивым эллинам, которые трепетали перед варваром. И дельфийцы, это прорицание „им возвестив, благодарность навеки стяжали“. Затем они воздвигли ветрам алтарь в Фие (город в Беотии. — И. С.)… и почтили их жертвоприношениями. И поныне еще в силу этого прорицания дельфийцы умилостивляют ветры жертвоприношениями» (VII. 178).
Такое обеление действительно требовалось Дельфийскому оракулу, ведь его политика по отношению к Персии вплоть до решающих поражений Ксеркса и Мардония была весьма сомнительной, конформистской, чтобы не сказать коллаборационистской. Очевидно, жречество Аполлона долгое время считало, что борьба против такой мощной силы, как империя Ахеменидов, обречена на поражение. Так не лучше ли покориться добровольно, без лишних жертв, снискав тем самым милость новых господ? Такая позиция Дсльф проявилась уже на первом этапе греко-персидского столкновения, когда в 540-х годах до н. э. некоторые малоазииские полисы пытались противостоять покорявшему их огнем и мечом по приказу Кира полководцу Гарпагу. Так, жители Книда, расположенного на узком и длинном полуострове, решили было отделить его от материка, прокопав канал и превратить свое государство в островное, что способствовало бы сохранению независимости. Но из Дельф пришел запрет, поскольку Зевс-де против. «Получив такое прорицание, книдяне прекратили работы и, когда Гарпаг с войском подошел к городу, они сдались без боя» (I. 174).
В 500 году до н. э. началось Ионийское восстание против владычества Ахеменидов; во главе его встал Милет. Дельфы откликнулись прорицанием:
В оное время и ты, о Милет — зачинатель преступных деяний —
Многим во снедь ты пойдешь и даром станешь роскошным.
Многим тогда твои жены косматым ноги умоют.
Капище ж наше в Дидимах возьмут в попеченье другие.
(VI. 19)
В дальнейшем эта фактически проперсидская линия проводилась дельфийским жречеством еще более последовательно. Когда в 481 году до н. э. создавался Эллинский союз для отражения ожидавшегося нашествия Ксеркса, священный город Аполлона своим огромным авторитетом мог бы послужить делу греческой свободы, призывая полисы примкнуть к нему. Это было бы чрезвычайно актуально, ведь первоначально лишь около трех десятков городов вступили в объединение. Но дельфийские жрецы, наоборот, отговаривали колеблющиеся государства, «устами бога» настоятельно рекомендовали им не выступать против персов.
В одном из подобных примеров, приведенных Геродотом, речь идет об Аргосе, стоявшем в ряду сильнейших полисов Эллады. Его помощь в Греко-персидских войнах была бы отнюдь не лишней. «Когда же аргосцы узнали, что эллины собираются вовлечь их в войну с персами, то отправили послов в Дельфы вопросить бога, как им лучше всего поступить… Пифия же на их вопрос изрекла следующее:
Недруг соседям своим, богам же бессмертным любезный!
Сулицу[43] крепко держи и дома сиди осторожно.
Голову коль сбережешь, глава сохранит свое тело».
(VII. 148)
Дельфийские речения почти всегда отличались напыщенной загадочностью — для вящей важности (впрочем, это можно сказать и о других греческих оракулах и прорицателях). Иногда пророчества вообще были темными до непонятности или двусмысленными — чтобы была возможность жрецам отговориться от обвинений в ошибке. Но в данном случае общий смысл прорицания был вполне ясным, и аргосцы однозначно истолковали его как «запрещение оракула вступать в союз с эллинами» (VII. 149). Соответственно они заняли позицию нейтралитета — по сути пораженческую.
Другой случай связан с Критом — чьи жители славились своим боевым искусством в качестве легковооруженных воинов, особенно лучников. Поэтому на Крит тоже прибыли послы от Эллинского союза, призывая вступить в него. «Критяне же, когда их стали приглашать в союз посланные для переговоров эллины, поступили так: они сообща отправили послов в Дельфы вопросить бога, лучше ли будет для них помочь Элладе или нет. Пифия отвечала им: „Глупцы! Разве вы не сетуете на то, что разгневанный вашей помощью Менелаю Минос причинил вам столько слез? Ведь эллины не помогли вам отомстить за его смерть в Камике, хотя вы и пришли им на помощь в отмщенье за похищенную варваром женщину из Спарты“. Услышав такой ответ оракула, критяне отказались помогать эллинам» (VII. 169). Геродот разъясняет смысл этого прорицания. Согласно мифам, знаменитый критский царь Минос погиб на Сицилии, за это критяне начали войну против сицилийцев и долго осаждали один из тамошних городов — Камик, но не смогли его взять, потому что не получили помощи от греков. Сами же критяне, напротив, активно участвовали на стороне греков в Троянской войне, которая, как известно, началась из-за похищения сыном троянского царя Парисом Елены, жены спартанского правителя Менелая. В результате разгневанный дух Миноса наслал на Крит голод и мор. «Об этом-то пифия и напомнила критянам и удержала их от помощи эллинам, хотя они и желали помочь» (VII. 171).
Одним словом, если бы не Дельфы, Эллинский союз мог бы быть значительно сильнее. Дельфийские жрецы даже афинян пытались отговорить от войны против персов, более того — запугать их неизбежным поражением. Когда афинские послы прибыли к оракулу, пророчество, данное им, оказалось беспросветно черным:
Что ж вы сидите, глупцы? Бегите к земному пределу,
Домы покинув и главы высокие круглого града.
Не устоит ни глава, ни тело пред гибелью страшной,
И ни стопа, и ни длань, и ничто иное средь града
Не уцелеет. Но все истребится, и град сей погубит
Огнь и жестокий Арей, что стремит колесницу сириян.
Много и прочих твердынь — не только твою он погубит…
Ныне кумиры бессмертных стоят, уже пот источая.
В страхе трепещут они, а кровли их храмов
Черною кровью струят — в предвести бед неизбывных…
Но выходите из храма и скорбию душу излейте.
(VII. 140)
Гражданам одного из сильнейших в Греции городов предлагалось обратиться в позорное бегство. Разумеется, их подобная перспектива ни в малейшей мере не устраивала. «Такой ответ оракула глубоко опечалил афинских послов. И вот, когда они уже впали в отчаяние от возвещенных им бедствий, некто Тимон, сын Андробула, один из самых уважаемых людей в Дельфах, посоветовал им вернуться в святилище с оливковыми ветвями и еще раз вопросить оракул уже в качестве „умоляющих бога о защите“. Афиняне так и поступили и обратились к богу с такими словами: „Владыка! Ради этих вот оливковых ветвей, которые мы принесли, изреки нам более милостивое прорицание о нашем родном городе, иначе мы не уйдем из святилища, но пребудем здесь до конца наших дней“» (VII. 140). И пифия изрекла им новое пророчество — тоже довольно мрачное, но с некоторыми проблесками надежды. Получается, что более благоприятное предсказание можно было попросту «вытянуть» из божества с помощью такого своеобразного шантажа.
В чем же причина довольно странной позиции, занятой крупнейшим из эллинских святилищ в годину грозной опасности для всей Греции? Создается впечатление, что Дельфы чрезмерно ретиво пытались исправить ошибку, допущенную ими, когда они впервые вмешались в «персидский вопрос», только-только замаячивший на горизонте. Это было еще в 546 году до н. э., когда Крез Лидийский решал, начинать ли ему войну против Персии. Буквально завалив Дельфийский оракул драгоценными дарами, царь затем обратился к нему с этой мучившей его проблемой. Какой ответ могло дать жречество Аполлона своему главному благодетелю? Ясно, что не обескураживающий. Крезу было объявлено: «…Если царь пойдет войной на персов, то сокрушит великое царство» (I. 53).
Судя по всему, жрецы тогда еще не очень хорошо разбирались в восточных делах. Наверняка им казалось, что никто не может победить могущественного и богатого Креза. Но лидийский владыка был довольно быстро разгромлен Киром, а Дельфы едва не испытали большой конфуз, спасшись только тем, что прорицание было по обыкновению составлено в двусмысленной форме. В результате можно было оправдываться: «…На данное ему предсказание Крез жалуется несправедливо. Ведь Локсий[44] предсказал: если Крез пойдет войной на персов, то разрушит великое царство. Поэтому если бы Крез желал принять правильное решение, то должен был отправить послов вновь вопросить оракул: какое именно царство разумеет бог — его, Креза, или Кира. Но так как Крез не понял изречения оракула и вторично не вопросил его, то пусть винит самого себя» (I. 91).
С помощью подобной казуистики тогда удалось выпутаться из щекотливой ситуации. Но, понятное дело, жрецам очень не хотелось, чтобы такие случаи повторялись: что ни говори, они ставили под угрозу репутацию оракула. И дельфийское жречество, обжегшись на молоке, стало дуть на воду. Уверовав теперь уже в безграничную мощь персов, оно не давало грекам иной альтернативы, кроме как подчиниться.
Интересно другое: как, несмотря на свою проперсидскую политику, на все усилия по развалу общегреческой коалиции, Дельфы не утратили доверия эллинов? К полисам, перешедшим в ходе Греко-персидских войн на сторону Ахеменидов, отношение было в высшей степени отрицательным. Члены Эллинского союза намеревались им мстить. На союзном конгрессе принято специальное постановление, которое тоже цитирует Геродот (VII. 132).
Г. А. Стратановский переводит это постановление так: «Всякий эллинский город, предавшийся персидскому царю, не вынужденный к этому необходимостью, в случае победы союзников обязан уплатить десятину дельфийскому богу». Но мы в данном случае не можем согласиться с переводчиком. Не вдаваясь в тонкости филологической и исторической аргументации, просто приведем иное толкование этого места, гораздо более вероятное. Речь в постановлении шла вовсе не о том, чтобы города, перешедшие на сторону персов, в наказание уплатили в Дельфы десятую часть своих доходов — это была бы слишком мягкая кара для предателей. Тем более что именно такое обязательство члены Эллинского союза налагали на самих себя: посвящать в Дельфы десятину из добычи, получаемой в победах над «варварами». Весьма странно было бы, если бы победители и побежденные, те, кто боролся за правое дело, и те, кто ему изменил, были подвергнуты одной и той же участи.
На самом деле в постановлении имелось в виду совсем иное: полисы-изменники должны были быть разорены, их население продано в рабство, а уже из полученных средств десятая часть отдавалась Аполлону Дельфийскому. Мера, конечно, крайне суровая, но ведь и время было предельно суровое и жестокое. (К слову сказать, после изгнания Ксеркса эта тотальная мера так и не была применена ни к одному из проперсидских государств Эллады: победители смилостивились над противниками.) Строго говоря, Дельфы тоже должны были бы оказаться в списке наказанных. Но этого не произошло — напротив, они еще и обогащались за счет наказания других: согласно постановлению, десятина с имущества «персофильских» государств должна была поступить именно в Дельфы!
Как же получалось, что высочайшую репутацию оракула на склоне Парнаса не могли сломить даже столь откровенно компрометирующие действия его жрецов? Ведь служителям дельфийского бога можно было инкриминировать отнюдь не только проперсидские настроения. Мы уже видели, что от них настойчивостью добивались нужного прорицания, а если это не помогало — обращались к закулисным связям, а то и просто к взяткам.
История об изгнанном тираном Гиппием роде Алкмеонидов, отстроившем великолепный храм Аполлона, имела продолжение, которое тоже не осталось неизвестным Геродоту. «По рассказам афинян, Алкмеониды во время пребывания в Дельфах подкупили пифию деньгами, чтобы она всякий раз, как спартанцы вопрошали оракул, по частному ли делу или от имени государства, возвещала им волю божества освободить Афины. Получая постоянно одно и то же изречение, лакедемоняне наконец отправили войско… изгнать Писистратидов[45] из Афин (хотя спартанцы находились с Писистратидами в самой тесной дружбе). Ведь они считали веление божества важнее долга к смертным» (V. 63). В итоге Гиппий был изгнан из Афин, тирания свергнута, а через несколько лет Клисфен, лидер возвратившихся на родину Алкмеонидов, установил демократию.
Как видим, манипуляции дельфийских жрецов могли приводить даже к таким серьезным последствиям. Впрочем, вся эта история овеяна у Геродота ореолом слухов и сплетен. Алкмеониды были, без сомнения, весьма состоятельным родом, и тем не менее всех их денег не хватило бы, чтобы подкупить жречество богатейшего в Элладе святилища. В принципе роль своеобразной «взятки» могло сыграть уже само строительство Алкмеонидами Дельфийского храма{34}. К тому же жречество Аполлона давно симпатизировало этому роду, поддерживало с ним тесные отношения. Еще в начале VI века до н. э. один из первых представителей рода «оказал помощь лидийцам, прибывшим из Сард от Креза к Дельфийскому оракулу, и заботился о них» (VI. 125) (имеется в виду, скорее всего, не названный Геродотом Алкмеон, а его отец Алиатт{35}; но сути дела это совершенно не меняет). Нужно учитывать еще, что Дельфы находились во враждебных отношениях с Писистратом и его сыновьями, проводившими слишком независимую религиозную политику. Поэтому жрецам оракула, конечно, было выгодно помочь избавиться от чрезмерно самостоятельных афинских правителей и утвердить на их место, явно небескорыстно, дружественный род.
Безусловно, дельфийское жречество умело подать историю оракула с самой благовидной стороны. Некрасивые ситуации тщательно затушевывались (обратим внимание, что Геродот, рассказывая о подкупе пифии Алкмеонидами, ссылается не на дельфийцев, а на афинян); остальное служители Аполлона расписывали в красочных, многословных повествованиях. Так, постоянно подчеркивалась роль Дельф в Великой греческой колонизации. Многие колонии были действительно основаны по их инициативе, на указанном ими месте. Считалось, что с пифией обязательно нужно проконсультироваться перед отправлением колонистов. А если это правило не было соблюдено, то всё мероприятие могло закончиться провалом, чему опять же находим иллюстрации у Геродота.
Например, он повествует о событиях, относящихся к последней четверти VI века до н. э. В Спарте царем стал Клеомен I, а его единокровный брат Дорией считал себя имеющим больше прав на престол. «Дорией разгневался и не захотел признать царем Клеомена. Он попросил у спартанцев себе людей в спутники и выселился на чужбину, даже не вопросив Дельфийский оракул, в какой земле ему следует поселиться, и не выполнив никаких обычаев, установленных в таких случаях» (V. 42). Терпя неудачи, Дорией решил-таки исправить свою ошибку и посетил Дельфы (V. 43), но было уже поздно. Тщетно пытаясь основать колонию то в одном, то в другом месте, он в конце концов погиб со всеми своими людьми.
Правда, современными учеными роль оракула в колонизационном движении часто признается в лучшем случае служебной: государства, выступавшие инициаторами выведения колоний, обращались к дельфийским жрецам как к своего рода «экспертам», а те, обладая разветвленной «агентурой» и владея большим количеством нужной информации, давали соответствующие рекомендации. Но в данном случае не учитывается, что сознание греков архаической эпохи было еще всецело религиозным{36}, а авторитет великих оракулов — безусловным.
Не всегда случалось, что хитроумные греки, уже приняв решение о проведении колонизационной акции, отправляли посольство в Дельфы лишь для получения подобающей религиозной санкции. Иногда повеление, данное устами пифии, оказывалось для них неожиданным — и при этом ему следовало беспрекословно повиноваться. Хорошей иллюстрацией здесь может служить подробный рассказ Геродота об основании выходцами с Феры — острова в Южной Эгеиде — колонии Кирены в Северной Африке. Он заслуживает того, чтобы его ключевые моменты были здесь процитированы:
«Когда царь ферейцев Гринн стал вопрошать оракул о различных делах, пифия повелела основать город в Ливии… По возвращении на родину царь и его спутники пренебрегли изречением оракула: они не знали, где находится Ливия, и не решились наудачу отправить поселенцев. После этого бог семь лет не посылал дождя на Феру, и на острове засохли все деревья, кроме одного. Тогда ферейцы вопросили об этом оракул, и пифия вновь повелела выслать колонию в Ливию… Ферейцы решили отправить туда по жребию от всех семи общин на острове по одному из двух братьев, а предводителем и царем выбрали Батта. Затем они отправили на Платею (остров у берегов Ливии. — И. С.) два пятидесятивесельных корабля» (IV. 150–153).
Интересно, что изначально жители Феры вовсе не намеревались основывать колонию: гражданский коллектив острова был очень невелик, ощущался скорее недостаток, чем избыток людей. Инициатором же отправки колонистов в Африку выступил Дельфийский оракул, который фактически принудил к этому ферейцев вопреки их воле. Последним мероприятие далось с большим трудом: несмотря на то, что при наборе поселенцев были приняты экстраординарные меры, близкие к военной мобилизации (в каждой семье один из братьев обязательно должен был покинуть родину), едва удалось послать около двухсот человек. Но воле божества нельзя было прекословить! Кстати, впоследствии Кирена под властью Батта и его потомков достигла большого процветания, стала одним из самых известных полисов греческого мира; в нее приехало большое число новых поселенцев из разных мест — не в последнюю очередь потому, что пифия побудила изречением оракула всех эллинов отплыть в Ливию и поселиться там вместе с киренцами… Изречение оракула гласило:
«Кто слишком поздно придет в вожделенную Ливии землю,
После раздела земли, пожалеть тому горько придется».
(IV. 159)
На первый взгляд вырисовывается благостная картина: Дельфы, руководя колонизацией, способствуют расселению греков и распространению их высокой культуры в обширных регионах Средиземноморья. Однако на деле и в этом вопросе жречество Аполлона вело себя отнюдь не беспристрастно. Убедительно доказано: оракул направлял колонизационную деятельность далеко не всех греческих государств, а только той их группировки, наиболее близкой Дельфам в политическом отношении{37}, к которой принадлежали, например, богатый торговый Коринф и могущественная Спарта. С ними Дельфы старались дружить, их в первую очередь поддерживали — опять же исходя при этом, конечно, из своих собственных интересов.
Именно по инициативе Дельфийского оракула в греческих полисах развернулась активная законодательная деятельность, стали вводиться письменные своды законов, заменившие собой устное право, основанное на обычаях. Этот процесс имел исключительно большое значение для становления античной цивилизации, для которой с тех пор и на всем протяжении ее существования сама идея закона была в высшей степени важна. Роль Дельф как силы, вдохновлявшей законодателей, действительно нельзя отрицать. Но дельфийские жрецы не были бы самими собой, если бы впоследствии не постарались всячески раздуть этот выгодный для них факт.
Самым упорядоченным полисом в Греции считалась Спарта. Остальные эллины особенно восхищались тем, что спартанцы практически не знают междоусобных распрей. Такое положение дел дельфийцы ставили в заслугу себе. Геродот — несомненно, со слов жрецов оракула — рассказывает об этом: «Прежде у лакедемонян были даже почти что самые дурные законы из всех эллинов, так как они не общались ни друг с другом, ни с чужеземными государствами. Свое теперешнее прекрасное государственное устройство они получили вот каким образом. Ликург, знатный спартанец, прибыл в Дельфы вопросить оракул. Когда он вступил в святилище, пифия тотчас же изрекла ему вот что:
Ты притек, о Ликург, к дарами обильному храму,
Зевсу любезный и всем на Олимпе обитель имущим.
Смертный иль бог ты? Кому изрекать прорицанье должна я?
Богом скорее, Ликург, почитать тебя нужно бессмертным.
По словам некоторых, пифия, кроме этого предсказания, предрекла Ликургу даже все существующее ныне спартанское государственное устройство… Так-то лакедемоняне переменили свои дурные законы на хорошие, а после кончины Ликурга воздвигли ему храм и ныне благоговейно его почитают» (I. 65–66).
Имя своего легендарного законодателя Ликурга спартанцы действительно окружали полубожественным ореолом. Считалось, что именно он, выполняя волю Дельф, провел важнейшие реформы и фактически выступил творцом спартанского государства, уникального во всех отношениях — от политической системы до образа повседневной жизни. Однако современные ученые возражают: реформы, совершенно изменившие облик Спарты, проводились постепенно, усилиями нескольких поколений неизвестных нам законодателей, слившихся в представлениях людей последующих эпох в одной грандиозной фигуре. Ликург, в сущности, является легендой, созданной совместно спартанцами и дельфийцами.
Конечно, Геродот приводит и более реальные примеры законов, введенных по совету из Дельф. Жители Кирены в середине VI века до н. э. потерпели тяжелое поражение в войне с местными ливийскими племенами. К тому же их царь Аркесилай II умер, а сын его Батт III оказался к управлению неспособным. «Киренцы же послали в Дельфы вопросить оракул из-за постигшего их несчастья: при каком государственном устройстве лучше всего им жить? Пифия велела им пригласить посредника из Мантинеи в Аркадий По их просьбе мантинейцы послали к ним самого уважаемого из своих граждан по имени Демонакт. По прибытии в Кирену посредник ознакомился с положением дел в городе и разделил население на три филы[46] так: первая часть состояла из ферейцев и их соседей, вторая — из пелопоннесцев и критян, а третья включала всех островитян. Затем он выделил царю Батту царские земельные владения и жреческие доходы, а все остальное, что принадлежало прежде царю, сделал достоянием народа» (IV. 161).
Реформы Демонакта стали, по сути, настоящим государственным переворотом, при котором «исконная» царская власть, сильно урезанная в своих прерогативах, превратилась в своего рода «конституционную монархию», а фактически — в республику, поскольку царь был теперь просто высшим должностным лицом. Правда, следующий царь, Аркесилай III, начал борьбу за восстановление своего самовластия, но был изгнан из Кирены. «Набрав большое войско, он послал в Дельфы вопросить оракул о своем возвращении. Пифия дала царю такой ответ: „При четырех Баттах и четырех Аркесилаях Локсий позволяет вам царствовать в Кирене. А дальше он не советует вам посягать на царство. Сам ты можешь спокойно возвратиться домой…“» (IV. 163). Аркесилай вернулся, вновь захватил власть и правил уже как тиран. Кстати, этот рассказ, если ему верить, демонстрирует поразительную прозорливость оракула. Получилось так, как было предсказано: после самого Аркесилая III полисом управляли еще Батт IV и Аркесилай IV; при последнем, в 440-х годах до н. э., царская власть в Кирене была окончательно ликвидирована{38}. Впрочем, можно предположить, что цитируемое Геродотом прорицание было подделано дельфийцами позже — опять-таки для вящей славы их святилища. Как бы то ни было, в данном случае Дельфы фактически привели к власти тирана!
Здесь мы сталкиваемся с еще одной «темной стороной» в истории оракула. Если связь с законодателями дельфийское жречество всячески афишировало, то свою поддержку тиранов оно, напротив, впоследствии старалось замалчивать. Уловка возымела действие, и даже некоторые современные ученые пишут о враждебности оракула Аполлона к тирании{39}. Но это всего лишь запоздалое тиражирование штампов жреческой пропаганды; в действительности же «срединный храм» не имел ничего против установления тиранических режимов, более того, не раз открыто выступал в их защиту{40}. Правда, выше мы видели, что при прямом участии Дельф был свергнут афинский тиран Гиппий, сын Писистрата. Но тут случай особый: дельфийское жречество приложило все усилия к устранению Гиппия не из неприязни к тирании, а потому, что видело в Писистрате и Писистратидах опасных конкурентов в религиозно-политической борьбе.
Другой эпизод точно так же демонстрирует, что позиция оракула в вопросе о тиранах была скорее гибкой, нежели непреклонно-принципиальной. Когда с вопросом к Аполлону обратился Клисфен, тиран города Сикион, пифия дала ему оскорбительный ответ (V. 67). Но позже, когда Клисфен принял активное участие в так называемой Первой Священной войне (начало VI века до н. э.) за контроль над Дельфами и вступил победителем в священный город, позиция жречества резко изменилась в его пользу, и уже вскоре он победил в состязаниях колесниц на Пифийских играх, проводившихся в Дельфах (
У Геродота есть примеры совсем уж недвусмысленного поощрения тиранов жрецами Аполлона. Когда в середине VII века коринфский аристократ Кипсел задумал стать тираном в родном городе, пифия возвестила ему:
Счастлив сей муж, что ныне в чертог мой вступает,
Эетионов Кипсел[47]; царь славного града Коринфа
Будет все же он сам и дети его, но не внуки.
(V. 92)
Опираясь на полученную божественную санкцию, Кипсел установил свою тиранию, основав династию Кипселидов. Как и в случае с прорицанием, данным Аркесилаю III, коринфскому тирану власть была обещана, но при этом подчеркивалось, что их потомки ее утратят. Дельфы как бы позволяли ввести тиранический режим лишь на ограниченный срок — но всё же позволяли и даже фактически подталкивали к его установлению: кто, получив столь обнадеживающий ответ оракула, не соблазнился бы попыткой государственного переворота?
Известны и другие случаи подобного рода, но не из труда Геродота. От «Отца истории» дельфийские жрецы, когда они выступали его информаторами, большую часть этих примеров, чувствуется, скрыли.
Симпатия оракула к тиранам отнюдь не случайна. Ведь эти правители, придя к власти, скоро становились очень богатыми людьми: в их распоряжении оказывалась вся полисная казна, они взыскивали в свою пользу подати с граждан… Соответственно они имели больше возможности одаривать «срединный храм» обильными приношениями. И чем сильнее был тиран, тем легче это было ему делать; стало быть, тем активнее стремилось жречество Аполлона задобрить, «приручить» такого тирана.
В начале V века до н. э. могущественнейшим из представителей греческой тирании был Гелон из династии Дейноменидов. Он правил на Сицилии, в Сиракузах, а тираны многих эллинских городов острова стали его вассалами. В 480 году Гелон «отправил в Дельфы Кадма, сына Скифа, с острова Коса на трех пятидесятивесельных кораблях, нагруженных великими сокровищами» (VII. 163). Геродот приводит две версии. Первая, согласно которой Гелон решил сдаться Ксерксу, шедшему походом на Грецию, и отправил туда свои сокровища для передачи царю Персии, маловероятна, так как Гелон на своем очень отдаленном от Ахеменидской державы острове мог еще долго не опасаться нападения с востока. Реальная же угроза для него надвигалась, напротив, с запада: на Сицилии высадилось большое войско из Карфагена — населенного финикийцами города в Северной Африке, давно стремившегося подчинить себе плодородные сицилийские земли. Вторая версия явно гораздо ближе к истине: тиран просто спасал свое достояние, помещал его на время войны в безопасное место, куда руки карфагенян не могли дотянуться. Победив врагов, Гелон забрал свои сокровища из Дельф. Не приходится сомневаться, что если бы он потерпел поражение и погиб, то дельфийское жречество не замедлило бы прибрать его богатства к рукам.
Ко времени Геродота в Дельфах уже «стеснялись» своих былых близких отношений с тиранами. В эту эпоху тиранические режимы почти повсеместно в греческом мире были ликвидированы. Кое-где засидевшиеся их запоздалые представители, вроде галикарнасского Лигдамида, вовсе не определяли «политический климат» эпохи. Само слово «тиран» приобрело ранее не свойственный ему отчетливо негативный оттенок, какой сохраняет и по сей день, обозначая жестокого, кровавого правителя. В таких условиях от связей с тираниями, конечно, лучше было «откреститься». Так, сокровищницу, построенную в святилище тираном Коринфа Кипселом, переименовали просто в «сокровищницу коринфян» (I. 14).
К тому же на протяжении V века до н. э. всё более крепла дружба Дельф со Спартой. Эта дружба, особенно выгодная для жречества Аполлона, в свою очередь требовала от него определенных корректив политической линии. Ведь ярко выраженная неприязнь спартанцев к тирании доходила до того, что они не раз отправлялись свергать тиранов в различных городах Эллады.
Особые отношения между спартанским и дельфийским полисами выражались, например, в том, что в спартанском «дипломатическом корпусе» имелись особые должностные лица — пифии (единственное число — «пифий», то есть в мужском роде), послы, которые в случае надобности отправлялись в Дельфы (VI. 57). При этом в Спарте не существовало особых послов для поездок в Афины, Коринф или, скажем, в Персию…
Искренне благочестивые и в массе своей довольно простодушные, спартанцы были идеальным объектом для манипулирования с помощью религиозных аргументов, непревзойденными мастерами которого были дельфийские жрецы. Они, в сущности, во многом подчинили внешнюю политику самого сильного в Греции государства своим интересам. «Мечом Дельф» образно называет Спарту выдающийся русский ученый начала XX века Ф. Ф. Зелинский{41}. В Спарте прорицания оракулов воспринимались как непререкаемая истина, что позволяло обманывать спартанцев — например, с помощью сфабрикованных пророчеств убедить их свергнуть афинского тирана Гиппия и отстранить собственного царя Демарата.
Религиозность лакедемонян издавна способствовала теснейшим контактам с Дельфийским святилищем. Предание гласило, что именно по подсказке из Дельф на самой заре спартанской истории был введен уникальный институт двойной царской власти (VI. 52).
В архаическую эпоху, пока Спарта еще не стала гегемоном Греции, ее властям, случалось, приходили от пифии двусмысленные речения. Они обратились к оракулу с вопросом, удастся ли захватить соседнюю область Аркадию. Ответ был следующим:
Просишь Аркадию всю? Не дам тебе: многого хочешь!
Желудоядцев-мужей обитает в Аркадии много,
Кои стоят на пути. Но похода все же не возбраняю.
Дам лишь Тегею тебе, что ногами истоптана в пляске,
Чтобы плясать и поля ее тучные мерить веревкой.
Лакедемоняне, услышав ответ оракула, оставили все другие города Аркадии и пошли войной на тегейцев, взяв с собой оковы, так как твердо рассчитывали обратить тегейцев в рабство. «В битве, однако, лакедемоняне потерпели поражение, и на тех, кто попал в плен к врагам, были наложены те самые оковы, которые они принесли с собой: пленники, как рабы, должны были, отмерив участок поля тегейцев мерной веревкой, обрабатывать его», — бесстрастно заключает Геродот (I. 66).
Но впоследствии, когда определилось, что Спарта — самый сильный полис, отношение оракула к ней стало однозначно положительным. По дельфийской санкции в Спарту были перенесены из Аркадии останки древнего ахейского героя Ореста (I. 67–68), а из Ахайи — останки другого героя, его сына Тисамена (Павсаний. Описание Эллады. VII. 1. 8){42}. Тем самым эти герои как бы брали Лаконику под покровительство.
Спартанцы страстно желали захватить Аргос — своего главного соперника на Пелопоннесе. При царе Клеомене I они начали с этим полисом очередную войну. «Клеомен ведь вопрошал Дельфийский оракул и в ответ получил изречение, что завоюет Аргос» (VI. 76). Хотя аргосцы и потерпели тяжелое поражение, но взять их город спартанскому войску не удалось. Впрочем, Клеомен и Дельфы придумали выход из очередной щекотливой для оракула ситуации: в ходе войны было захвачено святилище героя Аргоса — покровителя Арголиды; тем самым, дескать, и было исполнено прорицание.
В годину Греко-персидских войн пифия давала Спарте более благоприятные предсказания, чем прочим эллинским государствам. Однако и они были мрачноваты: «Когда спартанцы вопросили бога об этой войне (еще в самом начале ее), то пифия изрекла им ответ: или Лакедемон будет разрушен варварами, или их царь погибнет» (VII. 220). Судя по всему, не в последнюю очередь по этой причине спартанский царь Леонид добровольно обрек себя на героическую смерть при Фермопилах: ею он хотел спасти свой полис. А позже, после разгрома персидского царя при Саламине, «из Дельф пришло лакедемонянам изречение оракула, гласившее: они должны требовать от Ксеркса удовлетворение за убийство Леонида» (VIII. 114). Да, дельфийцы чутко улавливали изменения в военно-политическом положении…
Одним словом, всё, что известно о дельфийском жречестве, определенно рисует его как совершенно беззастенчивую, циничную корпорацию прожженных дельцов и обманщиков, при случае не брезговавших даже прямыми подделками прорицаний. Создается впечатление, что если кто в Греции в ту эпоху не верил в богов, так это жрецы «срединного храма». При этом их политический кругозор был довольно узок, интересы — мелочны, направлены прежде всего на обогащение святилища{43}.
Но как же тогда объяснить колоссальный авторитет Дельф в греческом мире? Поток паломников к святилищу на склоне Парнаса не оскудевал, сокровищницы продолжали полниться богатыми дарами, эллинские полисы и частные лица снова и снова обращались к оракулу за разрешением встававших перед ними проблем. Скажем честно и откровенно: объяснения этому нет. Что заставляло греков — глубоко критичный, пытливый народ, постоянно занятый напряженным поиском истины и никакого суждения не принимавший без убедительных доказательств, — в данном случае быть такими легковерными?
Почему, скажем, высокообразованный интеллектуал Геродот так полюбил Дельфы? Ведь Иония, где он обосновался, сама была богата славными святынями, окруженными народным почитанием: это и храм Геры на Самосе, и храм Артемиды в Эфесе, и храм Аполлона в Дидимах близ Милета, и Панионий — святилище Посейдона на мысе Микале, и святилище Аполлона и Артемиды на острове Делос… При некоторых из них имелись и собственные оракулы. Во всех перечисленных местах Геродот побывал — но и только. А «дельфийская мудрость» оказала на него самое серьезное влияние. В чем же заключалась эта мудрость, которая считалась столь важной и значимой, что за нее жрецам прощалось очень многое? А Дельфы в архаическую эпоху действительно встали во главе мощного религиозно-этического движения, фактически реформирования древнегреческой религии.
Лучше всего можно понять, чему учили в Дельфах, ознакомившись с одним эпизодом из «Истории» Геродота.
Спартанцу по имени Главк его друг из Милета оставил на длительное хранение крупную сумму денег. Прошло много лет, и к Главку явились сыновья милетянина, к тому времени уже покойного, с требованием возвратить деньги. Тот заявил, что о деньгах ничего не ведает.
«Печально возвратились милетяне домой, думая, что лишились уже своих денег. А Главк отправился в Дельфы вопросить оракул. Когда же он вопросил оракул, должен ли он присвоить деньги ложной клятвой, то пифия грозно изрекла ему в ответ такие слова:
Сын Эпикида, о Главк: сейчас тебе больше корысти
Клятвою верх одержать, вероломной, и деньги присвоить.
Ну же, клянись, ибо смерть ожидает и верного клятве.
Впрочем, у клятвы есть сын, хотя безымянный, безрукий
Он и безногий, но быстро настигнет тебя, покуда не вырвет
С корнем весь дом твой и род не погубит.
А доброклятвенный муж и потомство оставит благое.
Услышав этот оракул, Главк попросил у бога прощения за свой вопрос. Пифия же ответила, что испытывать божество и приносить ложную клятву — одно и то же. Тогда Главк послал за чужеземцами-милетянами и отдал им деньги… Не осталось теперь ни Главкова потомства, ни дома, который носил его имя в Спарте: с корнем вырван его род» (VI. 86).
Эта идея и была одним из краеугольных камней дельфийского учения и дельфийского мировоззрения — идея неизбежного божественного воздаяния за проступки. Она сформировалась на протяжении архаической эпохи, и главную роль в этом процессе сыграло именно святилище Аполлона.
В приведенном выше эпизоде ничего не говорится о том, что самого Главка постигла какая-нибудь кара за попытку обмана доверившихся ему людей. Акцент делается на том, что возмездие обрушилось на его потомство, даже несмотря на то, что Главк в конце концов раскаялся и деньги вернул. Гибельным оказалось само намерение совершить преступление.
Мысль о коллективной ответственности появилась как попытка ответить на испокон веков тревоживший людей вопрос: почему в мире совершается зло, а злодеи часто не несут никакого наказания за свои деяния? И если есть боги, то как они допускают подобную несправедливость?
Позднейшие монотеистические религии для разрешения этого затруднения вводят категорию загробного воздаяния. Эта концепция, предполагающая строго индивидуальную ответственность, возникла уже в языческой Греции, в некоторых мистических течениях, таких как орфизм и пифагореизм. Но традиционное, «магистральное» направление в эллинской религии, рупором которого выступали Дельфы, признавало возмездие, которое боги обрушат на потомков грешника, даже если они ни в чем не виноваты. Теория коллективной ответственности позволяла объяснить, почему невинные страдают, почему на человека может вдруг ни с того ни с сего обрушиться вереница горестей и несчастий. В массовом религиозно-этическом сознании в связи с подобными ситуациями бытовала идея о «зависти богов». Но представители богословской мысли (в первую очередь дельфийское жречество) старались бороться с этим примитивным представлением. Каждый случай, когда благоденствующего дотоле человека начинали преследовать бедствия, они стремились трактовать как проявление божественного воздаяния, искупление страданиями грехов — своих собственных или предков.
Когда в 546 году до н. э. царь Лидии Крез был наголову разгромлен персидским владыкой Киром, перед современниками не мог не встать вопрос: почему крайне благочестивого и богобоязненного лидийского монарха постигла злая судьба? Он ведь с огромным пиететом относился к Дельфийскому святилищу, украшал его щедрыми дарами, согласовывал каждый свой шаг с мнением тамошних жрецов. В Дельфах отвечали: да, Крез лично не совершил ничего дурного. Но он был наказан за вину своего прапрадеда Гигеса, который незаконно захватил власть в Лидии, убив предыдущего царя. Боги пытались предотвратить кару, которая должна была обрушиться на Креза, но отвратить веление Рока не властны даже они (I. 91).
В этом мире переплетающихся преступлений и «воздаяний», должно быть, неуютно жилось древнему греку. В любой момент могла нежданно прийти беда — за то, что какой-нибудь давний предок много лет назад совершил нечестивое дело. Очень хорошо отражают этот аспект дельфийского мировоззрения переданные Геродотом слова, будто бы сказанные знаменитым афинским мудрецом Солоном тому же Крезу: «Я вижу, что ты владеешь великими богатствами и повелеваешь множеством людей, но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя окончилась благополучно. Ведь обладатель сокровищ не счастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему и он до конца жизни не сохранит своего богатства… Пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным, но называй его лучше удачливым… Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот, царь, в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило» (I. 32).
Считалось, что на большее, чем эта череда постоянных превратностей, и не может рассчитывать человек. Самое знаменитое из дельфийских изречений — «познай самого себя» — было даже выбито у входа в храм Аполлона. Впоследствии этот афоризм очень любил Сократ, однако понимал его как призыв к погружению в глубины собственной индивидуальности. Изначально же, в архаическую эпоху, смысл лозунга был совсем иным, фиксировавшим некую мировую субординацию с твердо установленным местом для каждого, которое надлежит знать. По сути, «познай самого себя» в дельфийском контексте означает «познай, что ты
Идеи умеренности, самоограничения, благочестивой справедливости — вот что провозглашала пресловутая «дельфийская мудрость». Внедрять эти воззрения было тем легче именно жрецам святилища Аполлона на склоне Парнаса, что из всех богов древнегреческой религии именно он в наибольшей степени воплощал меру, форму, гармонию, дисциплину. Подавляющему большинству античных греков эти идеи были очень близки; отсюда — авторитет и влияние Дельф, которые ничто не могло пошатнуть. Проникся дельфийскими идеями и Геродот; они в значительной мере сформировали стержень его религиозных взглядов.
Дельфы призывали к искуплению разнообразных прегрешений, совершённых самими людьми или их предками и ставших причиной несчастий. Возьмем несколько примеров из геродотовской «Истории». Жители острова Лемнос совершили грабительский поход на Аттику и захватили там много женщин, а потом своих афинских пленниц перебили. После этого «земля их вовсе перестала плодоносить. Их женщины не были так плодовиты, как раньше. А также и скот. Голод и бездетность заставили их, наконец, отправить послов в Дельфы и просить об избавлении от этих бед. Пифия же повелела им дать удовлетворение афинянам, какое те сами им присудят» (VI. 139).
В другом случае в городе Аполлонии на западе Балканского полуострова пастух Евений не уследил за стадом, и овец съели волки. По приговору суда он был ослеплен; но после этого «овцы перестали ягниться, а земля — приносить плоды. В Додоне и в Дельфах, где аполлонийцы вопрошали оракул о причине такой напасти, они получили в ответ изречение: они виноваты в том, что несправедливо лишили зрения стража священных овец Евения (ведь это сами боги послали волков), и бедствия Аполлонии не прекратятся до тех пор, пока аполлонийцы не дадут удовлетворения, какое он сам потребует и назначит за содеянное ему зло» (IX. 93).
Часто искупление мыслилось прежде всего как совершение определенных религиозных церемоний, установление новых культов. Жители этрусского города Атиллы (Цере) перебили высадившихся на их берег мореходов из Фокеи. «С тех пор у агиллейцев все живые существа — будь то овцы, рабочий скот или люди, проходившие мимо места, где лежали трупы побитых камнями фокейцев, — становились увечными, калеками или паралитиками. Тогда агиллейцы отправили послов в Дельфы, желая искупить свое преступление. Пифия повелела им делать то, что агиллейцы совершают еще и поныне: они приносят богатые жертвы фокейцам, как героям, и устраивают в их честь гимнастические состязания и конские ристания» (I. 167). Впрочем, нередко Дельфы требовали возведения храмов, алтарей, статуй богам безотносительно какой-нибудь вины — просто для умножения благочестия, активизации религиозной жизни.
…Благородные юноши из Аргоса — Клеобис и Битон — так любили свою мать, жрицу в храме Геры, что однажды в знак почтения сами впряглись в упряжку вместо быков и привезли ее из города в святилище, пробежав более восьми километров. Благодарная мать стала молить богиню, чтобы та даровала ее сыновьям «высшее благо, доступное людям. После этой молитвы и жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить их в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть» (I. 31).
Красивая легенда, овеянная ореолом светлой грусти? Но… археологами при раскопках Дельф были обнаружены статуи юношей-близнецов. Выяснилось, что они датируются первой четвертью VI века до н. э. и созданы аргосским скульптором Полимедом. Статуи видели еще Солон и Геродот, а теперь вполне может узреть любой из наших современников. Не лучшее ли это наглядное доказательство живой связи веков?
Да ты — чурбан, коли Афин не видывал;
Осел — коли, увидев, не пришел в восторг;
Верблюд — коли покинул их, не жалуясь.
(Лисипп. Фр. 7 Коск)
К грубоватым, но выразительным словам поэта-комедиографа V века до н. э., без сомнения, присоединились бы очень многие его современники. Афины в эту эпоху преображались буквально на глазах: из большого, но рядового полиса они стремительно становились крупнейшим политическим, экономическим, а главное — культурным центром греческого мира. Знаменитейший из лидеров государства — Перикл — имел полное основание сказать в 431 году до н. э.: «Одним словом, я утверждаю, что город наш — школа всей Эллады» (Фукидид. История. И. 41. 1).
Столь разительной перемене способствовал ряд факторов. В годину Греко-персидских войн Афины сыграли одну из главных ролей в разгроме врагов. Создав для отпора «варварам» мощнейший в Греции флот, «город Паллады» резко усилился в военном отношении. Афинский морской союз еще более укрепил положение полиса-гегемона: регулярно поступавший от союзников форос позволял афинянам жить безбедно, отваживаться на реализацию крупных политических проектов, которые требовали значительных денежных затрат.
Афинская демократия, основы которой были заложены реформами Клисфена в конце архаической эпохи, на протяжении V века до н. э., пройдя путь последовательного развития, достигла максимально полной и законченной формы. В то время в Греции не было государства, где столь же велика была степень свободы: свободы слова, свободы действия, как в частной, так и в общественной жизни.
Говоря откровенно, реальная демократия — весьма дорогая вещь. Эта политическая система — в определенном смысле роскошь, которую могут позволить себе только богатые государства. Этот тезис верен во все времена, от Античности до наших дней. В Афинах развилась реальная (а не номинальная) демократия не в последнюю очередь потому, что по богатству с ними никто не мог сравниться. А одним из главных его источников являлся форос, получаемый от союзников.
В Афинах V века до н. э. была введена оплата работы должностных лиц — исключительно демократическая мера, способствовавшая тому, что широкие массы даже небогатых граждан могли избираться на различные государственные должности и тем самым активно включались в политический процесс. В других полисах такое не практиковалось{44}. Чтобы государство имело возможность совершать подобные траты (а они никак не окупали себя), необходима была какая-то компенсация этих расходов поступавшими в казну доходами. Афины могли себе позволить, в числе прочего, платить своим должностным лицам. Ведь форос был почти неисчерпаемым источником дохода. Его можно было хранить как своеобразный «неприкосновенный запас», но к нему можно было прибегнуть как к «палочке-выручалочке» в случае необходимости.
В Афины потоком хлынули видные деятели культуры из самых разных мест эллинского мира, в особенности из малоазийских полисов. Влекли их туда и возможность свободно высказывать свои взгляды, и богатство афинского общества, позволявшее рассчитывать на высокие гонорары. Не следует забывать и о том, что в ходе Греко-персидских войн Иония не раз подвергалась суровому разгрому; неудивительно, что она утратила роль авангарда древнегреческой цивилизации, которую играла на протяжении архаической эпохи, и что роль эта перешла к победоносным Афинам.
Среди интеллектуалов, которые приехали в Аттику и творили там «школу Эллады», был и Геродот. Здесь можно говорить о плодотворном взаимовлиянии: с одной стороны, «Отец истории», несомненно, оказал воздействие на культурную жизнь Афин, с другой — пребывание в этом городе стало одной из важнейших вех его жизненного и творческого пути, сильно сказалось на развитии Геродота как ученого и писателя{45}. Галикарнасский эллин был восхищен «городом Паллады», как бы впитал в себя блеск его славы. Не случайно в геродотовском труде о Греко-персидских войнах весь грандиозный конфликт Запада и Востока описан со специфически афинской точки зрения.
Тому есть много подтверждений. Выдержки из сочинения Геродота свидетельствуют о его глубокой симпатии к Афинам и афинской демократии. «Афины, правда, уже и раньше были великим городом, а теперь, после освобождения от тиранов, стали еще более могущественными» (V. 66). «Итак, могущество Афин возрастало. Ясно, что равноправие для народа… вообще — драгоценное достояние. Ведь пока афиняне были под властью тиранов, они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А теперь, освободившись от тирании, они заняли безусловно первенствующее положение. Поэтому, очевидно, под гнетом тиранов афиняне не желали сражаться как рабы, работающие на своего господина; теперь же после освобождения каждый стал стремиться к собственному благополучию» (V. 78).
Речь идет о свержении афинского тирана Гиппия в 510 году до н. э. и установлении Клисфеном демократии два-три года спустя. Как видим, отношение к этим политическим переменам у историка более чем положительное. Ведь все «прелести» тирании были знакомы ему не понаслышке — он и сам стал одной из ее жертв. Впрочем, Геродот не был бы самим собой, если бы в «бочку меда» всех похвал в адрес демократии не добавил небольшую «ложку дегтя». Когда Аристагор, вождь Ионийского восстания (к которому «Отец истории» относился отрицательно), прибыл в Балканскую Грецию просить содействия в борьбе против персов, то спартанский царь Клеомен I ему отказал, а афинское народное собрание, напротив, постановило послать на помощь эскадру кораблей. Геродот иронически резюмирует: «Ведь многих людей, очевидно, легче обмануть, чем одного: одного лакедемонянина Клеомена ему (Аристагору. — И. С.) не удалось провести, а 30 тысяч афинян он обманул» (V. 97). Оценка демократии оказывается не столь уж однозначно восторженной.
Но в рассказе о событиях, связанных с походом Ксеркса на Элладу в 480–479 годах, мы встречаем просто-таки настоящий панегирик Афинам. Это место в «Истории» настолько важно, что его необходимо процитировать полностью: «…Я вынужден откровенно высказать мое мнение, которое, конечно, большинству придется не по душе. Однако я не хочу скрывать то, что признаю истиной. Если бы афиняне в страхе перед грозной опасностью покинули свой город или, даже не покидая его, сдались Ксерксу, то никто из эллинов не посмел бы оказать сопротивления персам на море. Далее, не найди Ксеркс противника на море, то на суше дела сложились бы вот как: если бы даже и много „хитонов стен“ пелопоннесцам удалось воздвигнуть на Истме, то все же флот варваров стал бы захватывать город за городом и лакедемоняне, покинутые на произвол судьбы союзниками (правда, не по доброй воле, но в силу необходимости), остались бы одни. И вот покинутые всеми, лакедемоняне после героического сопротивления все-таки пали бы доблестной смертью. Следовательно, их ожидала бы такая участь или, быть может, видя переход всех прочих эллинов на сторону персов, им пришлось бы еще раньше сдаться на милость Ксеркса. Таким образом, и в том и в другом случае Эллада оказалась бы под игом персов. Действительно, мне совершенно непонятно, какую пользу могли принести стены на Истме, если царь персов господствовал на море. Потому-то не погрешишь против истины, назвав афинян спасителями Эллады. Ибо ход событий зависел исключительно от того, на чью сторону склонятся афиняне. Но так как афиняне выбрали свободу Эллады, то они вселили мужество к сопротивлению всем остальным эллинам, поскольку те еще не перешли на сторону мидян, и с помощью богов обратили царя в бегство. Не могли устрашить афинян даже грозные изречения Дельфийского оракула и побудить их покинуть Элладу на произвол судьбы. Они спокойно стояли и мужественно ждали нападения врага на их землю» (VII. 139).
Этот отрывок привлекает внимание целым рядом нюансов. Во-первых, здесь мы имеем, пожалуй, первый в мировой науке опыт «альтернативной истории», попытку рассчитать ход событий при гипотетическом изменении исходных условий.
В эпоху господства позитивизма в исторических исследованиях (XIX и значительная часть XX века) за подобным подходом вообще не признавалось право на существование. Распространенный лозунг гласил: «История не имеет сослагательного наклонения». Ныне, в связи с развитием новых, современных методологий и методик изучения прошлого, чрезвычайно перспективным становится исследование разного рода альтернатив в истории и «точек бифуркации», в которых направление исторического процесса не является жестко предопределенным и может давать сильно разнящиеся варианты при сравнительно незначительных отклонениях от исходных условий{46}. Именно такой «точкой бифуркации» (одной из важнейших во всей истории Древнего мира) был поход Ксеркса на Элладу. Трудно даже представить, насколько иначе могло бы пойти всё дальнейшее развитие европейского человечества, если бы он увенчался успехом. Геродот прав в том, что это было не исключено, если бы в борьбу с восточным агрессором не внесли свой вклад Афины.
Во-вторых, бросается в глаза ярко выраженный про-афинский пафос «Отца истории». «Спасителями Эллады» названы здесь афиняне — высокая честь! И такую точку зрения Геродот не мог усвоить в каком-либо ином месте, кроме самих Афин. В этом полисе уже в ходе Греко-персидских войн славные победы над «варварами» стали одним из ключевых компонентов «национальной идеологии», предметом гордости.
В-третьих, нельзя не заметить, что Геродот делает здесь оговорку: его мнение «большинству придется не по душе». Под этим «большинством», скорее всего, имеются в виду не только спартанцы, которым, конечно, не слишком приятно было резкое возвышение Афин — конкурента в борьбе за гегемонию в Элладе. Неприязненные голоса по адресу афинян раздавались во времена Геродота не только с Пелопоннеса — в городах Ионии и эгейских островов, в свое время добровольно вступивших в Афинский морской союз, тоже росли оппозиционные настроения. Перикловы Афины, слишком уж жестко «закрутившие гайки» в союзе, вступившие на путь неприкрытой эксплуатации остальных его членов, регулярно выкачивавшие большие деньги в виде фороса, умудрились довольно быстро растратить былую славу и получить в греческом мире незавидную репутацию «города-тирана». Например, обитатели Коринфа говорили об Афинах — еще при жизни Геродота: «Нет сомнения, что этот город, ставший тираном Эллады, одинаково угрожает всем: одни города уже в его власти, а над другими он замышляет установить свое господство» (
Можно, конечно, возразить, что коринфяне здесь необъективны, будучи давними конкурентами и, значит, недоброжелателями афинян. Однако и в самих Афинах те государственные деятели, которые мыслили трезво, понимали ситуацию абсолютно так же. Афинский политик Клеон обращался к согражданам: «Не забывайте, что ваше владычество над союзниками — это тирания, осуществляемая против воли ваших подданных, которые злоумышляют против вас» (
Перед нами новая «ипостась» Афин, причем на первый взгляд довольно неожиданная: не только «школа Эллады», но и «город-тиран». Полис, во внутренней политике руководствовавшийся высокими принципами свободы, равноправия, гражданского достоинства, проводил жесткую, порой бесчеловечную линию во внешних делах. Однако сами афиняне, похоже, никакого противоречия тут не видели. Ведь полис — тип государственного организма, направленный исключительно на благо собственных граждан; весь мир за пределами его границ воспринимался как чуждый, враждебный, против которого нужно быть во всеоружии.
В ту эпоху, когда имперские амбиции Афин порождали возрастающую неприязнь к ним в греческом мире, Геродот принял на себя не слишком популярную роль их апологета и защитника. Он не уставал напоминать грекам о том, какую роль афиняне сыграли в отражении натиска персов.
В том, что «Отец истории» часто и подолгу бывал в Афинах (хотя на постоянное жительство там не остался), сомневаться не приходится. Тут нам даже не придется приводить длинного перечня прямых и косвенных доказательств. За свидетельствами далеко ходить не надо: они и обильны, и совершенно недвусмысленны.
Сам Геродот неоднократно показывает хорошее знакомство с Афинами и Аттикой; его упоминания об этих местах, бесспорно, принадлежат очевидцу. К примеру, в описании войны, которую афиняне в конце VI века вели одновременно с Беотией и Халкидой (на Эвбее), указано: «Пленных халкидян вместе с беотийскими пленниками афиняне… бросили в оковах в темницу. Через некоторое время пленники, правда, были отпущены за выкуп в две мины. Оковы же, которыми они были связаны, афиняне повесили на акрополе. Оковы эти находились там еще и до моего времени и висели на стене, опаленной пожаром в войне с мидянами, против святилища на западной стороне. На десятую часть выкупа за пленников афиняне посвятили богине медную четверку коней. Она стоит сразу налево при входе в пропилеи на акрополе. Надпись на ней гласит:
Рать беотян и халкидян совместную мы укротили,
Гордых афинян сыны, подвигом бранным своим.
Мрачной темницей и цепью железной их буйство смирили
И десятину Палладе — сих посвятили коней».
(V. 77)
Как видим, рассказ наполнен конкретными топографическими деталями, содержит подробности — вроде обожженной стены, — которые придумать невозможно, да и незачем. Геродот, несомненно, лично осматривал все эти достопримечательности, скопировал надпись на памятном монументе, которую потом и воспроизвел. В ходе археологических раскопок эта самая надпись была обнаружена учеными{47} — лучшего подтверждения верности изложения Геродота придумать невозможно.
Вот не менее показательные выдержки из описания взятия Ксерксом в 480 году до н. э. Афин, покинутых почти всеми жителями: «Персы заняли пустой город, и только в святилище Афины Паллады они нашли небольшое число афинян — хранителей храмовой утвари и бедняков. Эти люди заперли ворота акрополя и завалили их бревнами, чтобы преградить вход в храм… Персы же заняли холм напротив акрополя, который афиняне называют ареопагом, и затем стали осаждать акрополь… Наконец варвары нашли выход из затруднительного положения… С передней северной стороны акрополя, противоположной воротам и дороге, ведущей наверх, несколько персов поднялись на скалу. В этом месте не было никакой стражи, так как считалось, что здесь-то уже никто не сможет взобраться наверх. Это было подле святилища Аглавры, дочери Кекропа, где скалы действительно очень крутые» (VIII. 51–53). Можно представить, как «Отец истории» расхаживает по центральной части Афин (скорее всего, с местными провожатыми) и внимательно и скрупулезно отмечает места тех событий, которые потом столь красочно опишет.
Пример следует за примером. Одержав победу над персами при Марафоне, афинское войско во главе с Мильтиадом немедленно, почти бегом возвратилось в свой город, преодолев пресловутые 42 километра «марафонской дистанции», ведь ему нужно было опередить вражеский флот, огибавший «рог» Аттики. «И как они прибыли от святилища Геракла в Марафоне, так теперь остановились и разбили стан у другого Гераклова святилища, что в Киносарге. Варварский же флот появился и стал напротив Фалера (тогда это была гавань афинян)» (VI. 116). Здесь встречаем упоминание еще двух аттических топонимов. Один — предместье Афин Киносарг, где находился знаменитый гимнасий (через век после Геродота именно там учил знаменитый философ-киник Диоген, известный всем своей жизнью в глиняном пифосе). Другой же — приморское местечко Фал ер, переставшее к тому моменту, когда Геродот писал свой труд, быть главной афинской гаванью, уступив эту роль бурно выросшему при Фемистокле Пирею.
Нельзя не заметить, что не только сам историк прекрасно знает чуть ли не любой уголок Афин, но и пишет так, что предполагается: его читателям все эти уголки тоже хорошо известны, и им интересно узнавать, что один эпизод войны разворачивался именно в таком-то афинском квартале, другой — в таком-то… От кого автор вправе ожидать такого знания и такого интереса? Ясно, что этой аудиторией были прежде всего афиняне. Собственно, ничего удивительного в этом нет: выше мы видели, как восхваляются они «Отцом истории».
Кимон, сын Стесагора, знаменитый афинский аристократ VI века до н. э., трехкратный олимпийский победитель в состязаниях колесниц и дед полководца Кимона, «был умерщвлен сыновьями Писистрата. Они приказали наемным убийцам убить Кимона ночью из засады вблизи пританея. Погребен Кимон перед городскими воротами за улицей под названием „Через Келу“. Напротив похоронили его коней, которые трижды одержали победу в Олимпии» (VI. 103). Геродот точно указал место убийства и место погребения.
Вот, наконец, решающий аргумент в пользу ориентированности «Истории» в первую очередь на афинского читателя. Рассказывая о землях Северного Причерноморья, Скифии, Геродот доходит до описания Таврического полуострова (Крыма). «Отсюда идет гористая страна… Она выдается в Понт и населена племенем тавров вплоть до так называемого Херсонеса Скалистого. Херсонес этот на востоке выступает в море. Подобно Аттике две четверти границ Скифской земли (на юге и на востоке) окружены морем. Тавры живут в части Скифии, соответствующей Аттической земле, как если бы не афиняне, а другое племя в Аттике занимало мыс Суний, выступающий дальше в море, то есть пространство от Форика до селения Анафлиста… Тому же, кто не плавал мимо этого мыса Аттики, я разъясню на другом примере. Тавры обитают в этой части Скифии так, как если бы в Япигии другое племя, а не япиги, отрезало бы для себя землю от гавани Брентесия до Таранта и населяло бы полуостров. Кроме этих двух стран, я мог бы назвать еще много других, на которые похожа Таврия» (IV. 99), — говорит историк, но иных примеров все-таки не приводит.
Скажем прямо: геродотовское сравнение Таврии с Аттикой сильно хромает. Достаточно даже беглого взгляда на любую современную карту, чтобы убедиться: они ничуть не напоминают друг друга — не считая, конечно, того, что являются полуостровами. Но простим Геродоту его ошибку, тем более что, насколько можно судить, до Крыма он в своих странствиях все-таки не добрался и, следовательно, знал его географию только с чужих слов.
Гораздо важнее другое: когда хотят что-то объяснить путем сравнения, то обычно сравнивают неизвестное с хорошо знакомым. Здесь, чтобы читатели могли понять, что собой представляет Таврия, «Отец истории» проводит первую аналогию не с какой-либо иной областью, а именно с Аттикой. А кто отлично представлял себе Аттику, как не живущие там афиняне? Справедливости ради нужно отметить, что Геродот — правда, во вторую очередь — заботится и о понимании со стороны жителей иных местностей, ради чего выдвигает другую параллель — с Япигией, областью в Южной Италии, «каблуком» итальянского «сапога». Япигия взята в качестве примера, наверное, потому, что последние годы своей жизни историк провел именно в Южной Италии. Следовательно, вторую по значимости после афинян часть своей читательской аудитории он видел в своих новых земляках — эллинах, населявших эти территории (в Балканской Греции они могли никогда не бывать, и сравнения с очертаниями Аттики им ничего не говорили).
Помимо свидетельств, содержащихся в самой «Истории», сообщения о связях ее автора с «городом Паллады» есть и у ряда античных авторов. Так, великий афинский поэт-драматург Софокл посвятил Геродоту одно из своих стихотворений. К сожалению, от этого стихотворения дошло лишь самое начало — полторы строчки, процитированные в одном из трудов Плутарха. Но уже этот отрывок весьма показателен:
Песнь сию Геродоту Софокл сложил; лет ему было
Пять да еще пятьдесят…
(
Известно, что Софокл родился в 496 году до н. э. Прибавляя к этой дате возраст поэта — 55 лет, — получаем точную дату его написания: 441 год. К тому времени Геродот, судя по всему, уже перебрался в Южную Италию. Возможно, Софокл вдохновился воспоминаниями о былых встречах со своим другом-историком и написал «песнь сию», а затем послал ее в подарок Геродоту на новое место жительства. Впрочем, вряд ли галикарнасец из завзятого путешественника внезапно превратился в домоседа. Почти несомненно, что он продолжал поездки по греческим и негреческим землям. Ведь работа над «Историей» была еще не закончена, требовалось собирать новый материал. Он был еще совсем не стар: шло пятое десятилетие его жизни. Посещал Геродот, конечно, и Афины, общался там со старыми знакомыми. В таком случае Софокл, возможно, сочинил стихотворение, обрадовавшись свиданию с приятелем.
Как бы то ни было, сам факт дружбы двух ведущих интеллектуалов эпохи даже из сохранившихся полутора строк выступает со всей определенностью. Люди, не находящиеся в близких отношениях, не пишут друг другу приветственные стихи. Правда, из этого факта ученые нередко выводят слишком далекоидущие последствия: утверждают, что мировоззрение Софокла повлияло на Геродота (или наоборот); что некоторые места в литературном наследии Софокла — заимствования из Геродота (или, опять же, наоборот){48}. Но всё это совершенно недоказуемо, если учитывать, что датировки почти всех сохранившихся драм Софокла остаются под очень большим вопросом, равно как существует много неясностей с хронологией написания геродотовской «Истории».
Зачем обязательно предполагать заимствование? Почему бы не допустить, — а это, нам кажется, наиболее естественно, — что драматург и историк просто имели много общего в религиозных, этических, политических взглядах? Эта общность могла стать и одной из причин их прочной дружбы.
Был Геродот хорошо знаком и с другим знатным афинянином, выходцем из рода Филаидов, который носил нетипичное для грека фракийское имя Олор (
А теперь рассмотрим самые важные свидетельства о пребывании Геродота в Афинах. «О том, что он (Геродот. —
Анит, обвинявший Сократа, и Анит, предложивший наградить Геродота, — два разных лица или все-таки одно? Ответить на этот вопрос крайне трудно, а уж ответить с полной определенностью и совсем невозможно. В пользу отождествления двух этих фигур говорит тот факт, что политик, внесший предложение о столь огромной денежной награде заезжему историку (а названная сумма действительно колоссальна!) и, более того, добившийся, чтобы его предложение приняли, должен был быть очень влиятельным, авторитетным. А против отождествления вроде бы говорит существенный временной разрыв между указанными событиями. К моменту суда над Сократом Геродота уже давным-давно не было в живых. Однако известно, что на рубеже V–IV веков Анит являлся уже немолодым человеком; следовательно, свою политическую деятельность он начал гораздо раньше. Проблема осложняется еще и тем, что Плутарх никак не датирует упомянутое им событие.
Но тут, похоже, приходит на помощь другой автор — правда, еще более поздний. Это уже знакомый нам христианский историк IV века н. э. Евсевий Кесарийский. У него встречаем следующее краткое указание: «Историк Геродот был почтен Советом афинян, прочтя им свои книги» (
Об одном событии говорят Плутарх и Евсевий или же о разных? Если речь в обоих случаях идет об одном и том же, мы получаем точную дату постановления, принятого по предложению Анита. В таком случае этот Анит уже вряд ли может быть отождествлен с обвинителем Сократа. Все-таки между 445/444 и 399 годами до н. э. — промежуток почти в полвека!
Между процитированными сообщениями есть некоторые расхождения. Во-первых, у Евсевия сказано только, что Геродот был «почтен», а ни о какой денежной награде не говорится. Но ведь эта денежная награда могла (и должна была) рассматриваться также и как почесть. Во-вторых, Евсевий отмечает, что основанием для оказанных почестей стало чтение Геродотом своего труда перед афинской публикой; Плутарх же никак не объясняет, за что Геродоту вручили крупную сумму-мог ли он действительно получить ее за свои заслуги как историк? Об этом нам еще предстоит подумать.
Наконец, у Евсевия говорится, что органом, принявшим решение, был «Совет афинян». Имеется в виду, несомненно, Совет Пятисот, названный так по числу членов, которые избирались на годичный срок путем жеребьевки. Этот Совет был одним из важных институтов афинской демократии. Народное собрание (экклесия), воплощавшее верховную власть, не могло собираться слишком часто, и возникала необходимость в постоянно действующем органе, который решал бы текущие дела, ведь государство ни на день не могло остаться в состоянии безвластия. Таким постоянным органом и был Совет Пятисот, заседавший почти ежедневно.
У Плутарха же орган, вынесший решение о награде, вообще не назван. Загвоздка заключается в том, что Евсевий не может быть полностью прав: Совет Пятисот не имел полномочий, чтобы собственной властью принимать такие постановления. Он предварительно рассматривал на своих заседаниях все законопроекты и выносил по ним свои суждения (пробулевмы), не имевшие окончательной силы. Они выносились затем на рассмотрение народного собрания, и уже демос общим голосованием принимал или отклонял постановление. Эти две стадии отражались во фразе, которой стандартно начинался любой закон (а законом в V веке до н. э. считалось любое решение, принятое экклесией): «Совет и народ постановили…», а далее обязательно указывалось имя инициатора — гражданина, внесшего проект.
Создается впечатление, что в основе свидетельств и Плутарха, и Евсевия лежит именно постановление афинского народного собрания о Геродоте. Разумеется, ни один из двух названных авторов самого постановления и в глаза не видел; до обоих информация дошла через посредников, что способствовало и ее искажению, и неполноте. В результате получилось так, что у Плутарха внимание заострено на одних моментах, у Евсевия — на других. Евсевий указывает, что в принятии решения участвовал Совет (и это, конечно, верно — иначе и быть не могло); Плутарх же упоминает имя человека, подготовившего проект. У Евсевия говорится, что Геродоту афинянами были возданы почести (при этом не разъясняется, какие именно), а Плутарх рассказывает о денежной награде.
Окончательный вердикт по всему этому спорному кругу вопросов мы пока все-таки не решимся вынести. Безусловно ясны две вещи: Геродот как минимум один раз получил от Финского государства официальные почести, и было это в 445/444 году до н. э.; он как минимум один раз был удостоен от того же афинского государства крупной суммы денег — возможно, тогда же, а возможно, и в какое-то другое время.
Пора обратиться к контексту поездок великого историка в Афины, для чего необходимо установить их датировку. В нашем распоряжении имеется единственная дата, — та, что приведена Евсевием. Исходя из нее, в трудах о Геродоте обычно предлагается следующая реконструкция событий.
Около 445 года до н. э. «Отец истории» впервые прибыл в «город Паллады», во главе которого стоял тогда знаменитый Перикл. Геродот к тому моменту имел уже высокую репутацию в Греции. Афиняне, охочие до культурных новшеств, встретили гостя с энтузиазмом. Было организовано публичное чтение историком фрагментов его труда, к тому времени уже частично написанного, который привел всех в восторг. На Геродота посыпались почести и награды.
После этого он вошел в кружок видных деятелей культуры, сгруппировавшихся в Афинах вокруг Перикла и его тогдашней фактической супруги Аспасии — милетянки по происхождению, одной из самых талантливых и образованных женщин не только своего времени, но и всего античного мира. Другими членами кружка были как коренные афиняне (поэт Софокл, скульптор Фидий), так и уроженцы других городов (философы Анаксагор и Протагор, архитектор Гипподам и др.).
Геродот с удовольствием влился в эту чрезвычайно питательную для интеллектуального развития среду, где ключом била мысль, кипели философские споры, постоянно рождались новые идеи… Именно в афинский период своей деятельности он сформировался как историк. Тогда и родилась в нем горячая приверженность к Афинам, демократии и лично Периклу, проявившаяся на страницах его труда.
Примерно в это время по инициативе Перикла воплощался в жизнь крупный, поражавший своей новизной и необычностью внешнеполитический проект. На южном побережье Италии планировалось основать колонию Фурии, которая с самого начала должна была стать совсем не такой, как все остальные греческие полисы. У Фурий не было единой метрополии; их основание планировалось как «панэллинское» (общегреческое) мероприятие. Соответственно к участию в нем привлекались государства из различных регионов Эллады, им предлагалось послать в Фурии своих поселенцев. Но самым крупным был, конечно, контингент из Афин, поскольку вся акция осуществлялась под афинской эгидой. Создавая новую колонию, Перикл не в последнюю очередь имел в виду усиление влияния своего города во всем регионе Великой Греции.
Целый ряд видных интеллектуалов из «кружка Перикла» был задействован в акции основания Фурий: философ Протагор составил для рождающегося полиса законы, архитектор Гипподам разработал план его застройки. Не остался в стороне от «фурийского проекта» и Геродот. «Отец истории» отбыл в Южную Италию в числе колонистов и занимал среди них одно из самых видных мест.
Такова традиционная концепция, явно содержащая ряд слабых мест и «нестыковок».
Какие отрывки своего сочинения читал Геродот в Афинах? Учитывая, что после этого историк был щедро награжден, выбранные для обнародования тексты оказались приятными афинской публике. Вряд ли это были этнографические или географические пассажи, которыми изобилует геродотовский труд. Рассказы об очертаниях Скифии, индийском золоте или деяниях древних египетских фараонов, безусловно, были бы прослушаны с интересом — но не более того; не было оснований для беспрецедентного восхищения. Поэтому не вызывает сомнения, что Геродот читал фрагменты, посвященные Греко-персидским войнам и славному вкладу Афин в победу над «варварами», что действительно должно было бы быть встречено афинянами на ура. Следовательно, к середине 440-х годов до н. э. «История» Геродота — именно как история Греко-персидских войн — была не только задумана, но частично написана.
Но в рамках традиционной концепции Геродот стал горячим сторонником Афин только после своего посещения этого города; оно же имело место, как мы видели, в 445 году. Если это действительно так, то мы попадаем в замкнутый КРУП до приезда в Афины историк не мог их прославить, а до этого прославления афиняне его не наградили бы.
К 445 году до н. э. Геродот был уже знаменит — потому-то его и встретили в Афинах с почетом. Что же принесло ему известность? Разумеется, его «История», причем опять же из-за того, что она стала вдохновенным памятником отражению ахеменидского нашествия. И если считать, что этот визит был первым, то мы снова оказываемся в том же порочном круге!
К тому же, как мы знаем, Геродот уже с первой половины 460-х годов жил изгнанником на Самосе, являвшемся одним из самых давних и самых сильных членов Афинского морского союза, традиционно поддерживавшем активные связи с его фактической столицей. С Самоса была прямая дорога в Афины. Трудно представить, что молодой, энергичный, талантливый и очень любознательный эллин, сделавший главной задачей своей жизни изучение истории, не воспользовался возможностью посетить этот полис как можно скорее. Было бы в высшей степени странно, если бы Геродот, постоянно разъезжая по разным землям, почему-то сознательно обходил стороной «город Паллады» и лишь через двадцать лет наконец добрался туда, особенно если учитывать, что афинский полис как магнит притягивал к себе лучшие интеллектуальные силы со всего греческого мира, причем не только во времена лидерства Перикла, но и раньше.
Правда, нам могут возразить, что именно при Перикле (которого в науке вообще принято несколько идеализировать, приписывать ему заслуги, реально принадлежавшие другим видным деятелям V века{49}) сложились наиболее благоприятные условия для посещения Афин великим историком. Но в традиционном суждении, согласно которому Геродот был сторонником Афин и Перикла, безусловно верна лишь одна половина. Его отношение к Периклу было далеко не столь однозначным.
Перикл встречается в произведении Геродота только один раз, причем в довольно неожиданном контексте: речь идет не о его многолетней деятельности в качестве «первого лица» в государстве, а о его рождении и родственных связях. По материнской линии Перикл происходил из знатного рода Алкмеонидов. Об этом и рассказывает Геродот: «…От брака же Мегакла с Агаристой[48] родился Клисфен, который ввел филы и установил демократию в Афинах… Так вот, этот Клисфен и Гиппократ были родными сыновьями Мегакла. А у Гиппократа был сын — другой Мегакл и дочь — другая Агариста (названная по Агаристе, дочери Клисфена). Она вышла замуж за Ксантиппа, сына Арифрона. Когда Агариста ожидала ребенка, то имела видение, во сне: ей представилось, что она родит льва. Несколько дней спустя она произвела на свет Перикла» (VI. 131).
Как следует оценивать это единственное место, где Геродот упоминает Перикла? На первый взгляд налицо весьма положительное отношение великого историка к великому политику, ведь в рассказе появляется лев как олицетворение Перикла. Для нас символика льва вполне однозначна: благородное, гордое животное, царь зверей. У многих народов, в том числе и в ряде государств Древнего мира, лев являлся геральдической фигурой — но не в Афинах! Для демократического полиса «царственные» символы были, мягко говоря, не очень подходящими. Кроме того, образ льва имеет неоднозначный характер{50}: он несет черты не только храбрости и благородства, но также хищности, склонности к насилию. Вполне возможно, что историк сознательно не дает толкования сна Агаристы: пусть, дескать, каждый из читателей понимает как хочет. Ясно одно: появление льва, в числе прочего, знаменует некую угрозу. Ведь лев — это прежде всего очень опасное животное.
Очень интересно мнение Цицерона о подобного рода сновидениях: «Если женщине приснилось, что она родила льва, то государство, в котором это произошло, будет покорено внешними племенами» (
В любом случае оба они застали первые годы великой Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами (431–404), у истоков которой стоял не кто иной, как Перикл. Начало этого вооруженного конфликта ознаменовалось опустошительными нашествиями спартанцев на Аттику и страшной эпидемией чумы, унесшей в могилу до четверти населения афинского полиса. Перспективы казались крайне неблагоприятными; тут-то недоброжелатели Перикла и могли обратиться к «львиной» символике, демонстрируя с ее помощью, что этому человеку судьбой предречено разрушить государство.
Одним словом, описанный эпизод с рождением Перикла отнюдь не характеризует Геродота как человека из его лагеря — скорее наоборот. Да и в целом к роду Алкмеонидов «Отец истории», похоже, не питал никаких симпатий. В ряде мест своего труда он рассказывает о представителях этого рода весьма нелицеприятные, а то и откровенно порочащие вещи{52}. Гораздо более привлекательными выглядят в его описании Филаиды, их давние соперники.
Мы предлагаем вместо традиционной трактовки альтернативную, заключающуюся прежде всего в том, что «Отец истории» впервые побывал на афинской земле не в 440-х годах до н. э., а лет на двадцать раньше.
Правда, источники об этом напрямую не сообщают. Но Довод типа «раз мы не имеем информации о событии, значит, оно и не происходило» (в науке это называют
Если же Геродот установил тесные контакты с Афинами уже в 460-х годах, то появляется совершенно иной контекст. «Периклов век» еще не наступил, сам он являлся начинающим политиком, не выдвинувшимся пока на первые роли в полисе, к тому же принадлежавшим к оппозиционному лагерю. А «первым гражданином», фактическим руководителем полиса («простатом демоса») был Кимон из рода Филаидов.
О Перикле слышали все; своей славой он, несомненно, затмил Кимона. В результате последний незаслуженно остается в тени. Выдающийся полководец, ставший одним из основателей Афинского морского союза и на протяжении многих лет возглавлявший его, главный герой последнего периода Греко-персидских войн, нанесший вооруженным силам Ахеменидов ряд сокрушительных поражений, — уже за это он достоин памяти потомков. А ведь Кимона можно назвать и одним из крупнейших государственных деятелей в истории Афин. По сути, он стал прямым предтечей Перикла. Ему удалось в условиях демократии надолго стать фактически единоличным «неформальным лидером» полиса, пользовавшимся всеобщим авторитетом; впоследствии это удалось повторить Периклу — на протяжении еще более длительного периода.
«Программы» двух выдающихся вождей были во многом несхожими, в какой-то степени даже противоположными, особенно в области внешней политики. Кимон выступал за то, чтобы дружить со Спартой, а все силы сосредоточить на борьбе с персами. Перикл же, наоборот, ради конфронтации со спартанцами был готов, если потребуется, «свернуть» активные действия на персидском фронте. Вполне закономерно, что немедленно после смерти Кимона Греко-персидские войны закончились и Афины подписали мир с «Великим царем».
Что же касается внутренней политики, Перикл являлся приверженцем радикального народовластия. Кимон тоже не был врагом демократии, но саму демократию понимал в более умеренном ключе. Его отношение к демосу было проникнуто духом патернализма: лидер и его окружение проявляют демонстративную филантропию (на «благодеяния» простонародью Кимон был действительно очень щедр), а народ из благодарности послушно следует воле своих вождей. Вполне естественно, что в годы его лидерства никаких реформ по углублению демократической системы в Афинах не проводилось.
Тем не менее в корне неверно было бы считать Кимона принципиальным олигархом и врагом демократии{54}. Он по-своему любил демос — да и демос отвечал ему взаимностью. Пользуясь возрастающим богатством Афин как столицы мощного морского союза, Кимон приступил к проведению активной культурной политики. Прославляющие грандиозную строительную программу Перикла, к сожалению, слишком часто забывают, что его прямым предшественником в этом отношении был Кимон{55}. Именно при нем началось строительство знаменитых «Длинных стен» — системы оборонительных сооружений, связавшей Афины своеобразным «коридором» с портом Пиреем (тем самым Афинам обеспечивался подвоз всего необходимого с моря и, следовательно, они становились неуязвимыми для любой сухопутной осады). «Длинные стены» вошли в историю как одно из «великих дел» Перикла; но в действительности он лишь завершил начатое. И это далеко не единственный пример того, как «Периклов век» своим блеском заслонил бывший непосредственно перед ним «век Кимонов». Тогда же была возведена южная стена на Акрополе: необходимость укреплять главную городскую цитадель стала после нашествия Ксеркса очевидной для всех. Однако Кимон не ограничивался постройками чисто утилитарного характера. Есть мнение, что даже работы над Парфеноном начались в период его первенствующего положения в Афинах, а Перикл лишь продолжил их{56}.
Кимон, по словам Плутарха, «первый отвел и благоустроил места, где можно было проводить время в утонченных и достойных свободных граждан занятиях и беседах; городскую площадь он обсадил платанами, Академию[49] же, до того лишенную воды и запущенную, превратил в обильно орошаемую рощу с искусно проведенными дорожками для бега и тенистыми аллеями. Эти места составили украшение города и в скором времени чрезвычайно полюбились афинянам» (
Под «городской площадью», конечно, имеется в виду агора. В этом средоточии общественной жизни полиса по инициативе Кимона тоже появились новые здания{57}. Особенно обращала на себя внимание возведенная на северной стороне площади яркая и зрелищная Расписная стоя (портик-колоннада), славой своей обязанная прежде всего картинам, которыми она была украшена и из-за которых, собственно, и получила свое прозвание. Наряду с афинскими мастерами (в том числе Паненом, братом великого Фидия) над росписями работал Полигнот с острова Фасос — крупнейший художник Эллады первой половины V века (
Сюжеты картин, изображавших различные сражения (
Вокруг Кимона, как позже вокруг Перикла, сформировался кружок видных деятелей культуры. Вне сомнения, в него входили живописцы, украшавшие стою. Полигнот, судя по всему (
Сам Кимон вроде бы не отличался высокой образованностью. Между тем среди близких к нему людей мы обнаруживаем философов — например Архелая, учителя Сократа. Чрезвычайно интересной фигурой был Ферекид: историк, мифограф и генеалог, которого выдающийся немецкий исследователь Античности Феликс Якоби, лучший знаток древнегреческого историописания, назвал «первым афинским прозаиком»{59}. Ферекид входил в окружение Филаидов, возглавлявшихся Кимоном, и опубликовал подробную родословную этого афинского рода. Она включает длинный ряд имен — от легендарного родоначальника, мифологического героя Аякса Саламинского, воспетого еще Гомером в «Илиаде», до вполне реальных афинских деятелей архаической эпохи. Интерес к генеалогическим вопросам со стороны Кимона, скорее всего, лично заказавшего Ферекиду этот труд, не случаен: в период демократизации полиса самый яркий представитель афинской аристократии стремился в меру своих возможностей противостоять нарастающим эгалитарным тенденциям, а для этого стоило лишний раз напомнить демосу о своем неординарном происхождении.
Трудно представить себе, что молодой Геродот, прибыв в Афины, не повстречался там со своим старшим коллегой — одним из первых в Греции «служителей Клио». Во всяком случае, труд Ферекида он не мог не читать. Более того, считается, что это сочинение оказало на «Историю» Геродота очень большое влияние{60}. Между прочим, этим может объясняться нередкая у галикарнасца тенденция опираться на традицию, восходящую именно к роду Филаидов. Ведь именно эту традицию отражал в своем труде Ферекид, а Геродот обильно у него заимствовал. Кстати, это еще один довод в пользу раннего посещения Геродотом «города Паллады». Ведь родовая история Филаидов была актуальна в Афинах как раз при Кимоне, в 470—460-е годы, а в «Периклов век» ее востребованность должна была значительно уменьшиться: способствовать распространению рассказов, прославлявших предков Кимона, было отнюдь не в интересах Перикла — представителя конкурирующей группы аристократии.
Наконец, великий драматург Софокл, который был дружен с Геродотом, никогда, вопреки широко распространенному мнению, не принадлежал к кругу Перикла{61}, а, напротив, находился с ним в напряженных отношениях. В плане мировоззренческих установок Софокл и Перикл были, по сути, антиподами{62}. Самая знаменитая трагедия Софокла «Эдип-царь», написанная и поставленная в начале Пелопоннесской войны, содержит скрытую критику Перикла{63}.
Аберрация, сближающая Перикла и Софокла, основана на том единственном факте, что они одновременно были стратегами в 440–439 годах, при подавлении восстания на Самосе. Однако это обстоятельство ни в коей мере не может служить доказательством их дружбы. Вместе с Периклом неоднократно становился стратегом афинский политик Гагнон — несомненный противник Перикла, даже ратовавший за судебный процесс над ним (
Особенно показателен эпизод, имевший место в 468 году до н. э. и донесенный до нас Плутархом: «Софокл, тогда еще юноша, ставил свою первую пьесу, и архонт Апсефион, заметив несогласия и споры между зрителями, не стал бросать жребий для избрания судей, но, когда Кимон, войдя в театр со своими сотоварищами-стратегами, совершил установленные возлияния богу, остановил их и, приведя к присяге, заставил сесть и судить состязание — всех десятерых, так что каждый оказался представителем одной из фил… Победил Софокл, а Эсхил, опечаленный и удрученный… с досады уехал в Сицилию» (
В этом интереснейшем рассказе сразу бросается в глаза, каким колоссальным авторитетом пользовался Кимон в Афинах в рассматриваемый период: ради него сограждане даже сочли возможным отступить от устоявшегося способа избрания судей для состязаний драматургов. Кроме того, создается впечатление, что в данном случае (как нередко в афинской истории) событие, казалось бы, всецело относящееся к сфере культуры (постановка трагедий на Великих Дионисиях[50]), послужило ходом в политической борьбе: Софокл, начинающий автор, благодаря Кимону победил не кого-нибудь, а самого прославленного Эсхила, до того долгие годы безраздельно царившего на театральной сцене и являвшегося сторонником Перикла{66}. Пути трагедии и политики в демократических Афинах V века до н. э. шли бок о бок.
Как бы то ни было, «культурный кружок» Кимона выглядит весьма представительным, особенно если учитывать, что блестящая афинская культура классической эпохи делала лишь свои первые шаги. Не будет преувеличением сказать, что при Кимоне был заложен фундамент этих грядущих успехов.
Если Перикл упоминается в геродотовской «Истории» только один раз и, похоже, не в самом благоприятном контексте, то как в этом отношении обстоят дела с Кимоном?
Было бы неудивительно, если бы этот полководец и политик вообще не появился в произведении Геродота, ведь историк довел свой труд до событий 479 года до н. э., а активная деятельность Кимона как видного лидера полиса началась как раз в следующем году и продолжалась затем почти до завершения Греко-персидских войн в 449 году. Несомненно, он стал бы одним из главных героев «Истории», если бы она была продолжена. Но даже в том тексте труда Геродота, который мы имеем, Кимон упоминается дважды. В первый раз это сделано в связи с судьбой его отца Мильтиада: марафонский победитель в конце жизни, в 489 году, попал под суд и был приговорен к уплате колоссального штрафа — 50 талантов серебра. Мало у кого из афинян состояние достигало таких размеров. Но Мильтиад вскоре умер. «А 50 талантов уплатил его сын Кимон», — сообщает историк (VI. 136).
Отцовский штраф достался молодому человеку «в наследство»; вплоть до внесения денег в казну он считался государственным должником и частично лишался, согласно афинским законам, гражданских прав, что исключало его участие в общественной жизни: нельзя было баллотироваться на полисные должности, выступать с предложениями в народном собрании или с обвинениями в суде. Для отпрыска славного рода, издавна влиятельного в политических делах, всё это, несомненно, было очень болезненно.
А неоплаченный долг висел над Кимоном дамокловым мечом около десяти лет, ведь его сумма была непосильной. О том, как он смог рассчитаться с государством, Геродот ничего не говорит. Только из других источников (
Второе появление Кимона в «Истории» довольно неожиданно: Геродот вдруг вводит в свое повествование рассказ, который выбивается из его хронологических рамок, поскольку описанное событие — осада и взятие Кимоном удерживавшейся персами крепости Эйон во Фракии, на северном побережье Эгейского моря (VII. 107), — датируется 477 годом до н. э.{67} Не очень понятно, зачем этот короткий эпизод вообще включен автором в сочинение — не для того ли, чтобы лишний раз упомянуть славное имя Кимона? В рассказе есть яркие детали, которые могли исходить только от очевидца. Уж не сам ли Кимон был им? Полководец любил делиться с друзьями интересными случаями из собственного военного опыта. Об этом сообщает, например, современник Геродота, ионийский поэт и историк Ион Хиосский, тоже принадлежавший к «кружку Кимона» и написавшей воспоминания о своих встречах со знаменитыми людьми — чуть ли не первый в мире образчик мемуарного жанра, к сожалению, сохранившийся лишь в фрагментах.
Один из этих фрагментов очень живо рисует обстановку в окружении Кимона: «Ион рассказывает, что, когда он еще в ранней юности прибыл с Хиоса в Афины, ему пришлось обедать у Лаомедонта в обществе Кимона. После возлияний Кимона попросили спеть, и тот спел очень хорошо, так что все его похвалили и нашли, что в обществе он приятнее Фемистокла… Затем, как обыкновенно бывает за чашей вина, разговор перешел на подвиги Кимона, стали вспоминать о самых выдающихся из них, и он сам рассказал об одной из своих хитростей, по его мнению, самой удачной…» (
К концу 460-х годов до н. э. положение в Афинах изменилось. Авторитет Кимона, который почти двадцать лет был непререкаем, пошатнулся. Возможно, афинянам просто «приелось», что ими так долго руководит один и тот же человек; захотелось чего-нибудь нового. Набрала силу противостоящая ему политическая группировка, в которой видное место занимал Перикл. Кимона обвиняли прежде всего в том, что он с симпатией относится к спартанцам. В эпоху, когда между двумя сильнейшими эллинскими полисами нарастала напряженность, это расценивалось чуть ли не как предательство. В 461 году прославленный военачальник был изгнан из Афин после остракизма — политической процедуры, существовавшей в некоторых греческих городах, но всего активнее использовавшейся в Афинах{68}.
Остракизм проводился следующим образом: перед афинским народным собранием ставился вопрос, нет ли в полисе гражданина, который стал «чрезмерно» влиятелен и тем самым угрожает существованию демократии, является потенциальным тираном. Каждый афинянин должен был написать имя «опасного» гражданина на глиняном черепке (черепок по-древнегречески — «остракон»). После подсчета «бюллетеней» человек, упомянутый чаще других, должен был покинуть территорию государства на десять лет. Остракизм был своеобразным «наказанием без преступления», ведь изгоняемый был виновен только в том, что за свои заслуги пользовался большим авторитетом. Эта мера, понятно, применялась только к самым видным лидерам политической элиты. В свое время ее жертвами стали и Аристид, и Фемистокл, а теперь пришел черед Кимона. То, что он и в мыслях не держал сделаться тираном, не имело значения: достаточно было того, что он считался «первым гражданином».
После изгнания Кимона кружок интеллектуалов, сплотившийся вокруг него, распался. Правда, не прошло и пяти лет, как афинские граждане, почувствовав, насколько хуже без Кимона пошли дела на войне, раскаялись в своем поспешном решении. В 457 году до н. э. он получил разрешение досрочно возвратиться на родину, однако прежнего влияния уже не имел. Правда, в последней кампании Греко-персидских войн Кимон еще отличился как полководец — победоносно сражался с персами на Кипре; как раз во время этого похода в 450 году он умер.
Новым лидером политической группировки, возглавлявшейся родом Филаидов, стал родственник Кимона — Фукидид, сын Мелесия. Его называют так, чтобы не путать с сыном Олора — великим историком. Два Фукидида были родственниками; скорее всего, Фукидид-политик приходился Фукидиду-историку дедом{69}. В 444 году до н. э. старший Фукидид тоже подвергся остракизму, и Перикл победил окончательно.
Геродот, насколько можно судить, продолжал поддерживать дружеские связи с семьей, к которой принадлежали и Кимон, и оба Фукидида. Но каково было отношение историка к вышеописанным событиям, сыграл ли он в них какую-нибудь роль, остается только гадать. А догадки — вещь всегда уязвимая, хотя и очень соблазнительная, тем более что некоторые нюансы ситуации содержат интригу. Хронология показывает: Геродот получил огромную награду от афинского народного собрания совсем незадолго до остракизма Фукидида, в то время, когда борьба двух группировок достигла наивысшего накала и была близка к разрешению. По инициативе какой группировки наградили историка? В рамках традиционной точки зрения однозначно считается, что эта акция — в конечном счете дело рук Перикла, благоволившего к члену своего «культурного кружка». Но нам, надеемся, удалось продемонстрировать, что принадлежность Геродота к окружению Перикла ничем не доказана. Так что, возможно, предложение о почестях, оказанных «Отцу истории», исходило, напротив, от группировки Филаидов и было одним из ее последних успехов на поприще общественной жизни афинского полиса.
На тот же самый, довольно короткий временной промежуток приходится и основание Фурий в Южной Италии, в котором принял активное участие Геродот. Хронологических совпадений слишком много, чтобы можно было считать их случайными. Эти факты имели между собой какую-то связь, которая нам теперь уже неясна. Во всяком случае, в принятии решения о Фуриях сыграл немалую роль не только Перикл, но и его политический оппонент — Фукидид, сын Мелесия. Не по дружбе ли с ним, не по его ли приглашению Геродот поехал в колонию? По крайней мере не обязательно считать, что отправил его туда именно Перикл.
Конечно, исследователей не может не смущать несообразно огромный размер выплаченной в награду Геродоту суммы, даже если учитывать, как он мог польстить афинянам, прославляя их подвиги в годину Греко-персидских войн. Примерно в то же самое время великий поэт-лирик Пиндар написал поэму, воспевающую Афины, но получил за нее гонорар в десять тысяч драхм{70}, что было тоже очень крупной суммой, но в шесть раз меньшей, чем выданная Геродоту. Поэтому для объяснения такого благоволения афинского демоса к историку появился ряд версий, самые важные и интересные из которых мы приведем.
Версия первая. Геродот в ходе своих многочисленных странствий не только собирал материалы для своего труда, а одновременно выполнял в разных странах некие миссии в пользу Афин, скорее всего тайные, и потому сам он нигде о них не пишет. О чем здесь может идти речь — о секретных переговорах или даже разведывательной деятельности? Фигура Геродота практически идеально подходила и для того, и для другого. Любознательный грек, путешествующий из города в город, из страны в страну, всем интересующийся, обо всём расспрашивающий, при этом не вызывал у местных жителей удивления или опасения: ну как же, это ведь известный историк, пишет о славе Эллады, и для успеха его работы нужно усердно снабжать его сведениями. Геродот был в результате этих расспросов человеком замечательно информированным — пожалуй, лучше, чем кто-либо в его окружении да и вообще в его время. Поэтому для закулисных «дипломатических негоциаций» он тоже вполне годился.
Версия вторая. Разведывательная деятельность «Отца истории» даже не обязательно была секретной. Собственно, сам его труд — не только незасекреченный, но и читавшийся публично — являлся как историческим повествованием, так и в некотором смысле «донесением разведслужбы». Ведь он представлял собой богатейшую копилку самых разнообразных данных о множестве регионов — данных, чрезвычайно интересовавших Афины, которые в ходе Греко-персидских войн выдвинулись на положение «великой державы», стали вести большую политическую игру во всем Средиземноморье, воспринимая его как зону собственных интересов. Афинянам весьма важно было знать, что творится и в Персии, и в Египте, и в Скифии: что представляют собой эти страны, какие обычаи у их жителей… Всё это могло очень пригодиться при афинском проникновении на новые территории. Отсюда и такая щедрость по отношению к многознающему Геродоту.
Версия третья. Дарованные историку десять талантов — не вознаграждение за прошлое, а финансирование на будущее, что-то вроде «гранта» на продолжение его исследований, вещь далеко не лишняя, если учитывать, что путешествия в античные времена были делом дорогостоящим.
Нетрудно заметить, что все эти версии не столько противоречат друг другу, сколько друг друга дополняют и в совокупности порождают довольно правдоподобную картину. Можно, правда, высказать еще предположение, что выдача денег Геродоту как-то связана с его отбытием в Фурии (даты двух событий практически совпадают). Но об этом речь пойдет в свой черед, когда мы доберемся до «фурийского узла» в жизни «Отца истории».
В биографии Геродота имеется один крайне загадочный и сомнительный эпизод, упоминание о котором встречаем только в одном, причем весьма позднем источнике — статье византийской энциклопедии «Суда». После описания пребывания «Отца истории» на Самосе там сказано: «Прибыв же в Галикарнас, он изгнал тирана. Позже, увидев, что сограждане ему завидуют, он добровольцем отправился в Фурии, где афиняне основывали колонию. Там он умер и похоронен на агоре».
Под «тираном» имеется в виду, несомненно, Лигдамид II. Когда он был свергнут, в точности неизвестно. Можно лишь сказать, что это произошло в 450-е годы до н. э., причем скорее всего до 454-го. В этот год Галикарнас появляется в податных списках Афинского морского союза, как раз тогда введенных, значась там следующим образом: «галикарнасцы». (Нам привычно называть античные государства-полисы «Афины», «Спарта», «Коринф», «Галикарнас» и т. п., самим же людям Античности такое словоупотребление было совсем не свойственно, ведь с правовой точки зрения полис — не территория, не здания, а граждане и только граждане).
Если бы в тот момент во главе Галикарнаса еще стоял Лигдамид, то в качестве плательщика фороса, скорее всего, фигурировал бы именно он, а не галикарнасская гражданская община. В тех случаях, когда в союз входили государства, управляемые тиранами (есть несколько таких примеров), в податных списках обычно стояли их имена, и нет оснований предполагать, что в Галикарнасе дела обстояли иначе.
Однако о том, при каких обстоятельствах Лигдамид лишился власти, никаких надежных сведений нет, а единственное свидетельство — то самое, из словаря «Суда». Но насколько можно доверять этой беспрецедентной информации, сохранившейся только в очень позднем источнике? Ведь исходя из нее получается, что роль Геродота в новом перевороте была очень большой, фактически ведущей. Не кто иной, как именно он, возвратившись на родину с Самоса, организовал свержение и изгнание тирана, а после этого, насколько можно судить, занял очень влиятельное положение в установленном правительстве, чуть ли не возглавил его. Но затем, если следовать логике источника, большинству сограждан оказалось не по нраву, что бывший изгнанник теперь вершит дела в полисе; возможно, начали подозревать, что ему и самому не чужды тиранические замашки.
Полис, только что освободившийся от тирании, естественно, не хотел, чтобы на смену старому тирану вскоре пришел новый. В ряде полисов (например в Афинах) для профилактики подобной ситуации применялся уже известный нам остракизм, с помощью которого, чтобы подстраховаться, с территории полиса изгонялся гражданин, ни в чем не виновный, а просто подозреваемый в том, что он, опираясь на свой высокий авторитет, может захотеть стать тираном.
А авторитет Геродота не мог не быть высоким — хотя бы потому, что он к тому времени наверняка уже имел репутацию крупного ученого. Его земляки не могли не помнить и о том, что он еще в юности стал «жертвой режима» — борцом против единовластия Лигдамида, пострадавшим за это. А если «Отец истории» в дополнение ко всему еще и организовал в конце концов свержение Лигдамида (возможно, при поддержке Афин, которые могло раздражать, что в довольно крупном, союзном с ними полисе до сих пор правит одиозный тиран), то, надо полагать, в Галикарнасе просто не было человека, более известного и даже почитаемого, чем он.
Но тут вступала в свои права парадоксальная полисная диалектика. Чем больше политика любили, тем больше было шансов, что рано или поздно любовь внезапно переродится в столь же жгучую ненависть. Эта смена отношений вызывалась банальной завистью — правда, облеченной в более пристойную форму ущемленной справедливости. Логика была такой: полис — он на то и полис, равноправное объединение свободных граждан, чтобы в нем никто не выделялся; тот, кто доблестнее, умнее, талантливее своих соотечественников, нарушает всеобщее равенство.
Подобный подход откровенно звучит, например, в постановлении жителей Эфеса (в той же Малой Азии) по поводу изгнания из государства знатного аристократа и видного политика Гермодора. Эфесцы прямо заявили: «Среди нас никто да не будет наилучшим, а коли есть такой, быть ему на чужбине и с другими!» (
Греки в высшей степени подозрительно относились к собственным лидерам, подвергая их опале и преследованиям за малейшую провинность, а то и без нее{71}. В Афинах в эпоху Геродота чрезвычайно трудно, если не невозможно, найти государственного деятеля крупного масштаба, который на том или ином этапе своей карьеры не оказался бы в роли жертвы сограждан, не подвергся наказаниям или гонениям.
Мильтиад, марафонский победитель, был, как мы знаем, незадолго до смерти отдан под суд и приговорен к огромному штрафу. Аристид, по прозвищу Справедливый, считавшийся образцом честности и неподкупности, был изгнан остракизмом. Один из афинян, принесший черепок с его именем, на вопрос, чем же ему досадил Аристид, ответил: «Я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу „Справедливый“ да „Справедливый“!» (
Если верить сообщению словаря «Суда», похожая ситуация сложилась и с Геродотом. Но тот опередил события — решил не дожидаться, пока на него официально наложат наказание, и добровольно покинул родной город во второй раз — теперь уже навсегда, — воспользовавшись тем, что как раз в это время разворачивались мероприятия по основанию Фурий.
Итак, картина вырисовывается связная, целостная и, в общем, такая, что ничего заведомо невозможного или невероятного в ней нет. Единственный ее ущерб — в том, что информация исходит от литературного памятника, отстоящего от событий на целых полторы тысячи лет, и больше абсолютно ничем не подтверждается. Откуда автор «Суды» мог получить эти данные, ни у кого нет ни малейшего понятия. В огромном византийском словаре наряду с ценными и полезными сведениями мы встречаем более чем достаточно разного рода «словесной шелухи», псевдофактов и квазифактов, не вызывающих доверия.
Несомненно, Геродот, еще в молодости оказавшись в изгнании на Самосе, страстно желал возвратиться на родину, и это желание красной нитью прошло через всю его жизнь. Как пишет Плутарх, «другие считали его фурийцем, сам же он был сильно привязан к галикарнасцам» (
С другой стороны, события, как они описаны в «Суде», вступают в противоречие с известными фактами из жизни Геродота. Действительно, из статьи в словаре можно понять, что второе пребывание «Отца истории» в Галикарнасе имело место непосредственно перед его отбытием в Фурии около 444 года до н. э. Однако как раз в это время Геродот находился не в Галикарнасе, а в Афинах, читал там отрывки из своего труда, был удостоен почестей и денежной награды…
Чтобы приблизиться к истине, нужно привлечь все источники, способные пролить свет на ситуацию. Здесь нам не обойтись без цитирования закона, принятого в Галикарнасе и датирующегося временем жизни и активной деятельности великого историка, хотя архаичный язык и обилие реалий, нам теперь уже неясных, сильно затрудняют его восприятие.
«Совместная сходка галикарнасцев и салмакитов, а также Лигдамид, на священном народном собрании, в пятый день месяца гермеона, когда пританом был Леонт, сын Оассассия, а должностным лицом, ответственным за строительство храма, — Сариссолл, сын Фекиила, постановили следующее в отношении мнемонов[51]: не следует передавать ни землю, ни дома мнемонам в год занятия этой должности Алоллонидом, сыном Лигдамида, и Панамием, сыном Касболлия, а со стороны салмакитов — Мегабатом, сыном Афиасида, и Формионом, сыном Паниассида. Если же кто-либо пожелает судиться о земле или домах, пусть он подаст иск в течение восемнадцати месяцев с тех пор, как принято это постановление; судьи же должны принять у него клятву согласно действующему ныне закону: „Что установят мнемоны, то должно иметь силу“. Если же кто-либо подаст иск позже установленного срока в восемнадцать месяцев, лицо, владеющее землей или домами, должно принести клятву, принять же у него клятву должны судьи, получив за это гемигекту[52]; клятва приносится в присутствии противной стороны. Во владении же землей и домами остаются те лица, которые ими владели в год, когда мнемонами были Аполлонид и Панамий, если позже они не утратили этого права по суду. Если кто-либо пожелает отменить этот закон или предложит провести голосование о том, чтобы этот закон утратил силу, имущество такого человека следует продать с торгов и посвятить Аполлону, а самого его отправить в вечное изгнание; если же его имущество оценивается менее чем в десять статеров, то его самого продать в рабство на чужбину, и пусть никогда ему не будет возвращения в Галикарнас. Выступить с обвинением против него может любой свободный гражданин из числа всех галикарнасцев, не нарушавший это постановление, согласно тому, что гласят клятвы и что записано в храме Аполлона».
Как видим, закон принят еще в правление Лигдамида, и тиран в нем прямо упоминается. Обычно дается максимально широкая датировка закона: 465–450 годы. Но, на наш взгляд, ее можно несколько сузить. С одной стороны, Лигдамид с большой вероятностью утратил власть к 454 году до н. э. С другой стороны, надпись вряд ли была сделана ранее 460 года. Судя по всему, описанные события имели место ближе к концу тирании Лигдамида. Ведь в документе в качестве одного из мнемонов назван некто Аполлонид, сын Лигдамида. Думается, мы не ошибемся, если предположим, что отец этого Аполлонида тождествен галикарнасскому тирану. Таким образом, к моменту принятия закона Лигдамид имел сына, уже достаточно взрослого для того, чтобы занимать одну из полисных должностей. В древнегреческих государствах обычно гражданин получал допуск к должностям после достижения тридцатилетия. Если сын тирана был как минимум тридцатилетним, значит, сам тиран к моменту принятия закона и вовсе являлся человеком немолодым.
Не может не остановить на себе внимание имя еще одного члена коллегии мнемонов: Формион, сын Паниассида. Ведь Паниасид (Паниассид) нам отлично знаком — это дядя Геродота, возглавлявший оппозицию галикарнасской тирании и в результате погибший. Выходит, что с его смертью оппозиция не исчезла, не развалилась. «Знамя» Паниасида подхватили его родственники и, очевидно, другие сподвижники. Более того, как видим, им в дальнейшем удавалось добиваться успехов, занимать высокие государственные посты. Таким образом, фигурирующий здесь Формион приходился «Отцу истории» двоюродным братом.
Выдвижение в интересующем нас документе на первый план вопросов о земле и домах не должно вводить нас в заблуждение. На самом деле, несомненно, мы имеем дело с урегулированием политического кризиса. Каждый такой кризис сопровождался изгнанием проигравших в данном раунде политической борьбы. Покидать родину, как правило, приходилось в спешке, спасаясь от репрессий или даже гибели, захватив с собой самое необходимое. Судьба же брошенных земельных участков и домов становилась предметом специального рассмотрения в органах власти.
По поводу конкретной трактовки контекста закона существует очень широкий диапазон мнений{72}: одни считают, что в нем отразилось непрочное положение Лигдамида, которого вот-вот должны были свергнуть, и он это понимал; другие — что этот акт связан с амнистией, объявленной для противников тирана; третьи — что, наоборот, его принятие означало полную победу Лигдамида и изгнание его оппонентов, при этом у них отнималась возможность легитимно возвратить себе свои земли и дома — даже в том случае, если они когда-нибудь вернутся на родину.
И всё же этот ценнейший, современный событиям документ не помогает дать прямой и недвусмысленный ответ на вопрос, действительно ли Геродот организовал свержение тирана и после этого еще какое-то время жил в родном городе. Известно только одно: борьба граждан против Лигдамида не завершилась первым раундом, ознаменовавшимся казнью Паниасида и бегством будущего «Отца истории». Сопротивление продолжалось, очевидно, с переменным успехом, и в конце концов от жестокого правителя удалось избавиться. А роль в этом Геродота… Тут приходится ограничиться многоточием. Увы, есть исторические проблемы, которые, вероятно, никогда не будут однозначно разрешены.
Далеко не у каждого древнего народа появилась историческая наука (пальму первенства здесь однозначно держат греки), но тем не менее все они обладали теми или иными формами исторического сознания, исторической памяти. Ведь жизнь в настоящем невозможна без опыта прошлого. Другое дело, что и настоящее подчас оказывает серьезное влияние на прошлое. Мы прекрасно знаем, что отношение к прошлому способно меняться под влиянием конъюнктур нынешнего дня. Переписывание истории — дело отнюдь не редкое, свидетельствующее о большом значении истории для современности, иначе ее не стали бы трогать. Похоже, сдвиги в «текущем моменте» влекут за собой симметричные сдвиги в минувшем.
В античной Элладе существовали достаточно развитые формы исторической памяти уже задолго до того, как были написаны труды первых историков. Первоначально эта память коренилась в мифах. К ним в европейской науке Нового времени долгое время было принято относиться пренебрежительно, считая их досужими побасенками, сказками, не имеющими ничего общего с истиной и, соответственно, не приносящими никакой пользы для изучения прошлого.
А потом — со второй половины XIX века — наступило «время сенсаций». Немецкий коммерсант и археолог-любитель Генрих Шлиман принялся разыскивать легендарную Трою именно на том месте, где ее помещали мифы о Троянской войне, и — вопреки скептицизму подавляющего большинства ученых мужей — действительно открыл этот древний город. Затем английский исследователь Артур Эванс, также во многом идя «по следам мифа», раскопал на острове Крит грандиозный Кносский дворец («Лабиринт») и стал первооткрывателем первой цивилизации в истории Европы — крито-минойской. Раскопки древнейших слоев «Вечного города» Рима показали, что первые шаги его развития во многом согласуются с данными римских легендарных преданий.
А взять даже такой, казалось бы, совсем уж сказочный мифологический сюжет, как путешествие аргонавтов из Греции в далекую Колхиду (нынешнюю Западную Грузию) за «золотым руном»… Это самое руно долго смущало ученых: как может быть баранья шкура из золота? Но специалисты-этнографы установили, что на Кавказе, где многие речки несут золотой песок, вплоть до XX века сохранялся оригинальный способ его добычи: поперек течения натягивали шкуры баранов, и песок осаждался на них.
В настоящее время к архаическим мифам относятся куда серьезнее, чем прежде, воспринимая их как сложную, комплексную структуру, в глубине которой в большинстве случаев находится реальное историческое ядро, конечно, обросшее за века многочисленными наслоениями, имеющими сверхъестественный характер.
Миф — феномен устного народного творчества. Но уже как минимум в VIII веке до н. э. (возможно, даже в IX) у греков появилась алфавитная письменность и практически сразу начала формироваться первая в Европе литература. У ее истоков стоят две грандиозные эпические поэмы — гомеровские «Илиада» и «Одиссея», находящиеся на стыке фольклора и литературы. Поэмы прошли долгий путь развития в среде сказителей-аэдов, а свою окончательную форму приобрели в основном в VIII веке.
У Гомера многочисленные элементы исторического сознания налицо. Ведь героический эпос был всецело обращен к описанию событий прошлого. Однако в данном жанре историческая память имеет весьма своеобразную форму. В гомеровских поэмах причудливо переплелись реалии из самых разных временных пластов: крито-микенская эпоха II тысячелетия до н. э., «Темные века» (XI–IX) и, наконец, сам период складывания поэм — начало архаической эпохи с крупномасштабными изменениями в жизни общества. Автор поэм, живший в эпоху перемен, уже имел четкое представление о постепенной эволюции человечества от стадии первобытного варварства (оно представлено в описании жизни циклопов) к цивилизации и государственности.
В поэме «Труды и дни» следующего великого греческого поэта Гесиода (рубеж VIII–VII веков), главного представителя «дидактического» эпоса, мы находим уже вполне разработанную схему исторического развития: концепцию последовательно нисходящих, ухудшающихся «поколений» или «веков», от золотого до железного. В глазах Гесиода история человечества — это почти непрерывный регресс, особенно в моральном плане.
В течение архаической эпохи на смену эпической поэзии пришла более личностная лирическая. Но и она нередко воплощала в своих лучших произведениях элементы исторической памяти. В стихах лириков — Архилоха, Тиртея, Мимнерма, Солона, Ксенофана, Симонида и других — мы находим упоминания об исторических событиях — как современных авторам или близких к ним по времени, так и теряющихся в дымке легенды.
Мощнейшее влияние на становление древнегреческого историзма оказали, конечно, Греко-персидские войны, ставшие ключевой вехой в становлении этнической и цивилизационной «самости» эллинов и способствовавшие нарастанию обостренного интереса к прошлому — как собственному, так и чужому.
Относительно недавно был найден папирусный свиток, на котором фрагментарно сохранилась поэма-элегия Симонида Кеосского о Платейской битве 479 года до н. э. — уникальный памятник поэтического историзма. Самый крупный из ее фрагментов описывает выступление спартанского войска во главе с его командующим Павсанием:
…Многоименная Муза, тебя призываю на помощь,
Если любезна тебе смертного мужа мольба.
Лад заведи сладкозвучный, чарующий, песни ты нашей,
Чтоб вспоминали всегда подвиг отважных мужей,
Ибо от Спарты родной, от Эллады ярмо отвратили
Горького рабского дня — больше он нам не грозит.
Да не забудется слава, что гордо подъемлется к небу,
Доблесть могучих мужей смерти навек избежит!
Вот уж, покинув теченье Еврота и пажити Спарты,
В спутники взяли себе Зевса красавцев сынов,
Дерзко коней укрощавших, и мощного духом Атрида
Отчего града вожди, лучшие в бранных делах[53].
Вел же их сын благородный божественного Клеомброта[54];
…имя Павсаний ему.
Скоро достигли на Истме земли достославной Коринфа,
Края, в котором царил Тантала отпрыск — Пелоп.
Вот миновали Мегары, город древнего Ниса,
Там и другие сошлись, кто проживает окрест.
В знаменья божьи уверовав, вместе они поспешили
В землю, любезную всем, милый сердцам Элевсин…
(
Здесь мы в самом начале встречаем традиционное для поэзии обращение к Музе. Геродот и другие историки уже не открывали свои труды таким образом. Но, с другой стороны, Симонид, рассказывая о недавних событиях, современником которых он был, — конечно, с изрядной долей художественной декоративности, но в то же время и с немалым количеством ярких, реалистичных деталей, — выступает фактически непосредственным предшественником Геродота, который через несколько десятилетий напишет о том же. Поэма Симонида{73} стоит, так сказать, на самой последней ступени протоисторической мысли, уже на грани между ней и собственно историческим повествованием.
Другой культурный продукт той же эпохи, имеющий непосредственное отношение к зарождению историописания, — классическая аттическая трагедия. Позже ее сюжетное поле сузилось и стало включать только мифы. Но на раннем этапе существования этого жанра, в начале V века до н. э., авторы трагедий обращались не только к мифологическим, но подчас и к историческим сюжетам{74}, прежде всего, безусловно, из эпохи Греко-персидских войн — настолько они врезались в память эллинов.
Единственный — но зато блистательный — дошедший до нас образец «исторической трагедии» — драма великого Эсхила «Персы», в которой описана Саламинская битва: поэт был не только ее свидетелем, но и участником.
…Опрокинуты,
Суда тонули; море сплошь покрылося
Плывущей плотью, дерева обломками;
Как пены накипь, трупы окаймили брег.
Гребут, в нестройном бегстве, из последних сил,
Персидских войск остатки уцелелые:
Тунцов так острогою рыболовы бьют,
Как их частями корабельных остовов,
Стволами мачт и вёсел побивает враг.
Стон по морю и дикий разносился крик,
Доколе черным оком Ночь не глянула…
…И бездну зол увидя, восстенал сам Ксеркс!
Сидел он, озирая с высоты весь бой,
На выспренней вершине, над пучиной вод.
И ризы растерзал он, и завыл в тоске;
Войскам пехотным тотчас повелел бежать,
И сам неблаголепно в бегство ринулся.
(
В «Персах» победа греков над «варварами» рисуется как торжество свободы и закона над рабством и своеволием. Отсюда лежит уже прямой путь к труду Геродота.
Это, так сказать, одна линия предшественников «Отца истории». А вот и другая, еще более важная. Ведь главным отличием геродотовского сочинения от творений поэтов — эпиков, лириков, драматургов — является то, что оно написано в прозе. Проза возникла в Греции намного позже поэзии, приблизительно в середине VI века до н. э., и ее появление имело огромное историко-культурное значение{75}.
Правда, о художественной прозе речь пока не идет. Литературные произведения с вымышленной фабулой, вымышленными героями — всё это еще далеко впереди. Рамки античной прозы довольно широки: к ней относят и философские трактаты, и труды ученых в разных дисциплинах, и речи ораторов… Скажем, мы ни за что не сочли бы образчиком прозы сочинение Евклида «Начала», почти целиком состоящее из геометрических теорем, аксиом, определений. А в античном понимании это, конечно, тоже проза.
Проза открывала новые возможности, но в то же время необходимость овладения ею порождала новые, ранее неизвестные трудности и проблемы. Вполне естественно, что выработанные в поэзии каноны еще достаточно долго оказывали влияние на многих авторов, писавших прозой, и к Геродоту это тоже напрямую относится. В любом случае, по сравнению с поэзией, имевшей в своих истоках религиозный характер, проза была уже явлением более «светским», десакрализованным. Перед нами — одно из важных проявлений нарастания в греческом обществе конца архаической эпохи рационализма, который отныне и навсегда стал основополагающим признаком античной культуры.
Но кто были первые греческие прозаики? Рождение прозы в эллинском мире шло бок о бок с другим важнейшим культурным процессом — формированием ионийской науки, происходившим в двух основных плоскостях: натурфилософии, имевшей дело с миром природных явлений, и истории, имевшей дело с миром человеческого общества. Первые историки были младшими современниками первых натурфилософов и во многом шли по их стопам. Характерный пример: философ Анаксимандр первым среди греков составил карту ойкумены, а историк Гекатей через несколько десятилетий ее усовершенствовал.
Интересно, что в античных источниках ранние философы и ранние историки никогда не смешиваются друг с другом. Не исключено, что они и сами сознавали различие сфер своих изысканий и не вторгались в «чужую» проблематику. Тем не менее вполне очевидно, что рождение натурфилософии и рождение историографии происходило в силу аналогичных причин как реального, так и ментального характера{76}.
Промежуточной фигурой, стоявшей на пути «от поэта к историку», был мифограф-генеалог, так сказать, «протоисторик». Насколько можно судить, самыми ранними греческими прозаиками были именно первые авторы этого жанра, писавшие в VI веке до н. э.: Ферекид Сиросский (не путать с упоминавшимся выше Ферекидом Афинским), Феаген Регийский, Эпименид Критский и др. Мы бы назвали их «протоисториками».
Роль генеалогии в исторической памяти в отношении античной Греции трудно переоценить. Не случайно для древнегреческих авторов всегда был в высшей степени характерен обостренный интерес к генеалогическим сюжетам: это было одно из важнейших средств фиксации и проявления исторической памяти. В древнегреческих полисах в число главных критериев общей оценки индивида всегда входило его происхождение. Например, в Афинах именно наличие родословной, возводимой к тому или иному божеству (чаще всего к Зевсу), было определяющим признаком принадлежности семьи к евпатридам, то есть к высшей знати. Вполне естественно, что аристократы активно демонстрировали свои родословия, призванные подчеркнуть их «избранность», а ориентированные на этот социальный слой писатели эти родословия изучали и разрабатывали. Это вело их, в свою очередь, к проблемам теогонии, «поколений» богов: ведь мифологические герои, от которых производили свое происхождение евпатриды, были все без исключения потомками небожителей.
Генеалогии занимают весьма значительное место уже в эпосе Гомера, еще большее — у Гесиода. Появление прозы привело к тому, что родословия стали фиксироваться теперь уже в прозаических жанрах. Переход издревле существовавшего родословного жанра из устной сферы культуры в письменную позволял сделать генеалогические древа родов несравненно менее подверженными порче, почти неизбежной при передаче «из уст в уста» в течение многих поколений. Генеалогии затем заняли прочное место не только в «протоисторических», но уже и в собственно исторических трудах.
В сущности, «потребителями» информации, поставляемой мифографами-генеалогами, были те же самые люди, которые составляли преимущественную аудиторию эпических поэтов и первых историков. Гекатей, Геродот, Фукидид, Ксенофонт писали не для абстрактных греков и даже не просто для афинян, милетян или коринфян, а конкретно для афинской, милетской или коринфской аристократической политической элиты. К массам рядового демоса их труды не могли еще быть в полной мере обращены не только по субъективным, но и по объективным причинам.
Демос не мог полноценно приобщиться к сочинениям «служителей Клио» из-за явно недостаточной для этого грамотности. В демократических Афинах классической эпохи, где политическая активность незнатного гражданского населения была наиболее высокой, количество грамотных было больше, чем где-либо в греческом мире. Но даже и в этом полисе средний гражданин мог ознакомиться с выставленным на всеобщее обозрение декретом или процарапать (зачастую с грубыми ошибками) на глиняном черепке имя политика, голосуя на остракизме, но вряд ли был в состоянии самостоятельно, полностью и вдумчиво прочесть объемистый исторический трактат{77}. Не забудем и о том, что сами первые греческие историки (равно как первые философы и первые лирические поэты) были аристократами и, несомненно, обращались в первую очередь к равным по статусу лицам.
Самых ранних представителей античного историописания, появившихся во второй половине VI века до н. э. и писавших, как правило, прозой, в науке традиционно называют логографами. Этот термин следует признать не очень удачным: как уже говорилось, в Античности так именовали судебных ораторов в классических Афинах, которые писали речи на заказ за деньги. Но нам придется пользоваться этим обозначением применительно к первым греческим историкам, поскольку оно прижилось в ученой среде.
Особенно подробно пишет о логографах Дионисий Галикарнасский — древнегреческий ритор, историк и литературовед I века до н. э., давая меткую и емкую характеристику их творчеству:
«Древних историков много, и они были во многих местах до Пелопоннесской войны. К числу их относятся Эвгеон Самосский, Деиох Проконнесский, Эвдем Паросский, Демокл Фигелейский, Гекатей Милетский, Акусилай Аргосский, Харон Лампсакский, Мелесагор Халкедонский, а те, которые немного моложе, т. е. жили незадолго до Пелопоннесской войны и прожили до времени Фукидида, — это Гелланик Лесбосский, Дамаст Сигейский, Ксеномед Хиосский, Ксанф Лидийский и многие другие. В выборе темы они руководствовались почти одинаковой точкой зрения и способностями немного отличались друг от друга. Одни писали эллинские истории, другие — варварские, причем и эти истории они не соединяли одну с другою, но разделяли их по народам и городам и излагали одну отдельно от другой, преследуя одну и ту же цель — обнародовать во всеобщее сведение предания, сохранившиеся у местных жителей среди разных народов и городов, и письменные документы, хранившиеся как в храмах, так и в светских местах, — обнародовать эти памятники в том виде, в каком они их получили, ничего не прибавляя и не убавляя. Среди этого были и некоторые мифы, которым верили с древнего времени, и некоторые интересные, необычайные события, которые нашим современникам представляются невероятными. Способ выражения употребляли они по большей части одинаковый — все те, которые писали на одном и том же наречии: ясный, обычный, чистый, краткий, соответствующий описываемым событиям, не представляющий никакой художественности. Однако произведениям их присуща какая-то красота и прелесть, в одних в большей степени, в других в меньшей, благодаря которой их сочинения еще остаются до сего времени» (
Перечень ранних историков у Дионисия не является исчерпывающе полным. К нему с полным основанием можно было бы присоединить, например, Дионисия Милетского и Ферекида Афинского. Но сразу бросается в глаза, что логографы четко разделены на две группы, два поколения; в современной науке принято говорить, соответственно, о «старших» и «младших» логографах. Нас будут интересовать только первые, поскольку лишь их можно считать предшественниками и старшими современниками Геродота, тогда как кое-кто из молодого поколения был даже моложе его.
Дионисий Галикарнасский самолично держал в руках и читал труды перечисленных им авторов, коль скоро высказывает о них суждения стилистического характера. Увы, нам этого уже не дано. И утрата сочинений логографов — конечно, очень болезненная потеря для тех, кого занимает становление античного историописания.
Скажем, интересно было бы узнать подробнее о названном в списке первым Эвгеоне Самосском, ведь Геродот избрал свой путь историка, скорее всего, именно на Самосе. Не повлиял ли Эвгеон, прямо или косвенно, на этот выбор? Мог ли Геродот встречаться с ним? У нас нет даже предположительного ответа. Об Эвгеоне сообщается, что он написал труд «Хроники самосцев», но время его жизни неведомо.
Последнее относится почти ко всем остальным логографам. Их деятельность чрезвычайно трудно датировать. Известно, что самые ранние из них — Акусилай, Гекатей — писали еще до начала Греко-персидских войн, то есть в конце VI века до н. э. Об остальных же можно сказать только то, что их творчество приходится уже на начало следующего столетия. Несомненно, войны с персами стали для него одним из важнейших стимулирующих толчков.
О большинстве логографов очень мало было известно уже более поздним античным ученым. Не случайно даже имена некоторых из первых историков упоминаются в источниках в разных вариантах, и мы не знаем, как их правильно называть: Эвгеон или Эвагон, Мелесагор или Амелесагор, Ксеномед Хиосский или Ксеномед Кеосский; Деиох Проконнесский или Деиох Кизикский…
От многих логографов не сохранилось ничего, кроме имен: ни фрагментов, ни даже названий трудов. От других, к счастью, все-таки дошли кое-какое отрывки их наследия, и мы имеем возможность судить об основных темах их занятий. Таких тем было три.
Генеалогическая тема перешла к первым историкам «по наследству» от их предшественников — мифографов. От сюжетов, связанных с родословными, логографам было просто не уйти. Так, аргосский историк Акусилай написал сочинение, так и называвшееся «Генеалогии». Приведем несколько фрагментов из него. Эти цитаты сохранились в пересказе гораздо более позднего автора, поэтому имя Акусилая стоит в них в третьем лице:
«От Зевса и Ниобы, первой смертной женщины, с которой сошелся Зевс, родился сын Аргос, а также, как сообщает Акусилай, и Пеласг, по имени которого жители Пелопоннеса были названы пеласгами» (
Сразу же заметно, что перед нами еще очень ранняя стадия развития историописания, простой пересказ мифов. Казалось бы, где тут, собственно, история? Более того, где тут вообще наука? Ведь в цитированных фрагментах незаметны рационализм и исследовательский дух — две вещи, без которых научное мышление невозможно. Но если вчитаться повнимательнее, можно увидеть, что у Акусилая проявляется стремление выдвигать новые версии мифов, нетрадиционные и даже противоречившие общепринятым. Взять хотя бы рассказ о критском быке. Ни один другой автор не отождествляет этого быка с тем, который перевез на Крит финикийскую царевну Европу. Более того, согласно основному варианту мифа похитил Европу сам Зевс, принявший образ быка. У Акусилая же получается, что это был вовсе не бог, а обычный бык, который в дальнейшем продолжал обитать на Крите и в конце концов попал в руки Гераклу. Пожалуй, перед нами уже первые признаки рационализма. Очевидно, логограф не очень-то верил в старинные рассказы о том, как боги сходили на землю, перевоплощались в животных, вступали в любовные связи со смертными женщинами…
Вторым тематическим направлением, которое развивали логографы, была локальная история, освещавшая происхождение и основные события в жизни тех городов или областей, откуда они были родом. Мы уже упоминали, что Эвгеон Самосский написал труд по истории своего родного острова. И он был в этом не одинок. Так, Деиоху принадлежало сочинение по истории Кизика, Харону Лампсакскому — по истории Лампсака и др.
Наконец, третья тема, интересовавшая логографов, — история Персии. Это также вполне закономерно: внезапное возникновение на восточных рубежах ареала обитания греков грандиозной Ахеменидской державы, которая вскоре пошла на них войной, не могло не потрясти воображение современников. Большинство логографов были выходцами из полисов Ионии и прилегающих к ней регионов, которым первыми из эллинского мира было суждено непосредственно встретиться с персами и подпасть под их владычество.
Известно, что Харон Лампсакский написал труд «Персидские дела». Сочинение с таким же названием было создано Дионисием Милетским; оно, впрочем, имело и другой заголовок — «События после Дария»; в нем, следовательно, почти наверняка главное место занимали царствование Ксеркса и его поход на Балканскую Грецию. Виднейший логограф младшего поколения Гелланик Лесбосский также написал «Персидские дела». На этом фоне очень органично смотрится Геродот, в сфере интересов которого Персия и ее отношения с Элладой занимали едва ли не главное место.
Трактаты логографов, насколько можно судить, были небольшими по объему. На их фоне «История» Геродота, безусловно, выделялась как размерами, так и в особенности несравнимо более широким тематическим охватом материала. Не исключено, что именно поэтому (во всяком случае, и поэтому тоже) она и осталась достоянием последующих эпох, в то время как наследие логографов оказалось утраченным. Геродотовский труд попросту напрочь затмил собой все их писания.
Дать творчеству первых историков общую характеристику нелегко: ни один трактат не дошел до нас полностью. Начальную стадию античного историописания приходится реконструировать по разрозненным отрывкам. Главное, что среди фрагментов есть такие, которые содержат важнейшие положения общетеоретического и методологического характера, так сказать, базовые установки. В особенной степени сказанное относится к самому блистательному представителю плеяды логографов — Гекатею Милетскому, фигуру которого мы специально приберегли для отдельного рассказа.
Это настолько видный деятель греческой «интеллектуальной революции» рубежа архаической и классической эпох, что некоторые современные исследователи именно его, а не Геродота считают подлинным «Отцом истории»{79}. О личности, жизни, творчестве Гекатея известно значительно больше, чем о любом другом представителе первого поколения логографов, — пожалуй, даже больше, чем обо всех них вместе взятых. Это связано, помимо прочего, и с тем, что сам Геродот неоднократно упоминает о своем главном и непосредственном предшественнике.
Гекатей, живший в конце VI — начале V века, был, как выясняется, не только крупным ученым, но и яркой, неординарной личностью, отличился как на поприще культуры, так и военно-политической истории. Когда в 500 году до н. э. началось Ионийское восстание, он, в то время человек уже немолодой, занимал видное положение в родном Милете. Естественно, его пригласили на военный совет, где решалось, какую стратегию и тактику действий принять повстанцам. На фоне всеобщего энтузиазма выступление историка произвело эффект холодного душа.
«Только один логограф Гекатей был вообще против войны с персидским царем. При этом Гекатей сначала перечислил все подвластные Дарию народности и указал на персидскую военную мощь. Затем, когда ему не удалось убедить совет, он предложил добиться по крайней мере хотя бы господства на море. По его словам, он не видит иной возможности успеха, так как ему прекрасно известна слабость военной силы милетян, как только взять из святилища в Бранхидах (Дидимах. —
Повстанцы, как известно, стали терпеть неудачи. Ситуация была настолько угрожающей, что в Милете уже рассматривался вопрос о поголовном бегстве всех граждан как можно дальше — например на остров Сардон (Сардиния) в западной части Средиземного моря. Слово опять взял Гекатей. Если в прошлый раз он пытался умерить чрезмерное рвение соотечественников, то теперь его целью было уберечь их от ненужной паники. «Гекатей, сын Гегесандра, логограф, дал совет, что не следует высылать колонию ни на Сардон, ни в Миркин (местность во Фракии. —
Красочные подробности совещаний, описанных Геродотом, не оставляют сомнений в том, что он опирается на свидетельства очевидца. Этим очевидцем был не кто иной, как сам Гекатей. Очевидно, из его сочинения почерпнул Геродот приведенную здесь информацию.
В указанных эпизодах Гекатей предстает человеком мудрым, дальновидным, трезвым в суждениях, рациональным. Взять для военных целей храмовые сокровища — мало у кого из тогдашних греков повернулся бы язык предложить такое в обстановке общераспространенной религиозности! Гекатей, кроме того, оказывается еще и «многознающим», и в особенности осведомленным в персидских делах, настоящим экспертом в вопросах о населении и военной силе Ахеменидской державы. Это не случайно: еще задолго до начала Греко-персидских войн великий логограф много путешествовал. Геродот сообщает, например, что Гекатей посетил Египет и беседовал там со жрецами главного храмового города — Фив (II. 143). Побывал он и в подвластных персам областях — он имел на это право как подданный «Великого царя», в чьи владения входил тогда Милет.
Странствия милетского логографа, его большой интерес к географии привели к тому, что он составил весьма совершенную по тем временам карту ойкумены. Несомненно, именно о ней говорит Геродот, рассказывая о поездке вождя Ионийского восстания Аристагора в Спарту с просьбой о помощи. Он «принес с собой медную доску, где была вырезана карта всей земли, а также „всякое море и реки“» (V. 49). Аристагор убеждал спартанского царя Клеомена I отправиться походом на Персию, говорил о различных областях этой страны, через которые придется идти, и при этом «показывал земли на карте, вырезанной на меди, которую он принес с собой»(V. 49). Карта, судя по всему, была весьма подробной: на ней изображались границы между территориями различных народов, населявших Ахеменидскую державу, и были отмечены даже некоторые города, например персидская столица Сузы.
Возможно, Гекатей дал эту карту своему земляку Анаксагору в пользование на время поездки. А скорее всего, он подарил ее родному городу, и она стала общественной собственностью. Как бы то ни было, нет сомнений в том, что подготовил ее логограф в ходе работы над одним из своих главных трудов, который назывался «Землеописание». Судя по всему, карта выполняла роль наглядного приложения к нему. Трактат состоял из двух книг и включал описание всех трех известных тогда частей света: в первой книге речь шла о Европе, во второй — об Азии и Ливии (так античные греки называли всю Африку, кроме Египта). Сохранившиеся фрагменты показывают, что это было историко-географическое произведение со значительными элементами этнографического материала. Второй труд Гекатея (он тоже сохранился лишь фрагментарно), состоявший из четырех книг, назывался «Генеалогии». Таким образом, и здесь мы видим интерес к генеалогическим сюжетам, передавшийся логографам по наследству от мифографов: история трактуется Гекатеем именно как цепь родословий, идущих от богов к легендарным героям и далее к «обычным» людям. Постоянно обращался он к различным спорным вопросам старинных мифов, старался провести собственные изыскания и прийти к наиболее убедительным выводам. «Генеалогии» начинаются словами: «Так говорит Гекатей Милетский: я пишу это так, как мне представляется истинным, ибо рассказы эллинов многоразличны и смехотворны, как мне кажется» (
Перед нами — самое первое в европейской историографии теоретическое суждение общего характера, дающее чрезвычайно много для понимания особенностей древнегреческого подхода к истории.
Обращают на себя внимание несколько характерных моментов. Во-первых, ярко выражено авторское, индивидуальное начало: уже в самой первой фразе своего труда историк горделиво ставит собственное имя! Это проявление пресловутого «атонального духа», духа состязательности, вообще чрезвычайно сильно во всех сферах древнегреческой культуры, начиная с эпохи архаики. Даже вазописцы — ремесленники самого низкого статуса — часто ставили свои имена на расписанных ими глиняных сосудах. Во-вторых, автор считает своей задачей не столько изложение событий, сколько поиск истины, причем осознает определенную субъективность своего взгляда: «…так, как мне представляется истинным» — и допускает, таким образом, другие точки зрения.
В-третьих, чувствуется критический настрой по отношению к предшественникам-мифографам. Для историка нет ничего очевидного, само собой разумеющегося. Гекатей хочет сам искать и находить. Он стремится посмотреть на вещи по-новому, намеревается писать по собственному разумению, а не так, как отцы и деды, сознательно отказывается от традиции — более того, высмеивает эту традицию и в дальнейшем по ходу своего сочинения не раз критикует ее, предлагая неортодоксальные версии различных событий прошлого.
Вот несколько примеров. Согласно известным сказаниям о Геракле, этот величайший герой по приказу царя Эврисфея посетил подземное царство — Аид, проникнув в него через пещеру на мысе Тенар (на юге Греции), и вывел оттуда чудовищного пса Кербера (Цербера). Гекатей же оспорил этот миф. Он писал: «На Тенаре выросла ужасная змея, а „псом Аида“ ее прозвали потому, что ужаленного ею ждала немедленная смерть от яда, и вот эту-то змею Геракл и отвел к Эврисфею… Думаю я, что змея эта была не такая большая и не огромная, а просто пострашней других змей, и поэтому Эврисфей приказал привести ее, думая, что к ней не подступиться…» (
Как видим, для мышления Гекатея (в этом с ним были солидарны многие другие логографы) характерно стремление дать сверхъестественным элементам мифологии разумное объяснение. Отсюда — критическое восприятие мифологической традиции; а именно из такой критики во многом и вырастает историческая мысль. Гекатей и в жизни был рационально мыслящим, мало обремененным пиететом к традиционной религии, раз предложил забрать храмовые сокровища для военных целей.
Однако его рационализм имел свои границы, сплошь и рядом переплетался с унаследованной от предков наивной верой в чудесное. Миф об адском псе Кербере кажется ему несогласным с доводами разума. Но вот другой фрагмент из его труда: «Оресфей, сын Девкалиона, пришел в Этолию на царство, и собака его родила стебель, а он велел его зарыть, и из него выросла лоза, обильная гроздьями…» (Гекатей. Фр.15 Jacoby) — Пес с тремя головами — это невероятно, а собака, родившая стебель, — почему-то вовсе не удивительно.
Одним словом, в картине мира Гекатея чудесное не исчезает совершенно; скорее лишь несколько уменьшается его количество. О том же свидетельствует цитированный выше фрагмент о сыновьях Египта. Отвергнув традиционное их число, называвшееся в мифах — пятьдесят, — логограф предлагает взамен собственную цифру — не более двадцати.
Между прочим, подобного рода пассажи демонстрируют какую-то поразительную нечуткость к мифопоэтической традиции, стремление подогнать ее образы под мерку плоского рационального мышления. Ведь 50 сыновей Египта — это вырванная из контекста мифологема. А если рассматривать ее в общих рамках мифа — грандиозного мифа об аргосском царском доме, охватывавшего целый ряд поколений, — то выясняется: их должно быть ровно 50, не больше и не меньше. Почему? Да потому, что им предстоит насильственно взять в жены 50 своих двоюродных сестер — Данаид. И 49 из пятидесяти девушек в первую брачную ночь убьют своих мужей, за что потом будут нести вечную кару в Аиде, без конца наполняя водой дырявый сосуд. И только одна, Гипермнестра, пощадит своего супруга Линкея, и от их брака произойдет знаменитый род, к которому принадлежали и Персей, и Геракл… В мифе всё взаимосвязано, соединено тонкими, невидимыми на первый взгляд ниточками. И Гекатей действительно их не замечает — или они его не волнуют. Важен только банальный здравый смысл: не могло быть у одного человека пятидесяти сыновей — и всё тут.
Таким образом, Гекатей, как и другие логографы, даже несколько бравируя своим рационализмом, в создаваемых ими произведениях ничтоже сумняшеся вносил изменения в общеизвестные мифы. Причем, похоже, новые версии они придумывали, исходя из собственных представлений о том, что возможно, а что невероятно. Если это и рационализм, то мало схожий с тем, который считается научным. Рациональное отношение к мифу выливается в его произвольное исправление и вторичное мифотворчество. Историк думает, что достоверно реконструирует прошлое — а на самом деле он его конструирует, причем с помощью вездесущего мифа. Фактически логографы выступали как некие «новые мифотворцы», ставили мифы «собственного изготовления» на место старых. Кстати, точно такими же мифотворцами были не только первые историки, но и первые философы. Судя по всему, это было неизбежно на столь раннем этапе развития европейской мысли. Да и разве не утратили бы труды тех и других значительную долю своей прелести, если бы логика в них не перемешивалась с мифом? Не будем забывать о том, что история в Древней Греции находилась под покровительством одной из девяти муз — Клио, — а стало быть, воспринималась скорее не как строгая наука, а как искусство, наподобие эпоса, лирической поэзии или драмы. А историки, получается, в каком-то смысле были жрецами и пророками Клио.
Гекатей — при всем его рационализме и критицизме — не подвергал ни малейшему сомнению существование олимпийских богов. Более того, он был абсолютно уверен в собственном происхождении от небожителей. Чрезвычайно интересно свидетельство Геродота (вне сомнения, позаимствованное из труда самого Гекатея) об одном эпизоде египетской поездки милетского логографа: «Когда однажды историк Гекатей во время пребывания в Фивах перечислил жрецам свою родословную (его родоначальник, шестнадцатый предок, по его словам, был богом), тогда жрецы фиванского Зевса поступили с ним так же, как и со мной, хотя я и не рассказывал им своей родословной. Они привели меня в огромное святилище Зевса и показали ряд колоссальных деревянных статуй… Каждый верховный жрец ставил там в храме еще при жизни себе статую. Так вот, жрецы перечисляли и показывали мне все статуи друг за другом: всегда сын жреца следовал за отцом. Так они проходили по порядку, начиная от статуи скончавшегося последним жреца, пока не показали все статуи. И вот, когда Гекатей сослался на свою родословную и в шестнадцатом колене возводил ее к богу, они противопоставили ему свои родословные расчеты и оспаривали происхождение человека от бога. Противопоставляли же они свои расчеты вот как. Каждая из этих вот колоссальных статуй, говорили они, это — пиромис и сын пиромиса, пока не показали ему одну за другой 345 колоссальных статуй (и всегда пиромис происходил от пиромиса), но не возводили их происхождения ни к богу, ни к герою. „Пиромис“ же по-эллински означает „прекрасный и благородный человек“» (П. 143).
Оказывается, Гекатей не только вел свою родословную от богов, но и педантично подсчитывал ее поколения. С целью доказательства своих «божественных» корней он, очевидно, выстроил целое генеалогическое древо (возможно, оно входило в его труд «Генеалогии»). Как видим, умудренные египетские жрецы только посмеялись над этой наивностью грека, да и для Геродота поведение его милетского предшественника стало предметом некоторой иронии. В то же самое время, когда писал Гекатей, другой иониец, почти его земляк — философ и поэт Ксенофан Колофонский, уже проповедовал идеи, представлявшие собой нечто среднее между пантеизмом и монотеизмом, и подвергал решительному осмеянию антропоморфизм народных верований.
Однако был ли Гекатей столь уж наивен? Думается, дело обстоит несколько сложнее. Великий логограф в своем подходе к родовым преданиям опирался на вековые традиции, сложившиеся в среде греческой аристократии, к которой он и сам принадлежал. Божественное происхождение знати — причем в глазах отнюдь не только ее самой, но и рядовых граждан — было чем-то само собой разумеющимся, фактом, не нуждающимся в доказательствах и не подвергавшимся сомнениям. А в Египте Гекатей встретился с совершенно иной традицией — не аристократической, а жреческо-бюрократической, в которой положение индивида зависело не от «благородства» его происхождения, а исключительно от места на иерархической лестнице, на вершине которой стоял царь; близкими же к богам могли быть только священнослужители, составлявшие особую касту.
В произведениях логографов находим причудливое переплетение юного торжествующего рационализма с базовыми религиозными верованиями, широкий спектр интересов, критицизм по отношению к предшественникам, стремление опереться на собственное понимание истины… Если говорить о стиле изложения этих первых исторических трудов, то он простой и безыскусный, а местами даже деловой.
Не приходится сомневаться в том, что логографы, наряду с поэтами рубежа эпох архаики и классики, выступили в роли непосредственных предшественников Геродота. Почему тогда именно он — «Отец истории», коль скоро он был не первым в своей области изысканий? Насколько он нов и оригинален как представитель античного историописания? Чем его сочинение отличалось от сочинений логографов и имело ли оно с ними какие-нибудь черты сходства? На все эти вопросы нам предстоит ответить.
Но предварительно нужно рассмотреть еще одну — едва ли не принципиальнейшую — особенность раннегреческой исторической мысли, которая проявилась уже у логографов, а затем нашла еще более полное воплощение у Геродота.
«Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!.. Все вы юны умом, ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени» (
Если верить Платону, так будто бы говорил египетский жрец, беседуя в начале VI века до н. э. с Солоном — прославленным афинским мудрецом, прибывшим в ходе одного из своих путешествий в долину Нила. Конечно, Платон был великим фантазером, творцом грандиозных мифов. Некоторые из этих мифов, кстати, даже по сей день властвуют над человечеством, как, например, миф об Атлантиде{80}. И вряд ли разговор между афинянином и египтянином, который он описывает, когда-либо имел место в действительности. Но дело здесь не в точной и скрупулезной передаче конкретных фактов, а в общем понимании ситуации, и в этой сфере Платон проявил удивительную проницательность, блестяще подметив различие в мировосприятии между греками и жителями Древнего Востока.
Правда, несколько странно читать подобное применительно к цивилизации, в рамках которой, по общепринятому и справедливому мнению, возник сам феномен исторической науки. Однако средства фиксации исторической памяти действительно оказались в античной Греции существенно иными по сравнению с любым традиционным обществом.
Еще задолго до греков или одновременно с ними на обширных просторах Востока — от Египта до Китая — начали появляться произведения, которые при всем их разнообразии явно принадлежат к одному жанру — исторических хроник{81}, фиксировавших деяния царей, войны и союзы с соседними странами, подавление внутренних мятежей, возведение монументальных построек. Очень рано сформировался тот же жанр в Древнем Риме: вначале в достаточно примитивной форме (фасты, анналы), затем — в более развитой. Впоследствии хроники получили широчайшее распространение в Византии, Западной Европе; к ним можно причислить и русские летописи.
А вот греческой исторической мысли подобный «хронографический» подход долго оставался чужд{82}, хотя обычай ежегодных записей грекам был знаком. В большинстве греческих полисов в практических (прежде всего календарных) целях составлялись списки следующих один за другим эпонимных магистратов[55] (например, в Афинах — первых архонтов{83}). Однако никакой информации собственно исторического характера к их именам, насколько можно судить, не добавлялось. Не случайно первые греческие историки (логографы, Геродот) при составлении своих произведений должны были ввиду отсутствия письменных хроник опираться почти исключительно на данные устной традиции в тех случаях, когда давность описываемых событий не позволяла «снять показания» с непосредственных свидетелей происшедшего{84}. Жанр хроники стал органичным достоянием греческой культуры лишь в результате греко-восточного синтеза эпохи эллинизма{85}.
Теперь поставим вопрос следующим образом: коль скоро уже до греков в мире имелись исторические сочинения, то почему же тогда Геродот — «Отец истории»? Почему мы вообще ищем начало этой научной дисциплины в Элладе? Получается, что на самом деле оно имело место не в мелких и раздробленных городах-государствах Эгеиды, а в могучих державах, лежавших в бассейнах великих рек и на их периферии. Вот оно, настоящее «рождение истории»!
Тем не менее, если исходить не из формы, а из содержания, внутреннего духа, в этом ощущается какая-то глубинная неправомерность; чего-то не хватает древневосточным хроникам, что позволило бы сопоставить их «на равных» с тем же Геродотом. Приведем несколько коротких, но показательных примеров.
Египетская хроника фараона Рамсеса III: «Ливийцы и машауаши осели в Египте. Захватили они города западного побережья от Мемфиса до Кербена. Достигли они Великой реки по обеим ее сторонам, и грабили они города Ксоисского нома в течение очень многих лет, пока они были в Египте. И вот я (текст написан от лица самого Рамсеса. —
Ассирийская хроника Тиглатпаласара I: «Двадцать восемь раз я переправлялся через Евфрат, преследуя арами, в год по два раза. От Тадмора в стране Амурру и Анату в стране Сухи до Панику в стране Кар-Дунияш я нанес им поражение… Жителей этих территорий взял в плен, их богатства привез в свой город Ашшур»{87}.
Анналы Хеттского царства в Малой Азии: «Прежде царем был Лабарна; затем его сыновья, его братья, его родственники по браку и его родственники по крови объединились. И страна была мала, но, куда бы он ни шел в поход, он силой покорял страны своих врагов. Он разрушал страны и делал их бессильными, и моря стали его границами»{88}.
Хроники царей древнего Израиля, вошедшие в ветхозаветную традицию: «В восемнадцатый год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его Михаия, дочь Уриилова, из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом…»{89}
Для нас сейчас абсолютно не имеет значения, кто такие машауаши и арами, где находились Тадмор или Гива. Важно другое — общий принцип изложения материала. Нельзя избавиться от впечатления, что все процитированные тексты, написанные в разное время и в разных регионах, похожи друг на друга как капли воды. И дело даже не в однообразии их тематики: войны, походы, разрушения… В конце концов, греческие историки тоже уделяли военным перипетиям весьма значительное место. Больше поражает удручающая монотонность повествования, некая одномерность взгляда на мир. Древневосточные хроники можно изучать как ценнейшие исторические источники, извлекать из них обильную информацию, но ими решительно нельзя зачитываться, как многие поколения людей зачитывались Геродотом.
Для хрониста мир, в том числе мир человеческого общества, — нечто навсегда данное, само собой разумеющееся. В нем всё идет своим размеренным шагом: государства сталкиваются, одни гибнут, другие возвышаются, власть переходит от одного владыки к другому… Никакой альтернативы, никакого представления о том, что могло бы быть иначе. Всё сухо, серьезно, монументально, и всё переходит в какую-то «дурную бесконечность».
Хроники сливаются друг с другом и вливаются друг в друга. Хронист, начиная свой труд «от сотворения мира», включает в него произведения своих предшественников. Хроника — в известной мере безличный, не авторский жанр. Зачастую она анонимна, иногда псевдонимна. Некоторые древневосточные хроники составлены от лица царей, хотя понятно, что сочиняли их подчиненные-писцы.
По контрасту вспомним, как начинает свой труд логограф Гекатей: «Так говорит Гекатей Милетский». А вот начало «Истории» Геродота: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения…» Вот первая фраза труда Фукидида: «Фукидид афинянин описал войну пелопоннесцев с афинянами, как они воевали друг с другом» (
Но дело даже не в именах. Древнегреческая цивилизация породила совершенно особую, ни на что не похожую форму историописания. Эллинский историк классической эпохи отнюдь не сродни своему древневосточному, византийскому или древнерусскому «коллеге». Он — не усердный хронист, скрупулезно заносящий в свою летопись событие за событием, «добру и злу внимая равнодушно» (вот уж равнодушия мы у этих авторов точно не найдем!). Он — исследователь.
Древневосточный хронист описывает — древнегреческий историк ищет. Он хочет сам находить, выступает не в роли пересказчика, а порой в роли самого настоящего следователя: сопоставляет свидетельства, поверяет их логическими аргументами.
Собственно, здесь мы выходим на первоначальный смысл греческого слова «история». Этот термин, вошедший из древнегреческого во все европейские языки, когда-то обозначал попросту «изыскание» и даже что-то вроде «следствия». Впервые в античной и мировой литературе в «Илиаде» Гомера (
Итак, на первых порах «история» — это просто расследование, причем не обязательно именно событий человеческого прошлого. Вполне мог иметься в виду и материал мира природы. Например, главный зоологический трактат Аристотеля назывался «История животных», а труд его ученика Феофраста по ботанике — «История растений». Впоследствии дань этому словоупотреблению отдал знаменитый римский эрудит I века н. э. Плиний Старший, озаглавивший свою фундаментальную энциклопедию «Естественная история». Иными словами, вначале термин «история» ничего специфически исторического не подразумевал{90}.
Вот и ответ на вопрос, что являлось «родиной» истории — Древний Восток или Эллада. В Восточном регионе мы встречаем довольно богатую традицию историописания, но историческая наука в собственном смысле слова возникает впервые у греков. Наука — это прежде всего исследование, в которое каждый настоящий ученый вносит собственный вклад. В греческом мире именно такую картину мы наблюдаем уже начиная с логографов.
Эти черты, отчетливо проявившиеся уже у самой «колыбели Клио», нашли полное воплощение в дальнейшем развитии эллинской историографии. Она всегда оставалась авторской: среди ее представителей мы не встречаем анонимов и почти не знаем псевдонимов. Имеющиеся исключения обязаны своим существованием особым причинам. Иногда из-за плохой сохранности исторического труда имя его автора утрачено. Самый характерный пример — знаменитый «Оксиринхский историк» начала IV века до н. э. Отрывок его произведения был найден археологами на свитке папируса и сразу же оценен специалистами как работа очень высокого уровня. Автор конечно же подписал свое сочинение, но его имя на папирусе не сохранилось. Очень редко встречаются случаи принятия псевдонимов. Так, афинский историк Ксенофонт издал труд «Анабасис» (о походе отряда греков-наемников в самое сердце Персидской державы, в котором участвовал и сам автор) под чужим именем — некоего сиракузянина Фемистогена. Но сделал он это не из принципиального желания скрыть свое авторство, а из стремления подчеркнуть объективность повествования. Ведь он выступал в трактате в качестве одного из главных героев, и ему неудобно было писать о себе самом в первом лице. Другие же свои многочисленные сочинения Ксенофонт подписывал собственным именем.
Типичнейшими признаками произведений греческой исторической мысли всегда оставались стремление к поиску истины и связанные с этим критика предшественников и активная полемика с современными авторами.
В конце V века до н. э. в греческом мире впервые появился интерес к проблемам хронологии. Ею скрупулезно занимались софист Гиппий Элидский, поздний логограф Гелланик Лесбосский и др. Однако хронологические выкладки в это время использовались историками не для составления хроник, а в других целях — в частности, для уточнения спорных датировок событий.
Таким образом, на древнегреческой почве на рубеже архаической и классической эпох появился абсолютно новый, уникальный, ранее нигде и никогда не встречавшийся тип исторической культуры, ориентированной не на простое изложение событий, а на расследование и изыскание, прежде всего на поиск причин происходившего. Показательно, что оба самых ранних полностью дошедших до нас исторических труда — Геродота и Фукидида — начинаются с рассуждений об истинных причинах соответственно Греко-персидских войн и Пелопоннесской войны{91}. Хронист же, в отличие от историка-исследователя, совершенно не обязан вдаваться в область причин.
Исследовательская историческая культура эллинов, можно сказать, даже в корне противоположна «хронографической» исторической культуре многих других цивилизаций. Причины такого положения дел отчасти становятся ясны, если припомнить, что в числе прямых предшественников древнегреческих историков были поэты и мифографы-генеалоги, но не было хронистов.
Если первые историки — логографы — работали еще до галикарнасца, оправданно ли, что именно он носит почетный титул «Отца истории»?
Вопрос непростой и имеет несколько интересных нюансов. Геродот — «Отец истории» в том же смысле, в каком Колумб — первооткрыватель Америки. Ныне уже хорошо известно, что за несколько веков до генуэзского морехода в Новом Свете побывали суровые викинги, а еще раньше, возможно, ирландские монахи-миссионеры: более того, нельзя исключать, что к американским берегам могли случайно попадать еще древние финикийцы. Но все эти посещения остались изолированными и не оказали влияния на дальнейшую историю человечества, а вот плавание Колумба стало вехой, с которой началось освоение европейцами новооткрытого континента.
Примерно так же обстоят дела с Геродотом и логографами. Труды последних не оказали серьезного влияния на дальнейшее развитие мировой исторической науки. И даже несмотря на то, что эти сочинения еще долгое время сохранялись в некоторых античных библиотеках, а утрачены были лишь много позже, их почти никто не читал, кроме разве что некоторых особо дотошных ученых, вроде упомянутого Дионисия Галикарнасского. А Геродота читали (и почитали!) постоянно. Ему следовали, с ним спорили, от его взглядов отталкивались… Его «История» не только была излюбленным чтением множества людей, но и оставалась постоянно действующим фактором, влияющим на процесс развития античной (и послеантичной) исторической науки. Собственно, именно с Геродота возникает целостная, непрерывная и последовательная традиция этой науки. Там, где остановился Геродот, — начал Фукидид. Там, где кончил Фукидид, — начал следующий выдающийся греческий историк, Ксенофонт, и т. д.
Называют же, например, Эсхила «Отцом трагедии», а Аристофана — «Отцом комедии», несмотря на то что комедиографы были и до Аристофана, равно как и в трагическом жанре драматурги работали еще до Эсхила. Их пьесы были забыты, не повлияли на дальнейшую историю литературы.
Оказали ли на творчество великого галикарнасского историка какое-либо воздействие его предшественники? Вопрос опять же очень непрост — прежде всего потому, что для деятельности большинства логографов нет точных датировок. Известно, что они писали в ту же эпоху, что и Геродот. Но мы не можем сказать, происходило это одновременно с его работой, было чуть раньше или чуть позже. А от знания хронологической последовательности зависит определение направленности влияния. Повлиял ли тот или иной логограф на Геродота или, напротив, сам заимствовал у Геродота? А может, два автора работали независимо друг от друга? Например, в науке идут споры о том, появилась ли раньше «История» Геродота или «Лидийская история» его современника — логографа Ксанфа, родом из Лидии, из Сард{92}. Оба писали отчасти об одном и том же: в первой книге геродотовского произведения главное место занимают именно сюжеты из истории Лидии.
Геродот работал на историческом поприще долго, несколько десятилетий, неспешно создавая грандиозное полотно своего труда. Не приходится сомневаться в том, что за это время вышел в свет целый ряд трактатов логографов. Учитывал ли их «Отец истории», вносил ли в свое сочинение какие-либо изменения, дополнял ли его новыми данными? Мы не можем утверждать даже, что трактаты логографов были знакомы Геродоту. В наши дни, в связи с развитием печатного дела и книготорговой сферы, когда книги выпускаются относительно большими тиражами и широко распространяются, работа ученого довольно быстро попадает в руки его коллег в других городах и даже в других странах. Но ведь в Античности книги переписывались от руки, что автоматически обрекало их на существование в небольшом количестве экземпляров; да и циркулировали они далеко не с такой скоростью, как ныне. Могло пройти несколько десятилетий, пока исторический труд, созданный, допустим, в Милете, «добирался» до Афин или Коринфа.
Поэтому чрезвычайно трудно утверждать ответственно, что Геродот в том или ином случае почерпнул информацию из труда какого-нибудь логографа, а не раздобыл ее самостоятельно. В редких случаях мы, правда, можем считать это доказанным. К примеру, не подвергается сомнению влияние на Геродота Ферекида Афинского.
На всем протяжении «Истории» ее автор упоминает имена только двух логографов — Гекатея Милетского и Скилака Кариандского. О первом мы уже упоминали. Второй, грек на службе у персидского царя Дария I, был опытным мореходом. Когда Дарий завоевал Северо-Западную Индию, ставшую самой восточной частью его державы, он решил разузнать, существует ли оттуда морской путь в самую западную часть империи — Египет, для чего была снаряжена эскадра, в составе которой отправился в путешествие и Скилак. Корабли совершили плавание по Инду, Аравийскому и Красному морям, обогнули Аравийский полуостров и в конце концов достигли цели в районе Синая (IV. 44). Книга Скилака с описанием путешествия была, несомненно, одним из первых образцов греческой прозы. Ею пользовался уже Гекатей.
Все же историком Скилак не был, его скорее следует отнести «по географическому ведомству», хотя четкого разграничения между этими двумя сферами знаний в эпоху логографов и Геродота еще не было (достаточно вспомнить, что Гекатей занимался и историей, и географией).
Именно те места геродотовского труда, где упоминается Гекатей, представляют особенный интерес. Не остается никакого сомнения, что Геродот хорошо знал труд Гекатея, активно пользовался им. Есть даже точка зрения, согласно которой Геродот попросту списывал у Гекатея, систематически и беззастенчиво; в подтверждение приводятся даже конкретные примеры. Так, вторая книга «Истории» Геродота целиком посвящена Египту. Галикарнасский историк, согласно его собственным утверждениям, много путешествовал по стране в долине Нила и, в частности, посетил немало крупных святилищ, где общался со жрецами. Геродот упоминает об этих жрецах постоянно, и, если верить ему, именно они были главным источником подавляющего большинства полученных им сведений о Египте, его природе, жителях, истории. В повествовании фигурирует жречество Амона в Фивах, Пта в Мемфисе, Нейт в Саисе. Разумеется, Геродот называет египетских богов греческими именами — соответственно, Зевсом, Гефестом и Афиной (II. 2–3, 54, 143).
Однако в науке был поставлен вопрос: должны ли мы доверять этим указаниям «Отца истории». У. Хайдель — исследователь, наиболее детально занимавшийся этой проблемой{93}, — решительно отвечает: нет, не должны. Геродот, по его мнению, сознательно вводит в заблуждение читателей, а фактически с египетскими жрецами он не общался и не беседовал, да и в Египте, возможно, вообще не бывал, а построил свой рассказ об этой стране почти исключительно на информации из сочинения Гекатея Милетского. Геродот некритически брал все сведения у Гекатея, то есть попросту занимался плагиатом. Для того чтобы плагиат остался незамеченным и заодно для того чтобы повествование выглядело более авторитетным и убедительным, он выставил в качестве своих мнимых информаторов жрецов различных храмов долины Нила.
Выше мы уже цитировали яркую сценку из Геродота, как Гекатей рассказывает египетским жрецам о своей восходящей к богу родословной, а те не воспринимают его всерьез. Этот рассказ «Отец истории», несомненно, взял у Гекатея, добавив, что и ему самому довелось иметь подобный разговор с жрецами. Из этого однозначно следует, что Геродот был прекрасно знаком с трудом Гекатея; не исключено даже, что, путешествуя по Египту, он пользовался произведением милетского историка в качестве своеобразного «путеводителя»{94}.
Если Геродот действительно занимался столь систематическим плагиатом у Гекатея, то почему этого не заметили читатели античного мира, которым, в отличие от нас, не только труд Геродота, но и труд Гекатея был доступен полностью, а не в незначительных фрагментах? Достоверно известно, что Дионисий Галикарнасский внимательно читал обоих историков{95}. Почему этот наблюдательный и вдумчивый критик не обнаружил подделки? Или же ее не афишировали из симпатии к «Отцу истории»? Но нам еще предстоит увидеть, что у последнего было более чем достаточно недоброжелателей, которые не преминули бы в данном случае вывести его на чистую воду, если бы было за что.
Геродота нельзя признать плагиатором или компилятором произведений своего великого предшественника. Его нельзя сравнить, например, с Диодором Сицилийским, типичным «вторичным историком», книжником, аккуратно собравшим наблюдения более ранних авторов и целиком основывающимся на них. По справедливому суждению отечественного историка Д. П. Калл истова, «Геродот — это не направление. Геродот есть Геродот, во многих отношениях никем в Античности не превзойденный писатель»{96}.
Геродот, разумеется, имел предшественников. Но шел он своим, самостоятельным путем — именно это и обеспечило ему уникальное место в истории исторической науки. Он замыслил создать нечто такое, чего до него еще не было, в том числе и у логографов. Чем же его труд принципиально отличался от произведений историков первого поколения?
Лишь ответив на этот вопрос, можно в полной мере определить место Геродота в греческой интеллектуальной революции. Он, несомненно, может считаться одним из ведущих представителей ионийской образованности, хотя и был дорийцем; напоминаем, что «История» написана на ионийском диалекте, на котором писали и Гекатей, и другие ранние логографы. И здесь галикарнасец, очевидно, следовал сформировавшейся к его времени традиции: историческое исследование должно быть создано поионийски. Это та ниточка, которая связывает труды Геродота с творчеством логографов.
Но гораздо больше было того, что их разделяло. Это прежде всего основные принципы, использовавшиеся в работе. Уже самый беглый их анализ показывает значительное различие, даже контраст между Гекатеем и Геродотом. Как ни парадоксально, к Гекатею в этом отношении оказывается ближе Фукидид, хронологически следовавший за Геродотом и отделенный от логографов большим временным промежутком.
Для иллюстрации просто поставим рядом суждения трех великих историков, касающиеся отношения к источникам, находившимся в их распоряжении.
Как видим, подходы Гекатея и Фукидида схожи: тот же критицизм по отношению к источникам, то же стремление опереться прежде всего на собственный разум и свое понимание истины. Перед нами как бы два звена в одной цепи становления античной исторической науки. А вот Геродот из этой цепи явно выпадает. Его принцип — преподносить своей аудитории всю ту информацию, которая к нему поступила. Сказанное вовсе не обозначает легковерия галикарнасского историка, слепого некритичного следования его информаторам. Ведь эта его «установочная» фраза продолжается: «…верить всему я не обязан». Просто Геродот, в отличие от Гекатея (и Фукидида), признает право на существование не только собственной точки зрения, но и иных.
Итак, Геродот — в определенной степени «анахронизм», писатель, шедший наперекор преобладавшей в его эпоху тенденции. Это звучит категорично и даже парадоксально, но для подобной оценки действительно есть основания. Кстати, не это ли — в числе прочего — снискало историку дружбу Софокла, который тоже твердо противостоял волне новых интеллектуальных веяний?{97}
Возьмем другой аспект — отношение к религии и мифам. Гекатей, как мы знаем, дает яркие примеры критики традиционных верований; Фукидида эти вещи вообще не интересуют, он практически игнорирует религиозную сторону бытия общества{98}. А вот находящийся между ними Геродот, напротив, уделяет ей весьма значительное место. Всё мировоззрение «Отца истории» — и это не может пройти незамеченным для каждого, кто открывает его книгу, — буквально пронизано иррациональными, в особенности религиозными элементами и категориями. Разного рода оракулы, знамения, представления о воле богов, судьбе и т. п. для Геродота были настолько актуальны, что опять возникает вопрос: не представляет ли собой его творчество «шаг назад» по сравнению с логографами? Во всяком случае, совершенно несомненно, что в его произведении можно обнаружить целый ряд весьма архаичных идей.
Остановимся лишь на его отношении к мифологической традиции, чтобы продемонстрировать контраст с логографами. В отличие от последних (не исключено, даже в пику им) Геродот не позволяет себе изобретений в этой области. Во всяком случае, он старается сохранить в неприкосновенности «букву» мифа. Но именно «букву», а не «дух». Всё, что являлось в мифах по-настоящему чудесным, сверхъестественным, непостижимым с помощью рассудка, ему — опять же в отличие от логографов — было уже глубоко чуждо и чаще всего подлежало объяснению естественными причинами, правдоподобными с его точки зрения{99}.
Это, кстати, порой вело к созданию квазиисторических фактов. Таков, в частности, рассказ о пребывании Елены Прекрасной в Египте (II. 113 и след.). Это отклонение от основного гомеровского варианта мифа о причинах Троянской войны было впервые подробно разработано сицилийским поэтом рубежа VII–VI веков до н. э. Стесихором в поэме «Палинодия» (
Из писателей классической эпохи этот сюжет разрабатывали драматург Еврипид (в трагедии «Елена») и, что для нас особенно важно, Геродот. При этом последний, стремясь наполнить его правдоподобием, удалил всё собственно мифологическое: призраков, богов и т. п. Так и оказалась сконструированной в древнегреческой историографии очередная «мнимая реальность», подкрепленная авторитетнейшим именем галикарнасского путешественника.
В труде Геродота, очень сложном и неоднородном по структуре, мирно соседствуют пассажи фольклорного характера и вполне рационалистические места{101}. К последним как раз и относятся его толкования древних мифов. Историк пытается логически подходить к сложившемуся у эллинов религиозно-мифологическому комплексу — например, выделяет в нем элементы «чуждого» происхождения (египетские, пеласгические и др.), даже занимается специальными изысканиями на сей счет{102}. Вспомним, как, желая узнать «всю правду о Геракле», неутомимый Геродот отправляется из долины Нила в Тир Финикийский, оттуда — на Фасос…
Конечно, нам эти изыскания представляются наивными и порой лишь вводящими в заблуждение. Откровенно говоря, «Отец истории» становится более информативным и достоверным тогда, когда не занимается спекулятивными толкованиями, а, следуя своему же правилу, «передает всё, что рассказывают». Это позволяет ему остаться самим собой и сохранить для современных исследователей облик образованного грека классической эпохи со всеми особенностями и противоречиями его мировоззрения.
Продолжая сопоставление Геродота и других ранних греческих историков, коснемся вопросов языка и стиля. Судя по фрагментам логографов, в их сочинениях художественность еще не занимала значительного места. Они ориентировались на максимально простой и безыскусный, фактически деловой стиль изложения. «История» Фукидида, прошедшего подготовку в школе ораторского искусства, в некоторых местах поражает то риторической изысканностью, то напряженным пафосом; но в целом для него тоже более характерен подчеркнуто деловитый, сдержанный стиль. На подобном фоне произведение Геродота сияет ярким светом, расцвечено блесками самого разнообразного мастерства. Правда, на первый взгляд геродотовское повествование может показаться почти столь же простым, спокойным, едва ли не наивным, как у логографов. Но в отличие от самых первых «служителей Клио», для которых простота была, так сказать, «первичной», нерефлектированной, которые писали таким образом только потому, что иначе писать еще не умели, в случае с Геродотом обнаруживаем совершенно иную ситуацию: «Видимая безыскусственность оказывается отражением высоко уже развитого вкуса и техники слова… В самой простоте его изложения современные ученые справедливо видят то особенное искусство, которое состоит в умении не выставлять себя с внешней стороны{103}».
Иногда важно не только то, что пишет историк, но и то, как он это делает. И можем без преувеличения сказать, что «История» Геродота — увлекательнейшее чтение. Погрузившись однажды в тот пестрый, красочный мир, который он развертывает перед нами наподобие восточного ковра, мы всецело подпадаем под его обаяние, и приходится совершать даже некоторое усилие, чтобы оторваться от этого манящего миража.
Правда, определенного старания требует и само «погружение», но то же можно сказать о любом замечательном литературном памятнике. В самом начале «Истории», после нескольких слов о старинном противостоянии эллинов и «варваров», автор переходит к повествованию о Лидийском царстве в Малой Азии, главном партнере греческих полисов на Востоке до персидского нашествия. Вначале всё выглядит сухо и статично: Геродот называет имена царей, подсчитывает поколения и годы… Но вскоре стиль изложения резко меняется. Как только историк переходит к царю Кандавлу, на смену потоку чистой информации появляется… самая настоящая сказка:
«Этот Кандавл был очень влюблен в свою жену и, как влюбленный, считал, что обладает самой красивой женщиной на свете. Был у него среди телохранителей некий Гигес, сын Даскила, которого он особенно ценил. Этому-то Гигесу Кандавл доверял самые важные дела и даже расхваливал красоту своей жены. Вскоре после этого (ведь Кандавлу предречен был плохой конец) он обратился к Гигесу с такими словами: „Гигес, ты, кажется, не веришь тому, что я говорил тебе о красоте моей жены (ведь ушам некоторые люди доверяют меньше, чем глазам), поэтому постарайся увидеть ее обнаженной“. Громко вскрикнув от изумления, Гигес отвечал: „Что за неразумные слова, господин, ты говоришь! Ты велишь мне смотреть на обнаженную госпожу? Ведь женщины вместе с одеждой совлекают с себя и стыд! Давно уже люди узнали правила благопристойности, и их следует усваивать. Одно из них главное: всякий пусть смотрит только за своим. Я верю, что она красивее всех женщин, но все же прошу: не требуй от меня ничего, противного обычаям“.
Так говорил Гигес, пытаясь отклонить предложение царя в страхе попасть из-за этого в беду. Кандавл же возразил ему такими словами: „Будь спокоен, Гигес, и не бойся: я сказал это не для того, чтобы испытать тебя, и моя жена тебе также не причинит никакого вреда. Я подстрою сначала все так, что она даже и не заметит, что ты ее увидел. Тебя я поставлю в нашем спальном покое за закрывающейся дверью. За мной войдет туда и жена, чтобы возлечь на ложе. Близко от входа стоит кресло, куда жена, раздеваясь, положит одну за другой свои одежды. И тогда ты сможешь спокойно ею любоваться. Если же она направится от кресла к ложу и повернется к тебе спиной, то постарайся выйти через дверь, чтобы она тебя не увидела“.
Тогда Гигес уже не мог уклониться от такого предложения и выразил свою готовность. Когда Кандавл решил, что настала пора идти ко сну, то провел Гигеса в спальный покой, куда затем тотчас же пришла и жена. И Гигес любовался, как она вошла и сняла одежды. Как только женщина повернулась к нему спиной, Гигес постарался, незаметно ускользнув, выйти из покоя. Тем не менее женщина видела, как он выходил. Хотя она поняла, что все это подстроено ее мужем, но не закричала от стыда, а, напротив, показала вид, будто ничего не заметила, в душе же решила отомстить Кандавлу. Ведь у лидийцев и у всех прочих варваров считается великим позором, даже если и мужчину увидят нагим.
Как ни в чем не бывало женщина хранила пока что молчание. Но лишь только наступил день, она велела своим самым преданным слугам быть готовыми и позвать к ней Гигеса. Гигес же пришел на зов, уверенный, что ей ничего не известно о происшествии, так как и прежде он обычно приходил всякий раз, как царица его призывала к себе. Когда Гигес предстал перед ней, женщина обратилась к нему с такими словами: „Гигес, перед тобой теперь два пути; даю тебе выбор, каким ты пожелаешь идти. Или ты убьешь Кандавла и, взяв меня в жены, станешь царем лидийцев, или сейчас же умрешь, для того чтобы ты, как верный друг Кандавла, и в другое время не увидел, что тебе не подобает. Так вот, один из вас должен умереть: или он, соблазнивший тебя на этот поступок, или ты, который совершил непристойность, увидев мою наготу“. Пораженный ее словами, Гигес сначала не знал, что ответить, а затем стал молить царицу не вынуждать его к такому страшному выбору. Гигесу не удалось все же убедить ее. Тогда, видя, что выбор неизбежен — или убить своего господина, или самому пасть от руки палачей, — он избрал себе жизнь и обратился к царице с таким вопросом: „Так как ты заставляешь меня против воли убить моего господина, то скажи мне, как мы с ним покончим?“ На это царица дала такой ответ: „Мы нападем на него на том самом месте, откуда он показал тебе меня обнаженной, и ты убьешь его во время сна“.
Обдумав совместно этот коварный план, Гигес с наступлением ночи проник в спальный покой вслед за женщиной (ведь она не отпускала Гигеса; выход ему был отрезан, и предстояло или самому умереть, или умертвить Кандавла). Тогда царица дала ему кинжал и спрятала за той же дверью. Когда же Кандавл заснул, Гигес, крадучись, пробрался к нему и, заколов его, овладел таким образом его женой и царством» (I. 8-12).
Вот так рассказано у Геродота о гибели последнего лидийского царя из династии Гераклидов и о приходе к власти новой династии — Мермнадов, основателем которой был Гигес, а последним представителем оказался Крез (при нем Лидия была завоевана персами).
Только что прошедшее перед нами повествование напоминает сказки «Тысячи и одной ночи». Но до их создания под знойным солнцем далекой Аравии пройдут еще века. Во всяком случае, манера Геродота меньше всего напоминает исторический труд в привычном для нас понимании. Его рассказ куда больше похож на художественную новеллу. Какова его достоверность? Кто мог передать, о чем беседовал Гигес с Кандавлом или его супругой или как царский телохранитель подсматривал за госпожой? Ведь если это всё происходило, то, естественно, без свидетелей.
Ничего подобного мы не найдем ни у логографов, ни тем более у Фукидида, крупнейшего из историков следующего за Геродотом поколения. Они подчеркнуто недоверчивы по отношению к подробностям легендарного или фольклорного характера. Именно Фукидида специалисты считают самым выдающимся, не имеющим себе равных мастером античной историографии. Но, признаемся, чтение Геродота гораздо более увлекательное. У него еще не утрачен интерес к сочной, полнокровной детали, вне зависимости от ее правдоподобия.
На фоне как логографов, так и Фукидида «История» Геродота выделяется большей широтой охвата материала.
Сказанное справедливо в нескольких различных смыслах. Геродотовский труд изобилует отступлениями, экскурсами самого разнообразного характера. Возможно, эти экскурсы несколько затрудняют читателю задачу последовательного отслеживания основного сюжета — Греко-персидских войн, вносят определенный элемент хаотичности в изложение. Но ведь с тем же успехом можно сказать, что, например, многочисленные лирические отступления в пушкинском «Евгении Онегине» мешают восприятию главной фабулы романа. Однако так не скажет ни литературовед, ни обычный читатель: отступления в «Онегине» прочно входят в число самого ценного, что есть в этом гениальном произведении.
Посмотрим на проблему под другим углом. Если бы Геродот писал в деловой, лаконичной манере логографов или Фукидида и рассказывал только о военном столкновении между греками и персами, то какой массы ценнейшей информации мы лишились бы! Много ли знали бы мы, скажем, об архаической истории Афин, если бы не геродотовские экскурсы о крупнейших деятелях афинской истории VI века до н. э. — Писистрате, Гиппий, Клисфене? Ведь другие важнейшие источники об Афинах этого времени («Афинская полития» Аристотеля, Плутарх) в значительной, местами просто определяющей степени зависят от Геродота. Получается, что та черта творчества «Отца истории», которую можно назвать «разговорчивостью» или, при желании, даже «многословностью», оказывает хорошую услугу и современным ученым.
Еще большее значение имеет тематическая широта. Для Геродота вполне законными предметами исторического исследования являются темы, связанные с этнографией, географией, культурой, религией, бытом и т. п., что придает целостность, многомерность картине общества и цивилизации. Ситуация в историописании резко меняется сразу же после Геродота — уже при Фукидиде. Именно этот последний определил ключевую проблематику всей последующей исторической науки — не только античной, но и европейской вплоть до XX века{104}. Военная, политическая, дипломатическая, одним словом, событийная история — вот что прежде всего интересовало Фукидида и тех, кто шел по его стопам. А таких всегда было подавляющее большинство{105}. Остальные же аспекты жизни общества — прежде всего те, что ныне принято называть «структурами повседневности», — оставались «за бортом» исторической науки, что, без сомнения, сужало ее предметное поле. В труде Геродота эти «структуры» занимают очень важное место, как бы цементируя собой всё повествование.
Итак, Геродот, живя в весьма насыщенной интеллектуальной среде, имея предшественников, но идя при этом вполне самостоятельным путем, замыслил — и создал — произведение, уникальное по широте охвата материала. Его труд был совершенно беспрецедентен по тому времени. Повествование развертывалось на грани Запада и Востока, на грани эллинского и «варварского» миров, на грани истории, этнографии, географии…
Основной темой произведения, как мы хорошо знаем, являются Греко-персидские войны. Однако рассказ о них дается в широчайшем, почти безграничном историко-географическом контексте. Геродот, подобно орлу, смотрит на мир с большой высоты, видит оттуда далеко-далеко и для всего того, что видит, находит место в своей книге, накладывая на ее полотно один за другим сочные, красочные мазки.
«История» начинается с изложения обстоятельств возникновения Персидской державы Ахеменидов и ее территориального роста. При этом автор, рассказывая о присоединении к владениям персов той или иной новой страны (Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта и др.), всякий раз дает подробный рассказ о географическом положении, природных условиях этих земель, о быте, нравах, обычаях населяющих их народов, их предшествующей истории. Затем Геродот переходит собственно к перипетиям греко-персидских столкновений: Ионийскому восстанию, Марафонской битве, походе Ксеркса на Грецию. Параллельно — на всем протяжении своего сочинения — историк сообщает о важнейших событиях внутриполитической истории греческих полисов — Афин, Спарты, Милета…
Таким образом, композиция произведения в высшей степени сложна и нелинейна. Порой она даже представляется хаотичной — прежде всего потому, что связное повествование очень часто прерывается отступлениями, многие из которых имеют новеллистический и даже анекдотический характер, основываясь на фольклорных сюжетах.
Здесь мы выходим на две очень важные, тесно связанные друг с другом проблемы: во-первых, об эволюции структуры «Истории» по мере работы автора над нею; во-вторых, о жанровой принадлежности произведения. Сложность заключается именно в том, что в труде Геродота мы имеем, с одной стороны, основной сюжет — войны между греками и персами с самого начала их противостояния. Но с другой стороны, эта главная тема постоянно перебивается теми самыми отступлениями (логосами, как их называют) — на тематику этнографическую, географическую, культурную, религиозную… Всё это, насколько можно судить, представлялось автору не менее интересным, чем военно-политическая история.
В каком отношении между собой находятся эти два важнейших структурных элемента труда? За каким из них следует признать хронологический приоритет? С чего Геродот начал? На этот предмет есть две противоположные точки зрения.
Первая утверждает: вначале Геродот писал отдельные логосы, разрозненные и не связанные друг с другом. Затем, когда у него возникло намерение описать историю Греко-персидских войн, он включил эти ранее написанные логосы в свой новый, обширный труд{106}. Особенно настойчиво и последовательно эту позицию отстаивал выдающийся немецкий исследователь Античности Феликс Якоби. Именно его, пожалуй, следует признать крупнейшим в XX веке знатоком раннего греческого историописания. А его главная работа о Геродоте{107} хотя и представляет собой энциклопедическую статью, но по размеру не уступает большой книге и остается поныне, спустя почти век после выхода, едва ли не самым авторитетным из всего написанного об «Отце истории».
Якоби выстроил схему эволюции творчества Геродота, состоящую из трех этапов. По его мнению, тот начинал как логограф, причем на первых порах интересовался даже не столько историей, сколько географией и этнографией. Геродот путешествовал, наблюдал жизнь различных стран и народов, записывая то, что видел и слышал, создавая об этих странах произведения-логосы, вначале самостоятельные и не связанные друг с другом. Но затем Геродот задумал написать историю Персии. А поскольку Персия была воистину мировой державой, то в рассказ о ней было очень удобно и более чем естественно включить прежние логосы о тех странах, которые ранее были независимыми, но вошли в состав Ахеменидской империи. Как они стали частями единого целого, так частями единого целого стали и геродотовские логосы.
Впоследствии, однако, Геродот еще раз изменил свой план. Прибыв при Перикле в Афины, где культивировался патриотический энтузиазм победы над «варварами», галикарнасец и сам поддался ему. Решено: теперь он будет писать не о Персии, а о Греко-персидских войнах! С того времени и до конца своих дней он претворял в жизнь уже эту задачу. Только с этого момента его труд, по мнению Якоби, обрел четкие очертания, а сам он превратился в полноценного историка.
Итак, выходит, что Геродот долго не мог обрести свой истинный путь, несколько десятилетий метался от темы к теме.
Есть, однако, и иное мнение: Геродот изначально задумал свою «Историю» именно такой, какой она постепенно и появилась из-под его пера: как единое целое, как произведение, соединенное сквозной сюжетной нитью. В это грандиозное единство вместился самый неоднородный материал, почерпнутый автором как из своего личного опыта, так и из предшествующей богатой (в основном устной) традиции. Но все это разнообразие фактов было подчинено одной большой цели{108}.
Нам кажется, что вторая позиция всё же ближе к истине. Что бы ни говорили, труд Геродота при кажущейся хаотичности обладает, если присмотреться, довольно стройной композицией, в рамках которой оказались органично слиты разнохарактерные элементы. Сам факт ее наличия говорит об изначально существовавшем, хорошо продуманном авторском замысле (другой вопрос — был ли этот замысел реализован до конца или же произведение осталось незавершенным). Во всяком случае, вряд ли можно утверждать, что историк работал бессистемно, постоянно меняя свои представления о том, что же он в конце концов хочет создать…
Придется подключить к аргументации некоторые хронологические детали. Несомненно, что «Отец истории» работал над своим сочинением до конца жизни. С другой стороны, мы. знаем, что в середине 440-х годов до н. э. он публично читал части своего труда в Афинах, за что получил крупную денежную награду. Крайне маловероятно, что Геродот читал в Афинах какие-то этнографические или географические логосы. Историк конечно же выбрал для обнародования такие тексты, которые имели бы ярко выраженное политическое звучание и к тому же были приятными для афинян. Несомненно, это были фрагменты, повествовавшие о Греко-персидских войнах: ведь именно эти части его труда полны прославлением Афин. Следовательно, к этому времени «История» Геродота — именно как история Греко-персидских войн — была уже частично написана, вопреки мнению Якоби, что Геродот увлекся этими вопросами только после посещения перикловых Афин. Значит, на протяжении какого-то количества лет до 445 года до н. э. автор трудился над своим сочинением, уже имея его довольно четкий план, а в то же время к 420-м годам (Геродот умер не раньше) в нем еще, судя по всему, не была поставлена точка. Получается, что работал «Отец истории» медленно. Это ни в коей мере не должно прозвучать упреком ему. Не будем забывать, что он шел непроторенным путем, открывал своим творчеством новый жанр в античной и мировой литературе.
С учетом вышесказанного вернемся к вопросу о том, писал ли Геродот что-либо до того, как приступил к своему масштабному полотну о Греко-персидских войнах. Были ли в этот ранний период его деятельности созданы, как считал Якоби, логосы о различных странах и народах? Не похоже. Разве что предположить, что в юности он работал чрезвычайно интенсивно и быстро, а вступив в пору акме, творческого расцвета, вдруг утратил это качество. Но подобную гипотезу саму по себе еще нужно доказывать, и вряд ли ее кому-нибудь удастся доказать.
В нескольких местах «Истории» Геродот ссылается — что интересно, в будущем времени — на какие-то свои ассирийские логосы (I. 106; I. 184). При этом специального рассказа-логоса об Ассирии (подобного египетскому, лидийскому, скифскому и другим, имеющимся в труде) мы на всем протяжении произведения не находим. Приверженцы концепции Якоби обычно используют данный факт как доказательство того, что у Геродота были, помимо «Истории», более ранние сочинения. Но это не объясняет использование будущего, а не прошедшего времени. Судя по всему, дело обстояло иначе: Геродот планировал включить в свою книгу описание Ассирии (очевидно, этот логос должен был находиться где-то в конце повествования), но просто не успел сделать это.
Что натолкнуло Геродота на мысль написать именно историю Греко-персидских войн? Вероятно, многое, но прежде всего — личный опыт. Впечатления детства, проведенного в Галикарнасе: жизнь в статусе подданного Ахеменидов, смутные воспоминания о том, как его родной город участвовал в войнах, причем не на греческой стороне. Юность на Самосе, часто становившемся базой афинского флота: морякам, несомненно, было что рассказать о битвах, победах, подвигах в борьбе с «варварами». Ранние, уже в молодости, посещения Афин: именно там и тогда, в годы лидерства Кимона, начал формироваться грандиозный миф о столкновении Европы и Азии, Запада и Востока, начавшемся по инициативе надменных персов, но приведшем к победе свободолюбивых эллинов.
Атмосфера эпохи была такова, что вполне естественным было решение Геродота сделать то, чего до него никто еще не делал: стать исследователем войн, которые, кстати говоря, хотя и миновали свою кульминацию, но еще продолжались и в 460-е, и в 450-е годы до н. э. Именно это намерение, а не просто досужее любопытство, руководило им, когда он собирал материал для своего труда, а для этого — путешествовал. Судя по всему, Геродот, когда замыслил свой труд, начал именно со странствий. Он посещал преимущественно те страны и местности, которые были как-то связаны с ростом державы Ахеменидов и с Греко-персидскими войнами. Очень характерный факт: он плавал на восток, на юг, на север — но, судя по всему, вплоть до своего участия в основании Фурий ни разу не побывал на западе. И то, что он обошел своим вниманием тамошние земли, надо думать, не случайно: к греко-персидскому конфликту они не имели никакого отношения, и там он просто не получил бы нужной информации.
Переезжая из страны в страну, Геродот бывал на местах тех событий, которые планировал описать, но прежде всего беседовал с людьми — их очевидцами и участниками. Снова напомним: историк в геродотовском (и вообще раннегреческом) понимании — кто-то вроде следователя, он занимается изучением «обстоятельств дела», собирает «свидетельские показания». Конечно же рассказывали ему не только о Греко-персидских войнах, а о многом, многом и многом… Геродот ничего не отбрасывал — всё внимательно выслушивал, подчас записывал. Принявшись за создание своего труда, он, видимо, не захотел, чтобы оказавшийся в его распоряжении богатейший и интереснейший материал остался лежать втуне, и стал постоянно вплетать в ткань своего повествования те или иные его фрагменты.
Разумеется, наш ответ на вопрос о том, в какой последовательности писалось геродотовское сочинение, — точно такое же предположение, как и гипотеза последователей Якоби. Какая из них ближе к истине, мы вряд ли когда-нибудь узнаем со всей определенностью. Но как бы то ни было, в результате работы галикарнасского историка получилось произведение, с одной стороны, обладающее целостной, стройной композицией, а с другой — благодаря многочисленным отступлениям — открытой текстовой структурой{109}. По обилию отступлений труд Геродота стоит довольно близко к произведениям другого литературного жанра, издавна существовавшего в Греции, — эпоса, о чем сейчас и пойдет речь.
Ученые — филологи и историки, — изучавшие труд Геродота, давно уже заметили одну чрезвычайно интересную особенность его построения: в нем очень важное место занимает так называемая фронтонная композиция.
Каждый, наверное, может представить облик классического древнегреческого храма, возведенного по правилам ордерной системы. Прямоугольное здание со всех сторон по периметру окружено рядом колонн, а оба торцевых фасада над колоннами оформлены фронтонами — пологими равнобедренными треугольниками, нижней стороной которых является горизонтальный карниз, а двумя боковыми — скаты крыши.
Оба фронтона храма практически с самого начала появления в Элладе такого типа конструкции обязательно украшались скульптурным или рельефным убранством. Чаще всего изображались сюжеты из различных мифов. Так, на восточном фронтоне афинского Парфенона можно было видеть сцену рождения Афины из головы Зевса, на западном — ее спор с Посейдоном за обладание Аттикой. На фронтонах храма Зевса в Олимпии, построенного чуть раньше (к середине V века до н. э.), представлены соответственно колесничное состязание героев Пелопа и Эномая и борьба племени лапифов с кентаврами. При этом, поскольку фронтон имел симметричную форму, скульптурная группа на нем должна была подчиняться законам симметрии. В центре фронтона, на «кульминационном» (оно же и самое высокое) месте находилась самая крупная фигура, чаще всего божество. А чем ближе к краям, тем меньше оставалось пространства по вертикали; значит, каждая следующая фигура должна была быть ниже предыдущей.
На ранних этапах развития античной скульптуры из положения выходили довольно наивным способом: располагавшиеся ближе к краю композиции персонажи были последовательно меньшими по размеру. Но достаточно быстро пришло понимание того, что это может породить только комический эффект. Ведь если не брать в расчет богов (они в греческом искусстве традиционно изображались крупнее людей), все остальные участники запечатленного мифа, разумеется, были примерно одинакового роста.
Теперь скульпторы стали решать проблему путем воспроизведения человеческих фигур в разных позах. Скажем, на фронтоне храма Афины Афайи на острове Эгина, изображающем битву, в центре — богиня Афина; те воины, которые располагаются ближе к ней, сражаются в полный рост; те, которые дальше, — пригнулись; находящиеся еще дальше встали на одно колено (среди них лучники, целящиеся из своего оружия). Наконец, замыкают композицию с обеих сторон лежащие воины — раненые и умирающие. Всем хватило места на треугольнике фронтона, и все (естественно, кроме Афины) изображены в одну величину, и поза каждого оправданна — не только композиционно, но и сюжетно… Одним словом, решение сложной задачи было найдено просто блистательное. Помимо прочего, оно позволяло делать скульптурные группы напряженными, динамичными, вводить в них самые разнообразные движения. Собственно, классический фронтон в его лучших образцах — это и есть система переданных в камне сложных движений, при этом слитых в живое, целостное единство с «пиком» в центре, который «держит» всю композицию, делает ее, при всей кажущейся пестроте, симметричной и тем самым легко читаемой.
Применяя категории изобразительного искусства к литературному произведению, ученые начали говорить о фронтонных композициях в «Истории» Геродота: движении сюжета вначале «по нарастающей», от завязки к кульминации, а затем от кульминации («вершины фронтона») к развязке «по убывающей». При этом соблюдается четкая симметрия между двумя половинами повествования. Эта концепция обычно применяется при изучении отдельных геродотовских логосов. Наиболее подробно она развита в известной монографии сэра Джона Майрса{110}, текст которой даже сопровождается иллюстрациями-диаграммами, где ряд эпизодов из «Истории» представлен в виде условных «фронтонов».
Очень прояснила весь этот вопрос интереснейшая статья выдающегося отечественного филолога М. Л. Гаспарова «Неполнота и симметрия в „Истории“ Геродота»{111}. Развив тезис о фронтонной композиции, он смог впервые — и весьма доказательно — продемонстрировать, что именно по этому композиционному принципу строились не только те или иные части геродотовского труда, но и весь он в целом. Исследователь показал, что произведение «Отца истории» по построению сюжета являет собой один грандиозный «фронтон». В качестве его «вершины», кульминации повествования выступает битва при Саламине. До нее — одно «крыло» фронтона включает завязку (возникновение Персидской державы) и движение сюжета по нарастающей: рассказ о персидских завоеваниях, в который вставлен очень пространный египетский логос, — Ионийское восстание — Марафон — сражения при Фермопилах и Артемисии. По логике фронтонной композиции, после кульминации должно следовать второе «крыло» фронтона, приблизительно соразмерное с первым. И вот тут обнаруживается, что это «крыло» уж слишком короткое — симметрия явно нарушена: сразу после битв при Платеях и Микале (которые уравновешивают на другом «крыле» соответственно битвы при Фермопилах и Артемисии) труд завершается. Или все-таки обрывается? Ибо трудно допустить, чтобы Геродот, блестящий мастер композиции, в данном случае проявил столь грубое незнание ее основных законов, прежде всего закона симметрии.
В результате исследователь пришел к выводу, что «История» не была окончена автором; он планировал ее продолжить, но по какой-то причине не смог этого сделать. В полном варианте в нее обязательно вошли бы такие события, как, например, сражение при Евримедонте (соответствующее Марафонской битве на противоположном «крыле»), тем более что появлялась великолепная возможность для связующей параллели: победитель при Евримедонте Кимон был сыном марафонского победителя Мильтиада. Зашла бы речь и об экспедиции афинян в Египет в 459–454 годах; этот второй египетский логос уравновешивал бы первый, помещенный ближе к началу труда. А конечным пунктом повествования, скорее всего, стал бы Каллиев мир 449 года до н. э. Таким образом, история Греко-персидских войн была бы доведена до своего истинного окончания.
«История» Геродота, как мы видели, вся проникнута фронтонной композицией — и в смысле общего построения, и в отдельных эпизодах. Она может быть уподоблена гармоничному архитектурному памятнику греческой классики. Это как бы храм, но возведенный не из каменных блоков, а из слов.
Всё это напоминает произведения другого, столь распространенного в Элладе литературного жанра — героического эпоса, представленного прежде всего «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера. Эпические поэмы, в сущности, тоже представляют собой «храмы из слов». Близость геродотовского творчества к эпосу как одна из его существенных жанровых характеристик отмечалась уже неоднократно. «Историю» часто — и совершенно справедливо — относят к категории «эпической историографии»{112}. Это не просто красивая метафора, а важнейшая особенность. Совершенно справедливо пишет один из крупнейших в современном мировом антиковедении знатоков Геродота Франсуа Артог: «Геродот хотел соперничать с Гомером и, завершив „Историю“, стал Геродотом… Геродот черпал силу или дерзость для того, чтобы начать, в эпосе».
Геродот и Гомер, в сущности, работали в чрезвычайно схожей манере. Как последний нарисовал впечатляющую картину Троянской войны на основе разрозненных героических песен своих предшественников-аэдов, инкорпорировав эти песни в собственное повествование, так и у «Отца истории» мы постоянно находим вставленные в труд логосы, в значительной мере взятые из предшествующей традиции.
По контрасту с сочинением Геродота труд Фукидида сопоставляют преимущественно с драматическим жанром, с классической трагедией{113}. Сравнивая «Историю» Геродота и «Историю» Фукидида, нельзя не поражаться тому, как непохожи эти книги, разделенные лишь несколькими десятилетиями. Различия до такой степени велики, что их нельзя отнести на счет расхождений чисто стилистического порядка и даже своеобразия исследовательских методов двух ученых. Пожалуй, здесь следует вести речь о двух разных типах исторического сознания.
«Истории» Геродота в высшей степени свойственно «эпическое раздолье» (термин, традиционно употребляемый филологами в отношении гомеровских поэм). Совершенно особую атмосферу не в последнюю очередь создают хорошо знакомые нам многочисленные авторские отступления. Историк щедро делится с читателями самыми разными сведениями, сплошь и рядом отклоняется от основного предмета своего интереса — Греко-персидских войн, — чтобы дать обширные экскурсы на самые неожиданные темы: то о переселениях эллинских племен много веков назад, то о становлении царской власти в далекой Мидии, то о нравах скифов, то о разливах Нила, то о муравьях величиной с собаку, стерегущих индийское золото… «История» Фукидида — полная противоположность. Ее автор строго придерживается одного сюжета: предпосылок, начала, хода Пелопоннесской войны. Нельзя сказать, что у Фукидида совсем нет отступлений. Но они немногочисленны, обычно кратки, а главное — всегда концептуально и композиционно мотивированы. Если повествование Геродота производит порой впечатление бессистемного до хаотичности, то труд его младшего современника, напротив, весьма стройно и четко структурирован.
Геродот раскован и информативен — Фукидид точен и аккуратен. Первый (если прибегнуть к аналогии, опять же взятой из области изобразительного искусства), подобно живописцу, наносит на полотно новые и новые мазки, создавая пеструю и красочную картину; второй скорее напоминает скульптора — он работает, отсекая всё лишнее, а порой не находит места даже и такому материалу, который мы никак не назвали бы лишним. Для Фукидида более характерны не экскурсы, как у Геродота, а, напротив, пропуски и умолчания{114}. Иными словами, если Геродот подчас говорит больше, чем необходимо, то Фукидид, наоборот, часто говорит меньше, чем следовало бы.
Нам уже приходилось упоминать о коренных различиях в принципах отбора двумя историками материала для своих трудов. Геродот считает своим долгом преподнести читательской аудитории всю информацию, которая есть в его распоряжении: мы слышим в его труде многоголосый хор самых различных мнений{115}. Фукидид же прибегает к сознательному отсеву, излагает только те факты и суждения, которые представляются лично ему достоверными. Метод Фукидида обычно считается началом исторической критики{116}. Пожалуй, это так и есть (хотя, наверное, замалчивание взглядов, с которыми автор не согласен, — всё же не лучший способ критики); но одновременно перед нами — начало догматизма в историописании, который Геродоту был еще чужд{117}.
Практически с самого момента «рождения Клио», в V веке до н. э., наметились две противостоящие друг другу принципиальные установки — их можно назвать «диалогичной» и «монологичной», — которые проявились соответственно у Геродота и Фукидида (а до него, похоже, у логографов). В дальнейшем «геродотовская» и «фукидидовская» линии противоборствовали в античном историописании. Нам, конечно, больше импонирует «диалогизм» — уже потому, что он созвучен наиболее передовым нынешним методикам исторической науки, подчеркивающим необходимость для историка «завязать диалог с культурой иного времени»{118}. Парадоксальным образом Геродот, отделенный от нас двумя с половиной тысячелетиями, оказывается близким нам по своим подходам.
Труд Геродота является открытой текстовой структурой а труд Фукидида — закрытой{119}. И в этом отношении опять напрашивается сравнение соответственно с эпосом и драмой. Памятник эпического жанра принципиально не замкнут, имеет тенденцию к постоянному разрастанию, причем как «вовне», так и «внутрь себя» — посредством вставок, делавшихся новыми поколениями певцов-сказителей. Гомеровские «Илиада» и «Одиссея» обрели свою окончательную, каноническую форму достаточно поздно, в VI веке до н. э., когда благодаря усилиям Солона, а затем Писистрата их текст был зафиксирован{120}. Что же касается драм, особенно трагедий, то их жанр характеризуется чрезвычайно стройной композицией, в которой нельзя ничего ни прибавить, ни убавить.
В произведениях двух великих историков различно также отношение к пространству и особенно ко времени{121}. У Геродота время тоже «эпично»: он мыслит широкими временными категориями, живет в мире веков и десятилетий. Скрупулезно точные, тем более аргументированные датировки у него найти трудно. Фукидид и здесь является его полной противоположностью: рассказ о Пелопоннесской войне строго разбит у него по годам, начало каждой очередной кампании четко фиксируется во времени. Порой хронологическая точность достигает нескольких дней.
В античной традиции Гераклита называли «плачущим философом», а Демокрита — «смеющимся философом». К историкам, насколько нам известно, подобные эпитеты не прилагались. Однако если попробовать охарактеризовать с их помощью двух крупнейших представителей историографии V века до н. э., то выйдет прямо-таки попадание в «десятку». Геродот — в полном смысле слова «смеющийся историк»: всё его жизнеощущение проникнуто глубочайшим оптимизмом, который прорывается почти на каждой странице его труда. Создается впечатление, что этот галикарнасский грек работал с улыбкой на устах. Поражают жизнерадостность и доброжелательность, с которой он относится ко всему человечеству. Он не склонен сводить старые счеты, он не только симпатизирует «своим», эллинам, но говорит немало добрых слов и в адрес народов Востока — египтян, лидийцев и даже «исконных врагов», персов.
Фукидид, напротив, историк-пессимист, «плачущий историк». Его мировоззрение порой мрачно до безысходности. Некоторые фукидидовские пассажи, написанные с огромной силой выразительности, принадлежат, без преувеличения, к самым тяжелым и даже страшным страницам всего античного историописания, наряду со знаменитыми тирадами Тацита. В этой связи вспоминаются аристотелевские категории трагического — сострадание и страх, вызывающие очищение (
Это кардинальное различие в мироощущении двух величайших историков античной Эллады уже в древности не ускользнуло от внимания такого тонкого и проницательного знатока литературы, как Дионисий Галикарнасский. Сравнивая Геродота и Фукидида, он, в числе прочего, пишет: «Я упомяну еще об одной черте… это отношение автора к описываемым событиям. У Геродота оно во всех случаях благожелательное, он радуется успехам и сочувствует при неудачах. У Фукидида же в его отношении к описываемому видна некоторая суровость и язвительность, а также злопамятность… Ведь неудачи своих соотечественников он описывает во всех подробностях, а когда следует сказать об успехах, он или вообще о них не упоминает, или говорит как бы нехотя… Красота Геродота приносит радость, а красота Фукидида вселяет ужас» (
Но почему же эти различия столь колоссальны, будто два историка, лично знакомые, разделены веками? Тут повлияли многие факторы, в том числе конечно же особенности их личностей, но в первую очередь — изменение «духовного климата» эпохи.
Главной исторической реальностью первой половины V века до н. э., отразившейся в труде Геродота, были, бесспорно, Греко-персидские войны, закончившиеся победой эллинов. В сущности, именно в ходе столкновения с Персидской державой «Греция стала Грецией», впервые сформировалось представление об особом мире Запада, резко отличающемся от мира Востока и во всем противостоящем ему.
Именно в таком ракурсе написана вся «История» Геродота, о чем ее автор сразу же дает знать читателям, отмечая в качестве своей главной задачи описание войн между эллинами и «варварами». Греко-персидские войны привели к тому, что эти понятия оказались не просто отчленены друг от друга, а прочно встали в ситуацию тотального контраста. На этом контрасте зиждилось отныне историческое самосознание античной греческой цивилизации{122}.
Этот мировоззренческий дуализм стал главным средством постижения мира и конструирования истории, с помощью которого она предельно упорядочивалась. Пестрый хаос повседневной реальности, рассматриваемый в подобном ракурсе, легко и быстро выстраивался в гармоничный космос — как на природном, так и на социальном уровне. Рождалось оптимистическое ощущение, что миропорядок может быть понят, освоен разумом. Не случайно середина V века до н. э. — время высшего расцвета античного греческого рационализма, когда «на волне побед» более широкое распространение получили представления об историческом прогрессе, развитии от низшего, первобытного, состояния к высшему, культурному{123}, в целом не слишком характерные для античной цивилизации.
Геродот, живший и писавший в этом упорядоченном космосе, в котором всё «встало на свои места», именно поэтому мог позволить себе известные вольности, внести в свой труд пестроту и разноголосицу. Ведь в тот момент ничто не могло поколебать прочный стержень дуального мировосприятия. Победители могли позволить себе быть «открытыми» миру. Само вычленение понятий «свои» и «чужие» способствовало завязыванию диалога.
Еще одним важнейшим историческим событием описываемого периода стало, бесспорно, резкое возвышение в ходе конфликта с державой Ахеменидов Афин, ставших лидером сопротивления «варварскому» натиску и превратившихся в конце концов в «культурную столицу» Эллады. Расцвела афинская демократия, которая явилась в целом ряде отношений предельным воплощением потенций, заложенных в феномене античного полиса. Происходили события огромного исторического значения, подобных которым еще не было; назревало ощущение колоссального прорыва, грядущих невиданных высот. Эти события оказали прямое влияние и на личную судьбу Геродота. Историческое сознание, отразившееся в геродотовском труде, было типичным для эпохи «великого проекта». Удивительная свобода и широта духа, целостность в сочетании с разнообразием проявлений отличали деятелей того времени. Сам Перикл, многолетний лидер Афинского государства, мог, отложив все дела, целый день беседовать с философом Протагором о каком-нибудь чисто умозрительном вопросе (
Что же касается Фукидида, который был одним поколением моложе Геродота, то он в юности еще застал конец этой блестящей эпохи, но в целом на период его жизни пришлось как раз крушение «великого проекта». Грянула Пелопоннесская война — самый крупный и продолжительный вооруженный конфликт внутри самого греческого мира, содержавший все черты настоящей «тотальной войны» и происходивший с чрезвычайным ожесточением. Он поставил на повестку дня совершенно новые проблемы. В частности, имевшее столь большое значение в труде Геродота противопоставление «эллины — варвары» для Фукидида оказывалось уже практически не имеющим значения. Какие уж тут «варвары», когда сами эллины, борясь друг с другом, презрели все когда-то незыблемые нормы…
В Пелопоннесской войне, в сущности, не было победителя. Она положила начало общему кризису полисного мира в целом, в том числе и в идейном плане. Но особенно тяжело она ударила по Афинам. «Город Паллады» пережил сокрушительное поражение, капитулировав перед спартанцами. Демократия дважды (в 411 и 404 годах до н. э.) свергалась в результате государственных переворотов, а после восстановления уже не достигла прежних высот. Рухнул союз полисов, возглавлявшийся Афинами, а с ним — и претензии последних на гегемонию в Элладе.
Война стала временем тяжелых испытаний и лично для Фукидида. В ее начале он оказался одной из жертв обрушившейся на Аттику эпидемии, но, к счастью, выжил. А затем, в 424 году до н. э., единственный раз командуя в качестве стратега эскадрой афинских кораблей, будущий историк неудачно провел операцию у северного побережья Эгейского моря, за что был приговорен к пожизненному изгнанию, и много лет провел в чужих краях. Если Геродот в результате политики Афин обрел полис, став гражданином Фурий, то Фукидид, наоборот, потерял свой полис.
Стройный космос, возникший в ходе Греко-персидских войн, за считаные годы превратился в хаос. Мир стремительно утрачивал смысл. Приходилось форсированно создавать новый, конструируя его буквально на руинах и обломках. Фукидид это и делал. Ему уже никак нельзя было сохранить геродотовскую открытость и широту тем и взглядов. Напротив, если в эпоху «космоса» историк мог позволить себе быть несколько «хаотичным», то в эпоху «хаоса» исторический труд должен был стать максимально «космичным», строго упорядоченным (пусть даже до концептуальной узости) и закрытым в структурном плане. Разумный миропорядок, утраченный на уровне реальной жизни, требовалось восстановить хотя бы на уровне текста.
Геродот писал для «поколения победителей», осознавшего свою силу; первой читательской аудиторией Фукидида было «поколение побежденных», «потерянное поколение» послевоенных лет, ощущавшее только собственную слабость, растерянность и отсутствие ориентиров.
Геродот в четко структурированном ментальном космосе своего времени мог совершать увлекательные «путешествия духа» без всякой опаски заблудиться. В погрузившемся в хаос мире Фукидида такая опасность была вполне реальной, и историк, никуда не отклоняясь, строго следовал вехам своих базовых принципов, дабы поддержать поколебленную идентичность. Два поколения, столь близкие друг к другу, были разделены непреодолимой чертой.
Решив создать историю Греко-персидских войн, Геродот пустился в свои многочисленные путешествия. А как еще он мог бы собрать информацию для своего труда? Ведь предшественников, чьими произведениями можно было бы воспользоваться как источниками (именно так работают современные историки, которым поэтому почти не приходится странствовать), у него не было.
Разумеется, галикарнасец посетил места крупнейших, самых важных сражений между эллинами и персами: Марафонского, Фермопильского, Саламинского, Платейского. Его рассказы об этих битвах подробны, продуманны и не оставляют сомнения: писал человек, хорошо изучивший топографию каждой местности.
Однако для Геродота Греко-персидские войны были не просто чередой сражений. Он хотел дать их максимально широкую и полную картину. По каким причинам они начались? Почему ход военных действий оказался именно таким? Историк показывает, как одно событие «цепляет» за собой другое, образуются причинно-следственные цепочки и всё приходит в конце концов к парадоксальному результату — победе маленькой Эллады над колоссальной мировой империей.
«Отец истории», таким образом, уже активно ставит не только вопросы «когда?», «кто?» и «как?», но и «почему?». Последний, по мнению некоторых ученых Нового времени (прежде всего позитивистов), вообще не относится к ведению исторической науки. Этим, дескать, должна заниматься хотя и смежная, но все-таки иная дисциплина — философия истории; задача же историка — скрупулезно собирать факты. И всё же хорошо, что Геродот не пошел по этому пути.
Итак, он задался целью осветить Греко-персидские войны не только возможно более широко и полно, но и системно — не как простой набор событий, а как их связную последовательность, объединенную внутренней логикой. Более того, он поставил перед собой сверхъестественно трудную задачу — показать вооруженный конфликт с двух сторон, как «глазами эллина», так и «глазами перса».
Такой подход требует просто-таки колоссальных усилий, он даже и большинству современных историков не по плечу, особенно если автор описания какой-либо войны сам является гражданином одной из воевавших стран. Самое сложное в такой ситуации — остаться объективным. Это еще не столь трудно сделать, если, допустим, русский историк работает над книгой о Франко-прусской войне. Тут его патриотические чувства никак не задеты. Совсем другое дело — когда ему приходится изучать, например, Отечественную войну 1812 года. Войска французского императора истребили множество русских солдат, опустошили Москву, занимались мародерством… Как тут встать на точку зрения противника? А ведь это необходимо, если мы хотим, чтобы картина войны оказалась целостной и сбалансированной.
Это сполна удается Геродоту! В его труде постоянно меняется точка зрения на войну (не в метафорическом значении, как синоним слова «позиция», а в прямом смысле — точка, откуда автор смотрит): то с афинского Акрополя, то с высот Парнаса, где лежит Дельфийское святилище, то из Милета, то из Спарты, то из дворца или ставки «Великого царя» — владыки Персидской державы. Он пытается понять не только логику греков, но и логику их врагов. Если кому в классической Греции такой «двойной взгляд» и был под силу, то именно Геродоту: будучи эллином, он родился и вырос в Галикарнасе персидским подданным. Стоя на грани двух культурных «миров» и принадлежа одновременно к обоим, он мог приобщиться к типу мышления двух цивилизаций.
Для реализации того грандиозного замысла, который сформировался в уме «Отца истории», подготовительные путешествия также должны были быть грандиозными. Ни один другой античный автор не странствовал столько, сколько Геродот. Для постижения основного смысла истории как противостояния эллинов и «варваров» галикарнасец просто обязан был совершить поездки по территориям, где обитали и те и другие. Пожалуй, вояжи в «варварские земли» — как покоренные персами, так и те, которые им не удалось подчинить, — даже преобладают.
Грецию он прошел в полном смысле слова вдоль и поперек, побывал не только в местах, напрямую связанных с ходом Греко-персидских войн, но и в тех, которые имели лишь косвенное отношение к теме его труда. Геродот посещал различные эллинские полисы не только для сбора сведений, но и, выражаясь современным языком, для «гастролей». Ведь мы знаем, что по мере написания своего труда он имел обыкновение публично читать отрывки из него. Это было полезно во многих отношениях, в том числе и в материальном. Помимо денежных наград такое чтение приносило историку и рост популярности. Допускаем, что у него был и мотив совершенно иного рода. Зная греков — этих великих спорщиков, которые ничего не принимали на веру, любую информацию старались пытливо и скрупулезно проверять, — можно быть уверенным: любая лекция Геродота неизбежно вызывала дискуссию, автору задавались вопросы, высказывались возражения… И ему приходилось быть во всеоружии, чтобы доказательно отстоять свою точку зрения, — либо принимать более аргументированное мнение.
В «Истории», похоже, сохранились следы подобных дебатов. В одном месте своего сочинения Геродот рассказывает о том, что один из знатнейших персов — Отан — был якобы сторонником демократии и в 522 году до н. э. предлагал ввести ее в Ахеменидской державе (III. 80). А много спустя и совсем в другой связи он говорит: «Здесь-то и произошло нечто такое, что я назову самым поразительным событием для тех эллинов, которые не желали верить, будто Отан предложил… ввести демократию в Персии. И действительно, Мардоний низложил всех ионийских тиранов и установил в городах демократическое правление» (VI. 43). (Здесь имеются в виду события 493 года до н. э., последствия Ионийского восстания.)
Геродот явно вступает в полемику. Кто были его оппоненты, он не указывает; вероятнее всего, какие-нибудь слушатели, которые усомнились: возможно ли, чтобы в Персии ставился вопрос об учреждении демократии даже раньше, чем она появилась в Афинах?{124} Сомнение было вполне резонным: разумеется, ни о какой демократии в великой восточной империи в VI веке до н. э. и речи быть не могло, ее монархическое устройство не подвергалось ни малейшему сомнению. Геродот, видимо, долго думал, что ответить, и нашел-таки довод — впрочем, честно говоря, слабоватый. Мардоний, известный нам видный персидский военачальник, руководивший подавлением Ионийского восстания, после него низложил в полисах Ионии тиранов и установил там демократические режимы конечно же не потому, что он был большим «демократом», а по вполне прагматическим причинам. Во-первых, вассальные тираны — а ранее персы управляли попавшими под их власть греками именно через этих своих ставленников — оказались ненадежными (Ионийское восстание начал не кто иной, как милетский тиран Аристагор). Во-вторых, персидские владыки, видимо, со временем почувствовали, насколько ненавистна эллинам тирания, и решили не злоупотреблять ею, дабы не спровоцировать нового восстания ионийцев: пусть уж лучше довольствуются видимостью демократического самоуправления под верховным контролем «Великого царя» и его сатрапов{125}… «Политический эксперимент» Мардония оказался кратковременным: через несколько лет персы вернулись к практике назначения правителями малоазийских греков вассальных тиранов, просто стали тщательнее отбирать их кандидатуры.
Геродот должен был постоянно сталкиваться с подобными ситуациями. Наверняка находились люди, знавшие тот или иной эпизод Греко-персидских войн лучше, чем он сам, — например, очевидцы событий. Их замечания и поправки оказывались особенно ценными, позволяли историку уточнить некоторые факты, что шло его труду только на пользу.
Историк в разное время читал свое сочинение в целом ряде городов. Мы уже знаем, что он делал это в Афинах, причем, скорее всего, неоднократно. Давал он аналогичные лекции также в Коринфе, Фивах и других местах, а однажды прибыл с этой целью в Олимпию, когда там начинались Олимпийские игры (
Момент был выбран подходящий. Игры, проходившие в священном городе в долине реки Алфей раз в четыре года, были не только популярными спортивными состязаниями, но представляли собой (в отличие от Олимпийских игр современности) прежде всего крупнейший панэллинский религиозный праздник в честь верховного бога Зевса. Открывался он, как подобало, чисто культовыми мероприятиями — торжественной процессией и жертвоприношением, а потом уже начинались собственно соревнования атлетов. Для людей, поднаторевших в самых различных искусствах и умениях, Олимпийские игры были великолепным случаем блеснуть своим мастерством.
Вот как, например, повел себя однажды в Олимпии софист Гиппий Элидский, кичившийся широтой своих интересов и занятий, считавший, что знает и умеет чуть ли не всё, что доступно человеку. Эпизод этот передал Платон, вложив его в уста Сократа, обращавшегося к самому Гиппию:
«Ты говорил, что, когда однажды прибыл в Олимпию, всё твое тело было украшено изделиями твоих собственных рук, и прежде всего начал ты с перстня, сказав, что это вещь твоей работы, поскольку ты владеешь искусством резьбы по камню; и другая печатка оказалась твоим изделием, а также скребок и флакончик для масла — будто ты сработал их сам; потом ты сказал, что свои сандалии на ремнях ты собственноручно вырезал из кожи, а также скроил свой плащ и короткий хитон. Но что уж всем показалось весьма необычным и знаком высокой мудрости, так это твое заявление, будто ты сам сплел свой поясок для хитона, хотя такие пояса обычно носят богатые персы. Вдобавок ты заявил, что принес с собою поэмы, эпические стихи, трагедии и дифирамбы и много нестихотворных, на разнообразный лад сочиненных речей» (
На великий, прославленный праздник в Олимпию стекались десятки тысяч зрителей со всей Эллады. Их ничто не могло остановить. В 480 году до н. э., когда на греков надвигались колоссальные полчища Ксеркса, Олимпийские игры не были отменены![56] Они проходили как раз в тот момент, когда отряд спартанского царя Леонида пытался удержать «варваров» у Фермопил. Именно поэтому состав отряда и был таким немногочисленным: основное войско Эллинского союза планировало присоединиться к нему после окончания игр (VII. 206). Но когда они завершились, было уже поздно: персы, разгромив Леонида, прорвались через Фермопильский проход…
Однако, как ни парадоксально, сам факт, что греки даже в годину столь грозной опасности не изменили древнему обычаю, оказал им хорошую услугу, произведя на Ксеркса сильный эффект. Персидский владыка был поражен: «…К персам прибыло несколько перебежчиков из Аркадии… Их привели пред очи царя и спросили, что теперь делают эллины. Один из персов от имени всех задавал вопросы. Аркадцы отвечали, что эллины справляют олимпийский праздник — смотрят гимнические и иппические (спортивные и конные. —
Итак, Олимпия в период игр была самым подходящим местом, где можно было «и других посмотреть, и себя показать». Выпадал случай прочесть куски из своего труда перед аудиторией не просто чрезвычайно многочисленной, но, главное, происходящей из разных мест, и не без оснований надеяться на то, что эти люди, вернувшись домой, разнесут славу историка по своим городам. С другой стороны, был наибольший шанс встретить среди слушателей тех, кто хорошо знал и помнил многие события Греко-персидских войн, и на основании их рассказов внести дополнения или поправки в свое сочинение.
Возможно, именно в Олимпии произошел упоминавшийся выше эпизод, когда чтение Геродота слушал Фукидид, еще мальчиком, и был растроган до слез («Суда», статья «Фукидид»). Будущего «наследника Геродота» взял с собой на игры его отец Олор, отправившись туда не только в качестве зрителя, но не исключено, что и участника. Известно, что ветвь рода Филаидов, к которой принадлежали Олор и Фукидид, славилась успехами в спортивной борьбе.
Олимпия находилась на Пелопоннесе. Там же располагалась и Спарта — во времена «Отца истории» вторая, наряду с Афинами, «сверхдержава» греческого мира и, что еще важнее, лидер эллинского сопротивления на первом этапе Греко-персидских войн. Никак нельзя было писать об этом конфликте, не останавливаясь подробно на спартанских делах. Но по всему чувствуется: Спарта знакома Геродоту меньше, чем Афины.
Как мы знаем, галикарнасский историк с определенного, довольно раннего момента своей биографии зарекомендовал себя как ревностный сторонник афинян, что ставило его по отношению к спартанцам в положение если не врага, то уж, во всяком случае, и не преданного друга. Прошли те годы, когда два сильнейших греческих полиса «рука об руку» отражали натиск персов. Не успели изгнать «восточных варваров», как уже в рядах победителей начались трения между бывшими соратниками. В те времена любому греку уже приходилось выбирать: «за Спарту или за Афины?».
Союз между афинским и спартанским полисами официально сохранялся до 462 года до н. э. Однако после изгнания Кимона из Афин противостояние двух славных городов не просто возобновилось, но вышло на новый уровень. Между бывшими союзниками началась так называемая Малая Пелопоннесская война (460–446), которая шла с переменным успехом, не принося решающего перевеса ни одной из сторон, и в конце концов завершилась мирным договором, разграничившим афинскую и спартанскую «сферы влияния» в Греции и Эгеиде. Звон оружия стих, но прежнего доверия и дружбы, конечно, уже не было. Недавний конфликт заслонил собой совместную борьбу против Персии. Нарастали взаимные претензии, внешнеполитическая обстановка становилась все более напряженной. Зрела новая война.
Именно потому, что Геродота чрезвычайно тепло принимали в Афинах, — его никак не могли так же принимать в Спарте. Спартанский полис, суровый, военизированный, отгородился от прочих государств Эллады подобием «железного занавеса». Пребывание любых иноземцев на территории Спарты не поощрялось — дабы они, с одной стороны, не «развратили» местных граждан, а с другой — не выведали военные тайны.
Полный контраст спартанцев и афинян был замечен уже современниками событий. Перикл говорил: «В военных попечениях мы руководствуемся иными правилами, нежели наши противники. Так, например, мы всем разрешаем посещать наш город и никогда не препятствуем знакомиться и осматривать его и не высылаем чужеземцев из страха, что противник может проникнуть в наши тайны и извлечь для себя пользу» (
Разумеется, по тем временам совершенно исключить проникновение иноземцев в свое государство спартанцам было невозможно, тем более что их полис по территории был самым большим в Греции, а эффективная охрана государственных границ в полисных условиях не могла быть организована — не было никаких застав с гарнизонами, пограничников с собаками, колючей проволоки по периметру… Так что выходцы из других городов в Спарту все-таки попадали. Для борьбы с ними применяли специальную меру, называвшуюся «ксенеласия» (в переводе — «изгнание чужаков»): время от времени их выявляли и выдворяли за спартанские пределы. Разумеется, это не относилось к официальным представителям различных полисов, прибывших с дипломатической миссией. Впрочем, даже с ними не слишком церемонились. Так, когда Лакедемон посетил в качестве посла Аристагор, тиран Милета и вождь Ионийского восстания, царь Клеомен I заявил ему: «Друг из Милета! Покинь Спарту до захода солнца!» (V. 50). Ранее спартанцы выслали из страны самосского посла Меандрия (III. 148).
Даже деятели культуры, как правило, не могли рассчитывать в Спарте на радушный прием. Спартанцы порой просто бравировали своей духовной непритязательностью, глубоким презрением ко всему изысканному. Клеомену I «кто-то хотел представить… музыканта и всячески расхваливал достоинства этого человека, утверждая, что это лучший музыкант из всех эллинов. Клеомен же, указав на одного из стоявших возле, воскликнул: „А вот этот у меня, клянусь богами, лучший кашевар!“» (
Впрочем, нельзя всё же считать спартанцев абсолютно чуждыми культуре. Кое-какие ее отрасли их интересовали, и в первую очередь как раз история. В Спарте не раз выступал с речами известный нам софист Гиппий. На вопрос Сократа, что привлекает лакедемонян, Гиппий ответил: «О родословной героев и людей, Сократ, о заселении колоний, о том, как в старину основывались города, — одним словом, они с особенным удовольствием слушают все рассказы о далеком прошлом, так что из-за них я и сам вынужден был очень тщательно всё это изучить» (
Для Гиппия визиты в спартанское государство особых проблем не порождали, ведь он был там в известной степени «своим»: Элида, гражданином которой он являлся, входила в состав Пелопоннесского союза, возглавлявшегося Спартой. А вот Геродот «своим» вряд ли мог считаться: его родиной были места, входившие в афинскую зону влияния. Единственное, что роднило «Отца истории» со спартанцами, — то, что он тоже был дорийцем. Однако семья галикарнасца была этнически смешанной, греко-карийской, а спартанцы как раз гордились «чистотой» своего дорийского происхождения. Да и писал свой труд историк не на дорийском, а на ионийском диалекте.
Короче, многое препятствовало посещению Геродотом Спарты. И всё же он там был! Помогли ему традиционные для греческого мира связи дружбы-гостеприимства, распространявшиеся за полисные перегородки, способствовавшие укреплению единства между эллинами. У Геродота появился друг-спартанец — Архий, сын Самия. Знакомство произошло «в Питане, спартанском округе, откуда он был родом. Он говорил о самосцах с большим уважением, чем обо всех прочих чужеземцах. Его отец получил имя Самия, потому что дед нашел на Самосе доблестную смерть. По его словам, он уважает самосцев за то, что те похоронили его деда и воздвигли ему памятник за счет города» (III. 55). Дед Архия погиб еще в VI веке до н. э., когда спартанцы безуспешно пытались свергнуть на Самосе тамошнего тирана Поликрата. Как видим, самосцы отнеслись к павшему врагу с почетом. Их красивый жест привел к тому, что из враждебности выросла наследственная дружба между самосскими гражданами и семьей Архия. Как видим, один из представителей семьи в честь этой дружбы даже носил имя Самий, то есть «самосец».
Так поступали обычно в тех случаях, когда устанавливалась проксения{126} — какая-нибудь семья добровольно принимала на себя обязанности представителей другого полиса в своем (в данном случае — Самоса в Спарте). Поскольку в полисном греческом мире не существовало постоянно функционировавших посольств, проксены играли немаловажную роль в межгосударственном праве и дипломатии, схожую с функцией современных консулов. Проксен являлся посредником между собственным полисом и тем, который он представлял: прибывавшие из него граждане, в том числе послы, останавливались именно в его доме; он оказывал им всяческое содействие, в частности, вводил в местные органы власти. Проксения в рамках семьи обычно была наследственной. Судя по всему, Архий был именно таким самосским проксеном в Спарте{127}. Геродот долгие годы провел на Самосе и наверняка именно оттуда отправился в Спарту, а друзья-самосцы снабдили историка рекомендательным письмом к Архию, дабы тот оказал ему гостеприимство. Находясь под защитой проксена, изгнанник-галикарнасец мог не опасаться ксенеласии.
Впрочем, не похоже, чтобы Геродот часто пользовался спартанским гостеприимством. Возможно, его визит в Лакедемон так и остался единственным. Он, правда, демонстрирует знание спартанской топографии — например, говорит о пригородном селении Ферапна, где находились святилища Аполлона и знаменитой мифологической героини Елены Прекрасной (VI. 61). Но Аттику «Отец истории» знал все-таки намного лучше.
Геродоту, конечно, были неплохо известны некоторые спартанские реалии. Так, он подробно и красочно рассказывает об обязанностях и привилегиях спартанских царей, об обрядах, которыми сопровождались их похороны (VI. 56–59). Но для получения этих сведений ему было необязательно подолгу жить в Спарте — достаточно было пообщаться со спартанцами. Последние в качестве информаторов в «Истории» названы не раз; Геродот, безусловно, с ними беседовал, но из этого не следует, что все беседы проходили на территории спартанского государства. Лакедемонян легко можно было встретить во многих местах Греции, но гораздо труднее — побудить их что-либо рассказать. Прославленные своим немногословием (бытующее и по сей день выражение «говорить лаконично» пошло именно от лаконян, то есть спартанцев), воспитанные в духе строгой дисциплины и хранения отечественных тайн, они наверняка были не самыми легкими собеседниками. Но зато легким собеседником был сам Геродот! Всё, что мы о нем знаем, не оставляет сомнения: общительностью, открытостью характера и душевной щедростью он отличался в высшей степени. В беседе с ним «оттаивали» и самые суровые сердца.
Обычно Геродот повествует о быте, нравах, обычаях только «варварских» народов; ведя же речь о том или ином греческом полисе, он не распространяется специально о присущем его обитателям образе жизни. Предполагалось, что у всех эллинов он более или менее одинаков; зачем же рассказывать известные вещи? А на бытии спартанцев историк останавливается довольно подробно. Тому есть несколько причин.
Остальные греки (эллины — народ любознательный) очень желали знать, как же живут в этой Спарте — «закрытой», нелюдимой, упорно таящей свои секреты (и не потому ли столь сильной?). Спартанцы действительно во многом были непохожи на соседей. Некоторые их традиции казались Геродоту (не только ему, но даже некоторым современным исследователям{128}) не совсем эллинскими. «Отец истории» не раз специально отмечает: «Обычаи лакедемонян при кончине царей такие же, как и у азиатских варваров… Есть еще у спартанцев вот какой обычай, схожий с персидским… А вот следующий обычай лакедемонян похож на египетский…» (VI. 58–60). Удивительно, что спартанцы — в каких-то отношениях «эллины из эллинов» (некоторые ученые XIX века считали их идеальным, образцовым воплощением «эллинского духа») — в других проявлениях оказывались близкими к «варварам».
Наиболее странным для остальных греков был, конечно, уникальный спартанский феномен двойной царской власти; ему-то историк и уделяет особенно много места в своих «спартанских» рассказах. В то время как в подавляющем большинстве полисов монархии были ликвидированы еще в начале архаической эпохи, в Спарте цари остались. Вдобавок их было двое, и представляли они две династии — Агиадов и Еврипонтидов.
Причины возникновения этой «двойной монархии» (впрочем, монархией эту форму правления назвать трудно, поскольку монархия по определению «власть одного») по сей день окончательно неясны, и мы не будем здесь их искать; отметим только, что это, несомненно, феномен очень древнего происхождения. Спартанцы вообще отличались — и в государственном устройстве, и в быту — приверженностью к рудиментам далекой старины. Эти архаичные элементы и могли восприниматься как «варварские» прочими греками, давно шагнувшими на иной уровень развития и забывшими, что когда-то у них было нечто подобное.
В целом отношение Геродота к Спарте не является отрицательным. В его труде, например, сказано, что в ней «прекрасное государственное устройство» (I. 65). Здесь, кстати, историк выражает общее мнение, сложившееся в Греции к его времени. Правда, некоторые исследователи считают, что в «Истории» кое-где присутствует антиспартанская тенденция, указывая на те или иные пассажи. Но в результате скрупулезного выискивания там же можно найти и антиафинские выпады. Однако ни те ни другие не являются определяющими. В целом для Геродота как Афины, так и Спарта — города, заслуживающие всяческого уважения, самые сильные и самые лучшие в Элладе, безоговорочные лидеры сопротивления персидской агрессии. Это, кстати, еще одно доказательство того, что основные взгляды «Отца истории» сформировались скорее при лаконофиле Кимоне, чем при Перикле, нагнетавшем афино-спартанское соперничество.
Переместимся чуть севернее Спарты, в гористую Аркадию. На территории этой области в архаическую и классическую эпохи существовали несколько полисов, самым сильным из которых считалась Тегея (она располагалась ближе всех к спартанским границам). Тегейцы долгое время гордились тем, что их гоплитское ополчение по своим боевым качествам считалось вторым после спартанского, остававшегося вне конкуренции. В VI веке до н. э. Спарта, желая подчинить Тегею, вела с ней ряд войн (I. 66–68), оказавшихся неожиданно трудными, — лакедемоняне даже потерпели несколько поражений. В конечном счете победа была достигнута, но это не был полный разгром: Тегея не была присоединена к территории Спарты, а вступила с ней пусть и в неравноправные, но союзнические отношения. Этим было положено начало Пелопоннесскому союзу.
В Тегее, похоже, Геродот тоже был. Скорее всего, он посетил ее, направляясь в Спарту: главный путь туда лежал именно через тегейские земли. В «Истории» упоминается произведение художественного ремесла — персидские «конские ясли целиком из меди замечательно искусной работы» (IX. 70), когда-то принадлежавшие персидскому вождю Мардонию. После его гибели в сражении при Платеях тегейцы, сыгравшие в битве активную роль, забрали ясли себе в качестве трофея и «посвятили в храм Афины Алей» (IX. 70); очевидно, там историк их и видел.
Упомянутое святилище было одним из самых почитаемых в Греции, снискав популярность, в частности, как место убежища: пока человек, опасающийся преследования, укрывался на его священном участке, ему не грозила никакая опасность. Порой в храме Афины Алей находили пристанище даже спартанские цари, уличенные в каком-нибудь преступлении и вынужденные бежать из своего города.
На севере Пелопоннеса, неподалеку от Коринфского залива, лежал полис Сикион. В архаическую эпоху он был известен тем, что там установилась самая прочная в древнегреческой истории тирания. Городом правила династия Орфагоридов, продержавшаяся у власти более века (около 670–556). Последний тиран из этой династии был свергнут спартанцами, после чего Сикион вошел в состав Пелопоннесского союза.
Самым прославленным из сикионских тиранов был Клисфен (кстати, в честь него был назван внук — «отец афинской демократии»). О Клисфене-тиране — весьма яркой и неоднозначной личности (что было вообще типично для представителей архаической греческой тирании) — Геродот пишет неоднократно, подробно и красочно. Он предстает в труде историка то как блистательный аристократ, превративший поиски жениха для своей дочери Агаристы в настоящий «турнир доблести», то как самовластный и довольно жестокий владыка, не слишком считающийся со своими подданными. Да что там с подданными! Клисфен Сикионский считал себя правомочным вершить свою волю даже над мифологическими героями. В его деятельности особенно ярко прослеживается манипуляция религиозными ценностями в политических целях. Вот что говорит об этом Геродот:
«…Клисфен во время войны с Аргосом запретил рапсодам устраивать состязания в Сикионе потому именно, что в эпических песнях Гомера почти всюду воспеваются Аргос и аргосцы. Затем тиран хотел изгнать из страны героя Адраста, сына Талая, храм которого стоял и поныне стоит на самой рыночной площади, за то, что тот был аргосцем. Клисфен прибыл в Дельфы вопросить оракул, изгнать ли ему Адраста. Пифия же изрекла ему в ответ: Адраст — царь Сикиона, а он, Клисфен, — только жестокий тиран. По возвращении домой, так как бог не позволил тирану уничтожить почитание Адраста, Клисфен стал придумывать средства, как бы заставить Адраста добровольно уйти из Сикиона. Когда он решил, что средство найдено, то послал в Беотийские Фивы и велел сказать, что желает призвать в Сикион героя Меланиппа, сына Астака. Фиванцы согласились, а Клисфен призвал Меланиппа в Сикион, посвятил ему священный участок у самого пританея и воздвиг храм в самом неприступном месте города. Призвал же Клисфен Меланиппа (это тоже нужно добавить) потому, что тот был заклятым врагом Адраста… После посвящения храма Клисфен отнял у Адраста жертвоприношения и празднества и отдал их Меланиппу» (V. 67).
Замечательный, уникальный рассказ, прекрасно рисующий черты сознания архаических греков! Из него может сложиться полное впечатление, что Клисфен борется с живым человеком и призывает против него на помощь другого человека. А между тем Адраст и Меланипп если когда-нибудь и жили, то за много веков до Клисфена. Но, как видим, ни тиран, ни его современники не сомневались в реальном влиянии на события этих древних героев и в возможности борьбы с ним.
В этом экскурсе Геродот показывает знание топографии Сикиона. Он упоминает пританей — здание, где размещались власти в греческих полисах, — а также рыночную площадь, то есть агору. Говоря о последней, историк специально отмечает, что храм Адраста стоит на ней еще и в его время. Стало быть, храм этот он видел собственными глазами.
Совсем неподалеку к востоку от Сикиона, на перешейке Истм, находился Коринф, лежавший, как мы знаем, на исключительно удобном месте, где пересекались сухопутные и морские пути. Если какой-то город мог быть назван «географическим средоточием» Балканской Греции, то это именно Коринф. Не случайно, если требовалось созвать панэллинский конгресс с участием послов из различных государств Греции, то заседал он чаще всего именно на Истме.
Мы уже высказывали предположение, что впервые Геродот мог побывать в Коринфе еще в юности, направляясь в Дельфы. Во всяком случае, впоследствии «Отец истории» навещал Коринф неоднократно, ведь его практически невозможно было миновать, если путь лежал на Пелопоннес или из Пелопоннеса.
В одном месте геродотовского труда, например, упоминается, что после Саламинского морского сражения победившие эллины решили сделать богам подобающее приношение — несколько захваченных в бою финикийских триер. «Одну послали на Истм, где ее можно видеть еще и поныне», — замечает автор (VIII. 121). Значит, он сам ее видел. На Истме, близ Коринфа, находилось крупное святилище Посейдона, Несомненно, именно ему был посвящен вражеский корабль — в благодарность за то, что бог морей помог грекам одержать верх.
Из сообщений античных писателей (
Отношение к Коринфу и коринфянам у Геродота и в самом деле было весьма неоднозначным и противоречивым. С одной стороны, он указывает, что в конце VI века до н. э. коринфяне дважды спасли Афины от спартанского разгрома. Вначале в 507 году, когда Клисфен установил в афинском полисе демократию, а его главный соперник — ставленник Спарты Исагор — был вынужден бежать, лакедемоняне разгневались и послали на Аттику мощное войско Пелопоннесского союза, в котором был и коринфский контингент. Афиняне по военным силам никак не могли равняться с противниками и были, казалось, обречены. Но, «когда оба войска должны были уже сойтись для битвы, сначала коринфяне сообразили, что поступают несправедливо, одумались и возвратились домой… И вот когда остальные союзники в Элевсине увидели, что… коринфяне покинули боевые ряды, то и сами также возвратились домой» (V. 75–76).
Через несколько лет после этого бесславного похода у спартанского царя Клеомена I, по-прежнему хотевшего подчинить непокорный город своей воле, созрел план: восстановить у власти афинского тирана Гиппия, которого он же и сверг в 510 году до н. э. Однако новым замыслам спартанцев воспротивились коринфяне. Их представитель Сокл на заседании конгресса Пелопоннесского союза произнес яркую, вдохновенную речь, в которой убеждал лакедемонян, известных во всей Элладе как убежденные ненавистники тирании, не пятнать свою репутацию поддержкой тирана.
«Прочие же союзники сначала молчаливо слушали. А когда они услышали откровенную речь Сокла, то один за другим нарушили молчание и присоединились к мнению коринфянина. Они заклинали лакедемонян не затевать недоброго в эллинского городе. Так эти планы расстроились» (V. 93–94).
Однако имеются у «Отца истории» и места противоположного содержания, и прежде всего рассказ о Саламинском морском сражении. Входившие в состав союзного греческого флота коринфяне предстают настоящими трусами: «Что касается Адиманта, коринфского военачальника, то он, по рассказам афинян, с самого начала битвы в смертельном страхе велел поднять паруса и бежал. Коринфяне же, видя бегство корабля военачальника, тоже бежали. Когда беглецы были уже вблизи святилища Афины Скирады на Саламине, навстречу им вышло какое-то парусное судно… Люди, бывшие на нем, сказали: „Адимант! Ты обратился в бегство с твоими кораблями, предательски покинув эллинов. А эллины все-таки одерживают столь полную победу над врагом, о какой они могли только мечтать!“… Тогда Адимант и другие коринфяне повернули свои корабли и возвратились назад к флоту, когда битва уже кончилась. Так гласит афинское предание. Коринфяне же, конечно, возражают против этого, утверждая, что доблестно сражались в битве в числе эллинов. Все прочие эллины подтверждают это» (VIII. 94).
Действительно, из других источников известно, что коринфяне сражались при Саламине вполне достойно, а Адимант был талантливым и мужественным полководцем. Что же заставило великого историка столь грубо исказить истину и представить довольно нелепую версию событий, очернив славного героя, чье имя — Адимант — в переводе означает «Неустрашимый»? Неужели сыграли роль личная обида и неудовлетворенная корысть?
Дело обстояло намного сложнее. В годы лидерства Перикла поступательно ухудшались отношения Афин с Пелопоннесским союзом, а в особенности с Коринфом. Между двумя важнейшими экономическими центрами Греции обострялась конкуренция. Афиняне все активнее действовали в Южной Италии и Сицилии — в регионе, издавна считавшемся зоной интересов коринфян. Собственно, афино-коринфская напряженность стала одной из главных причин Пелопоннесской войны. Геродот еще застал эти события. В описании конгресса Пелопоннесского союза по вопросу о возвращении Гиппия в Афины опальный тиран говорит: «Как раз коринфянам-то еще больше всех придется желать возвращения Писистратидов. Придет день, и они еще натерпятся от афинян» (V. 93).
Вспомним, что галикарнасец работал над своим трудом на протяжении многих лет, начав его еще при Кимоне, когда между афинянами и пелопоннесцами преобладала прочная дружба, и продолжая уже при Перикле, когда межполисные отношения в Греции претерпели серьезнейшие изменения. Видимо, положительные оценки коринфян в «Истории» относятся к раннему, «кимоновскому» периоду работы над сочинением, а отрицательные — к более позднему, «перикловскому».
Но даже в рассказе о Саламине Геродот всё же не встает однозначно на антикоринфскую точку зрения. Излагая псевдоисторический миф о трусости коринфян и Адиманта, он специально оговаривает, что это именно афинское предание, остальные же эллины считают иначе. Собственного мнения на сей счет историк открыто не высказывает. Так часто бывает в его труде: приведя несколько противоречащих друг другу, даже взаимоисключающих версий события, автор предоставляет читателю самому решать, какая из них ближе к истине.
С «коринфской» проблемой в произведении Геродота имеет большое сходство «фиванская». В Фивах, крупнейшем центре Беотии, «Отец истории» тоже, безусловно, бывал. Он прямо пишет об этом: «И мне самому пришлось видеть в святилище Аполлона Исмения в Беотийских Фивах кадмейские письмена, вырезанные на нескольких треножниках» (V. 59). Очевидно, здесь имеются в виду древние греческие надписи, — но, впрочем, сделанные не слоговым письмом, распространенным в бассейне Эгейского моря во II тысячелетии до н. э., а уже алфавитным, ведь Геродот смог их прочесть и переписать, раз приводит тексты. А если бы он столкнулся со знаками слоговой письменности, сомнительно, что он вообще опознал бы в них именно письменные знаки — настолько они выглядели бы для него непривычно.
По поводу пребывания великого историка в Беотии и Фивах Плутарх в сочинении «О злокозненности Геродота» говорит: «Аристофан Беотийский написал, что Геродот требовал от беотийцев денег, но не получил их, что он начал было беседовать с юношами и преподавать им, но беотийские власти запретили ему это вследствие их некультурности и их враждебности к науке. Это утверждение оставалось бы недоказанным, если бы сам Геродот в своем труде не подтверждал как свидетель обвинений Аристофана: в его сочинении одни обвинения против фиванцев представляют собой ложь, другие — клевету, третьи продиктованы ненавистью и враждебностью к фиванцам…» (
Как видим, ситуация опять касается денег… Если принять на веру слова некоторых античных авторов, Геродот, этакий мстительный корыстолюбец, только и делал, что, разъезжая по греческим городам, повсюду требовал наград и подачек, не получив же их, немедленно чернил эти полисы в своей «Истории».
Но в действительности, конечно, отношение к Фивам, проявившееся в геродотовском труде, объясняется иначе. Оно однозначно более негативное, чем к Коринфу. Для фиванцев у Геродота, похоже, нет иных красок, кроме черной. В Греко-персидских войнах, считает он, жители Фив изначально были тайными сторонниками «варваров», а стоило Ксерксу со своим войском прийти в Элладу, как они не замедлили открыто перейти на его сторону, принеся персам землю и воду — символические знаки покорности (VII. 132).
Правда, впоследствии выясняется, что фиванский отряд в 400 человек входил-таки в состав союзного греческого контингента, сражавшегося с врагом при Фермопилах (VII. 202). Более того, оказывается, что даже тогда, когда поражение эллинов стало неизбежным и Леонид отослал с поля боя силы всех прочих полисов, идя на верную гибель со своими тремястами спартанцами, фиванцы не оставили его.
Геродот объясняет: «Фиванцы остались с неохотой, против своей воли, так как Леонид удерживал их как заложников» (VII. 222). Версия историка такова: «Фиванцам во главе с Леонтиадом пришлось в силу необходимости некоторое время сражаться заодно с эллинами против царского войска. Увидев, что персы берут верх и теснят отряд Леонида к холму, фиванцы отделились от лакедемонян и, простирая руки, пошли навстречу врагу. Фиванцы заявляли — и это была сущая правда, — что они всецело на стороне персов и с самого начала дали царю землю и воду, а в Фермопилы они пришли только по принуждению и невиновны в уроне, нанесенном царю. Такими уверениями фиванцы спасли свою жизнь… Правда, им посчастливилось не всем: когда фиванцы подошли, варвары схватили некоторых из них и умертвили. Большинство же их, и прежде всего начальника Леонтиада, по приказанию Ксеркса заклеймили царским клеймом» (VII. 233).
Очень странный рассказ, более чем подозрительный в смысле истинности, вызывающий целый ряд недоуменных вопросов. Зачем Леонид оставил фиванцев в качестве заложников в такой ситуации, когда нужно было думать не о их охране, а всеми силами обороняться от врага? Почему спартанцы ничего не предприняли, чтобы помешать им сдаться? Зачем тогда вообще было оставлять заложников? Но если фиванцы действительно сдались да еще заверили персов в своей давней приверженности к ним, почему те перебили часть их как врагов, а остальных заклеймили как рабов? Персы так никогда не поступали — они умели быть милостивыми к тем, кто добровольно переходил на их сторону. А самое главное — кто эту историю мог бы подтвердить? Ведь свидетелей с греческой стороны не осталось! Спартанцы — все до единого — сложили головы в неравном бою. Рука об руку с ними сражались 700 воинов из небольшого беотийского города Феспии. Они тоже не отступили, бились до конца и погибли. (Эти герои оказались несправедливо обижены историей: о том, что вместе с тремястами спартанцами подвиг свершили феспийцы, не знает почти никто. А ведь они, в отличие от спартанцев, которым закон запрещал покидать поле битвы, не ушли от Фермопил из-за своей беззаветной преданности делу греческой свободы).
В этих условиях на фиванских бойцов впоследствии можно было наговорить всё что угодно. Любая напраслина сошла бы с рук из-за отсутствия очевидцев. Не случайно так обижается на Геродота Плутарх, родившийся и живший в городке Херонее в Беотии: его глубоко задело крайне недоброжелательное отношение «Отца истории» к землякам-фиванцам.
Другое дело, что объяснение такого отношения чисто личными причинами неприемлемо. Всё опять гораздо сложнее. Несомненно, Геродот и здесь выражает преимущественно афинскую точку зрения. А между Афинами и Фивами в его времена враждебность была неприкрытой. Аттика и Беотия граничили, а как известно, зачастую самый злейший враг — ближайший сосед, поскольку с ним есть что делить.
А Афинам и Фивам было что делить. Фивы, являясь крупнейшим городом Беотии, претендовали на гегемонию над всей областью, а ее малые полисы этому решительно сопротивлялись, временами обращая взоры на Афины в ожидании помощи. Уже в конце VI века до н. э. верным афинским союзником стал городок Платеи{129}, афинянам симпатизировали Феспии. А в 450-х годах до н. э. на афинской стороне была практически вся Беотия — кроме Фив. Правда, такое положение сохранялось недолго: лет через десять фиванцы отстояли свое фактическое владычество над подавляющим большинством беотийцев{130}. Афиняне были этим крайне недовольны. Геродот неоднократно навещал Афины как раз в тот период, и их позиция не могла не повлиять на его труд.
К тому же что бы ни говорили в защиту Фив, всё же их проперсидская позиция в период похода Ксеркса остается фактом. Одно время город был даже главной базой корпуса Мардония. И отнюдь не случайно первым решением, принятым на совете объединенных сил Эллинского союза после изгнания персов из Греции, было решение «тотчас же идти на Фивы и требовать выдачи сторонников персов… В случае же отказа фиванцев было постановлено не снимать осады города, пока не возьмут его. Так они решили и на одиннадцатый день после битвы подошли к Фивам и осадили город, требуя выдачи этих людей. Фиванцы же отказались, и тогда эллины принялись опустошать их землю и штурмовать стену» (IX. 86).
Главные персофилы — лидеры существовавшего в то время в Фивах олигархического режима — были, во избежание полного разгрома, выданы земляками союзным властям и казнены. После этого отношение к Фивам в Греции некоторое время оставалось весьма негативным. Так что Геродот, передавая очерняющие этот полис сведения, может быть, не только выражал собственную проафинскую позицию, но и повторял весьма распространенное среди эллинов мнение.
Историк побывал не только в Балканской Греции, но и на ряде островов Эгейского моря. Собственно, иначе и быть не могло. Много раз в своей жизни пересекал он на кораблях простор Эгеиды — то в одну, то в другую сторону. А острова служили мореходам местами промежуточных стоянок.
Несомненно, Геродот посетил Делос. Нам уже неоднократно доводилось упоминать этот островок в центре Кикладского архипелага — крохотный по размерам, но весьма значимый по своей культурно-исторической роли, ибо он считался священным: там находился прославленный храм Аполлона и Артемиды, чтимый всеми ионийцами.
«Отец истории», рассказывая о Египте и упоминая одно из озер в дельте Нила, говорит, что оно «такой же величины, как так называемое Круглое озеро на Делосе» (II. 170). Следовательно, последнее было хорошо известно как автору, так и его читателям. На Делосе бывали многие греки — как в Дельфах или Олимпии: приезжали поклониться богам, принять участие в пышных празднествах, регулярно проводившихся на острове.
Еще один эгейский остров — Фасос, на самом севере моря, у фракийского побережья — тоже нам знаком: Геродот поплыл туда, когда расследовал вопрос о происхождении почитания Геракла, и обнаружил там храм этого героя-бога.
Фасос был очень богатым по греческим меркам государством, потому что на его территории имелись месторождения золота, исключительно редкого в Греции и Эгеиде. Фасосцы организовали их разработку. Историк пишет: «Мне самому пришлось также видеть эти рудники. Безусловно, самые замечательные из них — это рудники, открытые финикиянами, когда они под предводительством Фасоса поселились на этом острове (он и теперь называется по имени Фасоса, сына Фойника[57]). А эти финикийские рудники на Фасосе лежат между местностями под названием Эниры и Кениры, напротив Самофракии. Огромная гора там изрыта в поисках золота. Таковы эти рудники» (VI. 47).
Неясно, откуда взяты Геродотом сведения о присутствии в глубокой древности на Фасосе финикийцев. Может быть, это чисто легендарная информация: в Греции нередки были предания об основании эллинских городов финикийскими выходцами. Так, Фивы, согласно мифу, вели свою историю от прибывшего из Финикии царевича Кадма. Но не исключено, что к рассказу галикарнасца здесь нужно относиться с большим доверием: если не постоянное поселение финикийцев на Фасосе, то, во всяком случае, их регулярные визиты на остров — конечно, в поисках золота, — судя по всему, в начале I тысячелетия до н. э. действительно имели место.
На острове Закинф, расположенном уже не в Эгейском, а в противоположном ему Ионическом море, к западу от Греции, Геродот тоже побывал и, будучи любителем разных диковинок, описал тамошнюю интересную природную достопримечательность: «…Я сам видел, как на Закинфе из озера и из источника добывали смолу. Есть там также и много озер. Самое большое из них 70 футов в длину и ширину, а глубиной в 2 оргии. В это озеро опускают шест с привязанной на конце миртовой веткой, а затем извлекают из воды смолу на ветке. Смола эта имеет запах асфальта… Затем смолу выливают в яму, выкопанную близ озера. Когда яма наполнится, смолу разливают оттуда по амфорам. Предметы, попадающие в озеро, проходя под землей, появляются затем в море. А море находится в 4 стадиях от озера».
Какими ветрами занесло Геродота на Закинф? К истории Греко-персидских войн этот остров не имел никакого отношения, и специально посещать его в процессе подготовки труда не было никакой необходимости. Возможно, галикарнасец поплыл туда просто из любознательности, чтобы посмотреть редкое явление — источники ископаемой смолы. Впрочем, можно предположить, что историк побывал там проездом. Если огибать Пелопоннес (а этот маршрут был одним из вариантов важнейшего морского пути из Эгеиды на запад и северо-запад), Закинф было не миновать. После него путь разделялся на две ветви: одна уводила к Южной Италии и Сицилии — там Геродот, безусловно, побывал, ведь он участвовал в основании Фурий; другая ветвь шла в Адриатическое море вдоль побережья Эпира — крайней северо-западной области Греции.
Хотя Эпир, как и Закинф, никак не был связан с Греко-персидскими войнами, «Отец истории» его тоже посетил. Да и не мог этого не сделать столь благочестивый человек, чрезвычайно любивший всевозможные храмы, святилища, оракулы… Ведь один из самых известных греческих оракулов находился в горах Эпира, в местечке Додона. Это был оракул Зевса, и о нем Геродот с уважением пишет: «Это прорицалище считается древнейшим в Элладе» (II. 52).
В Додоне он слушал предания местных жрецов и жриц о происхождении оракула: «Две черные голубки улетели из египетских Фив, одна — в Ливию, а другая к ним в Додону. Сев на дуб, голубка человеческим голосом приказала воздвигнуть здесь прорицалище Зевса. Додонцы поняли это как волю божества и исполнили ее» (II. 55). Геродота, понятно, не могла устроить эта храмовая легенда, и он дает мифу рационалистическое толкование: на самом деле это была египетская жрица из Фив, похищенная финикийцами и проданная в рабство в эти северные места. «Здесь, в плену, будучи рабыней, она основала под мощным дубом святилище Зевса… Когда она научилась затем эллинскому языку, то устроила прорицалище… Голубками же, как я думаю, додонцы называли этих женщин потому, что те были из чужой страны и, казалось, щебетали по-птичьи. Когда затем голубка заговорила человеческим голосом, то это значит, что они теперь стали понимать женщину… Когда же они называют голубку черной, то этим указывают на то, что женщина была египтянкой» (II. 56–57).
Непосредственно к северо-востоку от Эпира лежала Македония. От другой северогреческой области, Фессалии, она была отделена горным массивом Олимп, считавшимся обиталищем богов. Можно ли Македонию считать частью Греции, а населявший ее народ эллинами — по этому вопросу с Античности до сего дня нет единого мнения. Македонии предстояло прославиться много позже времен Геродота. Именно оттуда в IV веке до н. э. пришло объединение Греции под гегемонией властного царя Филиппа II, и оттуда же великий сын Филиппа — Александр III Македонский — начал свой грандиозный поход против Персидской державы, завершившийся ее полным подчинением. Но во времена «Отца истории» Македонское царство было периферийным и довольно незначительным участником межгосударственных отношений.
В начале V века до н. э. македонский царь Александр I вынужден был стать персидским вассалом. В составе войска Ксеркса он участвовал во вторжении в Грецию 480–479 годов. Ксеркс нередко использовал Александра в дипломатических целях, для разного рода тайных переговоров, особенно часто посылал его к афинянам.
Александр I часто упоминается на страницах труда Геродота, причем личность его представлена в куда более позитивном свете, чем он, казалось бы, заслуживал. Вспомним, как немилосердно описал «Отец истории» поведение фиванцев. Македонский царь делал то же самое: дал «варварам» землю и воду, участвовал в войне на персидской стороне. Тем не менее Геродот постоянно пытается обелить его, для чего пускает в ход даже не очень похожие на истину рассказы. Так, историк пишет, что при первой попытке Ахеменидов поставить Македонию под свое владычество (около 513 года до н. э.) прибывшие от них послы были перебиты, причем убийство их организовал именно Александр, тогда еще бывший наследником престола (V. 17–21). Если бы это соответствовало действительности, то не сидеть бы потом Александру на троне вассальным персидским царьком и не участвовать бы в походе Ксеркса, а висеть на столбе с содранной кожей. Персы умели награждать тех, кто добровольно подчинялся, но умели и карать, если им оказывали демонстративное неповиновение. Александр выведен у Геродота как тайный поборник дела эллинов, по сути — их агент в персидской ставке, своего рода «античный Штирлиц». Он будто бы регулярно приезжал к греческим командирам или присылал людей, чтобы оповещать силы Эллинского союза о планах врага. Почему-то его хитрости персидскими вождями так и не были разгаданы.
Симпатии галикарнасского историка к Александру — даже вопреки фактам — настолько очевидны, что не вызывает сомнения: Геродот находился в дружественных отношениях с македонской царской династией Аргеадов и передавал сложившуюся в ее среде традицию. То, что он бывал в Македонии, — тоже совершенно ясно. Он говорит об этих местах как очевидец, хорошо их знающий. Например: «От озера Прасиады ведет кратчайший путь в Македонию. К озеру непосредственно примыкает рудник, который впоследствии приносил Александру ежегодный доход — талант серебра. За этим рудником возвышается гора под названием Дисорон, а за ней уже — Македония» (V. 17).
О пребывании Геродота в Македонии есть и независимые свидетельства, правда, в позднем источнике — уже знакомом нам византийском словаре «Суда». «Некоторые же говорят, что он умер в Пелле» (статья «Геродот»). «Гелланик же жил с Геродотом у Аминты, царя македонян, во времена Еврипида и Софокла» (статья «Гелланик»). Как почти всегда в «Суде», сообщения содержат серьезную путаницу. Город Пелла во времена Геродота действительно уже существовал и в «Истории» упоминается: «На узкой прибрежной полосе в Боттиеиде (одной из областей Македонии. —
Вторая ошибка более серьезна. Кто такой упоминающийся здесь «Аминта, царь македонян»? При Геродоте такого не было. За время жизни «Отца истории» на македонском престоле правили только два царя: уже знакомый нам Александр I (498–454) и его сын Пердикка II (454–413). Если не с обоими, то, во всяком случае, со вторым Геродот уж точно был знаком, хотя в его труде этот Пердикка ни разу не назван по имени. А вот Аминта в нем фигурирует. Это, по всей вероятности, и ввело в заблуждение автора византийского словаря. Но речь у Геродота идет об Аминте I, отце Александра I. А Аминта I царствовал еще в конце VI века до н. э., а другие носители того же имени — Аминта II и Аминта III — находились у власти значительно позднее, в IV веке до н. э., когда Геродота уже не было в живых.
Тем не менее неточности в конкретных деталях не могут опровергнуть сам факт посещения Геродотом Македонии — либо в конце правления Александра I, либо при его сыне. Дружественное отношение историка к македонским правителям налицо. Скорее всего, он бывал в их стране, собирая материал для своего исследования. Македония имела самое непосредственное отношение к теме Греко-персидских войн: она была под владычеством Ахеменидов, через нее проходили войска Ксеркса на Элладу. В ней жили люди, которые, несомненно, могли много интересного рассказать Геродоту о былых войнах и походах.
Поставив целью описать великий конфликт Запада и Востока, эллинов и «варваров», Геродот, конечно, не мог ограничиться путешествиями по европейским землям. Он просто обязан был отправиться на Восток, погрузиться в таинственные глубины Азии.
Весь Ближний и Средний Восток на протяжении жизни «Отца истории» находился в составе грандиозной державы Ахеменидов. По крайней мере часть азиатских поездок Геродота должна была происходить ранее 449 года до н. э., когда был подписан Каллиев мир и завершились Греко-персидские войны. Было ли вообще возможно, чтобы в период военных действий персы позволяли греку свободно разъезжать по подвластным им территориям?
В наше время такого путешественника остановили бы еще на границе. Но даже если допустить, что он все-таки смог проникнуть в пределы недружественной державы (а это могло бы у него получиться только тайным образом), то ему либо пришлось бы постоянно скрываться, либо его очень скоро схватили бы и интернировали как шпиона.
Допустим, в Античности проблема въезда в другое государство не стояла в связи с отсутствием маркированных границ, застав и документов, удостоверяющих личность. Попасть из Ионии в персидские земли потаенной горной тропой не составляло никакой сложности. Но Геродот, передвигаясь по восточным областям, явно ни от кого не прятался; напротив, он повсюду действовал в своей излюбленной манере: беседовал с людьми, расспрашивал, собирал материал.
Войны Древнего мира не имели тотального характера. Существовало четкое представление о том, что война войной, а жизнь должна продолжаться. Враждующие войска могли сходиться в ожесточенных схватках, а чуть ли не в двух шагах всё шло своим чередом: крестьяне обрабатывали землю, ремесленники занимались привычным трудом, торговцы везли товар на продажу… Каждый делал собственное дело. Делом воинов были битвы, и это отнюдь не отменяло дел всех остальных слоев населения.
Правда, подобный подход был характерен скорее для древневосточных реалий. Уже в мире греческих полисов наблюдалась большая «тотальность» войн. Это и неудивительно: в Элладе не существовало специальной прослойки воинов, поскольку армии являлись полисными ополчениями. Потенциальным воином считался любой гражданин, независимо от его «мирной» профессии. Соответственно, во время вооруженного столкновения в любом взрослом мужчине, встретившемся на территории враждебного государства, видели противника.
Отношение же персидских царей к мирным жителям в военное время очень ярко предстает в одном эпизоде, переданном в «Истории» и произошедшем в 480 году до н. э., когда Ксеркс начал свой поход на Элладу и переправлял войско из Азии в Европу через пролив Геллеспонт: «В Абидосе царь увидел, как проходили через Геллеспонт корабли с грузом зерна из Понта на Эгину и в Пелопоннес. Приближенные царя, заметив, что это вражеские корабли, хотели их захватить и смотрели на царя, ожидая его повеления. На вопрос Ксеркса, куда плывут эти корабли, приближенные отвечали: „К твоим врагам, владыка, с грузом хлеба“. Тогда Ксеркс сказал им: „Разве и мы не плывем туда же, куда и они, и не везем с собой хлеб и остальное продовольствие? Какой же вред от того, что эти люди доставляют нам хлеб?“» (VII. 147). То есть царь запретил своим подчиненным заниматься грабежом и мародерством по отношению к греческим купцам. Причем этим царем был Ксеркс, который вообще-то у Геродота не предстает образцом справедливости и милосердия, а, напротив, изображен как один из самых сумасбродных и деспотичных персидских монархов. Незадолго перед тем, например, историк рассказывает об одном страшном случае, связанном с Ксерксом.
Когда тот проходил с войском через Лидию, богатый лидиец Пифий преподнес ему в дар колоссальную сумму денег — две тысячи талантов серебра и четыре миллиона дариков золота[58] — почти всё, что у него было. Владыка от дара великодушно отказался, но дарителя всячески восхвалял (VII. 28–29). Осмелевший лидиец, видя такую благосклонность Ксеркса, через несколько дней решился обратиться к нему с просьбой: «Владыка! У меня пять сыновей. Им всем выпало на долю идти с тобой в поход на Элладу. Сжалься, о царь, над моими преклонными летами и освободи одного моего старшего сына от похода, чтобы он заботился обо мне и распоряжался моим достоянием. Четырех же остальных возьми с собой, и я желаю тебе счастливого возвращения и исполнения твоих замыслов» (VII. 38).
Казалось бы, почему не выполнить просьбу человека, только что совершившего такой верноподданнический поступок? Тем более что от отсутствия одного воина персидское войско уж точно не пострадало бы. Но Ксеркс страшно разгневался: «Негодяй! Ты еще решился напомнить мне о своем сыне, когда я сам веду на Элладу своих собственных сыновей, братьев родственников и друзей?.. Ныне, когда ты выказал себя наглецом, ты все-таки не понесешь заслуженной кары, но меньше заслуженной. Тебя и четверых твоих сыновей спасает твое гостеприимство. Но один, к которому ты больше всего привязан, будет казнен» (VII. 39). Вот уж воистину ничем не мотивированная жестокость! А ссылка на то, что царь-де и сам ведет с собой на войну своих сыновей, более чем странна: он-то делал это по своей собственной воле, а не по чужому приказу. Но Ксеркс этим не ограничился: казнь, постигшая ровно ни в чем не виновного юношу, была еще и страшной. «Царь тотчас же приказал палачам отыскать старшего сына Пифия и разрубить пополам, а затем одну половину тела положить по правую сторону пути, а другую по левую, где должно было проходить войско. Палачи выполнили царское повеление, и войско прошло между половинами тела», — бесстрастно замечает историк (VII. 39–40).
И такой владыка тем не менее пощадил греческих купцов. Значит, это было нормой, неписаным законом: мирных чужеземцев обижать не следовало.
Не менее характерно, кстати, и поведение самих купцов. Идет война не на жизнь, а на смерть, через Геллеспонт переправляется огромное персидское войско, а они в это самое время плывут по тому же Геллеспонту у всех на виду, как ни в чем не бывало, а не пережидают в какой-нибудь укромной гавани. Видимо, опасности для себя они не видели. Но, может быть, они просто еще не знали о начале похода Ксеркса и случайно попали «на рожон»? Не похоже. Среди купцов все новости распространяются быстро, а персидский царь собирал свою армию и готовился к вторжению так долго, что только глухой мог об этом не услышать.
Даже в заведомой ситуации давно идущих военных действий греческие хлебные торговцы всё равно продолжали плавать в Черное море и обратно. Об этом известно в том числе и из Геродота. Вот очередной эпизод, относящийся ко времени Ионийского восстания. Милетский авантюрист Гистией, желая «половить рыбку в мутной воде», отправляется на Лесбос и снаряжает там восемь триер. Они «отплыли с Гистиеем в Византий. Потом они заняли крепкую позицию и стали захватывать все идущие из Понта грузовые корабли, кроме кораблей тех городов, которые изъявили готовность подчиняться Гистиею» (VI. 5). Византий, расположенный на берегу узкого пролива Боспор, представлял собой идеальное место для подобного разбоя. Но главное в рассказе то, что в условиях персидской карательной операции против ионийцев, когда в Эгейском море действовал мощный ахеменидский флот, а на побережьях — крупная армия, купцы, несмотря ни на что, продолжали плавать. В конце концов опасность пришла к ним не от «восточных варваров», а от собрата-грека.
Афины. Современный вид исторического центра города
Тираноубийцы Гармодий и Аристогитон.
Фемистокл.
Перикл.
Остраконы с именами Фемистокла и Кимона. V в. до н. э.
Парфенон.
Современный внутренний вид Парфенона
Афина Парфенос.
Артемида.
Жертвоприношение богине Афине.
Эсхил.
Софокл.
Сцена из спектакля.
Актеры с театральными масками.
Театр Диониса у подножия Акрополя, в котором шли пьесы Эсхила и Софокла.
Руины храма Аполлона в Коринфе.
Восточный фронтон храма Зевса в Олимпии.
Руины храма Зевса в Олимпии.
Стадион, где проходили Олимпийские игры древности
Соревнования колесниц.
Бегуны на короткую дистанцию.
Пятиборье. Прыжок в длину.
Победитель в соревнованиях получает награду — головную повязку.
Центр Вавилона, каким его увидел Геродот.
Ворота богини Иштар — «визитная карточка» Вавилона.
Даже во времена Геродота путешественники удивлялись древности египетских пирамид и сторожащего их Сфинкса
Храм в Абу-Симбеле с колоссами фараона Рамсеса II
Предметы быта из золота и электра (сплава золота с серебром) дают представление об облике и образе жизни скифов, населявших во времена
Геродота Северное Причерноморье.
Статуя Геродота, установленная на его родине благодарными земляками — жителями современного турецкого города Бодрум
(античный Галикарнас)
Геродот и Фукидид.
Одним словом, ничто не мешало Геродоту даже в годы Греко-персидских войн посещать территорию Персии. Поскольку воином он не был, никто не стал бы ему чинить препятствий.
При путешествиях по Востоку «Отец истории» скорее должен был сталкиваться с иной трудностью — проблемой языкового барьера. Полиэтничное население Ахеменидской державы говорило на десятках языков, которые Геродот, естественно, не знал. Он вообще не владел никаким другим языком, помимо родного греческого. В этом он был истинным сыном своего народа. Гордые греки, преисполненные чувства собственного достоинства и сознания величия своей культуры, упорно не желали учить иностранные языки, будучи убеждены, что, наоборот, все остальные люди должны изучать греческий. Такова была принципиальная позиция эллинов на протяжении веков — вплоть до самого конца античной цивилизации.
Поэтому галикарнасец — по незнанию — порой высказывает о других языках в корне ошибочные суждения. Характерный пример: «Вот еще с какой своеобразной особенностью приходится встречаться у персов, которой сами они не замечают, а для нас она, разумеется, ясна. Собственные имена их… все оканчиваются на одну и ту же букву, которую дорийцы называют сан, а ионяне — сигма. На эту-то букву оканчиваются не только некоторые их имена, а решительно все, как это можно обнаружить при ближайшем рассмотрении» (I. 139). Но только в греческой передаче (почти всегда довольно неточной) персидские имена действительно имеют типичные греческие окончания «-ос» и «-ее»{131}. Возьмем уже упоминавшиеся нами имена персидских царей. То имя, которое нам знакомо как «Кир», по-гречески будет «Кюрос», «Дарий» — «Дарейос», «Ксеркс» — «Ксерксес» (этот перечень можно было бы продолжать). В персидском же оригинале все эти имена звучат иначе, порой — сильно отличаясь: Кир — «Куруш», Дарий — «Дариявуш», Ксеркс — «Хшаярша». На самом деле, похоже, ни одно персидское имя не оканчивалось на «с», в противоположность утверждениям Геродота! Полное незнание историком персидского языка выдают и предлагаемые им этимологии этих имен: «На эллинском языке имена персидских царей означают вот что: Дарий — деятельный, Ксеркс — воин, Артаксеркс — великий воин» (VI. 98). У любого специалиста по иранским языкам подобные толкования вызовут снисходительную улыбку.
Следовательно, в путешествиях по ахеменидским владениям Геродоту неизбежно приходилось общаться с представителями других народов через переводчиков. Переводческое дело в странах Древнего Востока — именно потому, что они отличались многоэтничным составом населения — было издавна и очень хорошо развито, иначе были бы просто невозможными ни полноценная внутренняя жизнь, ни дипломатические сношения. А в Персидской державе, раскинувшейся от долины Нила до берегов Инда, переводчики были востребованы более чем где-либо. Об этом в полной мере свидетельствуют знаменитые царские надписи, сделанные одновременно на трех, а то и на четырех языках. Самая известная — Бехистунская надпись, выбитая на скале в горной местности и повествующая о деяниях Дария I, — содержит параллельный текст на персидском, эламском и аккадском — основных языках, которыми Ахемениды пользовались в административном управлении. А есть надписи, в которых к трем названным прибавлен еще и египетский перевод.
Что касается Египта, то сам Геродот показывает, как происходило обучение переводчиков, если возникала необходимость установления языкового контакта с ранее незнакомым народом. Когда при основателе Саисской династии фараоне Псамметихе в дельте Нила появились в значительном количестве греки-ионийцы, царь «передал им даже египетских юношей на обучение эллинскому языку. Эти египтяне — предки теперешних толмачей в Египте» (II. 154). Разумеется, историк выражается здесь не совсем точно: толмачи существовали в стране задолго до Псамметиха, а в данном случае следует говорить о специальном обучении группы людей именно греческому языку. Во времена самого «Отца истории» переводчиков в Египте было так много, что он даже счел их особой кастой (II. 164).
Безусловно, Геродот активно пользовался услугами толмачей, что он и сам подтверждает — в частности, упоминает, что переводчик читал ему надпись, сделанную на пирамиде Хеопса (II. 125), причем, судя по переданному историком содержанию перевода, его качество явно оставляло желать лучшего. Однако всё это совершенно не означает, что он не мог получать аутентичную информацию. Так, исследователями доказано, что при описании переворота в державе Ахеменидов, приведшего на престол Дария I, повествование Геродота восходит к персидским преданиям, хотя они и представлены в «Истории» в несколько измененном виде{132}, что легко объяснимо большим количеством посредствующих звеньев, создающих в совокупности эффект «испорченного телефона».
Одному из персидских информаторов Геродота современные ученые часто приписывают особенно значительную роль. Среди ближайших сподвижников Дария I, первейших вельмож государства, был перс Зопир. Он участвовал в упомянутом дворцовом перевороте, а затем, когда восстал и отделился Вавилон, проявил высший героизм при подавлении мятежа. За это «царь окружил Зопира величайшим почетом. Ежегодно посылал ему дары, которые считаются в Персии самыми почетными, отдал ему в пожизненное управление Вавилон (без обложения податью) и осыпал другими почестями. У этого Зопира был сын Мегабиз, который сражался во главе персов в Египте против афинян и их союзников. А у этого Мегабиза был сын Зопир, который приехал из Персии в Афины как перебежчик» (III. 160).
Зопира-младшего иногда считают главным источником сведений Геродота о персидских делах. Он проживал в Афинах как раз в то время, когда «Отец истории» часто посещал этот город. Крайне трудно представить себе, что они не встретились. Геродот, пишущий о Греко-персидских войнах и отличающийся любознательностью, просто обязан был отыскать Зопира на афинских улицах и засыпать его вопросами. Прямых указаний на то, что их знакомство состоялось, нет. Но, очевидно, контакты между галикарнасцем и беглым персом действительно имели место. Правда, несколько странно, что процитированное упоминание Геродота о Зопире-младшем — одно-единственное на всем протяжении его труда.
Если Геродот беседовал с Зопиром, то эти разговоры как раз могли вестись по-гречески, без переводчика: перс наверняка выучил язык людей, среди которых ему теперь приходилось жить. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что само имя «Зопир» — не персидское, а греческое, означающее что-то вроде «Живой огонь». Практически невероятно, чтобы знатного перса могли назвать греческим именем. Скорее «Зопир» — это перевод, «калька», как говорят лингвисты. Очевидно, вельможный беженец изначально носил персидское имя с тем же значением (культ огня был широко распространен в иранской зороастрийской религии); поселившись в Афинах, он «перелицевал» имя на язык местных жителей, чтобы оно было им понятно.
Однако, надо полагать, основную массу сведений о Персии, персах и других народах Ахеменидской державы «Отец истории» получил всё же не в Афинах, путем расспросов Зопира, а странствуя по землям великой восточной империи. Причем, несомненно, общался он там не только с представителями населявших ее народов, но также и с встречавшимися ему на пути греками. Одни из них жили в Персии постоянно (ведь далеко не все греческие полисы были освобождены от владычества Ахеменидов даже после Греко-персидских войн); другие, как и сам Геродот, путешествовали, но, конечно, с более прагматичными — обычно торговыми — целями. Контакт с ними для галикарнасца был, естественно, легче, поскольку не требовал переводчика.
Насколько далеко проникал Геродот на Восток, какие области и города он там посетил? Фактически единственным источником наших знаний об этом являются сами строки его труда.
Не возникает сомнений в том, что историк бывал в малоазийских владениях Персии. Собственно, он там родился. И хотя уже в годы его отрочества Галикарнас и другие города эллинов на восточном побережье Эгейского моря были освобождены из-под персидского контроля (впрочем, официально это было закреплено лишь Каллиевым миром 449 года до н. э.), все-таки Ахеменидская держава продолжала располагаться буквально по соседству с ними. С Самоса, где обосновался Геродот, ничего не было проще, чем посетить ближайшие области империи — Карию и особенно Лидию. Чтобы попасть в последнюю, нужно было всего лишь переправиться с острова на материк, в город Эфес; оттуда хорошая, охраняемая дорога вела в Сарды — бывшую лидийскую столицу, а теперь резиденцию персидского сатрапа этой части Малой Азии. Дорога была оборудована персами и считалась крайним западным отрезком знаменитого «Царского пути». Протяженность этого отрезка «Отец истории» определяет в 540 стадиев (чуть меньше 100 километров) и указывает, что на его преодоление нужно три дня (V. 54). Очевидно, он имеет в виду пешее странствие.
Геродот настолько часто бывал в Лидии, что даже позволил себе следующее суждение об этой стране: «Природными достопримечательностями, как другие страны, Лидия совсем не обладает…» (I. 93). На самом же деле вряд ли Лидия была совсем обделена ими. Вероятно, эти края были историку настолько хорошо знакомы, что его глаза, присмотревшиеся в них ко всему, уже не замечали ничего заслуживавшего особого внимания. Впрочем, справедливости ради заметим, что он тут же прибавляет: «Есть, правда, в Лидии одно сооружение, далеко превосходящее величиной все другие (помимо построек египтян и вавилонян). Это — могильный памятник Алиатта, отца Креза. Его основание состоит из огромных каменных плит, остальная же часть памятника — земляной курган… К кургану примыкает большое озеро, которое, по словам лидийцев, никогда не высыхает. Называется оно Гигесовым» (I. 93). Здесь сразу чувствуется описание очевидца, который и саму гробницу видел, и обитателей окрестных мест расспрашивал. Интересно, что этот курган существует и по сей день, и наши современники могут бросить взор на памятник, на который две с половиной тысячи лет назад смотрел великий галикарнасец.
Из Сард «Царский путь» уводил далее на восток. Проходя сквозь целый ряд сатрапий, переправы через большие и малые реки, переваливая через горные хребты, он заканчивался в Сузах — ахеменидской административной столице в юго-западной части Ирана{133}. Создан он был для нужд царской курьерской почты — чтобы конные вестовые могли как можно быстрее домчать по нему монарший указ в самую западную область колоссального государства. Поэтому на всем его протяжении были оборудованы станции, где курьеры могли отдохнуть, подкрепиться, а главное — сменить уставших лошадей. В некоторых местах (как правило, на границах сатрапий) располагались также сторожевые укрепления с сильной охраной. Там, без сомнения, стража проверяла всех, кто двигался по «Царскому пути», выискивая подозрительных лиц. Для торговых целей маршрут был мало пригоден: он будто нарочно оставлял в стороне все сколько-нибудь крупные города, пролегал в основном через довольно глухие местности. В общем, это была государственная дорога стратегического значения.
«Царский путь» описан Геродотом чрезвычайно подробно. Детально рассмотрены области и главные пункты его маршрута — от Эфеса и Сард до Суз. Более того, указаны точные расстояния между ними в парасангах — персидских мерах длины. Суммируя все эти отрезки, историк заключает: «Если этот Царский путь правильно измерен парасангами и если 1 парасанг равен 30 стадиям (что так и есть на самом Деле), то из Сард до царского дворца в Сузах… 13 500 стадиев, так как путь составляет 450 парасангов. Если считать на каждый день по 150 стадиев, то на весь путь придется как Раз 90 дней» (V. 53). Пересчитав с античных единиц измерения на современные, легко убедиться, что, по Геродоту, протяженность дороги составляла почти две с половиной тысячи километров.
И тем не менее сам «Отец истории» по «Царскому пути» никогда не путешествовал, а описание его, как резонно считают исследователи, взял из труда своего непосредственного предшественника — Гекатея Милетского. Более того, и сам Гекатей вряд ли проезжал по этой дороге. Его сведения, вне всякого сомнения, восходят в конечном счете к какому-то персидскому официальному источнику. Это следует хотя бы из того, что все расстояния (кроме участка из Эфеса до Сард) указаны в парасангах, которыми греки не пользовались, и лишь затем идет их пересчет на греческие стадии.
Маршрут «Царского пути» явно сложился еще до возникновения державы Ахеменидов, в те времена, когда на месте ее важнейших областей находились два мощных царства: западнее — Вавилония, восточнее — Мидия. «Царский путь» изначально был путем мидийских царей. Он был проложен так, чтобы нигде не выйти за границы Мидии и не вступить в пределы Вавилонии — до реки Галис (ныне Кызыл-Ирмак в Турции) — крупнейшей водной артерии Малой Азии. Здесь, видимо, дорога первоначально заканчивалась, поскольку эта река вплоть до завоеваний Кира разделяла владения Мидии и Лидии.
Действительно ли персы продолжали пользоваться этим кружным путем в качестве главного даже после того, как Месопотамия была покорена ими? Закрадывается подозрение, не воспользовался ли Геродот (сам «Царского пути» дальше Сард не видевший) устаревшей информацией, восходящей ко времени еще до создания великой Персидской державы. Востоковед А. А. Немировский отмечает{134}, что последовательно существовали две греческие традиции землеописания Востока и первая из них сформировалась к середине VI века до н. э., то есть как раз к моменту начала крупномасштабных завоеваний Кира. Вопрос, не находим ли мы у «Отца истории» следы этой древнейшей традиции, требует специального изучения.
Во всяком случае, известно, что в классическую эпоху из Греции попадали в центр Персии иным маршрутом. «Царский путь», описанный Геродотом, из Малой Азии уводит на Армянское нагорье, а далее ведет левобережьем Тигра, тоже гористыми местностями, вплоть до Элама — области, где располагались Сузы. А вот как, например, двигался в 400 году до н. э. отряд эллинских наемников на службе у персидского царевича Кира Младшего на войну с его братом — царем Артаксерксом II (этот поход описал его участник, историк Ксенофонт, в произведении «Анабасис»). Из Киликии — региона на крайнем юго-востоке Малой Азии — греки, спустившись к северо-восточному «углу» Средиземного моря, прошли узким ущельем, так называемыми Киликийскими воротами, в Сирию. А там уже расстилались бескрайние равнины, и неподалеку находился Евфрат, вдоль которого можно было направляться дальше. Такой путь был и короче, и во всех отношениях легче, так как приходилось преодолевать гораздо меньше горных перевалов. Именно Киликийскими воротами воспользовался позже и Александр Македонский, когда вел войска на покорение Ахеменидской державы.
Как же направлялся в Персию сам «Отец истории»? Можно сказать определенно: он постарался построить свой маршрут так, чтобы как можно меньше двигаться сухим путем и как можно больше плыть на корабле. Ведь Геродот был типичным представителем античного греческого мировоззрения, сложившегося в специфических ландшафтных условиях региона, где проходило развитие эллинской цивилизации, — юга Балканского полуострова и Эгейского бассейна. Важнейшими из этих условий были гористый рельеф, зачастую весьма трудный для регулярного преодоления людьми, и почти повсеместная доступность морских просторов. Вполне естественно, что греки отдавали предпочтение водным маршрутам перед сухопутными. В этом смысле они были в полной мере «народом моря», подобным, скажем, финикийцам и весьма отличным от персов или римлян.
Море соединяло греков — как между собой, так и с внешним миром; суша же в известном отношении, наоборот, разделяла. Добраться из одного полиса в другой, даже недалеко расположенный, сплошь и рядом было гораздо проще и быстрее на корабле, чем переваливая через отроги горных хребтов. Море воспринималось как «своя» стихия, а огромные сухопутные пространства, нависавшие над Элладой с севера и протянувшиеся на восток от нее, — как стихия «чужая».
Свое собственное (и своих современников) отношение к протяженным сухопутным маршрутам Геродот выражает устами спартанского царя Клеомена I, которому милетянин Аристагор предложил совершить поход на Персию по «Царскому пути»: «Друг из Милета! Покинь Спарту до захода солнца! Ты хочешь завести лакедемонян в землю на трехмесячное расстояние от моря: это совершенно неприемлемое условие для них!» (V. 50).
Безусловно известно, что галикарнасец бывал на восточном побережье Средиземного моря, в Сирии и Финикии. Нам уже приходилось упоминать о его поездке в Тир, входивший в число древнейших и знаменитейших финикийских городов. Историк посетил его с целью нанести визит в храм местного бога, которого сам Геродот и его современники-греки отождествляли с Гераклом. Этим богом, по единодушному мнению ученых, был Мелькарт, которого финикийцы чтили как покровителя мореплавания и колонизации.
Многие города Восточного Средиземноморья имеют историю длиной в несколько тысячелетий. Тир, как известно, существует и по сей день. То же самое можно сказать и о расположенной южнее его Газе. В Газе и ее окрестностях «Отец истории» тоже побывал — правда, город тогда именовался иначе. В геродотовском труде сказано: «…От Финикии до области города Кадитиса простирается земля так называемых палестинских сирийцев. А от Кадитиса (города, который, по-моему, едва ли меньше Сард) до города Ианиса приморские торговые порты принадлежат аравийскому царству» (III. 5). Кадитис — это и есть Газа. А под «палестинскими сирийцами» следует понимать филистимлян — народ, известный еще из Ветхого Завета. Как установила современная наука, филистимляне (именно они, кстати, дали название Палестине) являлись потомками пеласгов, древних до-греческих обитателей юга Балканского полуострова и бассейна Эгеиды. В ходе великих переселений народов конца II тысячелетия до н. э. значительная часть пеласгов покинула родные места и поселилась на крайнем востоке Средиземноморья. Геродот ни о чем подобном, разумеется, не подозревает, хотя неоднократно упоминает пеласгов в своем сочинении. Причем на его страницах пеласги предстают как народ загадочный: к классической эпохе истории Греции они уже «сошли со сцены».
В описании Геродотом Газы обратим внимание на сравнение ее с Сардами. Уже не в первый раз подобного рода сравнения позволяют установить, на каких территориях историк бывал сам и, следовательно, хорошо их себе представлял.
Сирийские и финикийские порты были «морскими воротами» Ахеменидской державы. Туда галикарнасец, безусловно, прибывал на корабле. Дальше можно было направляться во внутренние области Персидского царства. Из Сирии караванный маршрут вел в Верхнюю Месопотамию, к Евфрату. Это был единственный участок пути, который приходилось преодолевать по суше. А дальше снова следовали пересадка на судно — правда, теперь уже речное — и плавание по одной из знаменитейших рек Востока.
Это путешествие по Евфрату Геродот тоже упоминает — в связи с ирригационными работами, проводившимися древними жителями Месопотамии и изменявшими течение реки. Он пишет, что от этих работ «река стала настолько извилистой, что, например, мимо одного селения в Ассирии она протекала трижды (название этого селения, куда Евфрат подходит три раза, Ардерикка). Еще и поныне, совершая путешествие из нашего моря в Вавилон вниз по Евфрату, приходится трижды проезжать мимо этого селения в течение трех дней» (I. 185). «Наше море» — это, конечно, Средиземное (характерное выражение для грека, привыкшего смотреть на Восток «со своей точки зрения»), и всё повествование в очередной раз производит впечатление рассказа очевидца.
Проплывая по Евфрату, историк с любопытством смотрел на его берега, поражался плодородию местности и, конечно, записывал всё увиденное. Потом из этих путевых заметок рождались такие строки его труда: «Дождей в Ассирийской земле выпадает мало, но и этих незначительных дождей достаточно для первоначального питания и роста корней злаков. При этом посевы орошаются из реки, зреют, и злак растет. Сама река, однако, здесь не заливает поля, как в Египте, но орошение производится вручную водочерпательными приспособлениями. Вся Вавилония, подобно Египту, всюду перерезана каналами… Из всех стран на свете, насколько я знаю, эта земля производит безусловно самые лучшие плоды Деметры (хлеб. —
В этом довольно обширном отрывке — весь Геродот, со всеми присущими ему качествами. Тут и умение удивляться новому, незнакомому, и сочно, ярко рассказать о нем. Шутка ли, ведь большинство греков вообще никогда в жизни не видели судоходной реки… Тут и порожденная, видимо, опытом легкая обреченность: кое-каким удивительным вещам всё равно, дескать, не поверят. Тут и наблюдательность, придающая рассказу особую достоверность: историк тонко подметил особенности кожаных судов — а ведь плавсредства такой конструкции еще в XX веке продолжали использоваться в некоторых регионах Азии.
И вот после долгого плавания на горизонте показывался сам Вавилон — «Врата бога» в буквальном переводе с аккадского, краса и гордость Востока, один из самых знаменитых городов во всей мировой истории. Наверное, почти нет людей, которые не слышали бы о Вавилоне. Впрочем, для большинства наших современников главный источник знаний о нем — библейская традиция. «Вавилонское столпотворение», «реки вавилонские», «вавилонская блудница» — все эти образы, вошедшие в плоть и кровь современных языков и культур, происходят либо из Ветхого, либо из Нового Завета.
Геродот, конечно, Библию не читал и не имел о ней никакого понятия (хотя ко времени его жизни она уже частично существовала). Но, несомненно, он с нетерпением ожидал появления на горизонте великого города, о котором был уже достаточно наслышан. Независимость Месопотамии осталась в прошлом, Вавилон теперь входил в состав владений Ахеменидов, но его процветанию это не повредило. Он являлся центром богатейшей из сатрапий. В «Истории» указано: «Вавилонская земля из двенадцати месяцев четыре месяца в году поставляет царю продовольствие, а восемь месяцев — вся остальная Азия… И наместничество в этой стране, которое персы называют сатрапией, безусловно самое доходное из всех наместничеств» (I. 192). Вавилония составляла девятую сатрапию Персидской державы. По территории отнюдь не самая обширная, она тем не менее платила ежегодной подати в царскую казну тысячу талантов (III. 92) — намного больше, чем любая другая.
Вавилон считался одной из ахеменидских столиц — наряду с Сузами, Персеполем и Экбатанами — и был самым крупным населенным пунктом колоссальной империи. Геродот, без сомнения, никогда в жизни не видел такого огромного города. Греческие полисы, даже самые большие и важные, не могли — ни Афины, ни Спарта, ни Коринф, ни Милет — даже отдаленно с ним сравниться, уступали многократно. Поэтому рассказ историка о Вавилоне полон энтузиазма. Приведем наиболее интересные выдержки из него:
«Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадиев длины. Окружность всех четырех сторон города составляет 480 стадиев. Вавилон был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов, которые я знаю. Прежде всего город окружен глубоким, широким и полным водой рвом, затем идет стена шириной в 50 царских локтей, а высотой в 200. Царский же локоть на три пальца больше обыкновенного…
На верху стены по краям возвели по две одноэтажные башни, стоящие друг против друга. Между башнями оставалось пространство, достаточное для проезда четверки лошадей. Кругом на стене находилось 100 ворот целиком из меди…
Город же состоит из двух частей. Через него протекает река по имени Евфрат… По обеим сторонам реки стена, изгибаясь, доходит до самой реки, а отсюда по обоим берегам реки идет стена из обожженных кирпичей. Город же сам состоит сплошь из трех- и четырехэтажных домов и пересечен прямыми улицами, идущими частью вдоль, а частью поперек реки. На каждой поперечной улице в стене вдоль реки было столько же маленьких ворот, сколько и самих улиц. Ворота эти были также медные и вели к самой реке.
Эта внешняя стена является как бы панцирем города. Вторая же стена идет внутри первой, правда, ненамного ниже, но уже нее. В середине каждой части города воздвигнуто здание. В одной части — царский дворец, окруженный огромной и крепкой стеной; в другой — святилище Зевса Бела[59] с медными вратами, сохранившимися еще и до наших дней. Храмовой священный участок — четырехугольный, каждая сторона его длиной в два стадия. В середине этого храмового священного участка воздвигнута громадная башня шириной и длиной в один стадий. На этой башне стоит вторая, а на ней — еще башня, в общем восемь башен — одна на другой. Наружная лестница ведет наверх вокруг всех этих башен. На середине лестницы находятся скамьи, должно быть, для отдыха. На последней башне воздвигнут большой храм. В этом храме стоит большое, роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол. Никакого изображения божества там, однако, нет. Да и ни один человек не проводит здесь ночь, за исключением одной женщины, которую, по словам халдеев, жрецов этого бога, бог выбирает себе из всех местных женщин. Эти жрецы утверждают (я, впрочем, этому не верю), что сам бог иногда посещает храм и проводит ночь на этом ложе…
Есть в священном храмовом участке в Вавилоне внизу еще и другое святилище, где находится огромная золотая статуя сидящего Зевса. Рядом же стоят большой золотой стол, скамейка для ног и трон — также золотые. По словам халдеев, на изготовление всех этих вещей пошло 800 талантов золота. Перед этим храмом воздвигнут золотой алтарь… Была еще в священном участке… золотая статуя бога, целиком из золота, 12 локтей высоты. Мне самому не довелось ее видеть… Ксеркс… похитил статую, повелев умертвить жреца, который не позволял прикасаться к статуе и двигать ее с места» (I. 178–183).
Информация, содержащаяся в этом рассказе, просто бесценна. Как видим, Геродот не просто побывал в главном вавилонском святилище. Это святилище верховного бога Мардука (который в «Истории», по принятому у греков обыкновению называть чужие божества эллинскими именами, фигурирует как Зевс Бел) называлось Эсагила. Жрецы разрешили галикарнасцу даже подняться на самую знаменитую культовую постройку — зиккурат Этеменанки (в переводе с аккадского — «Дом соединения неба и земли»), колоссальное ступенчатое сооружение — то самое, которое вошло в историю как Вавилонская башня.
Месопотамские зиккураты во многом напоминали египетские пирамиды, но в отличие от последних совершенно не сохранились до нашего времени. Ведь пирамиды возводились из прочных пород камня, а в междуречье Тигра и Евфрата камень практически отсутствовал. Зиккураты поэтому строили из кирпича, далеко не столь долговечного. Немало их было на месопотамской земле, а теперь на месте каждого из них — лишь бесформенный оплывший холм из глины, в которую со временем превратились кирпичи. Зиккураты и по своим функциям принципиально отличались от пирамид.
Пирамиды — это монументальные гробницы. Самые крупные и известные принадлежат фараонам, те, что поменьше, — их приближенным, вельможам. В зиккуратах же никого не хоронили. Они являлись храмами или, точнее, грандиозными «подставками» для храмов, сооружавшихся на самой верхней ступени. Принцип прост и вполне понятен: чем выше располагалось святилище, тем ближе к небу и небожителям, тем легче им было спускаться, чтобы побыть в своем земном жилище.
Вавилонский зиккурат был крупнейшим в Месопотамии. Геродот описывает «покои бога», располагавшиеся наверху. Их, по вавилонским представлениям, посещал Мардук, чтобы вступить в «священный брак» со смертной женщиной-жрицей. Геродот, как видим, относится к этой храмовой легенде со скептицизмом, типичным для просвещенного ионийца. А ведь ритуал «священного брака» был широко распространен в Месопотамии; об этом известно и из местных — шумерских и аккадских — источников. Считалось, что такой брак обеспечивает единение бога и народа, приносит стране благополучие, земле — плодородие и т. п. Подобные обряды, кстати, были характерны чуть ли не для всех архаических обществ Востока и Запада. Даже в Афинах классической эпохи сохранялись пережитки чего-то похожего. Как пишет Аристотель, в здании под названием Буколий «еще и теперь… происходят соединение и брак жены царя (одного из архонтов. — И. С.) с Дионисом» (
Конечно, в первую очередь Геродота в Вавилоне поражали колоссальные размеры всех строений и — роскошь, роскошь, роскошь… Обратим внимание на то, как он скрупулезно констатирует: такой-то предмет целиком из золота, такой-то — тоже… Для греков, в земле которых золото было большой редкостью, читать об этом, конечно, было увлекательно.
От огромных размеров города у историка, можно сказать, голова пошла кругом. И нет ничего удивительного в том, что порой в его описании встречаются явные преувеличения. Если верить Геродоту, толщина внешней оборонительной стены Вавилона составляла 25 метров, а высота — аж 100 метров, что, конечно, совершенно невероятно. То же самое касается и протяженности стен: если пересчитать стадии на современные меры длины, выйдет, что каждая из сторон вавилонского «четырехугольника» (кстати, позволительно усомниться и в том, что город имел в плане строго квадратную форму) — более 20 километров, а периметр — более 80. Однако, по данным археологических раскопок, общий периметр Вавилона не превышает 16 километров. Руины Вавилона были открыты на рубеже XIX–XX веков немецкой экспедицией Р. Кольдевея. Ныне они находятся на территории Ирака, а эта страна уже много лет, к величайшему сожалению, является «горячей точкой» и ареной почти постоянных военных действий. Оттуда доходят смутные известия, что в результате налетов американской авиации вавилонское городище сильно пострадало…
Повсюду, где бывал Геродот, в том числе и в Вавилоне, он отмечал также удивительные традиции местных народов — например, такие: «Есть у вавилонян… весьма разумный обычай. Страдающих каким-нибудь недугом они выносят на рынок (у них ведь нет врачей). Прохожие дают больному советы о его болезни (если кто-нибудь из них или сам страдал подобным недугом, или видел его у другого). Затем прохожие советуют больному и объясняют, как сами они исцелились от подобного недуга или видели исцеление других. Молча проходить мимо больного человека у них запрещено: каждый должен спрашивать, в чем его недуг… Самый же позорный обычай у вавилонян вот какой. Каждая вавилонянка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцу» (I. 197–199). В последнем случае речь идет о распространенном на Древнем Востоке обычае храмовой проституции, которая считалась священной (под Афродитой имеется в виду вавилонская богиня любви Иштар).
Забирался ли Геродот на восток далее Вавилона? На сей счет среди ученых единое мнение отсутствует, но скорее всего, восточнее он не бывал. Мы уже видели, что по «Царскому пути» он не ездил и в персидской административной столице — эламских Сузах — не был. Есть мнение, что «Отец истории» посетил еще одну столицу Ахеменидов — Экбатаны, располагавшиеся в Западном Иране и являвшиеся главным городом Мидии до того, как это государство подпало под власть персов.
У Геродота есть довольно красочное описание Экбатан. «Деиок (первый мидийский царь. — И. С.) воздвиг большой укрепленный город — нынешние Экбатаны, в котором одна стена кольцом охватывала другую. Крепостные стены были построены так, что одно кольцо стен выдавалось над другим только на высоту бастиона. Местоположение города на холме благоприятствовало такому устройству стен, однако местность была еще немного изменена искусственно. Всех колец стен было семь; внутри последнего кольца находятся царский дворец и сокровищница. Длина наибольшего кольца стен почти такая же, что и у кольцевой стены Афин. Бастионы первого кольца стен белые, второго — черные, третьего — желто-красные, четвертого — темно-синие, пятого — сандаракового (светло-красного. —
В описании даже имеется сравнение этого места с другим (Афинами); а мы уже имели возможности убедиться, что сравнения задействуются Геродотом обычно в тех случаях, когда он сам видел обе местности. Но здесь, похоже, перед нами исключение из правила. В приведенном рассказе есть сомнительные детали. Так, например, получается, что по территории Экбатаны даже чуть меньше Афин, а в это трудно поверить. Ведь сравниваются один из крупнейших городов Персидской державы — и всего лишь греческий полис, хотя и из числа самых знаменитых. Да и в целом слишком уж сказочная картина предстает мысленному взору читателя: холм, окруженный вздымающимися друг над другом разноцветными кольцами стен… Словом, вопрос о посещении Геродотом Экбатан — и вообще Ирана — приходится оставить открытым.
Что же касается сатрапий Персии, лежавших еще дальше на восток, то в них галикарнасец заведомо не бывал. Совершенно точно, например, не добирался он до далекой Индии, северо-западной частью которой тоже владели Ахемениды. А между тем сведения об Индии в «Истории» имеются. Но информация эта, конечно, получена автором из чужих рук и даже, скорее всего, через целый ряд посредников. Научная ценность подобных сообщений невелика; они переполнены откровенно легендарными и сверхъестественными элементами.
Вот характерный их образчик из индийского логоса Геродота: «В их земле есть песчаная пустыня, и в песках ее водятся муравьи величиной почти с собаку, но меньше лисицы. Несколько таких муравьев, пойманных на охоте, есть у персидского царя. Муравьи эти роют себе норы под землей и выбрасывают оттуда наружу песок… Вырытый же ими песок — золотоносный, и за ним-то индийцы и отправляются в пустыню. Для этого каждый запрягает в ярмо трех верблюдов, по бокам — верблюдов-самцов, которые бегут рядом, как пристяжные, а в середине — самку-верблюдицу… Их верблюды быстротой не уступают коням, а помимо того, могут нести гораздо более тяжелые вьюки… В такой верблюжьей упряжке индийцы отправляются за золотом с тем расчетом, чтобы попасть в самый сильный зной и похитить золото. Ведь муравьи от зноя прячутся под землей… Когда индийцы приедут на место с мешками, то наполняют их золотым песком и затем как можно скорее возвращаются домой. Муравьи же тотчас, по словам персов, по запаху почуяв их, бросаются в погоню. Ведь ни одно животное не может сравниться с этими муравьями быстротой бега, так что если бы индийцы не успели опередить их (пока муравьи соберутся), то никто бы из них не уцелел. Так вот, верблюдов-самцов (те ведь бегут медленнее самок и скорее устают) они отвязывают в пути и оставляют муравьям (сначала одного, потом другого). Самки же, вспоминая оставленных дома жеребят, бегут без устали. Таким-то образом индийцы, по словам персов, добывают большую часть золота, а некоторое гораздо меньшее количество выкапывают из земли» (III. 102–105).
Геродотовский рассказ о золотодобытчиках и огромных муравьях, несомненно, имеет главным своим первоисточником персидский купеческий фольклор. Среди купцов разных эпох и цивилизаций циркулировали такого рода истории, особенно сильно тяготевшие к фантастике и нагнетанию ужасов. Вспомним арабские сказки о Синдбаде-мореходе, точно так же возникшие в купеческой среде. Чего в них только нет: и чудовища, и великаны…
Рассказывалось всё это в первую очередь с целью отпугнуть потенциальных конкурентов, чтобы у слушателей не возникло желания самим ехать в Индию за золотом и иметь там дело с чудовищными кровожадными муравьями. «Отец истории», по своему обыкновению, аккуратно записал все разговоры купцов-персов, следуя своему, уже знакомому нам базовому принципу — «передавать всё, что рассказывают».
Индия, как видим, уже ко времени Геродота обрела в глазах европейцев столь привычный впоследствии ореол таинственной страны чудес, баснословно богатой, но наполненной всяческими опасностями. Такой облик она потом сохраняла долго — на протяжении всей Античности, Средних веков, вплоть до эпохи Великих географических открытий в начале Нового времени.
Египет точно так же, как Индия, всегда представал в глазах греков страной таинственной, загадочной, необычной и чрезвычайно интересной. И это несмотря на то, что в отличие от очень далекой, труднодоступной и уже поэтому экзотичной Индии долина Нила находилась довольно близко к Элладе — достаточно было переплыть Средиземное море.
Греко-египетские контакты были активными уже во II тысячелетии до н. э., в период существования микенской цивилизации на юге Балканского полуострова{135}. После ее крушения, в так называемые «темные века» (XI–IX) эти связи прервались — если не полностью, то почти полностью — из-за кризиса и упадка, который переживала Греция. А когда в эллинском мире наступила архаическая эпоха, сопровождавшаяся возрождением и бурным развитием всех областей жизни, одним из результатов стало восстановление связей с цивилизациями Древнего Ближнего Востока{136} и в частности с Египтом. С последним общение стало особенно активным с VII века до н. э.{137}
Египет тоже как раз тогда оправился от далеко не лучших времен, когда страна переживала политическую раздробленность и неоднократно попадала под власть иноземных завоевателей — то эфиопов с юга, то ливийцев с запада, то ассирийцев с востока… На престол взошла XXVI династия фараонов (664–525), называемая также Саисской по тогдашней столице — городу Саис в дельте Нила. Последний расцвет египетской государственности был прерван захватом Египта персидским царем Камбисом и превращением его в одну из сатрапий Ахеменидской державы. Но до того, как это произошло, страна фараонов, казалось, вернулась к прежнему блеску славы.
Цари из Саисской династии сознательно вели внешнеполитический курс на сближение с греками, прежде всего потому, что те уже в архаическую эпоху имели заслуженную репутацию великолепных воинов. Собственно, именно воины стали первыми эллинами, которых египтяне увидели после длительного перерыва. Нам уже знаком этот эпизод: ионийские гоплиты (в компании с карийцами) были случайно занесены бурей к египетским берегам. Эти «медные люди» глубоко поразили местное население, а Псамметих I — основатель Саисской династии — тут же нанял их к себе на службу и с их помощью сумел, победив соперников, объединить Египет под своим владычеством.
Фараоны и впредь активно пользовались услугами греческих наемников, а также предоставляли гостям с севера торговые привилегии, позволив им основать в дельте свою факторию — Навкратис. Установились взаимовыгодные отношения: египетских правителей Греция интересовала как источник вооруженной силы, а грекам Египет был нужен в качестве очень выгодного торгового партнера. Оттуда в первую очередь импортировали зерно, которым Эллада была столь бедна. Среди других важных статей ввоза был конечно же папирус: в греческом мире всё большее распространение получала грамотность, развивалась литература и самый удобный на тот момент писчий материал не мог не быть востребованным.
Греки, оказавшиеся в архаическую эпоху в долине Нила, были зачарованы необычным видом новых мест, грандиозностью памятников, отражавших уходящую вглубь тысячелетий египетскую историю. Ярким свидетельством их восхищенного удивления является упоминавшаяся выше серия надписей, вырезанных воинами-эллинами на ноге колоссальной статуи Рамсеса II в Абу-Симбеле (на юге Египта).
Разумеется, этих наемников нельзя еще назвать путешественниками в собственном смысле слова. Но вслед за солдатами и торговцами в Египте появились и настоящие туристы из Эллады. Впрочем, чтобы избежать современного слова, будем называть их паломниками. По этому поводу Геродот, в частности, пишет: «Когда Камбис, сын Кира, отправился в египетский поход, много эллинов также прибыло в Египет. Одни приехали, вероятно, для торговли, другие — как участники похода, а третьи, наконец, просто хотели посмотреть страну» (III. 139). Кстати, обратим внимание на то, что персидское завоевание страны фараонов отнюдь не пресекло визиты туда греков, а похоже, даже наоборот — способствовало им.
Этот бескорыстный интерес к чужой земле, вызванный чистой любознательностью, — в высшей степени характерный признак античного греческого мировоззрения. Проявился он еще задолго до похода Камбиса. Не случайно сохранились предания о пребывании в Египте ряда выдающихся деятелей интеллектуальной культуры эллинского мира.
Фалес Милетский — один из «семи мудрецов» и первый в мире философ — «ездил в Египет и жил там у жрецов… Он измерил высоту пирамид по их тени, дождавшись часа, когда наша тень одной длины с нами» (
Очень похожие вещи сообщаются и о еще одном выдающемся философе — Пифагоре с Самоса: «Он появился в Египте, и Поликрат верительным письмом свел его с Амасисом, он выучил египетский язык… Он явился… в Египте в тамошние святилища и узнал о богах самое сокровенное» (
Во всяком случае, совершенно несомненно, что Египет посетил главный предшественник Геродота на ниве исторического исследования — логограф Гекатей Милетский. Греческих историков, конечно, не могло не тянуть в страну, которая была в их глазах сокровищницей вековой мудрости. Преклонение перед египетскими древностями звало их туда. Поэтому не только не удивительно, а скорее вполне закономерно, что в один прекрасный момент в ряду эллинских интеллектуалов, устремлявшихся в страну фараонов, оказался и галикарнасец. Уже один только интерес к самому Египту мог бы служить достаточным основанием для такого путешествия. А к этому интересу у Геродота прибавлялись и иные мотивы.
Ведь он, занимаясь Греко-персидскими войнами, намеревался очень подробно осветить расширение Ахеменидской державы, завоевание ею новых земель. Соответственно, ему было не уйти от рассказа о присоединении к Персии Египта, которое свершилось при Камбисе, сыне Кира. А если принять во внимание излагавшуюся нами выше весьма вероятную гипотезу, согласно которой Геродот выполнял еще и роль своеобразного агента Афин — то ли по разведывательным, то ли по дипломатическим делам, а может быть, по тем и другим сразу, — то его поездка в Египет обретает новые, неожиданные обертоны. Афиняне в середине V века до н. э. чрезвычайно интересовались египетскими событиями. В их широких внешнеполитических интересах страна в долине Нила занимала заметное место.
По вопросу о целях поездки «Отца истории» в Египет — какая из них была главной — в науке сломано немало копий. Может быть, однозначный ответ так никогда и не будет найден. Ибо чтобы дать его, необходимо знать, во-первых, ситуацию в Египте и вокруг него, во-вторых — как можно более точную датировку пребывания там Геродота.
Первую «величину» мы знаем неплохо. Египет, попав под персидское владычество, в сущности, так и не смог с этим смириться. Его обитателей ни в малейшей мере не устраивало, что они живут теперь всего лишь в одной из рядовых провинций обширной империи, а не в собственном независимом государстве. Особенно если учесть, что это государство было одним из древнейших в истории человечества (а может быть, даже самым древним), могучим, богатым, процветающим, знавшим периоды грандиозного культурного расцвета, создавшим, в частности, такие архитектурные памятники, как Великие пирамиды — самые монументальные постройки Древнего мира (не считая разве что Великой Китайской стены), во всяком случае, самые высокие.
Гордясь своей долгой, богатой историей и высокой культурой, египтяне издавна отличались ксенофобией, неприязнью ко всему чужому. Геродот не устает это подчеркивать. «Придерживаясь своих местных отеческих напевов, египтяне не перенимают иноземных» (II. 79). «Эллинские обычаи египтяне избегают заимствовать. Вообще говоря, они не желают перенимать никаких обычаев ни от какого народа» (II. 91). «…Ни один египтянин или египтянка не станет целовать эллина в уста и не будет употреблять эллинского ножа, вертела или котла. Они даже не едят мяса „чистого“ (в ритуальном смысле. —
В этом нет ничего удивительного. С высоты своей древности относясь довольно пренебрежительно ко всем прочим этносам, египтяне считали их грубыми, невежественными варварами. И каково им теперь было сносить подчинение одному из таких «варварских» народов? Когда персы, еще совсем дикие, кочевали в степях, Египет уже блистал всеми атрибутами развитой и утонченной цивилизации. Не раз уже прежде страна в долине Нила освобождалась от власти захватчиков. Сколько их было! Но все — одни за другими — канули в бездну небытия, а Египет как стоял, так и стоит, и нет ему конца…
Вполне закономерно, что египтяне регулярно восставали против ахеменидского владычества. И нередко их попытки увенчивались временными успехами. Как раз в то время, когда Геродот бороздил воды Эгеиды и Средиземноморья, около 461 года до н. э., произошло очень крупное восстание. Его возглавил, провозгласив себя фараоном, Инар — один из североегипетских вождей. Персидские гарнизоны удалось вытеснить из Египта, и Инар обратился за военной помощью в Афины. Афинский полис, несмотря на свои размеры — ничтожные по сравнению и с Персией, и с Египтом, — уже зарекомендовал себя как одна из самых могущественных держав тогдашнего мира. У всех на слуху были недавние славные победы афинян над персами.
Афинское народное собрание с энтузиазмом отнеслось к просьбе Инара. Ведь перед эллинами открывались новые, необычайно заманчивые перспективы сотрудничества с Египтом: расширить сферу своего влияния, потеснить Ахеменидов и окончательно унизить их, отторгнув от их державы одну из богатейших сатрапий. Особенно важно было то, что Египет с его плодородными почвами являлся подлинной житницей Средиземноморья, крупнейшим экспортером зерна, ведь Афинам постоянно не хватало собственного хлеба и они нуждались в его импорте. Как же было не откликнуться на предложение, исходящее от столь выгодного партнера?
В 459 году до н. э. сильный флот Афинского морского союза — до двухсот кораблей — отбыл в дельту Нила. Общими усилиями Инар и афиняне около пяти лет сдерживали постоянные атаки персов, не желавших примириться с утратой Египта. Но в конце концов удача оказалась на стороне неприятеля: в 454 году персидский полководец Мегабиз нанес тяжелейшее поражение противнику, и лишь жалким остаткам присланных эллинами морских сил удалось вернуться в Афины. Это была одна из самых громких побед Ахеменидов за все время Греко-персидских войн. А еще пять лет спустя был подписан Каллиев мир, завершивший эти войны, и по его условиям Афины обязались отказаться от попыток военного проникновения в Египет.
Всё это хорошо известно. Со второй же «величиной», необходимой для решения нашего уравнения, — датой египетского путешествия Геродота, — напротив, полная неясность. Теоретически возможны четыре варианта: Геродот посетил Египет либо (а) до восстания Инара, либо (б) в период этого восстания, то есть в 461–454 годах до н. э., либо (в) между восстанием и Каллиевым миром, то есть в 454–449 годах, либо, наконец, (г) после Каллиева мира.
Обратим внимание на то, что Египет, описанный Геродотом, находился под персидским владычеством. «Во времена царя Псамметиха египтяне выставили пограничную стражу в городе Элефантине против эфиопов, в Дафнах, что в Пелусийской области, — против арабов и сирийцев и в Марее — против ливийцев. Еще и в наше время стоит персидская стража в тех же самых местах, как и при Псамметихе» (II. 30). «Для персов и наемников, занимавших Белую крепость в Мемфисе, доставляется 120 тысяч медимнов хлеба» (III. 91). «Еще и поныне персы весьма заботятся об… огражденной плотиной излучине Нила и каждый год укрепляют ее» (И. 99).
Таким образом, вариант б сразу можно отбросить: во время восстания Инара персы, естественно, Египет не контролировали и их гарнизоны там не стояли. На первый взгляд весьма вероятным оказывается вариант а. Ведь до восстания власть персов над долиной Нила была уже достаточно долговечной и казалась прочной. Тогда мы должны допустить, что Геродот посетил Египет еще довольно молодым человеком, на первом этапе своих многолетних странствий. Ничего необычного в этом не было бы, ведь страна фараонов, как мы видели, давно уже являлась объектом постоянных паломничеств греческих интеллектуалов.
Есть, однако, один нюанс, который заставляет отказаться и от этого варианта. В 459 году до н. э. у местечка Папремис состоялось крупное сражение между повстанцами Инара и присланным из Персии карательным войском под командованием знатнейшего вельможи Ахемена — сына Дария I и дяди находившегося тогда на престоле Артаксеркса I. Египтяне одержали победу. Геродот был на месте этой битвы, рассматривал многочисленные останки убитых и сделал следующее интересное наблюдение: «Черепа персов оказались такими хрупкими, что их можно было пробить ударом камешка. Напротив, египетские черепа были столь крепкими, что едва разбивались от ударов большими камнями… Таковы эти черепа. Такие… черепа я видел в Папремисе, где лежали тела персов, павших во главе со своим вождем Ахеменом, сыном Дария, в борьбе против ливийца Инара» (III. 12). Инар назван здесь ливийцем, поскольку он происходил из Северо-Западного Египта, граничившего с Ливией. Обратим еще внимание на то, как вольно историк обращается с человеческими костями, проводя с ними своеобразные эксперименты. Но самое главное здесь — то, что Геродот, судя по приведенному сообщению, побывал на египетской земле после 459 года — и, очевидно, не сразу после сражения, а спустя какое-то время: за это время трупы успели истлеть, и остались голые кости.
Стало быть, остаются два варианта — в и г. Как правило, в исследовательской литературе выбор делается в пользу последнего. Так, в довольно старом, но до сих пор весьма авторитетном комментарии к Геродоту сказано, что его египетская поездка имела место, скорее всего, около 440–438 годов до н. э., уже после того, как историк участвовал в основании Фурий{139}. Однако совершенно неясно, почему именно эта дата считается наиболее вероятной.
Автор самого важного и фундаментального на сегодняшний день труда о пребывании Геродота в Египте А. Ллойд строит ход своих рассуждений более аргументированно и осторожно{140}. Он считает, что «Отец истории» путешествовал в долину Нила в промежутке между 449 и 430 годами до н. э., а более точная — и при этом ответственная — датировка невозможна. В любом случае перед нами тот же вариант г. Визит в Египет в период 454–449 годов был, по мнению Ллойда, невозможен, поскольку персы не пустили бы на свою территорию представителя враждебных им греков, особенно если учитывать большие симпатии Геродота к Афинам, которые как раз вели с Персией войну.
Однако выше мы уже показали, что такая логика, вполне привычная для человека наших дней, для геродотовских времен не работает — войны тогда не были тотальными. Из того, что Ахемениды воевали с эллинами, совершенно не вытекает, что они отказали бы в допуске на свою территорию эллина — мирного, невооруженного, да к тому же еще персидского подданного, каковым галикарнасец, пусть и номинально, продолжал оставаться. Что же касается симпатий историка к Афинам — кто в администрации Египетской сатрапии стал бы в это вникать? Ну, прибыл очередной грек — вероятно, по торговым делам или как паломник…
Признаться, нам кажется наиболее близким к истине именно вариант в. Ведь если датировать египетский вояж «Отца истории» временем после Каллиева мира, получится, что рассказ о Египте в его труде — один из самых поздних кусков, что Геродот решил посетить долину Нила тогда, когда его повествование о расширении Ахеменидской державы, о ее конфликте с Элладой было уже в основном готово. Это выглядит не очень последовательно, ведь захват Египта стал одной из довольно ранних военных акций Персии. Гораздо логичнее предположить, что Геродот поплыл в Египет немедленно, как только получил такую возможность.
Есть еще одно, компромиссное решение, заключающееся в допущении, что Геродот бывал в Египте не раз. Для такого неутомимого странника, каким был галикарнасский историк, это вполне естественно. Впервые он мог туда отправиться еще до восстания Инара, а потом приезжать и в период этого восстания — когда Египет (по крайней мере его часть) контролировали любезные ему афиняне, — и после восстановления персидского владычества. Такой вариант позволяет разрешить многие недоумения и снять многие противоречия. Но и он не может считаться стопроцентно доказанным. Одним словом, перед нами в очередной раз ситуация, когда истина во всех деталях, может быть, так навсегда и останется ускользающей от нас, и нам приходится с этим смириться.
В каких частях Египта побывал Геродот? Тут прежде всего следует напомнить некоторые данные из древней географии этой страны. Она традиционно делилась на две части: Нижний и Верхний Египет. Нижний (Северный) Египет — это дельта Нила, впадающего в Средиземное море многочисленными устьями, пересеченная рукавами и протоками. На одном из этих рукавов находилась последняя египетская столица — Саис, на другом — греческая фактория Навкратис.
Близ того места, где единое русло Нила начинает разделяться, на самом стыке Нижнего и Верхнего Египта, стоял Мемфис — один из древнейших и знаменитейших городов страны фараонов, долгое время являвшийся ее столицей. Тут же, неподалеку, высились Великие пирамиды и Большой Сфинкс. А дальше к югу, вплоть до нильских порогов, простирался Верхний Египет — длинная и узкая, чрезвычайно плодородная полоска речной долины, с обеих сторон зажатая подступающими пустынями. Крупнейший центр Верхнего Египта — Фивы «Стовратные». Так их называли греки, чтобы отличать от своих собственных «Семивратных» Фив. Фивам тоже доводилось побывать в роли столичного города, причем как раз в тот период, когда Египетская держава достигла наивысшего расцвета.
Геродот сообщает, что побывал и в Нижнем, и в Верхнем Египте. Первый был, естественно, знаком ему лучше. Историк посетил и Саис, и Навкратис, и Мемфис, и соседний с ним Гелиополь. Но плавал он и вверх по Нилу, надолго задержался в Фивах. Крайний же пункт своего путешествия он обозначает так: «…Свои изыскания я распространил как можно дальше, так как я сам доходил до города Элефантины; начиная же оттуда, мне пришлось, конечно, собирать сведения по слухам и расспросам» (II. 29). Этот населенный пункт находился у первого порога Нила.
Таким образом, «Отец истории» объехал страну фараонов вдоль и поперек, исследовал ее более интенсивно, чем любой другой регион ойкумены. Все самые знаменитые египетские достопримечательности прошли перед его глазами: и пирамиды, и храм-лабиринт на берегу Меридова озера, и грандиозные постройки святилищ Амона-Ра в Фивах.
О том, что Геродот увидел и услышал в долине Нила, он рассказал с особенным энтузиазмом и с подробностями, доходящими до мельчайших деталей. Плодом этого путешествия стал египетский логос — самый большой в «Истории». Он целиком занимает вторую книгу труда, а третья книга начинается рассказом о завоевании Египта Камбисом. Египетский логос Геродота производит впечатление отдельного целостного научно-художественного произведения. Он поражает единством замысла при чрезвычайном богатстве и многообразии привлеченного материала, стройностью композиции, продуманностью структуры. О чем же в нем повествуется?
Начинает Геродот с описания и истолкования особенностей природы Египта и почти сразу же делает очень точное и меткое наблюдение: «Нижний Египет, куда эллины плавают на кораблях, недавнего происхождения и является даром реки Нила» (II. 5). «Итак, большая часть этой названной области, как меня уверяли жрецы и как я сам думаю, лишь недавнего происхождения и является наносной землей; и действительно, у меня создалось впечатление, что низменность, лежащая… к югу от Мемфиса, некогда была морским заливом» (II. 10). «Поэтому я полагаю: если эта страна будет и дальше расти в том же соотношении и становиться всё выше, то когда-нибудь Нил вообще не будет затоплять ее» (II. 13).
Ставшее хрестоматийным выражение «Египет — дар Нила» обязано своим происхождением именно «Отцу истории». Великая африканская река в первую очередь привлекла внимание любознательного эллина, и он останавливается на двух вопросах, издавна интересовавших людей: об истоках Нила и о природе нильских разливов.
Первый вопрос, впрочем, так и остался для галикарнасца неясным: «Что до истоков Нила, то никто из египтян, ливийцев или эллинов, с которыми мне приходилось иметь дело, не мог ничего мне сообщить об этом» (II. 28). «Течение Нила (не считая пространства, по которому он течет в Египте) известно на расстоянии четырехмесячного плавания и сухопутного пути… О дальнейшем же его течении никто ничего определенного сказать не может. Ведь страна эта безлюдна из-за сильного зноя» (II. 32). Неведение заставляло историка строить собственные предположения. Чисто умозрительным путем он заключил, что в своей верхней части Нил течет не с юга на север, как в Египте, а с запада на восток, начинаясь где-то в той местности, которую мы ныне называем Сахарой. Впоследствии выяснилось, что мнение это неверно; но не будем строго судить Геродота: система географических знаний в его эпоху только складывалась, да он и сам своими путешествиями сделал в ее формирование очень заметный взнос. Чтобы родилась истина, порой бывает просто необходимо миновать череду неизбежных ступеней — ошибочных точек зрения.
Похоже обстоит дело и с вопросом о разливах Нила. В отличие от проблемы истоков, имевшей чисто теоретический интерес и занимавшей, наверное, немногих, этот удивительный феномен Египта не мог не броситься в глаза каждому прибывавшему туда. Ежегодно в самый разгар лета, как правило, в один и тот же день, вода в реке начинала подниматься, выходить из берегов, затоплять окрестные поля, удобряя их илом… В этом была одна из главных причин их необычайного плодородия.
Уже ко времени Геродота было выдвинуто несколько альтернативных объяснений этого явления. Сам историк приводит три такие версии — но только для того, чтобы тут же их отвергнуть. Две из них и на самом деле крайне наивны. «Согласно одному толкованию, причиной нильских разливов являются этесийские ветры, которые-де препятствуют реке течь в море» (II. 20). «Второе толкование еще неразумнее… Оно гласит: подъем и спад воды Нила происходит оттого, что Нил вытекает из Океана, а этот Океан обтекает всю землю кругом» (II. 21). Третье же объяснение носит гораздо более рациональный и научный характер. Оно предполагает, что «Нил выходит из берегов от таяния снегов» (II. 22). Мы ныне знаем, что так оно и есть на самом деле. Но Геродот и эту гипотезу считает ложной. Действительно, какие могут быть снега в верховьях Нила, если он течет с юга, из неимоверно жарких мест?! Историку не приходило в голову, что истоки реки могут лежать в высоких горах, вершины которых покрыты вечными снегами. Именно так в Эфиопии начинается Голубой Нил — один из двух водных потоков, от слияния которых получается Нил. Другой же, Белый Нил, берет свое начало в великих озерах Экваториальной Африки.
Взамен этих объяснений Геродот предлагает собственное — сложное, запутанное и многословное, суть которого в том, что «зимней порою солнце, гонимое северными ветрами, уходит со своего обычного летнего пути в Верхнюю Ливию» (II. 24). Дальше не имеет смысла и пересказывать… Все-таки естествознание явно было не самой сильной стороной «Отца истории». Тип его мышления, чувствуется, был совершенно иным.
Поэтому чтение логоса становится значительно интереснее, когда автор переходит от Нила к собственно Египту, нравам и обычаям его жителей. Пассаж, который мы приведем, — один из самых известных в геродотовском труде. Он является классическим образцом описания жизни чужого народа, абсолютно противоположной «жизни нормальных людей». У египтян, если верить галикарнасцу, всё не так, как полагается, всё наоборот.
«Подобно тому как небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте, и как река у них отличается иными природными свойствами, чем остальные реки, так и нравы и обычаи египтян почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям остальных народов. Так, например, у них женщины ходят на рынок и торгуют, а мужчины сидят дома и ткут. Другие народы при тканье толкают уток кверху, а египтяне — вниз. Мужчины у них носят тяжести на голове, а женщины — на плечах. Мочатся женщины стоя, а мужчины сидя. Естественные отправления они совершают в своих домах, а едят на улице… Ни одна женщина у них не может быть жрицей ни мужского, ни женского божества, мужчины же могут быть жрецами всех богов. Сыновья у них не обязаны содержать престарелых родителей, а дочери должны это делать даже против своего желания. В других странах жрецы богов носят длинные волосы, а в Египте они стригутся. В знак траура у других народов ближайшие родственники, по обычаю, стригут волосы на голове, египтяне же, если кто-нибудь умирает, напротив, отпускают волосы и бороду, тогда как обыкновенно стригутся. Другие народы живут отдельно от животных, а египтяне — под одной крышей с ними; другие питаются пшеницей и ячменем, в Египте же считается величайшим позором употреблять в пищу эти злаки. Хлеб там выпекают из полбы… Тесто у них принято месить ногами, а глину руками… Половые части другие народы оставляют, как они есть; только египтяне (и те народности, которые усвоили этот обычай у них) совершают обрезание. Каждый мужчина носит у них две одежды, а всякая женщина — одну… Эллины пишут свои буквы и считают слева направо, а египтяне — справа налево» (II. 35–36).
Как видим, действительно перед читателем предстает классический вариант «мира наизнанку». По подобной схематичной картине скорее можно получить представление не о быте египтян, а о том, как жили сами греки. Некоторые детали весьма интересны и даже пикантны (например, фраза о естественных отправлениях, которые, получается, греки принципиально совершали на улице).
Впрочем, как раз эта часть египетского логоса, посвященная обычаям жителей долины Нила, исключительно информативна. Особенно интересовали Геродота их религиозные ритуалы, способы почитания богов, издревле очень распространенный в стране фараонов культ животных. Подробно останавливается историк на обряде мумифицирования умерших — вполне обычном для египтян, а грекам совершенно чуждом и уже поэтому занимательном.
Наконец, следует рассказ об истории Египта, сводящийся к перечню ряда фараонов и их деяний — как внешних (многочисленные войны), так и внутренних, в первую очередь различных знаменитых построек, которые Геродот тут же описывает.
Большой достоверностью отличаются данные Геродота о правителях из Саисской династии, которые меньше всего отстояли во времени от его пребывания на земле Египта. А вот в приводимой им информации о более древних царях немало путаницы и прямых ошибок. В связи с этим уместен вопрос: каков источник этих сведений «Отца истории»? Согласно собственным утверждениям Геродота, он, путешествуя по Египту, постоянно посещал крупные святилища и общался там с жрецами. Прямо названо, в частности, жречество «Гефеста» (Пта) в Мемфисе (II. 2–3), «Зевса» (Амона-Ра) в Фивах (П. 54, 143), «Афины» (Нейт) в Саисе (II. 54). Ведь галикарнасец, следуя нормам, принятым у его современников-греков, называл иноземные божества эллинскими именами. Впрочем, чаще он предпочитал говорить просто о «жрецах», без дальнейшего уточнения их принадлежности. Собственно, если верить самому автору, подавляющее большинство фактов из египетской истории он узнал именно от жрецов. Геродот упоминает о них постоянно.
Выше мы уже показали полную несостоятельность теории У. Хайделя, согласно которой Геродот никогда не встречался с египетскими жрецами, а всю информацию списал у Гекатея и сознательно ввел в заблуждение своих читателей. Однако проблема остается неразрешенной, ведь многие сведения, содержащиеся во второй книге «Истории», никак нельзя считать исходящими от жрецов, хотя ссылка делается именно на них. Ряд сюжетов, вложенный Геродотом в их уста, на самом деле несет специфически греческий колорит. Особенно это касается рассказа о царе Протее, при котором в Египте якобы оказалась Елена Прекрасная — виновница Троянской войны{141}. В повествование о деяниях фараонов каким-то образом попал чисто эллинский миф, разработанный, как мы помним, архаическим лириком Стесихором, а к египетской истории не имеющий никакого отношения.
Есть и другие подобные примеры. В целом геродотовская версия древнеегипетской истории, безусловно, содержит немало позитивных данных; но их едва ли не перевешивает анекдотический элемент{142}, которым насыщена эта часть труда. Анекдотичны, местами даже сказочны эпизоды мести царицы Нитокрис (II. 100), походов Сесостриса, якобы дошедшего аж до Колхиды (II. 102 и след.), и его спасения из огня пожара (II. 107), болезни и исцеления фараона Ферона (II. 111), нисхождения Рампсинита в подземное царство (II. 122), рассказ о дочери Микерина и ее служанках (II. 129–132) и др. Совершенно бесспорно фольклорное происхождение великолепной новеллы о сокровищнице Рампсинита и хитроумном воре (II. 121).
Очень характерен приводимый историком в самом начале египетского логоса со ссылкой на «жрецов Гефеста в Мемфисе» анекдотический рассказ: Псамметих однажды решил узнать, какой язык на свете самый древний, и с этой целью приказал специально не учить говорить двух младенцев, чтобы выяснить, на каком языке они в конце концов заговорят (И. 2–3). Рассказ этот носит вполне эллинский оттенок{143}: сама мысль провести подобный эксперимент могла прийти на ум конечно же не египетскому фараону, а пытливым и любознательным грекам.
Обратим внимание на еще одну любопытную деталь. Экскурс о царе Протее начинается словами: «Наследником этого царя (Ферона. —
Как же объяснить это недоразумение? Есть точка зрения, согласно которой Геродот был сам введен в заблуждение: его собеседниками были, возможно, полукровки греко-египетского происхождения, выдававшие себя за жрецов или ошибочно принятые историком за таковых{144}. Уж не переводчики ли это были? Мы уже знаем, что Геродот активно пользовался услугами толмачей — во многих местах, в том числе и в Египте.
Могло ли статься, чтобы Геродот сам привнес в повествование о Египте анекдотические детали, — например, чтобы сделать повествование более понятным и занятным для читателей? Вряд ли. Скорее всего, в египетском логосе, как и в прочих частях произведения, историк не отступил от своего базового принципа — добросовестно передавать ту информацию, которую он получал{145}. В таком случае выходит, что это беседовавшие с ним жрецы насыщали свои рассказы эллинскими реалиями.
Было ли это возможно? Насколько можно судить, вполне. А. Ллойд справедливо замечает, что греки, в архаическую эпоху вступив в тесное общение с египтянами, заняв в их жизни довольно большое место, привнесли и в их историческую память свою собственную струю{146}.
Образованные эллины — особенно те, кто прибывал в Египет не с прагматическими целями (да и «деловые люди», полагаем, тоже), — активно осматривали сохранившиеся в регионе древние памятники. Им нужны были пояснения со стороны местных жителей; они не заставили себя долго ждать, ведь, по известному закону экономики, спрос рождает предложение. Едва ли не во всех святилищах, где можно было ожидать паломников из Эллады, появились своеобразные гиды, которые показывали им святыни и в меру сил рассказывали о них и о Египте в целом. А поскольку светских экскурсионных бюро в ту эпоху, разумеется, не было, то естественно предположить, что роль таких гидов выполнял жреческий персонал египетских храмов. Так в наше время гражданам, совершающим паломничества в действующие монастыри, тамошние достопримечательности показывают монахи.
Так вот кто они такие, эти геродотовские жрецы! На наш взгляд, не может быть и речи о том, чтобы это были представители высшего жречества. Египетское святилище было обширным сакральным комплексом с разветвленным персоналом, в котором в любой момент могли найтись люди, готовые (несомненно, за плату) провести «экскурсию» для любопытствующих чужеземцев.
Эту устоявшуюся точку зрения на иерархическое место жрецов, с которыми общался Геродот, пытается опровергнуть А. Ллойд{147}. Но если вслед за ним считать, что их ранг был весьма высок, почему же тогда они делали грубые ошибки в изложении египетского прошлого, перенасыщали свои рассказы анекдотами и пр.? Ученый парирует: почему мы, собственно, ждем от жрецов, даже высокопоставленных, хорошего знания истории собственной страны? Оно никоим образом не входило в круг их обязанностей, заключавшихся совсем в ином. Разумеется, в Египте вполне могли появляться и ученые жрецы; но они были таковыми не потому, что это предписывал их сан, а по собственным личным склонностям, и в любом случае являлись скорее исключениями, чем нормой. Замечание остроумное и, насколько можно судить, верное. Тем не менее нам все же трудно представить, что в Фивах или Мемфисе верховные жрецы снисходили до исполнения обязанностей гида. Комментаторы Геродота У. Хау и Д. Уэллс{148} приводят в данной связи ироническое замечание великого египтолога XIX века Гастона Масперо: это все равно как если бы в наши дни туриста, осматривающего Нотр-Дам, водил по нему сам архиепископ Парижский. Действительно, представить это трудно, практически невозможно. В подобной роли несравненно естественнее смотрелся бы представитель рядового духовенства, кто-нибудь из соборных кюре.
Правда, не факт, что Геродот побывал в Египте в качестве рядового туриста. Многое здесь могло бы разъяснить знание хронологии: посетил «Отец истории» долину Нила до или после вручения ему афинским народным собранием огромной суммы в десять талантов (напомним, что это произошло, скорее всего, в 445/444 году до н. э., хотя, возможно, и в другое время). Понятно, что в зависимости от этого и отношение к нему было бы неодинаковым. Но, как мы видели, со сколько-нибудь приемлемой точностью вопрос о датировке визита «Отца истории» в Египет решить нельзя.
Как бы то ни было, если Геродот и вступал в эпизодические контакты с высшими священнослужителями, такие эпизоды не могли быть слишком частыми; во всяком случае, сам историк упоминает только об одном: он говорит, что слышал рассказ об истоках Нила от «храмового писца и управителя храмовым имуществом Афины в египетском городе Саисе» (II. 28). «Храмовый писец» в наше время звучит не слишком респектабельно. Однако в Египте, где уважение к писцам издревле было очень велико, такой сан носило культовое должностное лицо достаточно высокого ранга{149}. Во всех же остальных случаях автор называет своих собеседников просто жрецами; видимо, то были рядовые служители культа.
О характере и уровне рассказов этих жрецов-гидов вполне можно судить по деятельности их нынешних собратьев, идет ли речь о светском туризме или о религиозных паломничествах (в древности эти две категории, естественно, не отделялись друг от друга). Для работы как тех, так и других, характерны, в сущности, одни принципы, обусловливающиеся целевой направленностью их рассказов на конкретную аудиторию, как правило, не очень взыскательную в плане истинности сообщаемых сведений. Экскурсовод дает слушателям ту информацию, какую они хотят получить; хотят же они, чтобы было «поинтереснее». К тому же одноразовый характер общения гида с экскурсантами располагает его к определенной безответственности. В результате речь экскурсовода всегда переполнена новеллистическими и даже анекдотическими компонентами, домыслами и прямыми вымыслами.
Любой демонстрируемый памятник дает почву для самых разнообразных фантазий. Приведем несколько чрезвычайно показательных примеров из египетского логоса Геродота. В Саисе жрецы показывали «Отцу истории» деревянные статуи женщин, у которых отсутствовали руки. При этом ему рассказывали, будто бы скульптуры изображают служанок фараона Микерина, которым руки были отрублены по приказу его жены. Типичный «этиологический» рассказ гида! Геродот по этому поводу резонно замечает: «Всё это, впрочем, как мне думается, пустая болтовня, особенно же — история с руками статуй. Ведь я сам видел, что руки у статуй отвалились от времени и еще при мне лежали тут же у ног» (II. 131).
В данном случае всё было, как говорится, слишком уж шито белыми нитками. Могли, однако, случаться ситуации и не столь очевидные, когда расшифровать выдумку жреца-экскурсовода с ходу было невозможно. Один из рассказов о фараоне Сесострисе (II. 107) повествует о том, как ему удалось спастись из подожженного дома, положив двух своих сыновей в качестве моста над огнем и перейдя по их телам. Весьма убедителен комментарий Г. А. Стратановского к данному месту: Геродоту, очевидно, показывали рельеф, на котором царь попирал распростертого на земле врага, и таким своеобразным способом интерпретировали изображение{150}. Точно так же можно истолковать и сюжет с нисхождением фараона Рампсинита в подземный мир, где он «играл в кости с Деметрой, причем то выигрывал, то проигрывал у нее. Затем он снова вернулся на землю с подарком от богини — золотым полотенцем» (II. 122). Нетрудно представить себе, как жрец подводит Геродота к какой-нибудь серии фресок или рельефов на популярный в Египте сюжет загробной жизни и предлагает чужеземцу первое попавшееся вульгаризированное объяснение: дескать, хватит с него и этого, не вдаваться же в тонкости жреческой теологии!
Геродот конечно же не был молчаливым слушателем жрецов{151}, а активно спрашивал их обо всем: «В ответ на мои вопросы об Елене жрецы рассказали вот что» (II. 113), «Когда я спросил жрецов, верно ли сказание эллинов об осаде Или-она, они ответили, что знают об этом из расспросов самого Менелая вот что» (II. 118). Жрецы, естественно, отвечали на эти вопросы то, что их собеседник хотел услышать. Этим и объясняются многие вкрапления греческого происхождения в египетский логос. Когда «Отец истории» начинал расспрашивать жрецов о Елене Прекрасной в Египте, о Троянской войне и прочем, что могли они ему рассказать? Да только то, что сами понаслышке знали из греческих мифов. А рассказывать нужно было, дабы не ударить в грязь лицом перед любознательным эллином. Так и появлялись на свет квазиегипетские, а в действительности греческие по своим корням истории.
Итак, Геродот должен быть решительно реабилитирован от обвинений в собственных немотивированных вымыслах об истории, природе, жизни Египта. Он честно и добросовестно передавал то, что сообщали ему египетские жрецы, и ответственность за искажение истины лежит на последних. Но, может быть, «Отца истории» следует упрекнуть в чрезмерном легковерии (как часто и делается)? Этот упрек можно сделать только в том случае, если мы будем считать, что он действительно слепо принимал на веру всё, о чем писал. Но это означает, что следует забыть об одном из основополагающих геродотовских принципов, не раз нами упомянутом: «Мой долг передавать всё, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан. И этому правилу я буду следовать во всём моем историческом труде» (VII. 152).
Египет оставался для европейцев страной удивительной, полной тайн и загадок еще много веков спустя после времени Геродота, остается таковой, в сущности, и по сей день: бешеной популярностью пользуются книги и фильмы о секретах пирамид, древних фараонах, оживающих мумиях. Не случайно египетский логос «Истории» всегда был одной из самых читаемых частей этого труда. А когда родилась научная египтология, она вначале опиралась в своих изысканиях почти исключительно на данные Геродота и некоторых других античных авторов вплоть до момента расшифровки в XIX веке египетских иероглифов французским ученым Ж. Шампольоном.
К западу от Египта простиралась обширная Ливия. Собственно, древние греки называли Ливией, в отличие от нас, не конкретную африканскую страну, а весь тот огромный континент, который мы именуем Африкой, за исключением Египта, который либо относили к Азии, либо вообще выделяли в отдельную часть света. Ливия, особенно ее глубинные области, Геродоту была знакома несравненно хуже, чем Египет, что неудивительно: пустыни и дебри Африки даже в XIX веке, в относительно недавнее по историческим меркам время, еще только исследовались.
Исключением является Киренаика. Эта территория располагалась на севере Африки, на побережье Средиземного моря, не очень далеко к западу от Египта. Киренаика была единственной африканской местностью, прекрасно освоенной эллинами в ходе Великой греческой колонизации архаической эпохи{152}. Там возник ряд новых полисов, среди которых резко выделялась Кирена — естественный центр области. В числе наиболее развитых древнегреческих государств Кирена прошла такие стадии, как раннее законодательство, тирания… Ее высокое развитие было следствием прежде всего неустанного труда колонистов: прибыв на новую родину, они превратили полупустынные местности в цветущий сад. Особенно славилась Кирена выращиванием сильфия. Это таинственное лекарственное растение, которое до сих пор не получило в науке точной ботанической идентификации, было одной из главных статей киренского экспорта.
Геродот в четвертой книге «Истории» подробно рассказывает о Кирене и ее судьбе. Скорее всего, он побывал там тогда же, когда ездил в Египет.
Еще не столь давно отечественные ученые не без гордости писали, что «Отец истории» побывал на территории нашей страны{153}. После распада Советского Союза в 1991 году сказать так уже, к сожалению, нельзя. Геродот посетил области нынешней Украины и, возможно, Грузии.
Тем не менее северное путешествие великого галикарнасца по-прежнему не может не вызывать у россиян особенного интереса. Ведь на сей раз он отправился к берегам Черного моря, всем нам хорошо известного. Целью поездки была Скифия, просторно раскинувшаяся в степях Северного Причерноморья. Попасть на Скифскую землю историку нужно было для того, чтобы составить представление об одном из значительных эпизодов персидской истории — событии, фактически ставшем прелюдией войн греков с персами.
Речь идет о скифском походе Дария I, состоявшемся в 513 году до н. э. Надменному владыке державы Ахеменидов не удалось подчинить себе скифов, и он вернулся из их земель несолоно хлебавши. Скифы после этого получили репутацию «непобедимого народа». А для предыстории Греко-персидских войн этот инцидент был важен тем, что являлся первым проникновением персидского войска из Азии в Европу. Тогда персы, ничего не добившись в Скифии, сумели все-таки подчинить себе Фракию.
Эту-то кампанию и хотел теперь исследовать Геродот, дабы включить повествование о ней в свою «Историю». Поскольку, напомним, никаких чужих языков он не знал, ему приходилось ориентироваться на местных причерноморских греков. А эллинов в составе местного населения было в достатке, ведь в архаическую эпоху побережья Понта Эвксинского стали регионом интенсивной греческой колонизации. Там возникли десятки полисов, туда Геродот и направлялся. Особенных трудностей такое плавание не представляло: достаточно было в любой точке Эгейского моря сесть на купеческий корабль из числа тех, что постоянно курсировали в Черное море за зерном.
Датировка скифской поездки Геродота, как и большинства остальных его вояжей, совершенно неясна. Известно, что примерно в 437–436 годах до н. э. к черноморским берегам совершила экспедицию сильная афинская эскадра, которой командовал сам Перикл{154}. В результате ее ряд тамошних городов был включен в состав Афинского морского союза. В свое время у автора этих строк было подозрение: не тогда ли, вместе с Периклом, плавал в Черное море и Геродот? Но от этого предположения, как ни соблазнительно оно выглядело, пришлось всё же отказаться. По всей видимости, историк побывал в Причерноморье раньше.
В частности, это подтверждает следующий аргумент. Как раз на протяжении V века до н. э. в одном из регионов Северного Причерноморья, а именно — по обеим сторонам Керченского пролива (в древности Боспора Киммерийского) на основе ряда греческих полисов начало формироваться мощное государственное объединение, позже получившее название Боспорского царства. Столицей этого государства стал Пантикапей (нынешняя Керчь). Но процесс его создания был длительным и постепенным{155}. Особенно мощный толчок ему придал приход к власти в Пантикапее в 438/437 году до н. э. правителя Спартока I, ставшего основателем династии Спартокидов, владычествовавшей на Боспоре несколько веков.
По весьма вероятной версии, именно переворот Спартока (свергшего предыдущую династию Археанактидов) стал одной из главных причин похода Перикла в Черное море. Если бы в этом походе участвовал Геродот, то в его труде Боспорское государство заняло бы, несомненно, достаточно значимое место — или по крайней мере было хотя бы упомянуто.
А этого нет! Боспор Киммерийский, правда, упоминается в «Истории» несколько раз, но в чисто географическом контексте, без какой-либо исторической или политической подоплеки. Например: «Море здесь и весь Боспор Киммерийский замерзают, так что скифы… выступают в поход по льду и на своих повозках переезжают на ту сторону» (
Скорее всего, он плавал в Скифию тогда, когда в Пантикапее правили еще Археанактиды. А в это время будущее Боспорское царство было всего лишь небольшим союзом полисов, и на фоне славы и могущества Афин его можно было просто не заметить. Наиболее подходящим временем для черноморского путешествия Геродота выглядят, пожалуй, 440-е годы до н. э.
Если вспомнить, что в ходе своих странствий галикарнасец неоднократно выполнял различные разведывательные и, возможно, дипломатические миссии (о чем уже неоднократно говорилось выше), напрашивается гипотеза: не для того ли он был направлен афинскими властями в столь отдаленный, можно сказать, глухой угол тогдашней ойкумены? Северное Причерноморье очень интересовало Афины — прежде всего как источник массовых поставок дефицитного хлеба. Ведь Скифия, наряду с Египтом и Великой Грецией, была одной из главных «житниц» античного мира. Разумеется, афиняне хотели как можно больше знать об этом регионе, прежде чем начать туда непосредственное военно-политическое проникновение. А кто лучше подходил для сбора необходимых сведений, чем Геродот, уже прекрасно зарекомендовавший себя как мастер этого дела?
И вот путешествие на север началось. В том, что историк плыл туда именно на корабле, а не двигался сухим путем, сомневаться не приходится. Пройдены теснины Боспора Фракийского, и впереди распростерлась бескрайняя гладь Понта. «Гостеприимное море» — и это не осталось незамеченным уже для первых побывавших на нем греков — во всем отличалось от родной им Эгеиды: гораздо обширнее, намного глубже и более бурное. А самое главное — если Эгейское море буквально усыпано островами, столь облегчавшими мореплавание, то в Черном островов практически нет. Поэтому морские пути по нему были главным образом каботажными — проходили вдоль побережья. Правда, ко времени Геродота уже были освоены и два наиболее коротких, поперечных пути от южного берега к северному в тех местах, где они сближаются. Но историк не воспользовался кратким путем: торопиться ему было некуда, к тому же целью его путешествия был город Ольвия в северо-западном «углу» Понта. Туда всего легче было попасть, двигаясь западной стороной моря.
Галикарнасец так и сделал. Поодаль тянулись земли Фракии — обширной страны, на юге приближающейся к Элладе, а на севере ограниченной Дунаем. Фракийцы были в числе ближайших соседей греков, и те неоднократно упоминали их в своих исторических и литературных произведениях. Репутация фракийцев в этих трудах однозначна: они предстают народом многочисленным, сильным, воинственным, грубым и даже диковатым — одним словом, низко развитым. В целом это, безусловно, соответствовало действительности: во времена Геродота, когда в Греции давно уже сложилась государственность в форме полисов, во Фракии этот процесс только еще начинался, на основе крупных родо-племенных объединений постепенно формировалось единое царство.
Геродоту, чувствуется, Фракия не очень хорошо знакома. Он пишет о ней довольно кратко, и в этом рассказе нет той красочности, которая столь характерна для большинства его логосов об иноземных странах. Вероятнее всего, сведения он получал из вторых рук, а сам в территории фракийцев не углублялся. Впрочем, не приходится сомневаться и в том, что на землю Фракии его нога ступала. Ведь везший его корабль, проходя вдоль фракийского побережья, не мог не делать остановки в расположенных на этом берегу греческих городах. А их тут была целая цепочка: Месембрия, Одесс, Каллатида, Томы, Истрия… Все они возникли в период Великой греческой колонизации. Большинство тамошних колоний было основано выходцами из Милета, который проявлял наибольшую активность при освоении Понта Эвксинского.
И вот Фракия осталась позади. Судно миновало дельту Истра (Дуная), впадающего в Черное море несколькими устьями («гирлами»). Теперь слева потянулась уже Скифия. И конечно, историк не мог не обратить внимания на важную особенность этих мест — он оказался в краю великих рек. По сравнению с этими могучими водными артериями Меандр, Герм и другие реки родины Геродота — западной части Малой Азии — могли показаться жалкими ручейками. Не случайно галикарнасец перечисляет в своем труде причерноморские реки, более или менее подробно останавливаясь на каждой из них: вначале — уже названный Истр, «самая большая из известных нам рек» (IV. 48), затем — Тирас (Днестр), Гипанис (Южный Буг), Борисфен (Днепр).
Относительно двух последних водных потоков Геродот правильно отмечает, что они впадают в один и тот же лиман (Днепровско-Бугский по современной топонимике). «Клинообразная полоса земли между этими реками называется мысом Гипполая. На нем воздвигнуто святилище Деметры. Напротив святилища на Гипанисе живут борисфениты» (IV. 54).
Упомянутые здесь борисфениты — жители эллинского города Ольвии, который имел другое название — Борисфен. Ольвия (в переводе — «Счастливая») была основана Милетом. Именно она стала главным пунктом северной поездки Геродота: здесь он намеревался узнать как можно больше о Скифии и скифах: о географии страны, нравах и обычаях народа, его истории, а главное — о столкновении с персидским войском Дария.
Выбор Ольвии для этой цели был, надо полагать, не случаен. Ольвиополиты (как отмечает Геродот, граждане ольвийского полиса называли себя именно так) издавна поддерживали особенно тесные контакты со скифами. Один из скифских царей — Скил, правивший в первой половине V века до н. э., — питал к греческому городу особое расположение.
Рассказ «Отца истории» о Скиле подробен и ярок: «Он родился от матери-истриянки (уроженки греческого города Истрия. — И. С), а вовсе не от скифской женщины. Мать научила его говорить и писать по-эллински… Царствуя над скифами, Скил вовсе не любил образа жизни этого народа. В силу полученного им воспитания царь был гораздо более склонен к эллинским обычаям и поступал, например, так: когда царю приходилось вступать с войском в пределы города борисфенитов (эти борисфениты сами себя называют милетянами), он оставлял свиту перед городскими воротами, а сам один входил в город и приказывал запирать городские ворота. Затем Скил снимал свое скифское платье и облачался в эллинскую одежду. В этом наряде царь ходил по рыночной площади без телохранителей и других спутников (ворота же охранялись, чтобы никто из скифов не увидел царя в таком наряде). Царь же не только придерживался эллинских обычаев, но даже совершал жертвоприношения по обрядам эллинов. Месяц или даже больше он оставался в городе, а затем вновь надевал скифскую одежду и покидал город. Такие посещения повторялись неоднократно, и Скил даже построил себе дом в Борисфене» (IV. 78). Этот дом историк описывает так: «…большой роскошный дворец, обнесенный стеною… Кругом стояли беломраморные сфинксы и грифоны» (IV. 79). Но скифы в конце концов прознали о необычном поведении их правителя. Особенно не понравилось им, что царь участвует с греками в экстатических обрядах в честь Диониса. Подданные Скила подняли против него восстание, и он лишился жизни. Очевидно, скифы в массе своей не были склонны к усвоению чужеземных обычаев, и полугрек Скил являлся одним из редких исключений.
Здесь нужно обратить внимание на то, что скифский владыка ведет себя в эллинском городе буквально как у себя дома. Он проживает в Ольвии по месяцу и больше, строит там себе дворец… Словно бы Скил считал Ольвию частью своего царства. А может быть, так оно и было? Во всяком случае, в науке была высказана точка зрения, согласно которой ольвийский полис, да и другие греческие колонии Северо-Западного Причерноморья в V веке до н. э. несколько десятилетий находились под скифским протекторатом{156}, который был ликвидирован в ходе экспедиции Перикла в Черное море. Стало быть, если мы датируем северное путешествие Геродота временем до Перикловой экспедиции, то историк побывал в Ольвии, пребывавшей еще «под скифами». Впрочем, эта гипотеза не получила однозначного признания среди историков и не может считаться стопроцентно доказанной, а является лишь одним из возможных вариантов развития событий.
Бывал ли Геродот в Северном Причерноморье еще где-нибудь, помимо Ольвии? Определенного ответа на этот вопрос нет. Возможно, он поднимался на некоторое расстояние вверх по течению Днепра. Об этом вроде бы свидетельствует, например, следующий пассаж его повествования: «Борисфен — самая выгодная река: по берегам ее простираются прекрасные тучные пастбища для скота; в ней водится в больших количествах наилучшая рыба; вода приятна на вкус для питья и прозрачна (по сравнению с водой других мутных рек Скифии). Посевы вдоль берегов Борисфена превосходны, а там, где земля не засеяна, расстилается высокая трава. В устье Борисфена само собой оседает несметное количество соли. В реке водятся огромные бескостные рыбы под названием „антакеи“ и есть много других диковин» (IV. 53). Этот рассказ, похоже, все-таки передает впечатления очевидца — он красочен и одновременно точен: наглядно описаны плодородные, поросшие травой степи будущей Новороссии. А высокими питьевыми качествами воды Днепр отличается и по сей день. Наконец, описанные здесь бескостные рыбы — это конечно же осетры, ныне в Днепре не встречающиеся, но в древности в нем водившиеся.
Вот другое описание из скифского логоса: «Местные жители, однако, показывали мне вот что: между реками Борисфеном и Гипанисом существует местность под названием Эксампей… В этой местности стоит медный сосуд величиной, пожалуй, в шесть раз больше сосуда для смешивания вина, который Павсаний, сын Клеомброта (победитель в Платейском сражении. —
Однако, насколько можно судить, далеко вглубь Скифии «Отец истории» не забирался — во всяком случае, не бывал намного восточнее Ольвии. Бросается в глаза то обстоятельство, что если о черноморском побережье от Дуная до этой милетской колонии в труде Геродота рассказано предельно детально, то о территориях, располагавшихся за Ольвией, у галикарнасца довольно смутные и, прямо скажем, превратные представления. Реки от Дуная до Днепра перечислены в правильном порядке и с верной локализацией, а дальше начинается полуфантастика. Упомянуты еще четыре реки: Пантикап, Гипакирис, Герр и, наконец, Танаис. Из них можно идентифицировать только Танаис — это, конечно, Дон; остальные же три названия являют собой полную загадку: никаким реальным рекам Северного Причерноморья они не соответствуют.
Такая путаница у Геродота могла получиться только при условии, если сам он в описываемых местностях не бывал. Выше мы уже видели, насколько схематично и неточно изображен «Отцом истории» Таврический полуостров, то есть Крым. И, наконец, у него вообще не заходит речи о греческих городах на берегах пролива Боспор Киммерийский, отделяющего Крым от Тамани. А ведь среди этих городов были крупные, значимые: Пантикапей, Фанагория, Гермонасса, Феодосия, Нимфей… Для Геродота же они будто бы и не существуют. Не упоминает историк и о расположенном на юго-западе Крыма Херсонесе Таврическом, который, как теперь можно уверенно утверждать, уже существовал на момент его прибытия в Понт.
В Ольвии местные жители рассказывали приезжему историку и о местах более отдаленных, которыми он тоже интересовался. А кого из любознательных греков того времени не влекли к себе рассказы о загадочных и труднодоступных уголках ойкумены? Так, Геродот описывает в своем труде торговый путь, ведший из Северного Причерноморья, из Скифии, далеко на восток, к уральским или зауральским исседонам и далее к легендарным гипербореям (IV. 16—ЗЗ){157}. В его рассказе мы встречаем обилие демонстративно фантастических, сказочных сведений. Например, на этом пути якобы попадаются места, где живут одноглазые люди, лысые люди и т. п. Да и это еще не предел: «По словам лысых, на горах обитают, хотя я этому не верю, козлоногие люди, а за этими горами — другие люди, которые спят шесть месяцев в году. Этому-то я уж точно не верю» (IV. 25). (Вот парадокс: существование козлоногих людей Геродот считает невероятным, а существование одноглазых у него вроде бы никаких сомнений не вызывает).
Вся эта фантастика чрезвычайно затрудняет вычленение реальных исторических элементов из повествования, которое в этом месте у Геродота основывается преимущественно на данных «Аримаспеи»[61] — произведения Аристея Проконнесского, полулегендарного греческого поэта и прорицателя-чудотворца архаической эпохи.
Где только современные ученые, опираясь на одни и те же строки «Истории», не помещают пресловутых гипербореев! Один отождествляет их с китайцами{158}, другой — с жителями Северного Приуралья, бассейнов Печоры и Верхней Вычегды…{159} Присутствует и широкий спектр иных мнений.
Приходится снова ставить вопрос, насколько корректны далекоидущие реконструкции на основе заведомо мифологизированного повествования. Тем более что сам Геродот констатирует: «О гипербореях ничего не известно ни скифам, ни другим народам этой части света, кроме исседонов. Впрочем, как я думаю, исседоны также ничего о них не знают…» (IV. 32). Зато почему-то лучше всех знают о гипербореях греки, как Гомер, упомянутый Аристей или жрецы храма Аполлона на острове Делос (IV. 33).
В геродотовском повествовании о пути к исседонам и гипербореям отчетливо прослеживается закономерность: чем дальше вглубь материка — тем меньше встречается достоверных деталей и тем больше сказочного ореола. Поскольку этот маршрут, несомненно, имел важный торговый аспект, сохранившиеся у Геродота сведения о нем, скорее всего, имеют одним из главных первоисточников купеческий фольклор. А этот последний, как нам уже известно на примере индийского логоса «Истории» с его чудовищными муравьями, особенно сильно тяготеет к устрашающей фантастике (что подтверждается на материале самых разных эпох и цивилизаций), которая использовалась не в последнюю очередь для отпугивания потенциальных конкурентов. В целом, на наш взгляд, это место из Геродота более пригодно для изучения представлений о мире греков архаической и классической эпох, чем для понимания восточноевропейских реалий.
Достаточно часто встречается мнение, что при посещении берегов Понта Эвксинского «Отец истории» побывал также в Колхиде. Эта древняя страна, как известно, соответствует нынешней Западной Грузии. Однако тут мы сталкиваемся с определенными трудностями. Если Геродот был в Колхиде, то как он там оказался? Продолжая путь по Причерноморью, прибыл из Ольвии? Но мы только что видели: к востоку от Ольвии историк не бывал. В таком случае, быть может, следует предположить, что галикарнасец совершил какое-то отдельное путешествие в Колхиду. Тогда маршрут его должен был пролегать иначе — вдоль южного, а не северного берега Черного моря. Но тогда он никак не мог миновать Синопу — самый крупный греческий полис на южном побережье Понта.
Синопа, тоже колония Милета (кстати, поддерживавшая с Северным Причерноморьем тесные отношения, поскольку именно неподалеку от нее начинался самый краткий поперечный путь через Понт — от мыса Карамбис в Малой Азии до мыса Бараний Лоб на юге Крыма), появилась, по некоторым сведениям, еще в VIII веке до н. э. Если это так, то ее «отцы-основатели» были самыми первыми эллинами, осевшими на черноморских берегах[62]. Нельзя исключать, что Геродот бывал в Синопе. Этот полис занимает определенное место в его труде — но не слишком значительное: он упоминается трижды, причем довольно бегло (I. 76; II. 34; IV. 12). Этого явно недостаточно, чтобы безоговорочно утверждать, что визит историка в город имел место. В самом информативном из этих упоминаний сказано, что от Киликии (крайнего юго-востока Малой Азии) «до Синопы, что на Эвксинском Понте, прямым путем для хорошего пешехода пять дней пути» (II. 34). Что же, перед нами опять впечатления очевидца, лично прошедшего этот путь? Но сразу же после этого говорится: «Синопа же расположена против устья Истра». Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться в грубой ошибке историка: Синопа никоим образом напротив Истра (Дуная) не лежит.
Так знакомы ли Геродоту эти места, в том числе и Колхида? Тут может ввести в заблуждение последний на данный момент перевод «Истории» на русский язык (сделанный Г. А. Стратановским), которым все пользуются. В нем читаем: «Ведь колхи, по-видимому, египтяне: я это понял сам еще прежде, чем услышал от других. Заинтересовавшись этим, я стал расспрашивать об этом родстве как в Колхиде, так и в Египте» (И. 104). Однако, заглянув в греческий оригинал, мы обнаруживаем, что там сказано несколько иначе: автор расспрашивал «и тех и других», то есть и колхов, и египтян. А ведь для того, чтобы расспрашивать колхов, вовсе не обязательно было отправляться в их страну. Геродот вполне мог повстречать их, как и представителей любого народа, в каком-нибудь другом месте.
Чуть ниже историк говорит: «Назову еще одну черту сходства колхов с египтянами. Только они одни да египтяне изготовляют полотно одинаковым способом» (II. 105). Опять же, чтобы увидеть колхское полотно, совершенно незачем было плыть в Колхиду; оно, надо полагать, было предметом тогдашней внешней торговли. Одним словом, вопрос о путешествии Геродота вдоль южного и восточного побережий Черного моря приходится оставить открытым, так как нет полной уверенности, что он там действительно побывал.
Земли, лежавшие к западу от Эллады, в том числе Великая Греция, не имели прямого отношения к Греко-персидским войнам. Правда, Геродот нашел-таки несколько эпизодов, которые позволяли связать историю этого отдаленного от Азии региона с экспансией Ахеменидской державы.
Один из этих эпизодов особенно ярок. Когда-то, в самом начале правления Дария I, в плен к нему попал грек Демокед из города Кротона. Вскоре выяснилось, что он — знаменитый врач, имевший громкую славу во всей Элладе и получавший огромные гонорары. Ему удалось вправить царю сложный вывих ноги, а жену его Атоссу исцелить от опасного нарыва на груди. За это Демокед «получил в Сузах огромный дом для жилья и даже был принят в число сотрапезников царя» (III. 132). Однако свободолюбивого грека не прельщали все эти монаршие милости; он мечтал об одном — вновь попасть на родину. Для этого Демокед придумал хитрость: убедил Дария послать разведывательную экспедицию в Грецию и сам вызвался быть проводником.
«Спустившись вдоль берегов в Финикию, посланцы прибыли в финикийский город Сидон. Там персы немедленно снарядили две триеры… Когда всё было готово, они поплыли в Элладу и, держась близ эллинских берегов, осматривали и описывали ее. После того как персы осмотрели большинство самых известных мест на побережье, они прибыли в италийский город Тарант. А здесь Аристофилид, царь тарантинцев, по просьбе Демокеда велел снять кормила у мидийских кораблей, а самих персов заключил в темницу как соглядатаев. В то время как персов постигла такая беда, Демокед успел бежать в Кротон» (III. 136).
Персам, посланным с Демокедом, было приказано стеречь врача как зеницу ока, не дать ему ускользнуть. Поэтому, как только жители Тарента (Таранта) отпустили их, они немедленно направились в Кротон и пытались схватить беглеца; но кротонские граждане встали на его защиту. Пришлось персидским разведчикам убираться восвояси. На этом их мытарства не закончились: в одном из регионов Южной Италии они были обращены в рабство, потом выкуплены и в конце концов благополучно вернулись к Дарию. Историк заключает: «Так кончилось это дело, и те персы были первыми прибывшими в Элладу из Азии по упомянутой причине, как соглядатаи» (III. 138). Таким образом, описанный эпизод, довольно-таки незначительный, получает значение важного шага в подготовке Греко-персидских войн.
В этом рассказе обращает на себя внимание смелое и гордое поведение жителей Великой Греции по отношению к оказавшимся у них персам. Невозможно себе представить, чтобы хватать персидских посланников, сажать их в тюрьму, обращать в рабство стали, допустим, милетяне или соотечественники Геродота — галикарнасцы. Эллины Южной Италии и Сицилии считали, видимо, что Персия от них слишком далеко и незачем ее особенно бояться. К тому же они ощущали собственную силу. Полисы этого региона действительно были в числе самых мощных в Греции — крупные, богатые, процветающие. Особенно выделялись Сиракузы на Сицилии. В этом городе в 485–478 годах до н. э., в самый напряженный период Греко-персидских войн, правил тиран Гелон{160}. Под его контролем находился еще ряд сицилийских городов, и он, по справедливому замечанию «Отца истории», «стал могущественным властелином» (VII. 157).
Незадолго до начала вторжения Ксеркса к Гелону прибыли послы от Эллинского союза с просьбой о военной помощи против «варварского» натиска. Его содействие в войне, которая вот-вот должна была начаться, оказалось бы отнюдь не лишним. Однако Гелон сразу принял весьма высокомерный тон, заявив: «Люди из Эллады! Вы дерзнули явиться сюда и в наглой речи приглашаете меня в союзники против варвара… Я выставлю вам 200 триер, 20 тысяч гоплитов, две тысячи всадников, две тысячи лучников, две тысячи пращников и две тысячи легковооруженных всадников. Кроме того, обещаю снабжать продовольствием всё эллинское войско до конца войны. Однако я даю такое обещание, конечно, лишь при условии, что сам буду предводителем и вождем эллинов в войне против варвара. На иных условиях и сам я не приду вам на помощь, и других не пошлю» (VII. 158).
Силы, предлагаемые тираном, были по греческим меркам огромными. Ни одно другое государство эллинского мира не могло бы выставить такое войско. Однако и амбиции Гелона оказались совершенно непомерными: его устраивало только верховное командование союзными вооруженными силами — и не менее! Спартанцы и афиняне не могли на это пойти. Между послами и Гелоном началась перепалка, и переговоры ни к чему не привели.
Таким образом, Великая Греция могла бы принять участие в войнах с персами, но этого, как видим, не случилось. Следовательно, в этот регион античного мира Геродот мог бы не ездить без всякого ущерба для своего труда. Однако же он там побывал. Но этот его визит, превратившийся в итоге в длительное проживание, никак не связан с написанием «Истории». Причина лежит в обстоятельствах биографии самого Геродота.
«Фурийский узел» — один из важнейших эпизодов жизни историка, о котором уже неоднократно упоминалось выше; пришла пора изложить все относящиеся к нему данные подробнее.
Еще в конце VI века до н. э. два больших и сильных южноиталийских греческих города — Сибарис и Кротон — вступили между собой в войну. Сибарис потерпел полное поражение и был попросту стерт с лица земли. Место, на котором он стоял, несколько десятилетий лежало в запустении. А те жители города, которые не погибли в войне и не попали в плен, всё это время скитались с места на место. Они, разумеется, мечтали о возрождении своей родины и в конце концов обратились к афинянам за помощью. Бывших граждан Сибариса было слишком мало, чтобы воссоздать жизнеспособный полис, и они нуждались прежде всего в дополнительных поселенцах.
В Афинах же на просьбу сибаритов отреагировали своеобразно: восприняли ее как повод для проведения внешнеполитической акции в своих собственных интересах. Ведь Афинское государство в то время как раз вело активное проникновение на западном направлении, в Центральном Средиземноморье и особенно в Великой Греции, где располагался Сибарис.
Этот город решено было восстанавливать. Но название он в итоге получил другое — Фурии. Туда были отправлены колонисты из Афин — но не только. Выше упоминалось, что основание Фурий было задумано афинянами как панэллинское мероприятие, хотя и проводимое под афинской эгидой: к участию в нем привлекались полисы из разных регионов Эллады, которым предлагалось прислать своих поселенцев. В ходе осуществления этого необычного проекта его первые инициаторы — бывшие жители Сибариса — стали уже никому не нужны, и с ними по иронии судьбы обошлись довольно брутально: «…с течением времени… этих сибаритов уничтожили афиняне и другие греки, которые хотя и прибыли, чтобы жить вместе с ними, но, относясь к ним с презрением, перебили их» (
Основание Фурий имело место около 445–443 годов до н. э., и Геродот принял в нем участие. Этот последний факт не подлежит никакому сомнению; о нем имеются надежные свидетельства в целом ряде источников. Приведем важнейшие из них: «Оттуда (из Галикарнаса. —
Последнее сообщение — из византийского энциклопедического словаря — мы уже цитировали. В нем, как видим, содержится важная деталь — указание на место погребения Геродота. А в другом источнике приводится даже стихотворная надпись на его надгробном памятнике, из которой тоже следует, что «Отец истории» скончался в Фуриях:
Геродот, сын Ликса умерший, скрыт здесь землею:
Первым историком он древней Ионии был,
Хоть и в дорийской отчизне возрос. Он бежал от нападок
Тягостных, Фурии же родиной стали ему.
(
Эпитет «первый историк» здесь следует понимать не в смысле «первый по времени», а в значении «самый лучший». Неясно, действительно ли эта эпитафия была составлена непосредственно после смерти Геродота. Не исключено, что фурийцы сочинили ее некоторое время спустя, когда уже определилось выдающееся значение Геродота как ученого, а для этого всегда нужно, чтобы прошло какое-то время. Но во всяком случае никто не стал бы сочинять такую надпись напрасно и беспочвенно, и она должна отражать исторические реалии.
Тот факт, что Геродота похоронили на фурийской агоре, чрезвычайно интересен. Это высочайшая почесть, которой не удостаивался почти никто из граждан древнегреческих полисов. Был только один способ заслужить ее — стать ойкистом, то есть основателем нового города. Получается, что Геродот являлся не просто участником колонизации Фурий, а одним из ойкистов этого полиса. Известно, что Фурии имели не одного ойкиста, а нескольких, что само по себе явление уникальное, но хорошо объясняющееся тем, что для основания колонии прибыли, как упоминалось, контингента из многих греческих государств и у каждого был свой глава.
Когда колония уже некоторое время существовала, между ее гражданами, выходцами из разных полисов, начался жестокий спор о том, кого почитать как «главного» ойкиста. Вопрос передали на рассмотрение Дельфийского оракула. Жречество «срединного храма» вынесло воистину «соломоново» решение, не забыв при этом и о себе. Бог Аполлон устами пифии «возвестил»: он сам, а не кто-либо из смертных людей, должен считаться основателем и покровителем Фурий.
Во всяком случае, «Отец истории» играл очень видную роль в составе колонистов. Интересно посмотреть, в какой компании он оказался, кто был в числе других руководителей фурийской экспедиции. Ойкистом нового полиса с афинской стороны являлся Лампон — известнейший жрец и прорицатель, друг и близкий соратник Перикла{161}, законы для Фурий написал прославленный философ-софист Протагор, а их градостроительный план составил Гипподам Милетский — один из лучших архитекторов того времени{162}. Всё это были люди из круга Перикла. Следует ли из сказанного заключить, что к тому же кругу принадлежал и Геродот, как гласит самая распространенная в науке точка зрения?
В реальности ситуация была сложнее. Когда встал вопрос об основании Фурий, в Афинах шло острое политическое соперничество между Периклом и его главным конкурентом — Фукидидом, сыном Мелесия, возглавлявшим тогда группировку Филаидов. А с родом Филаидов у Геродота зафиксированы особенно теплые, дружеские отношения.
По вопросу о Фуриях, который решался не в один момент, а, насколько можно судить, на протяжении нескольких лет, в афинских органах власти вспыхнули жестокие споры. Главными действующими лицами в этих дебатах выступили как раз Перикл и Фукидид. Каждому из них, конечно, было лестно считаться инициатором столь значимого и новаторского мероприятия. Выдающийся английский исследователь античности Г. Уэйд-Гери, углубленно занимавшийся деятельностью Фукидида, сына Мелесия, считал даже (и мы склонны с ним согласиться), что именно этому политику изначально принадлежала идея основания Фурий, а Перикл перехватил план у своего противника, но при этом существенно сместил акценты{163}.
Действительно, между двумя лидерами, помимо личного соперничества, были также и принципиальные противоречия в подходе к статусу и функциям новой колонии. Фукидид стремился к тому, чтобы она стала на деле, а не только на словах панэллинской, то есть строилась на принципах равноправия между группами поселенцев из различных полисов-метрополий. И Геродоту, конечно, подобные взгляды не могли не импонировать. Совсем иными были замыслы Перикла: он желал упрочить в Фуриях в первую очередь афинское влияние, сделать их инструментом своей западной политики. Создание фактического форпоста Афин в Великой Греции прекрасно укладывалось в этот контекст. А ввиду амбициозности «фурийского проекта» он вполне мог стать венцом перикловского экспансионизма.
Столкнулись не просто две позиции по частному вопросу, но две принципиально различные общеполитические установки. Фукидид, человек старой аристократической формации, подходил к этому мероприятию с точки зрения несколько абстрактных, прекраснодушных представлений о чести полиса и благе эллинов. Перикл же, будучи политиком нового поколения, мыслил гораздо более конкретно: главным для него были интересы Афин. Одержав победу над Фукидидом и изгнав его остракизмом, «первый гражданин», естественно, взял «фурийский проект» под свой контроль и осуществил его по собственному плану.
Впрочем, полностью реализовать свои замыслы в отношении Фурий Периклу не удалось: новый полис очень скоро фактически вышел из-под афинского контроля. Та часть гражданского коллектива, которая происходила из Афин, не смогла обеспечить себе доминирования в государстве; внутриполитическая борьба осложнилась внешними неурядицами… Дальнейшие события показали, что Фурии — очень ненадежный союзник афинян, на которого нельзя в полной мере положиться. После просчета с Фуриями политика Перикла в Великой Греции, не принесшая ожидаемых результатов, фактически была на время свернута.
Не исключено, что здесь сыграло свою роль еще одно обстоятельство. Примерно тогда, когда основывались Фурии, Фукидид, сын Мелесия, был, как мы упоминали, изгнан из Афин остракизмом. Куда отправился опальный политик? Уж не Фурии ли стали его прибежищем в течение того десятилетия, когда он по закону должен был находиться за пределами афинского полиса? Может быть, он прибыл туда не сразу; но во всяком случае есть косвенные данные в пользу того, что в конце концов он оказался в Великой Греции.
Речь идет об интересном свидетельстве авторитетного сицилийского историка Тимея из Тавромения (конец IV — начало III века до н. э.). Согласно этому сообщению (
Уж не проскочила ли здесь информация, на самом деле относящаяся к другому Фукидиду — сыну Мелесия? Ошибиться мог либо сам Тимей, либо, что еще более вероятно, использовавший его труд поздний писатель — Маркеллин (IV век н. э.), автор самого подробного в античное время, но весьма сумбурного жизнеописания историка Фукидида. Этого биографа интересовали прежде всего данные о его «герое», и он вполне мог ничтоже сумняшеся включить в их число те сведения из древних источников, где речь шла о других лицах, носивших распространенное имя Фукидид. Высказанное здесь предположение тем более закономерно, что хорошо известно: двух Фукидидов — тезок, родственников и современников, один из которых был политиком, а другой историком, — античные авторы последующих эпох постоянно смешивали друг с другом, да и немудрено было это сделать. Вероятность пребывания Фукидида, сына Мелесия, в Великой Греции существует еще и потому, что он и ранее поддерживал тесные связи с этой частью эллинского мира. Не по этой ли причине влияние Перикла в Фуриях так быстро сошло на нет? Главный соперник Перикла, естественно, относился к его начинаниям, мягко говоря, без симпатии и, надо полагать, сделал со своей стороны всё возможное, чтобы сорвать его планы.
Конечно, это всего лишь гипотеза. Если же оставаться на почве безусловных фактов, то мы вынуждены признать: науке неизвестно, поселился ли Фукидид, сын Мелесия, в Фуриях. Но с уверенностью можно утверждать: к «фурийскому проекту» он был напрямую причастен. И нам представляется вполне вероятным, что «Отец истории» принял участие в колонизационной экспедиции именно по дружбе с Фукидидом, а не из-за близких отношений с Периклом.
По нормам V века до н. э. ойкист колонии вовсе не был обязан после ее основания поселиться там навсегда. К примеру, Лампон, — проведя, очевидно, все полагающиеся церемонии, — отбыл обратно в Афины. Известны и другие случаи. Несколько лет спустя афиняне отправили колонистов на северное побережье Эгейского моря. Там возник город Амфиполь. Ойкистом его стал видный афинский политик Гагнон. Но еще через несколько лет мы застаем Гагнона не в Амфиполе, а на родине, выступающим против Перикла. А в конце жизни он был одним из лидеров происшедшего в 411 году до н. э. олигархического переворота.
А вот Геродот, как видим, так и остался в Фуриях, ведь там показывали его могилу. Разумеется, это ни в коей мере не означало, что для непоседливого галикарнасца завершились «годы странствий» и он решил прочно обосноваться на одном месте. Мы не сомневаемся в том, что его путешествия продолжались и Афины он совершенно точно еще навещал. Шла своим чередом и работа над историческим трудом.
Но отныне в жизни Геродота произошло важное изменение: у него вновь появилась родина — полис, гражданином которого он с полным правовым основанием мог считаться! С тех пор как юношей он бежал от преследований Лигдамида, где только не довелось ему побывать! Но если оставить в стороне довольно спорный и неясный эпизод с его кратковременным возвращением в Галикарнас, он повсюду был чужаком-метеком. Пусть его принимали радушно, как в Афинах и на Самосе, — все-таки это не могло заменить «чувства родины», столь важного для сознания любого античного эллина.
Великий историк перестал быть галикарнасцем и стал фурийцем. Насколько можно судить, именно так он теперь и подписывался. В начале нашей книги приводилась первая фраза труда Геродота — в том виде, в каком она дошла до нас. Там автор, напомним, называет себя Геродотом из Галикарнаса. Однако раньше, кажется, было иначе. Спустя примерно столетие после написания «Истории», в IV веке до н. э., Аристотель цитирует вступление к ней так: «Нижеследующее есть изложение истории Геродота Фурийского» (Аристотель. Риторика. III. 1409а28). А ведь этот философ, несомненно, пользовался ранними и достоверными версиями геродотовского сочинения. Стало быть, есть все основания считать, что именно так и выразился «Отец истории»; предлагая читателям свое бессмертное исследование, он представился им фурийцем, а не галикарнасцем.
Но как и почему он потом снова превратился в галикарнасца? Судя по всему, дело обстояло следующим образом. В начале III века до н. э. Фурии попали под власть Рима, распространявшего свое влияние на всю Италию, и утратили значение. А Галикарнас в это время оставался еще славным городом, обладателем одного из «семи чудес света» — знаменитого Мавзолея. Как раз в ту же эпоху выдающиеся филологи, работавшие в Александрии Египетской, приступили к скрупулезному изучению классического греческого литературного наследия. Ими были выделены шедевры из шедевров — самые лучшие образцы поэзии и прозы.
Разумеется, Геродот попал в число величайших авторов. Вот тогда-то жители Галикарнаса вспомнили, что историк входил в иные времена в число их сограждан. Пусть современники обошлись с ним далеко не лучшим образом — но то дело прошлое. А теперь оказаться в связи с гениальным человеком было для галикарнасцев почетно и лестно. И они начали посмертно «возвращать» Геродота: возвели в своем городе его статую и выпустили монеты с его портретным изображением. Всё это должно было напомнить: как бы ни сложилась судьба «Отца истории», но родом он из Галикарнаса! По всей вероятности, тогда же и были внесены исправления в начало геродотовского труда: «фурийца» переделали на «галикарнасца» — судя по всему, вопреки воле покойного автора.
Еще один интересный нюанс: несмотря на то что Геродот жил в Фуриях и стал их гражданином, этот город ни разу не упоминается на страницах «Истории» — если не считать первой фразы, как она была известна Аристотелю. Объяснение может быть двояким: либо к моменту переселения в Фурии труд был уже написан — но это крайне маловероятно; работа над ним шла, как мы еще убедимся, буквально до последних дней жизни автора и уж во всяком случае еще добрых полтора десятилетия после его переселения в Великую Грецию; либо — и это кажется более логичным — панэллинская колония не нашла отражения в геродотовском сочинении только потому, что не имела ни малейшего отношения к его основной теме — Греко-персидским войнам. К тому моменту, когда появились Фурии, борьба с Ахеменидами уже несколько лет как закончилась, да и развертывалась она совсем в других местах.
Правда, второй вариант не объясняет, почему бывшему галикарнасцу, а теперь фурийцу было не сказать что-нибудь о своей новой родине в одном из своих многочисленных экскурсов, которыми, как мы знаем, переполнена «История». Может быть, к концу своей карьеры историка Геродот стал более скуп на такие отступления, более строг в отношении композиции, не столь склонен к «эпическому раздолью», как раньше? Во всяком случае, факт остается фактом: во второй половине произведения экскурсов действительно меньше, чем в начале. А при прочих равных условиях в отношении любого литературного памятника резонно предположить, что его начало создавалось раньше, чем конец…
Хотя к тому времени историку перевалило за пятьдесят, своей уникальной любознательности он явно не утратил. За годы проживания в Южной Италии он, чувствуется, неоднократно ездил по ней, хорошо узнал регион. Мы уже упоминали: желая описать очертания Крыма, Геродот — пусть и не слишком удачно — сравнивает его не только с Аттикой, но и с Япигией, юго-восточным «отростком» Апеннинского полуострова.
Япигию омывал с запада очень обширный Тарентский залив, на побережье которого привольно расположился целый ряд греческих полисов. Фурии были в их числе одним из самых западных. Восточнее лежал давший свое имя заливу Тарент (Тарант) — единственная колония Спарты. А между Фуриями и Тарентом находился еще один крупный город — Метапонт (Метапонтий). В переводе его название означает буквально «заморский». Город разбогател на экспорте зерна в Балканскую Грецию: в Южной Италии земли были по эллинским меркам весьма плодородными. Даже «государственным гербом» Метапонта, чеканившимся на его монетах, было изображение колоса.
Плывя из Эллады в Фурии, было невозможно миновать Метапонт. И Геродот его тоже посетил, о чем сам оставил свидетельство — в довольно неожиданном контексте, в связи с Аристеем Проконнесским. Об этом человеке рассказывали различные чудесные истории. По словам Геродота, 240 лет спустя после своей смерти (точнее, таинственного исчезновения) «Аристей, по словам метапонтийцев, явился в их страну и повелел воздвигнуть алтарь Аполлону и возле него поставить статую с именем Аристея из Проконнеса… После этих слов Аристей исчез. Метапонтийцы же послали в Дельфы вопросить бога, что означает явление призрака этого человека. Пифия повелела им повиноваться призраку, так как это-де послужит им ко благу. Метапонтийцы послушались совета Пифии. И действительно, там еще и теперь стоит статуя с именем Аристея подле самого кумира Аполлона, а вокруг растут лавровые деревья. Кумир же бога воздвигнут на рыночной площади». Выражения вроде «еще и теперь» — верный знак того, что автор сам это видел.
Западнее Фурий лежал Кротон, в котором когда-то прибывший с Самоса Пифагор основал религиозно-политический кружок, со временем овладевший браздами правления в полисе и своим учением сделавший город настолько сильным, что тот сумел разгромить богатый и процветающий Сибарис. На месте Сибариса стояли теперь Фурии, в них жил Геродот и, естественно, интересовался перипетиями этой давней войны. По своему обыкновению, он расспрашивал о тех событиях представителей обеих сторон — как кротонцев, так и оставшихся в живых сибаритов. Правда, среди современников историка наверняка мало было живых свидетелей конфликта, ведь он состоялся примерно за 65 лет до поселения Геродота в Фуриях. За это время событие обросло легендарными напластованиями. Потомки участников вспоминали о нем по-разному. Так, сибариты заявляли, что главную роль в победе над ними сыграл прибывший на помощь Кротону опальный спартанский царевич Дорией. «Кротонцы в страхе обратились к Дориею за помощью и получили ее. Дорией принял участие в походе на Сибарис и помог завоевать город. Это, как передают сибариты, совершили Дорией и его спутники. Напротив, кротонцы утверждают, что ни один чужеземец не принимал участия в войне с сибаритами…» (V. 44). Далее историк приводит доводы, звучавшие с обеих сторон, и, как всегда, благоразумно заключает: «Вот доказательства, которые оба города приводят в пользу своих утверждений. Каждый может принять то из них, чему он больше склонен верить» (V. 45).
Одной из самых заметных черт раннего ионийского историописания был повышенный интерес не только к истории, но и к географии{164}. Эти две дисциплины, в сущности, еще не обособились друг от друга, представлялись «двумя сторонами одной медали». Вспомним, что крупнейший из логографов — Гекатей Милетский — создал два труда, и один из них мы ныне скорее назвали бы историческим, а другой — географическим. Авторов, работавших на этом поприще, интересовало не только прошлое, и уж во всяком случае не только собственное, эллинское прошлое. Пристально, с интересом всматривались они в соседей — представителей разных других народов, — описывали земли, где те жили: их природные условия, растительный и животный мир, крупные города, а также образ жизни, нравы и обычаи, занятия, религиозные верования, важные события из истории привлекших их внимание этносов.
Именно этой традиции следовал и Геродот. В сущности, его можно назвать последним великим представителем раннего ионийского историописания. Разумеется, по сравнению с Гекатеем и другими логографами «История» Геродота — большой шаг вперед, она сильно отличается от сочинений предшественников. Геродот вывел ионийскую историографию на принципиально новый, очень высокий уровень. Но гораздо заметнее его контраст не с более ранними «коллегами», а с более поздним — следовавшим непосредственно за ним Фукидидом. Вот уж у кого мы точно не найдем географических экскурсов, введенных из чистого интереса, без всякой связи с основным сюжетом повествования. Повторим и подчеркнем: Фукидид отнюдь не был последователем Геродота, «наследником» его методов.
Географию, как известно, принято делить на физическую и экономическую; в этой классификации есть глубокий смысл — она верна как для нашего времени, так и для Античности. В произведении галикарнасца мы встретим сведения и из той, и из другой части географической науки. Но ценность их неодинакова.
Физической географией Геродот, похоже, специально не занимался. Мы бы сказали, что по складу натуры он был скорее гуманитарием. Его гораздо больше влекли к себе вещи, связанные с жизнью людей, чем с жизнью природы. Последней он, бесспорно, всё же отдал дань — по обыкновению, воспринятому от логографов; судя по всему, именно у них он в основном почерпнул информацию на сей счет, а подчас — и мнения, хотя общий тон его в этих географических пассажах — скорее критичный по отношению к предшественникам.
Приведем в качестве примера один из них: «Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты земли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания земли. Они изображают Океан обтекающим землю, которая кругла, словно вычерчена циркулем. И Азию они считают по величине равной Европе. Поэтому я кратко расскажу о величине обеих частей света и о том, какую форму имеет каждая» (IV. 36).
Прервем на время рассказ «Отца истории» и обратим внимание на некоторые важные нюансы. Карты, о которых он тут говорит, — это, несомненно, те самые карты, что были составлены ионийскими учеными VI века до н. э. — Анаксимандром, Гекатеем и др. Судя по описанию Геродота, поверхность Земли на них изображалась в виде плоского диска, омываемого вокруг со всех сторон вселенской рекой Океаном. Это представление вообще было характерно для построений первых мыслителей Ионии, стоявших у истоков натурфилософии. Интересно, что ко времени жизни Геродота в другом конце эллинского мира, в Великой Греции, Пифагор уже выдвинул верную идею — о том, что Земля имеет форму шара. Однако в Ионии геродотовской эпохи эта концепция была то ли еще неизвестна, то ли сознательно не принята. Игнорирует ее и сам Геродот: пресловутым составителям карт он возражает скорее в частностях, а не в целом. Его смущают слишком изящно-правильные, округлые очертания суши, данные на картах логографов.
Так, Геродот рассуждает: «…Мне кажется странным различать по очертанию и величине три части света — Ливию, Азию и Европу (хотя по величине между ними различие действительно немалое). Так, в длину Европа простирается вдоль двух других частей света, а по ширине, думается, она и не сравнима с Азией и Ливией. Ливия же, по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к Азии» (IV. 42).
Остановимся опять, поскольку тут мы сталкиваемся с определенными трудностями. Собственно, не вполне ясно: что же здесь хочет сказать Геродот? И какого он придерживается мнения: сколько же частей света? К вышеупомянутым Европе и Азии, как видим, теперь присовокупилась еще и Ливия. Напомним, для древних греков Ливия — это не конкретная страна в Африке, как для нас сейчас. Так они называли весь африканский материк — за исключением Египта, относительно которого существовали определенные разногласия: то ли относить его все-таки к Ливии, то ли к Азии, то ли вообще выделять в отдельную часть света (была и такая точка зрения).
Это деление известного мира на три части — Европу, Азию и Африку — продержалось потом в европейской традиции еще очень долго, вплоть до открытия Нового Света — Америки. Да мы и поныне используем это деление, несмотря на то что оно противоречит принципам физической географии. Ведь мы же употребляем названия «Европа», «Азия», хотя, строго говоря, есть единый материк Евразия, чисто условно расчленяемый на две части, далеко не одинаковые по размеру: достаточно беглого взгляда на карту, чтобы убедиться — маленькая Европа есть, в сущности, не что иное, как один из полуостровов огромной Азии.
Но у Геродота получается совсем иначе: Европа, наоборот, больше по размеру, чем Азия и Африка вместе взятые. Связано это, конечно, с тем, что в разные эпохи по-разному проводили границы между Европой и Азией, ведь четкого природного рубежа между ними нет. Обычно таким рубежом считают Уральские горы. Этот хребет в древности называли Рифеем, и у греков — современников «Отца истории» — не было вразумительного представления о том, где он находится. Знали только, что он где-то очень далеко на северо-востоке. Отсюда — и несообразно преувеличенная оценка размеров Европы.
Дальше Геродот приводит очень важные сведения из истории географической науки: о первом плавании вокруг Ливии (Африки). Это плавание, по его словам, совершили финикийские мореходы по приказанию египетского фараона на рубеже VII–VI веков до н. э., обогнув огромный континент в направлении с востока на запад. «Финикияне вышли из Красного моря и затем поплыли по Южному. Осенью они приставали к берегу, и в какое бы место Ливии ни попадали, всюду обрабатывали землю; затем дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли дальше. Через два года на третий финикияне обогнули Геракловы Столпы и прибыли в Египет. По их рассказам (я-то этому не верю, пусть верит, кто хочет), во время плавания вокруг Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне» (IV. 42).
Вот опять характерная реплика, уже в который раз выражающая отношение автора к приведенным им рассказам: «Я-то этому не верю». Хотя в данном случае в сказанном не только нет ничего невероятного, но описанное явление вполне естественно, ведь финикийцы вначале плыли с севера на юг, до мыса, ныне известного как мыс Доброй Надежды, а затем, обогнув его, с юга на север, то есть в противоположном направлении. Ясно, что после такого поворота солнце должно было для них вставать уже не слева, а справа по ходу.
В географических описаниях Геродота порой встречается весьма ценная информация, показывающая, что в каких-то случаях он серьезно опережал по своим взглядам современную ему науку. Вот характерный пример: «Каспийское же море — это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Ведь море, по которому плавают эллины, именно то, что за Геракловыми Столпами, так называемое Атлантическое, и Красное море — все это только одно море. Напротив, Каспийское море — это море совершенно особого рода. Длина его — 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте — восемь дней» (I. 202–203).
Казалось бы, что здесь особенного? Сущие банальности, известные ныне даже школьнику: есть единый Мировой океан, частями которого являются Атлантический и Индийский (названный у Геродота Красным морем) океаны, а вот Каспийское море к нему не относится. Оно действительно существует «само по себе», не будучи связано ни с какими другими морями. Из-за этого, кстати, ученые-географы и по сей день не пришли к единому мнению: считать ли его крупнейшим озером на земном шаре или все-таки настоящим морем (на которое Каспий, безусловно, больше похож во всех отношениях — и по размерам, и по природным особенностям)?
Но Геродот, высказав совершенно правильную идею об изолированности Каспийского моря, оказался в полной изоляции. Еще 100 с лишним лет после него, во времена Александра Македонского и позже, господствующим было мнение, что Каспий не замкнут, что из него есть выход на север, поскольку он представляет собой огромный залив Северного океана.
Как же объяснить то, что столь неверная точка зрения продержалась так долго после того, как Геродотом была уже выдвинута верная? Впрочем, есть версия, что дело здесь в том, что в античную эпоху уровень и, соответственно, размер Каспийского моря были подвержены очень сильным колебаниям. Оно то «сжималось», становясь почти в два раза меньше, чем теперь, — и тогда, разумеется, нетрудно было убедиться, что это замкнутый водоем; то, наоборот, резко увеличивалось, причем именно в северном направлении, где к нему примыкают обширные низменности, — и тогда вода заливала значительную часть бассейна Нижней Волги. И эти уходящие на север бескрайние водные пространства могли создавать иллюзию моря, где-то там, вдали, связанного с океаном…
Геродот, хоть и очень много путешествовал, сам до Каспия никогда не добирался. Вообще его географические представления, безусловно, не могли значительно превосходить общий уровень географии того времени. А эта наука тогда делала только свои первые шаги. В особенной степени это касается знаний о далеких от Эллады землях: эти знания были минимальными, и достоверные данные в них неразрывно переплетались с фантастикой и мифологией. Качественный скачок в развитии географической науки произошел только в результате великих походов Александра Македонского. Тогда появилось такое обилие новых фактов, о которых галикарнасский историк даже и мечтать не мог.
Нам уже приходилось отмечать, что по некоторым вопросам из области географии мнения Геродота содержат достаточно серьезные ошибки. Так, рассматривая разные объяснения разливов Нила, верную теорию он походя отбрасывает, а взамен нее предлагает иную, гораздо более слабую и наивную. Очень неточно, даже, можно сказать, искаженно обрисованы им очертания Крыма — не столь уж и дальнего от Греции региона…
Сказанное выше относится не только к собственно географической информации Геродота, но и к тесно связанной с ней биологической. Автора «Истории» привлекали разного рода сообщения о животных. Разумеется, речь идет о животных экзотических, таких, которые грекам в повседневной жизни, как правило, не встречались: крокодилах, гиппопотамах и т. п. Но и в этом отношении наряду с достоверной информацией в его труд постоянно просачиваются фантастика и мифология. Мы уже видели, что, рассказывая об Индии, галикарнасец описал таких своеобразных представителей фауны, как муравьи размером с собаку. А в египетском логосе упоминаются, например, крылатые змеи. Знаменитой птице феникс Геродот посвящает следующий фрагмент: «Есть еще одна священная птица под названием феникс. Я феникса не видел живым, а только — изображения, так как он редко прилетает в Египет, в Гелиополе говорят, что только раз в 500 лет. Прилетает же феникс, только когда умирает его отец. Если его изображение верно, то внешний вид этой птицы и величина вот какие. Его оперение частично золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла. О нем рассказывают вот что (мне-то этот рассказ кажется неправдоподобным). Феникс прилетает будто бы из Аравии и несет с собой умащенной смирной тело отца в храм Гелиоса, где его и погребает. Несет же его вот как. Сначала приготовляет из смирны большое яйцо, какое только может унести, а потом пробует его поднять. После такой пробы феникс пробивает яйцо и кладет туда тело отца. Затем опять заклеивает смирной пробитое место в яйце, куда положил тело отца. Яйцо с телом отца становится теперь таким же тяжелым, как и прежде. Тогда феникс несет яйцо с собой в Египет в храм Гелиоса. Вот что, по рассказам, делает эта птица» (II. 73).
Одним словом, гораздо более научное впечатление производят рассказы Геродота не о природе, а о людях. Этнографическими пассажами просто-таки переполнен его труд. Все их было бы невозможно перечислить и охарактеризовать в нашей книге. Поэтому мы более подробно остановимся только на одном примере — геродотовском описании жизни и быта скифов. Во-первых, потому, что скифский логос, находящийся в четвертой книге «Истории» и введенный в связи с походом Дария I на Скифию, однозначно характеризуется исследователями как один из лучших у Геродота (да и во всей античной литературе) в этнографическом отношении. Во-вторых, скифы нам в известной мере не чужды. На протяжении ряда веков они обитали по соседству с предками славян на юге будущей Русской равнины. Сами скифы — народ, конечно, не славянского, а иранского происхождения; однако длительные контакты привели, в частности, к тому, что даже в наш язык попали некоторые скифские слова. Мало кто, например, знает, что такие, казалось бы, чисто русские существительные, как «собака», «топор», имеют скифские корни.
Итак, как жили геродотовы скифы, чем занимались, что думали о себе и мире? «По рассказам скифов, народ их — моложе всех. А произошел он таким образом. Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена (я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждения). Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и самый младший — Колаксай. В их царствование на Скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился второй брат, и опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота отогнал обоих братьев, но, когда подошел третий, младший брат, пламя погасло, и он отнес золото к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство младшему» (IV. 5).
Нет никакого сомнения, что здесь «Отец истории» сохранил для нас драгоценные крупицы подлинной скифской мифологии. Значение этого рассказа особенно велико потому, что у самих скифов письменности не было и свои мифы они никак не зафиксировали в литературных произведениях. Рассказ Геродота о происхождении скифов поэтому плодотворно используется современными учеными для реконструкции мифологических представлений этого народа, созданной им «картины мира»{165}.
Уже с первого взгляда видно, что перед нами — типичный архаический миф, с очень характерной для него структурой, нашедшей отражение, например, в сюжетах многих волшебных сказок, восходящих к глубокой древности. Сразу бросается в глаза «трехчленное» построение повествования: главные герои — три брата, причем, что особенно интересно, победителем среди них оказывается младший. Как тут не вспомнить таких знакомых нам с детства сказочных персонажей, как Иван-царевич или Иван-дурак! Они тоже — младшие, третьи сыновья в своих семьях, а между тем удача сопутствует именно им. Во многих древних обществах, кстати, положение младшего сына в семье было, как ни парадоксально, самым престижным и даже наиболее выгодным: именно он становился главным наследником отца, и именно к нему (а не к старшему, как принято в рамках нынешних представлений) переходил отцовский престол, если отец являлся правителем. Именно такие реалии, насколько можно судить, отразились как в скифском мифе, так и в русских сказках.
Не потому ли скифы заявляли, что они «моложе всех»? Вообще-то по меркам большинства народов это звучит несколько неожиданно. Народы обычно хотят казаться очень древними, желательно — самыми древними. Это создает некое «историческое право». Особенно ярко подобная позиция выступает в египетском логосе Геродота: жители долины Нила гордятся колоссальной древностью своей страны и своего народа. А у скифов, как видим, всё наоборот: они с гордостью подчеркивают, что их народ — самый молодой. Уж не потому ли, что по скифским представлениям «самый молодой» — значит «самый лучший»? Не потому ли, что младший — в их понимании естественный «кандидат на царство»?
В процитированном рассказе фигурирует Зевс. Мы уже знаем, что Геродот, подобно всем своим современникам, имеет склонность отождествлять «варварских» богов со своими, эллинскими, и называть их привычными грекам именами. При этом в другом месте он дает еще и некий «список соответствий» между скифскими и греческими именами богов: «На скифском языке Гестия называется Табити, Зевс (и, по-моему, совершенно правильно) — Папей, Гея — Апи, Аполлон — Гойтосир, Афродита Небесная — Аргимпаса, Посейдон — Фагимасад» (IV. 59). Кстати, именно изучая эти имена (и некоторые другие), ученые-лингвисты пришли к выводу, что скифский язык относится к иранской группе и, следовательно, к индоевропейской семье.
Не потому ли историк дает на первый взгляд не очень понятую ремарку к скифскому имени верховного бога — Папей? Почему он говорит, что называть его так «совершенно правильно»? Объяснение может быть только одно: имя Папей на всех индоевропейских языках вызывает одни и те же ассоциации — с отцом. Отнюдь не только по-русски ласковое имя, которым ребенок называет отца, звучит как «папа». Получается, Папей — бог-отец, пекущийся о людях.
Продолжим цитировать Геродота: «У скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам, кроме Ареса… Аресу же совершают жертвоприношения следующим образом. В каждой скифской области по округам воздвигнуты такие святилища Аресу: горы хвороста нагромождены одна на другую… На каждом таком холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир Ареса. Этому-то мечу ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и даже еще больше, чем прочим богам. Из каждой сотни пленников обрекают в жертву одного человека…» (IV. 59–62). Культ бога войны, который отождествлен здесь «Отцом истории» с греческим Аресом, действительно занимал (и не мог не занимать) важное место в религиозных представлениях скифов — народа воинственного, стоявшего в описываемую эпоху на переходной стадии от родо-племенного строя к государственности. Основным культовым предметом, связанным с богом войны, так сказать, его материальным воплощением, Геродот совершенно справедливо называет меч. Такие скифские короткие мечи-акинаки, хорошо известные археологам, представляли собой, несомненно, главное, самое распространенное оружие в среде скифов.
«Военные обычаи скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе — нет. Кожу с головы сдирают следующим образом: на голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи… С головами же врагов (но не всех, а только самых лютых) они поступают так. Сначала отпиливают черепа до бровей и вычищают. Бедняк обтягивает череп только снаружи сыромятной воловьей кожей и в таком виде пользуется им. Богатые же люди сперва обтягивают череп снаружи сыромятной кожей, а затем еще покрывают внутри позолотой и употребляют вместо чаши» (IV. 64–65).
Обычаи, о которых здесь рассказано, могут шокировать читателя наших дней своей варварской жестокостью и грубостью. Вряд ли и современникам Геродота слушать или читать такое было очень приятно. Но историк, как всегда, верен своему обыкновению — честно и подробно рассказывать о том, что он знает. Правдивость приведенной здесь информации подтверждается многочисленными параллелями — этнографическими исследованиями быта различных слаборазвитых народов. У них мы встречаем очень похожие обычаи: и питье крови врага (считалось, что с ней к победителю переходит жизненная сила поверженного), и снятие с головы кожи с волосами, то есть скальпа, — как тут не припомнить североамериканских индейцев? А что касается обычая изготовления чаш из черепов врагов, то он был распространен среди кочевников причерноморских степей еще и много веков спустя после того, как скифы сошли с исторической сцены. В X веке великий князь Киевский Святослав был убит печенегами в районе днепровских порогов — как раз на территории бывшей Скифии. Печенежский хан Куря приказал сделать из черепа Святослава чашу, украсить ее золотом и драгоценными камнями и пользовался ею на своих пирах.
Геродот рассказывает еще об одном страшноватом скифском ритуале, к которому обращались в случае, если умирал царь: «Они умерщвляют 50 человек из слуг удушением (также 50 самых красивых коней), извлекают из трупов внутренности, чрево очищают и наполняют отрубями, а затем зашивают… Всех 50 удавленных юношей сажают на коней следующим образом: в тело каждого втыкают вдоль спинного хребта прямой кол до самой шеи. Торчащий из тела нижний конец кола вставляют в отверстие, просверленное в другом коле, проткнутом сквозь туловище коня. Поставив вокруг могилы таких всадников, скифы уходят» (IV. 72).
Если верить «Отцу истории» (а не верить этому его рассказу нет никаких оснований), получается, что могилы скифских царей были окружены такого рода чудовищной «стражей» — отрядами трупов, сидящих на мертвых конях. В нескольких процитированных сейчас отрывках из труда Геродота может вызвать отталкивающее впечатление то, с какими физиологическими подробностями, чуть ли не смакуя, он повествует о разных отвратительных процедурах. Но следует учитывать, что греки по отношению к жестокостям были куда менее щепетильны, нежели мы, и на то есть целый ряд причин. Не говоря уже о том, что мы воспитаны на христианских ценностях, которые культивируют в людях доброту и милосердие, а время Геродота — дохристианское, нельзя также забывать, какое огромное, неотъемлемое место в жизни античных эллинов занимала война. Они воевали почти ежегодно, мир воспринимался не как норма, а скорее как редкая передышка в череде постоянных вооруженных конфликтов. А война — вещь жестокая и страшная. Снова и снова сталкиваясь с ее ужасами, греки были вынуждены приучить себя относиться к ним спокойно, принимать их как должное — иначе не выдержала бы психика. Заметим еще, что излюбленным чтением всех современников Геродота была «Илиада» Гомера. Ее тщательно изучали в школах, и большинство сколько-нибудь образованных людей знали большие куски из поэмы наизусть. Об «Илиаде» можно сказать: да, это великий, гениальный литературный памятник, но в то же время, может быть, во всей истории человечества нет другого столь же жестокого произведения. Сцены мучительных смертей излагаются Гомером во всех «красочных» подробностях. Сплошь и рядом встречаются пассажи вроде следующего:
…В чело поразил его камень жестокий;
Брови сорвала громада; ни крепкий не снес ее череп;
Кость раздробила; кровавые очи на пыльную землю
Пали к его же ногам…
(Гомер. Илиада. XVI. 739 и след.)
Возвышенные, архаические слова и обороты в великолепном переводе Н. И. Гнедича не должны заслонять того, что именно тут описано. Да, это чтение не для слабонервных. Эллины классической эпохи слабонервными и не были — жизнь не позволяла. И они спокойно, без комплексов, читали и Гомера, и — приученные им — любые другие описания жестоких сцен.
Говоря о похоронах царей Скифии, Геродот отмечает еще, что их подданные «все вместе насыпают над могилой большой холм, причем наперерыв стараются сделать его как можно выше» (IV. 71). И каждый, кому приходилось хоть что-то слышать о скифах, сразу поймет: речь идет о знаменитых скифских курганах. Эти монументальные надгробные сооружения и по сей день возвышаются в обширных степях к северу от Черного моря. Захоронения внутри многих из них были разграблены мародерами еще в древности, но кое-что перепало и на долю ученых Нового времени. Курганы активно раскапываются археологами еще с XIX века, и сколько великолепных золотых изделий там было обнаружено! Все они были положены в могилы, чтобы сопровождать покойного владыку в иной жизни. Открытые сокровища сейчас в большинстве своем хранятся в Золотой кладовой Эрмитажа и неизменно привлекают к себе массу посетителей. Многие из них, судя по искусной тонкости работы, явно были изготовлены не самими скифами, а греческими мастерами по скифскому заказу. Не в последнюю очередь поражает обилие у скифских царей предметов именно из золота — «царя металлов». Это не осталось незамеченным уже во времена Геродота, и сам он специально отмечает, что скифы, хороня своих правителей, «кладут золотые чаши (серебряных и медных сосудов скифы для этого вовсе не употребляют») (IV. 71).
А вот и еще один очень интересный скифский обычай, пересказанный «Отцом истории»: скифы «тело очищают паровой баней, поступая так: устанавливают три жерди, верхними концами наклоненные друг к другу, и обтягивают их затем шерстяным войлоком; потом стягивают войлок как можно плотнее и бросают в чан, поставленный посреди юрты, раскаленные докрасна камни. В Скифской земле произрастает конопля — растение, очень похожее на лен, но гораздо толще и крупнее… Ее там разводят, но встречается и дикорастущая конопля… Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия. Это паренье служит им вместо бани, так как водой они вовсе не моются» (IV. 73–75).
Процитированное место нередко вызывает к себе нездоровый интерес. Не приходится сомневаться: здесь описано употребление природных наркотических веществ, к каковым относится конопля. Конечно, именно ее пары заставляли скифов «вопить от удовольствия», хотя Геродот, похоже, считал, что наслаждаются они редкой возможностью помыться. Как бы то ни было, пользовались этим средством очень нечасто — только когда кто-нибудь в семье умирал. Есть мнение, что подобные «банные бдения» имели и религиозный аспект. Скифы воспринимали состояние наркотического транса в шаманском плане — как выход души из тела и странствия ее по «иным мирам». Шаманизм в своем полном и целостном виде, как сложная, детально разработанная система культовых практик и представлений, в V веке до н. э., разумеется, еще не сложился; однако какие-то зарождающиеся элементы его уже имели место в жизни ряда «варварских» народов Восточной Европы и Азии и были замечены «Отцом истории».
Скифский логос — лишь один из самых характерных примеров виртуозного мастерства Геродота как этнографа. Такого же рода образцы, взятые из его рассказов о других этносах, можно было бы множить. Поражает целый ряд проявившихся в этих рассказах черт. Во-первых, колоссальная наблюдательность автора, замечающего малейшие нюансы и детали в жизни иноземных народов. Во-вторых, его скрупулезность и добросовестность, заставлявшие историка описывать всё именно так, как он видел или слышал, пусть даже информация могла показаться кому-то невозможной, странной, чудовищной. В-третьих, невероятная для той эпохи объективность, умение посмотреть на любые реалии заинтересованно, но в то же время и отстраненно. Галикарнасец вовсе не стремится сделать из «варваров» — скифов и египтян, индийцев и персов — ухудшенный, второсортный, «недоделанный» вариант греков. В этом он более прогрессивен и гуманен, чем многие мыслители нашего времени, которые ничтоже сумняшеся делят народы и общества на «высокоразвитые» и «слаборазвитые», относясь к последним высокомерно-покровительственно… Для Геродота же нет «продвинутых» и «отсталых»; «варвары» для него — просто иные, не такие, как эллины, и с этой их инаковостью нужно считаться.
Завершим эту главу несколько парадоксальным утверждением: Геродот не просто вполне оправдывает эпитет «Отца этнографии» — с этим спорить никак невозможно. Более того, он достоин носить этот эпитет, может быть, даже в большей степени, чем титул «Отца истории». Ведь мы уже видели: историки в греческом мире имелись и до Геродота. Он превзошел их всех, но ведь и сам уже очень скоро во многих отношениях был превзойден. Фукидида принято считать представителем более высокой ступени в эволюции историографии.
Совсем иной оказывается роль галикарнасца, когда речь заходит о развитии этнографической науки. Похоже, тут он был в полном смысле слова первопроходцем, не имевшим предшественников. А самое главное — его достижения в сборе этнографических данных не были никем превзойдены не только в Античности, но и на протяжении двух с лишним тысяч лет, прошедших после него. Дальнейшие штудии в этой сфере, иногда предпринимавшиеся и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и позже, в эпоху Средневековья, по сравнению с геродотовскими производят совсем убогое впечатление. В них нет никакой заинтересованной наблюдательности, никакой скрупулезной точности; по большей части они представляют собой мало на чем основанные фантазии, творение мифов о чужих народах под влиянием предвзятых представлений о том, что хорошо, а что плохо, то пренебрежительную насмешку над их «примитивностью», то, наоборот, безудержную идеализацию патриархальной простоты их бытия, контрастирующей с «испорченностью нравов» в более цивилизованных обществах…
На этом фоне объективные этнографические описания Геродота просто не были поняты, к ним относились без всякого доверия. Перелом наступил только с эпохи Великих географических открытий. После визитов Колумба в Америку, кругосветного плавания Магеллана, за которым последовали многочисленные другие дальние путешествия, после проникновения в дебри Черной Африки европейцы ближе познакомились с целым рядом этносов, стоявших на разных стадиях первобытности. И вот тут-то они не могли не заметить, до чего многие стороны жизни этих народов, их обычаи, ритуалы, представления совпадают с тем, что давным-давно проницательно описал Геродот! Наличие этих параллелей стало мощнейшим фактором в реабилитации доброго имени историка. Ведь о случайных совпадениях речь явно идти не могла; с другой стороны, столь же явно и то, что «Отец истории» не мог видеть, допустим, американских индейцев.
Начали устанавливаться некие всеобщие закономерности этнического развития человечества. И только тогда наблюдения Геродота оказались по достоинству оценены, в нем разглядели подлинного основоположника этнографической науки, намного опередившего свою эпоху, писавшего в то время, когда еще и сама мысль о возможности существования такой научной дисциплины никому не могла прийти в голову.
Перед нами в основном прошла жизнь великого историка — кроме разве что самых последних лет, о которых будет сказано ниже. Мы узнали о деятельности и творчестве Геродота то, что позволили источники. Наступает пора постепенно подходить к итогам, попытаться охарактеризовать личность и мировоззрение неуемного галикарнасца, как они отразились в его труде.
Многое уже было в той или иной связи затронуто выше, но затронуто, как правило, разрозненно, разбросано по разным частям книги. Теперь настало «время собирать камни». Что же за человек был Геродот? Постараемся реконструировать его единый, целостный духовный облик.
Одна из самых ярких и известных фигур не только для древнегреческой мифологии, но и для всего древнегреческого сознания (пожалуй, и подсознания тоже) — Одиссей. Как не похож этот персонаж гомеровских поэм на обычный, «ходульный» образ героя, сокрушающего врагов исключительно силой и мужеством, — героя, каких множество и в эллинском эпическом цикле (Геракл, Ахилл, Персей, Аякс и десятки других), и в эпосе других народов мира (будь то шумерский Гильгамеш, индийский Рама или персидский Рустам)! Одиссей среди них уникален. Конечно, и ему тоже не занимать ни мужества, ни силы, но главное в нем — другое: острый ум, проницательность, находчивость, любознательность. Одиссея называют «хитроумным», «многосведущим»; он — неутомимый путешественник по Средиземноморью. Этот царь Итаки, в сущности, в наибольшей степени воплотил в себе основные особенности древнегреческого этноса, позволившие ему создать блистательную античную цивилизацию.
Каждый эллин был «немножко Одиссеем». Вполне закономерно, что в среде народа, породившего такой мифологический образ, появился «Отец истории» — человек, который, если уж подбирать к нему один, самый подходящий эпитет, должен быть назван Исследователем. Именно так — с большой буквы.
Геродот с большим правом, чем кто-либо другой из писателей Эллады и всего Древнего мира, может считаться «наследником Одиссея», родственным ему по духу. И он тоже провел жизнь в путешествиях — кстати, маршруты странствий Одиссея и Геродота отчасти совпадают. Интересен на первый взгляд малозначительный, но характерный нюанс: оба искали родину, и оба в конце концов ее обрели — правда, Геродот обрел не там, где покинул…
«Отец истории», как и царь Итаки, страстно тянулся ко всему новому, неизведанному. Он тоже был находчив, изобретателен, дальновиден. Не случайно Геродот умеет ценить ум и презирает человеческую глупость, что не раз проявляется в его труде. С особым удовольствием повествует он о разного рода хитрых («одиссеевских»!) выдумках, уловках, трюках, с помощью которых одни исторические персонажи вводят в заблуждение других и одерживают над ними верх. Побеждать подобает не грубой силой, а интеллектом — таково кредо нашего героя.
Приведем лишь один, но очень типичный пример из рассказа Геродота об афинском тиране Писистрате, жившем в VI веке до н. э. Писистрат был изгнан согражданами из полиса, но вскоре замыслил опять возвратиться к власти и вступил для этого в сговор с другим афинским аристократом — Мегаклом из рода Алкмеонидов. «Для возвращения Писистрата, — пишет Геродот, — они придумали тогда уловку, по-моему, по крайней мере весьма глупую. С давних пор, еще после отделения от варваров, эллины отличались большим по сравнению с варварами благоразумием и свободой от глупых суеверий; и все же тогда эти люди, Мегакл и Писистрат, не постеснялись разыграть с афинянами, которые считались самыми хитроумными из эллинов, вот какую штуку»… «Штука» заключалась в следующем: в одной из аттических деревень отыскали рослую и красивую девицу, нарядили ее богиней Афиной, и Писистрат, поставив ее рядом с собой на колеснице, въехал в город: вот, дескать, сама божественная покровительница Афин благоволит к бывшему тирану! «В городе все верили, — завершает Геродот, — что эта женщина действительно богиня, молились смертному существу и приняли Писистрата» (I. 60). Так и представляется, как историк саркастически улыбается, описывая этот эпизод — судя по всему, действительно имевший место{166}.
Ценя ум и изобретательность, высоко ставя человеческие достижения, умея оценить величие личности — не случайно он часто останавливается на деяниях тиранов — Геродот (как и Одиссей) в то же время глубоко благочестив. Странник с Итаки, каким его рисует Гомер, истово чтит волю богов. За это и небожители к нему благосклонны — правда, за одним исключением: Посейдон ненавидит Одиссея, преследует его, строит ему всяческие козни. Но на то есть особая причина: Одиссей, как известно, ослепил циклопа Полифема — сына бога морей. Но как, скажите на милость, было ему поступать, если свирепый циклоп намеревался сожрать героя?
Странник из Галикарнаса — тоже человек искренне верующий. Для религиозности Геродота характерны даже некоторые архаичные идеи, которые в просвещенный «Периклов век» могли казаться уже анахронизмом. Так, историк свято убежден в «зависти богов», в том, что обитатели Олимпа наказывают смертного, вознесшегося чрезмерно высоко. Типичнейший образчик подобных воззрений — одна из лучших вставных новелл в «Истории», цитировавшийся выше геродотовский рассказ о тиране Самоса Поликрате, в конечном счете жестоко пострадавшем именно из-за того, что был слишком удачлив и счастлив.
Одним словом, Геродот — настоящее, может быть, самое характерное воплощение античного эллина со всеми его достоинствами и недостатками, как близкими нам, так и непонятными для нас чертами. Читая его труд, мы проникаемся самим духом древнегреческой цивилизации, начинаем лучше постигать, почему в ее рамках было создано такое колоссальное, ни с чем не сравнимое количество культурных шедевров мирового значения.
Сразу же, едва открыв «Историю», мы не можем не заметить, что одна из наиболее постоянных величин в умонастроении ее автора — готовность удивляться. Уже в первой фразе сочинения Геродот говорит, что хочет описать «великие и удивления достойные деяния» (I. 1). И дальше сплошь и рядом по ходу текста: «удивительно», «удивление», «удивляюсь»… И в этом отношении он — кровь от крови и плоть от плоти Эллады.
Да, «наука удивляться» — одна из характернейших особенностей, присущих именно античным грекам. Умели ли это делать люди Древнего Востока? Похоже, что всё, абсолютно всё в мире они воспринимали как должное. Как говорится, «ничто не ново под луной». В этом чувствуется высокая умудренность старости и опыта, можно сказать, даже некая интеллектуальная усталость. К моменту возникновения эллинской полисной культуры некоторые древневосточные цивилизации насчитывали по две с лишним тысячи лет. Это много или мало? Напомним, что примерно двумя тысячами лет исчисляется история христианства. А возраст нашей страны, если считать временем ее рождения IX век, составляет «только» тысячу лет с небольшим. Если подходить с такими мерками, Восток, конечно, очень стар и даже дряхл. А что, если на таком фоне вдруг забьет живой родник мысли?
Греки появились вдруг как дети в кругу состарившихся древневосточных цивилизаций. Они пришли со своими вопросами — кто, что, как, почему? — в мир, где уже давно разучились спрашивать и где всем и всё было ясно. Широко раскрытыми глазами смотрели греки архаической и начала классической эпох на распахнувшийся перед ними мир, не уставали замечать новое, необычное, непривычное — и удивляться, находить какие-то неожиданные обертоны не только во впервые встречающихся, но и в повседневных вещах. Эта свежесть, может быть, даже наивность взгляда, это умение удивиться, восхититься, залюбоваться тем, что вдруг попадало в поле зрения, — характернейшая черта эллинского мироощущения. Напомним еще раз об автографах, оставленных греками-наемниками на ноге статуи фараона в Египте. Столетиями проходили мимо этой статуи египтяне, но никому из них и в голову не приходило, что тут есть что-то необычное. А грекам — стоило лишь раз взглянуть…
Готовность греков восхищаться проявлялась даже в такой, казалось бы, насквозь проникнутой традицией и ритуалом области, как религия, взаимоотношения людей и богов. Выдающийся исследователь древнегреческой культуры Бруно Снелль справедливо подчеркивает: чувство, которое испытывал древний грек по отношению к своим божествам, было не страхом, как во многих других архаических обществах, и даже не уважением, но в то же время и не любовью (как она понимается, скажем, в христианстве), а именно беспредельным восхищением{167}.
Что уж говорить обо всех остальных «пластах бытия»! Парадоксальным, но, в сущности, правомерным представляется взгляд на греческую Античность как на своего рода «патологическое отклонение в семье „нормальных“ цивилизаций»{168}.
Не здесь ли истоки древнегреческой исторической мысли? Ведь сама история — в исследовательском, а не описательном смысле, как ее понимал Геродот, — это в какой-то степени не что иное, как «наука удивляться». Древневосточный (и любой другой) хронист повествовал — греческий историк искал.
Но откуда возникла сама эта потребность искать новое освещение оставшихся в прошлом фактов, не удовлетворяться тем, что о них уже известно? Удивиться — значит задуматься. Перед нами уже начало сознательного, рационального подхода к восприятию и осмыслению мира. У греков едва ли не впервые в истории человечества складывается понимание того, что повседневная рутинность бытия не безальтернативна, что мир (как природный, так и мир человеческого общества) мог бы быть иным. А коль скоро это так — неизбежны вопросы: почему же мир таков, каков он есть? и таков ли он на самом деле, как нам кажется? и почему он стал таким? и как всё на самом деле было и есть? Один вопрос влечет за собой другой, и так до бесконечности. Но это уже не «дурная бесконечность» древневосточных хроник, а творческая, идущая вглубь и порождающая открытия.
Наверное, ни один народ никогда не задавал так много вопросов, не доискивался так неутомимо до корней и первопричин всех явлений и событий, как древние греки. Может быть, это признак той самой «детской наивности» обитателей Эллады, которая озадачивала умудренных опытом египтян. Но как бы то ни было, именно греческому миру выпала судьба создать цивилизацию совершенно нового типа, не похожую ни на одну из существовавших прежде и ставшую фундаментом могучего европейского социокультурного организма, к которому принадлежим и мы. В этой цивилизации не было ничего самоочевидного, ничего заранее заданного; всё приходилось осмыслять, доказывать, обосновывать или опровергать.
Какой, казалось бы, смысл тщательно искать доказательство того факта, что диаметр делит круг на две равные половины? Это и так совершенно ясно. А между тем ученые Эллады бились над этой проблемой, формулировали ее как теорему с системой аргументации. Одним словом, в доказательстве нуждалось всё, на веру не принималось ничего. «Не верить всему подряд было достоинством по преимуществу греческим», — справедливо отмечает французский ученый Поль Вен{169}.
В высшей степени символично, что примерно в одно и то же время, в VI веке до н. э., из греческого «удивления перед миром» родились два феномена грандиозного, мирового значения. Попытка по-новому, отрешившись от традиционных мифов, взглянуть на физическую вселенную породила философию — и сразу во всём многообразии присущих ей мнений (Анаксимандр и Пифагор, Гераклит и Парменид…). Такая же попытка нового взгляда по отношению к человеческому обществу, его прошлому привела чуть позже к появлению истории (Гекатей и другие логографы).
Ранее в этой сфере всецело господствовали мифы. Впрочем, они не были забыты и впоследствии, после появления исторической науки. Пожалуй, ни одному древнегреческому историку (не только Геродоту, но и более прагматичным Фукидиду или Полибию) не удалось, как бы они к тому ни стремились, полностью отрешиться от элементов мифологического, иррационального мышления{170}. Мифы о героях и их деяниях воспринимались греками как бесспорные факты, как их собственная «древняя история». В этом, кстати, греки не очень грешили против истины. Современная наука об Античности всё более убеждается в том, что практически каждый герой греческих мифов действительно имел реального прототипа в истории II тысячелетия до н. э. Таким образом, большинство так называемых исторических мифов действительно отражает (другой вопрос, насколько адекватно) историческую ситуацию крито-микенской эпохи{171}.
Здесь не обойтись без чрезвычайно существенной оговорки. Для нас миф (да и то скорее по инерции, идущей от позитивизма XIX века) предстает как нечто внеположенное по отношению к исторической истине или даже противопоставленное ей{172}. В Античности же легендарно-мифологическая традиция «воспринималась и трактовалась как историческая»{173}. Греки, повторим, считали свои мифы не вымыслом, а собственной «древней историей» или — можно сказать и так — «священной историей». Не то чтобы мифы виделись им некой догмой, которая не может быть оспорена — скорее, напротив; мы встречаем в истории греческой культуры многочисленные примеры критики конкретных мифов{174}. Однако критика частностей не означала отхода от общей картины мира, в которой миф служил одним из краеугольных камней. Но всё же у греков миф был уже преломлен сквозь призму разума.
Достаточно много узнав об «Отце истории», мы можем с уважением и даже с восхищением заметить: за время своих странствий с кем только он не встречался, не беседовал! Жрецы дельфийские и египетские, беглый персидский вельможа Зопир и афинские аристократы, спартанские воины и не названные по именам колхи или вавилоняне чередой проходят перед читателем его сочинения.
Любой современный историк сочтет Геродота основоположником своей профессии. Однако методы работы великого галикарнасца мало похожи на те приемы, которыми пользуются в наши дни ученые, подвизающиеся на историческом поприще. Если они и путешествуют, то все-таки не это является определяющим для их профессии. Мы не берем здесь такие, стоящие несколько особняком исторические дисциплины, как археология и этнография; их представители, понятно, регулярно выезжают в экспедиции. А собственно историк работает в библиотеках, архивах, читает газеты и журналы, официальные документы, смотрит интернет-сайты… Деятельность историка ныне идет по двум (впрочем, нередко переплетающимся) направлениям: изучение источников и штудирование предшествующих исследований.
Во времена Геродота труд «служителя Клио» выглядел принципиально иначе. Геродот, работая над своим произведением, почти не имел предшественников и вынужден был идти непроторенными путями. Традиция историописания в Элладе только-только начала складываться (усилиями логографов), а составление хроник, анналов, на данные которых можно было бы опираться, в греческих полисах не привилось.
Геродоту было, конечно, трудно — как любому первопроходцу. Античные историки следующих за ним поколений имели возможность черпать информацию друг у друга, ссылаться на сформировавшуюся письменную традицию, создавать такой могучий инструмент работы, как научный аппарат. Ссылками — уважительными или критическими — на произведения предшественников переполнены книги авторов, работавших в историческом жанре на протяжении эллинистической и римской эпох: Полибия, Диодора Сицилийского, Тита Ливия и многих других.
А на кого было ссылаться Геродоту? Не то чтобы до него совсем никто не писал о Греко-персидских войнах{175}, но, во всяком случае, никто не делал это с такой степенью фундаментальности, подробности, детализации. Сам историк тоже не являлся непосредственным очевидцем описываемых им событий: в момент изгнания персов из Эллады он был еще ребенком.
В результате ему приходилось, объезжая города и страны, в буквальном смысле «снимать показания» со свидетелей происшедшего. Он действовал как самый настоящий следователь (впрочем, как мы уже знаем, само слово «история» изначально обозначало как раз что-то вроде «следствия»). Когда же речь идет о событиях более древних, свидетелей которых заведомо невозможно было найти, Геродот опирался на богатейшую устную традицию. Тут и там он внимательно слушал (и записывал) то, что предлагали ему местные жители: рассказы о прошлом, легенды, предания, даже анекдоты и сказки… И сохранил всё это для нас — пусть не без некоторого сумбура.
Можно, конечно, сказать, что «Отец истории» некритично относился к оказавшемуся в его распоряжении разнородному материалу, не был склонен отделять истину от досужих побасенок. Но вряд ли стоит порицать его за это. Ведь галикарнасец выработал специфическую, вполне сознательную позицию. Повторим ее еще раз, ведь без ее постижения невозможно понять Геродота: «…мой долг передавать всё, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан. И этому правилу я буду следовать во всем моем историческом труде».
Автор этих строк вспоминает свои студенческие годы. Первый курс исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Лекции о началах русской истории читает легендарный ученый — академик Б. А. Рыбаков. (Кстати, среди его многочисленных работ — книга «Геродотова Скифия»{176}, так что творчество Геродота он знал прекрасно.) В одной из лекций Борис Александрович приводит эту цитату из «Отца истории». Признаться, она прозвучала тогда как гром с ясного неба. Как-то не укладывалось это в наши тогдашние представления о принципах работы историка. Конечно, тогда подавляющее большинство из нас не читало еще ни Геродота, ни Фукидида, а историю знало по школьным учебникам. Но подспудно в нас, видимо, уже успел въесться типично фукидидовский дух: историк должен приводить только такие свидетельства, которым он доверяет, подвергать материал тщательному отбору. А тут вдруг — передавать всё, даже то, чему не веришь. А это ведь действительно очень по-геродотовски. Вспомним, как часто нам уже встречалось: галикарнасец рассказывает о чем-нибудь, и вдруг — скептически-насмешливое замечание в скобках: дескать, сам-то я, конечно, этому нисколько не верю.
Не верю, а все-таки записываю — в этом и есть ключевой принцип Геродота: открытость для любой информации. Он едва ли не более плодотворен, чем подход Фукидида — просеивать все данные через сито критики и оставлять только те, которые выглядят заведомо достоверными. Ведь на самом деле это слишком субъективный критерий. То, что казалось вполне заслуживающим доверия древнегреческому историку, подчас может вызвать лишь улыбку у исследователя наших дней. А самое главное — наоборот тоже бывает: иногда то, чему не верил Геродот (например, тому, что Керченский пролив зимой замерзает), но всё же написал об этом в своем труде, ныне признается как абсолютно безусловный факт. Одним словом, взгляды Геродота — взгляды историка «широкого полета».
Иногда высказывается мнение, что среди источников галикарнасского историка удельный вес письменных свидетельств был более значителен, чем принято считать. Не думаем, что это верно. Сказать, что Геродот совсем не пользовался трудами более ранних авторов — явное преувеличение. Мы уже убедились, что, например, труд Гекатея Милетского он прекрасно знал — и вовсе не скрывал этого знания, ссылался на Гекатея, где требовалось. Есть у него и другие ссылки на письменные тексты. Однако подсчитано: их в пять раз меньше, чем ссылок на лиц, информировавших автора изустно{177}. И уже сам этот факт, наверное, отражает реальное соотношение происхождения полученных им данных. Вряд ли мы имеем право предположить, что Геродот хитрил, сознательно старался преуменьшить использование в своей работе письменной традиции. Зачем ему это было делать?
«Отец истории» наблюдал, задавал вопросы, побуждал очевидцев событий делиться с ним воспоминаниями и, конечно, иногда сверялся с теми немногими папирусными свитками, которые попадали ему в руки (большим их количество ко времени жизни Геродота попросту не могло быть: прошло лишь несколько десятилетий со времени появления исторической прозы, и она, в сущности, делала первые робкие шаги).
У Геродота наиболее часты ссылки типа «По словам лакедемонян…», «Афиняне говорят…», «Как считают коринфяне…» и т. п. Имен он чаще всего не называет. Тем труднее представить себе, что в основе таких сообщений лежит какой-то письменный источник, например, исторический труд. Тогда, несомненно, были бы указаны конкретные авторы и Геродот не выражался бы столь туманно-абстрактно, ведь не существует исторических сочинений, написанных и подписанных «афинянами» и «коринфянами». Во всех таких случаях речь явно идет о «коллективном мнении» народа того или иного эллинского (или неэллинского) государства, об устойчивой традиции, а если выразиться современным языком, — о «национальной мифологии».
Яркий пример опоры Геродота именно на устные свидетельства — его подробный рассказ о судьбоносных событиях, происходивших в Персидской державе в 522 году до н. э. и приведших на престол Дария I (III. 30 и след.){178}. У царя Камбиса, повествует «История», был младший брат по имени Смердис, тоже сын Кира Великого. Когда Камбис завоевывал Египет, Смердис находился в Персии. Камбис, который в последние годы жизни стал крайне подозрительным и жестоким, посчитал, что Смердис может перехватить у него власть, и послал в Сузы своего человека — тайно убить брата. Приказ был исполнен, но смерть царевича держали в тайне, о которой каким-то образом прослышал один маг (в исконном смысле слова — жрец зороастрийской религии) и стал выдавать себя за Смердиса, пользуясь внешним сходством с ним (он якобы даже носил то же имя).
В это время в Египте, вдали от родины, внезапно умер Камбис, и самозванец провозгласил себя царем. Через некоторое время, однако, у некоторых представителей персидской верхушки возникли подозрения в его «подлинности». Семь знатных персов составили заговор и осуществили государственный переворот: убили Лже-Смердиса, а новым правителем решили сделать кого-то из своей среды. Эта честь выпала Дарию.
Те же события описаны в важнейшем персидском источнике — Бехистунской надписи Дария I. Во всём, что касается основной канвы, мы находим полное совпадение между двумя повествованиями. В надписи говорится об убитом брате Камбиса, который назван своим настоящим именем — Бардия («Смердис» — греческое искажение). Фигурирует там и узурпатор; приводится его подлинное имя — Гаумата, причем, как и у Геродота, отмечается, что он был магом. Перечислены семь доблестных персов, свергнувших мага. И опять этот перечень совпадает с геродотовским — не считая того же понятного нюанса, что в надписи имена употребляются в оригинальной персидской форме, а в «Истории» — в эллинизованной.
Получается, Геродот передал в своем труде официальную ахеменидскую версию прихода Дария к власти — версию, вне всякого сомнения, разработанную самим «Великим царем». Кстати, в современной науке нередко указывается, что Дарий, стремясь представить события в выгодном для себя свете, исказил действительность: на самом деле не было никакого мага Гауматы, а заговорщики умертвили настоящего Бардию-Смердиса{179}, то есть как раз Дарий являлся узурпатором. Но, как известно, победителей не судят и у них есть все возможности «переписать прошлое» в своих интересах. Кстати, не потому ли в «Истории» указано, что мага, как и настоящего брата Камбиса, звали Смердисом? Возможно, тут отразилось смутное ощущение, что это был один и тот же человек.
Итак, Геродот излагает официальную персидскую версию, содержащуюся в Бехистунской надписи. Означает ли это, что он где-нибудь прочел эту версию? Саму надпись, выбитую на скале в горной местности Ирана, он читать, конечно, не мог, поскольку там не бывал. Однако не приходится сомневаться, что официальная версия была по приказу Дария растиражирована и разослана по сатрапиям огромной державы. Там она, конечно, переводилась на местные языки населявших сатрапии народов. Не исключено, что появился и греческий перевод, ведь греки составляли не столь уж и малую часть жителей подвластных персам областей Малой Азии.
Тем не менее можно с уверенностью утверждать: «Отец истории», составляя свой рассказ о маге и Дарий, опирался не на официальные документы, а на устную традицию, бытовавшую в империи Ахеменидов. Его повествование и изложение в Бехистунской надписи совпадают именно по основной канве. Надпись, как и положено документальному памятнику, суха и бесстрастна, а рассказ Геродота изобилует сочными, живыми деталями, которые могут происходить только из фольклора.
Вот несколько примеров. Как знатные персы — будущие «освободители» государства от самозванца — узнали, что под именем Смердиса правит маг? Дочь одного из них, Отана, была в числе многочисленных жен предыдущего царя Камбиса. Когда тот умер, весь его гарем, по восточному обычаю, перешел к следующему владыке, то есть Лже-Смердису. И вот как-то ночью женщина обнаружила, что у ее спящего мужа… нет ушей! Обычно их отсутствие было незаметно под длинными волосами, которые носили высокородные персы. Женщина немедленно сообщила об этом отцу, и тот сообразил, что дело нечисто. Настоящий царь, «исконный Ахеменид», конечно, не мог быть безухим: физическое уродство было несовместимо с царским достоинством, владыка великой державы должен был быть совершенен во всех отношениях. «А этому магу Смердису царь Камбис, сын Кира, велел отрезать уши за какую-то немалую вину» (III. 69). Отан сделал вывод: на троне самозванец, а значит, его необходимо свергнуть. Сказано — сделано…
Совершенно ясно, что перед нами чисто анекдотический эпизод. Ведь речь идет о вещах настолько интимных, что они ни в каком случае не могли быть преданы публичной огласке. Всё это — типичные сплетни и слухи.
То же самое можно сказать по поводу другой сообщаемой Геродотом подробности — о том, как и почему из семи персов именно Дарий стал царем. Согласно «Отцу истории», «…о царской же власти они решили вот что: чей конь первым заржет при восходе солнца, когда они выедут за городские ворота, тот и будет царем» (III. 84). На наш взгляд — странное, наивное, способное вызвать лишь улыбку решение. Но люди древности видели волю богов даже и в более житейских вещах. Например, считалось важным предзнаменованием, если кто-то вдруг чихал у человека за плечом. В сложном устройстве мира никаких случайностей не бывает, все явления как-то связаны с другими, и каждое непременно является знаком другого — вероятно, так можно охарактеризовать мировоззрение, стоящее за подобными представлениями.
Конюх Дария, «сметливый парень, по имени Эбар» (III. 85), решил обязательно добиться, чтобы именно его господин выиграл сей своеобразный конкурс. Он сумел подстроить так, чтобы конь Дария заржал первым. Не будем пересказывать, каким образом ему это удалось; заметим только, что способ был достаточно пикантным.
Опять анекдот? Да, бесспорно. Бехистунская надпись и другие официальные документы Ахеменидов никак не могли служить источниками для всех этих историй. Перед нами явные образцы устного народного творчества, фольклор, который галикарнасец почерпнул непосредственно у жителей Персидской державы или, может быть, получил из вторых рук — от греков, ахеменидских подданных.
Нам даже приходит в голову следующее соображение. Геродот ведь и сам — мы повторяли это не раз — родился персидским подданным и был таковым на протяжении своего детства и юности, вращаясь всё это время в такой же среде. До Галикарнаса, естественно, доходили сведения о том, что происходит в далекой столице. С одной стороны, «сверху» присылались царские указы, содержавшие информацию официального характера, краткую и сухую. С другой стороны, тут же начинали циркулировать сплетни: а как оно было на самом деле? Почему совсем недавно нами управлял государь Смердис, а теперь вдруг выяснилось, что это был самозванец, и отныне во главе империи новый владыка — Дарий? И тут уж, конечно, буйная фантазия разыгрывалась во всю силу, как всегда бывает в подобных обстоятельствах.
Кстати, в рассказ о перевороте 522 года до н. э. Геродот вводит любопытнейший пассаж о якобы имевшей место после свержения мага дискуссии между знатными персами-победителями о строе, который следует ввести в государстве. Оставить ли монархию — или, может быть, заменить ее демократией или олигархией? По поводу этого места из «Истории» у современных ученых почти единодушное мнение:
персидские вельможи VI века до н. э. не могли вести подобные дебаты. Монархия на Востоке признавалась единственной возможной формой правления, сомнению не подвергалась, а такого понятия, как «демократия», в ту эпоху еще не было даже у греков. Одним словом, опять перед нами информация, которая никак не могла быть почерпнута из персидских письменных источников.
Итак, в своем пестром и разнообразном повествовании «Отец истории» опирался на предания как эллинов, так и «варваров». Напомним, что для классических греков «варварами» были все, кроме них самих, все иноплеменники: египтяне и фракийцы, персы и скифы… Как раз в эпоху Греко-персидских войн, в эпоху Геродота отношение к «варварам» начало меняться — от нейтрального к негативному и пренебрежительному{180}. Одержав победу над грандиозной Ахеменидской державой, воплощавшей в себе объединенную мощь народов Востока, граждане эллинских полисов, испытывая вполне оправданную гордость, начали считать всех «варваров» людьми «второго сорта», чуждыми свободе и культуре, от рождения обреченными на рабство. Вся мировая история постепенно стала восприниматься ими сквозь призму противопоставления «светлого» эллинского и «темного» «варварского» миров, якобы извечной борьбы между ними.
Дань подобному подходу отдал — в самых первых главах своего труда — и Геродот. Однако в целом декларирование превосходства греков над всем остальным человечеством осталось ему совершенно чуждым. Он тонко подмечает (порой, кажется, не без удовольствия) многочисленные достоинства «варварских» народов: вековую мудрость египтян, воинскую доблесть и благородство персов, свободолюбие скифов… Впоследствии более «ангажированные» древнегреческие авторы (например, Плутарх) за это даже презрительно называли Геродота «филоварваром». Но у нас как раз эта черта его повествования — уважительное отношение ко всем народам, отказ от деления их на «высшие» и «низшие» — вызывает особенную симпатию и понимание.
Величайший греческий поэт-лирик Пиндар, старший современник Геродота, как-то сказал: есть род людей, есть род богов, но оба они произошли от единой матери (
Причем рождение человечества произошло довольно рано — тогда, когда правил еще Крон, отец Зевса, сын Геи и Урана. Следовательно, в понимании античных греков люди — во многих отношениях «меньшие братья» богов. Потому-то они так схожи и по физическому, и по нравственному облику.
Для эллинов граница между богом и человеком, богом и миром проходила иначе, чем для нас. В религиях преобладающего ныне монотеистического типа божество абсолютно, нематериально и трансцендентно по отношению к миру, то есть стоит вне его. Собственно, только поэтому Бог и может выступать творцом мира. А в греческой религии боги хотя и отграничены от людей (да и то не слишком строго), но находятся внутри вселенной, чувственно-материального космоса, который, как неоднократно подчеркивал выдающийся философ и историк философии А. Ф. Лосев{181}, для античного сознания является последним абсолютом. Боги мыслились не творцами этого космоса, а, напротив, его порождениями, как и люди. Отсюда, кстати, и власть над богами судьбы, превозмочь которую им не дано.
В сущности, можно говорить о «мире людей и богов». Боги осознавались как нечто постоянно и повсюду присутствующее, близкое, даже, может быть, слишком близкое. По сути дела, они венчают собой иерархию живых существ. Для Гомера, например, над «чернью» возвышаются герои-аристократы, а над ними, наверное, примерно на столько же возносятся боги.
Крупный дореволюционный российский филолог-классик, знаток античной религии Ф. Ф. Зелинский тонко замечает: «Верующий грек нисколько бы не удивился, если бы ему где-нибудь на дороге встретилась его Деметра в лице высокой и полной женщины с ласковой улыбкой на лице»{182}. Боги воспринимались как что-то само собой разумеющееся.
Как остроумно пишет другой виднейший специалист по древнегреческой культуре, Бруно Снелль, нельзя было бы задать эллину вопрос, верит ли он, скажем, в Афродиту. «Верить» — неподходящее слово. Он не верил в нее — он наблюдал и ощущал ее действие повсюду, прежде всего на самом себе, ведь любовь не чужда никому{183}.
То же самое относится и ко всем другим божествам. Зреет на полях хлеб — так как же нет Деметры? Морские валы обрушиваются на берег — так как же нет Посейдона? В небе сверкает молния, раздаются удары грома — как же нет Зевса? Языческие боги, воплощавшие силы природы, были не предметом веры, а воспринимались как объективная реальность. В этих условиях вопрос «како веруеши?» для жителей эллинских полисов просто не вставал. Вера возможна там, где возможно сомнение, где может быть поставлен вопрос «верить или не верить?». Ведь нельзя же сказать, что мы «верим», например, в существование Америки; мы просто знаем, что она есть — даже если сами ее никогда не видели. Вот так и грек: он просто «знал», что есть Зевс, Афина, Аполлон, он жил с ними в одном мире…
И такой мир просто не мог не быть пропитан мифом. Каково для эллина соотношение мифа и истины? В мифе видели истину некоего «высшего» порядка. Для того же Геродота миф является «истинной историей» не потому, что корректно передает частные исторические события, а потому, что показывает черты, истинные во всеобщем смысле{184}.
Текст, который, может быть, наиболее точно передает восприятие греками мифа, содержится у Плутарха в трактате «Об Исиде и Осирисе»: «Подобно тому как ученые говорят, что радуга есть отражение солнца, представляющееся разноцветным из-за того, что взгляд обращается на облако, так в данном случае и миф является выражением некоторого смысла, направляющего разум на инобытие» (Плутарх. Моралии. 358f) — Иными словами, истина — ровный луч солнца, а миф — тот же луч, но как бы преломившийся сквозь призму и приобретший от этого самые разнообразные оттенки.
Ф. Ф. Зелинский создал другой образный ряд: «Идея не заключается в мифе, как ядро в скорлупе; она живет в нем, как душа живет в теле. Одухотворенный идеей миф — особый психический организм, развивающийся по своим собственным законам; в возможности созидания таких организмов состоит преимущество философской поэзии перед отвлеченной философией»{185}. Конечно, Геродот не был ни «отвлеченным философом», ни философом-поэтом — он вообще, как мы знаем, не пошел ни по пути философа, ни по пути поэта; но назвать его мыслителем, несомненно, и можно, и нужно. Как бы то ни было, к мифу не нужно относиться «облегченно», тем более пренебрежительно, он — вещь весьма серьезная.
Что же можно сказать о мифе у Геродота и — шире — о его религиозности? Религиозным воззрениям «Отца истории» посвящен целый ряд серьезных монографий{186}. Мы же ограничимся констатацией следующего.
Геродот, в отличие от своих предшественников-логографов, не позволяет себе самостоятельных изобретений в области мифа и старается сохранить в неприкосновенности, во всяком случае, его «букву». Но при этом он — по возможности — избавляется если не от всех, то от многих элементов сверхъестественного в нем или старается объяснить их естественными причинами. Достаточно вспомнить, что историк, стремясь наполнить верования правдоподобием, с энтузиазмом воспринял стесихоровскую версию мифа о Елене в Египте, при этом еще удалил из нее призраков и прочую фантастику.
Геродот — исследователь; таковым предстает он и по отношению к религии. Мы видели, в частности, что он занимался специальными изысканиями на предмет выявления в греческой религии и мифологии элементов «чуждого» происхождения. Он изучал манипуляции с оракулами, был прекрасно осведомлен о том, что даже в величайшем и авторитетнейшем из прорицалищ — в «срединном храме» в Дельфах — есть продажные жрецы, и не скрывал от своих читателей возникавшие на подобной почве некрасивые инциденты. Но если кто-нибудь попробует из этого заключить, что в религиозности галикарнасца была хотя бы маленькая атеистическая — или даже скептическая — трещинка, он глубоко ошибется. Геродот — благочестивый человек, и благочестие его искренно. Он четко разводит случаи злоупотреблений религией и великие религиозные истины. По отношению к последним он, кстати, весьма сдержан, старается говорить о «делах божественных» как можно меньше и нейтральнее, возможно, считая, что рассуждения о них не в его компетенции. Как-то, увлекшись толкованием одного из мифов, он прерывает сам себя резко брошенной фразой: «Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах божественных!» (II. 45).
«Отец истории» — весь в религии, в общении человеческого и сверхъестественного. Это общение настолько тесное, что еще вопрос — можно ли таких богов вообще называть существами сверхъестественными, коль скоро они — плоть от плоти природы, воплощают ее, постоянно фигурируют в жизни людей и т. п. Это не христианский Бог, от которого ждут чудес и изредка их получают, причем чудо понимается как нечто противоположное обычному ходу действительности, ломающее ее привычный порядок. Для Геродота «чудом» является буквально всё. Тут нужно пояснить, что в древнегреческом языке существительное «чудо» и глагол «удивляться» — однокоренные (как в русском «диво» и «дивиться»), а удивляется историк, как мы видели, на каждом шагу. У него свежий взгляд на мир, и его влечет всё новое, незнакомое.
Боги в геродотовском труде присутствуют постоянно, и с ними, по мнению историка, просто нельзя не считаться. Разумеется, небожители не появляются на страницах его сочинения «собственной персоной». Все-таки он писал не эпическую поэму и не драму о легендарных героях, а научный трактат о жизни обычных людей. Боги находятся в мире незримо, но постоянно дают о себе знать разного рода действиями. Эти могущественные существа могут оказаться как благодетельными помощниками, так и губительными врагами — всё зависит от того, как к ним относились, оказывали ли подобающее почтение.
Геродота иногда считают релятивистом. В каком-то отношении это верно. Так, «Отец истории» был убежден, что нравы и обычаи различных народов относительны. Есть мнение, что на Геродота повлияли софисты и, в частности, самый крупный из них — Протагор{187}. Логично допустить, что Геродот и Протагор общались. Оба этих выдающихся интеллектуала, как известно, участвовали в колонизации Фурий. Естественно, в этих условиях они не могли не вступать в контакты. Оба родились примерно в одно и то же время, имели схожий опыт, оба много путешествовали, оба подолгу гостили в Афинах… Несомненно, им было интересно друг с другом, и их беседы оказывались полезными и плодотворными для обоих. Геродот разворачивал перед философом пеструю и разнообразную картину жизни людей во всех концах ойкумены. А тот еще более укреплялся в идее, что ничего истинного «от природы» нет, как люди установили — так для них и правильно: «человек есть мера всех вещей», и отчасти заражал своей верой историка.
Но Геродота никак нельзя назвать верным последователем Протагора во всём — хотя бы потому, что релятивизм последнего был очень широким, распространялся и на религиозную сферу. Протагор был не то чтобы атеистом, а скорее скептиком в воззрениях на религию. Он написал трактат «О богах» (к сожалению, сохранившийся только во фрагментах), который начинался словами: «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их и каковы они, потому что слишком многое препятствует такому знанию, — и вопрос темен, и людская жизнь коротка» (
А Геродот не был готов идти так же далеко, как Протагор, усомнившийся даже в самом существовании богов. «Отец истории» признавал, что в нашем, человеческом мире всё относительно; но мир божественный оставался для него абсолютным и неоспоримым. Боги есть — и этим всё сказано; разногласия же по поводу характера их бытия, облика и прочего, бытующие у разных народов и даже в одном народе, имеют место только потому, что люди своим ограниченным умом пока еще не постигли религиозные истины в полной мере. Ведь они совсем недавно стали размышлять о божествах, в особенности греки — народ совсем молодой: «О родословной отдельных богов, от века ли они существовали, и о том, какой образ имеет тот или иной бог, эллины кое-что узнали, так сказать, только со вчерашнего и позавчерашнего дня. Ведь Гесиод и Гомер, по моему мнению, жили не раньше, как лет за 400 до меня. Они-то впервые и установили для эллинов родословную богов, дали имена и прозвища, разделили между ними почести и круг деятельности и описали их образы» (II. 53).
Таким образом, боги «как они есть» — это одно, а представления людей о них — совсем другое, быть может, всего лишь выдумки поэтов. Но Геродот — оптимист, он убежден, что путем исследований можно в конце концов выявить истину даже в отношении священного. Собственно, он сам, как мы знаем, активно занимался такими изысканиями: плавал и в Египет, и в Финикию, не в последнюю очередь для того, чтобы узнать побольше о богах. Ведь живущие там народы — более древние, а стало быть, более сведущие на сей счет. Историк не сомневается: то, что рассказывают ему египетские или финикийские жрецы, имеет прямое отношение и к его «отечественным», эллинским богам, хотя его собеседники говорят о божествах местных. Нет богов «своих» и «чужих» — это всего лишь человеческие заблуждения; они едины, просто люди называют их разными именами. Греки чтят Зевса — но и египтяне, и финикийцы, и персы тоже поклоняются ему, просто для одних он Зевс, для других Амон, для третьих Ормузд… Не в именах суть.
Боги, коль скоро они в любом случае существуют, должны являть себя людям, вступать с ними в общение. Собственно, общение это — «двустороннее». Люди воздвигают богам святилища — их земные «жилища». Тут нужно оговорить, что древнегреческий храм (в отличие, скажем, от современных христианских церквей или мусульманских мечетей) не являлся местом молитвенных собраний. Рядовые верующие туда не допускались. Если им нужно было помолиться, принести жертву, совершить какой-нибудь другой обряд — это делалось вне храма, на открытом воздухе. В храм же были вхожи только жрецы.
Храм — это место, где живет божество — не всегда, но по крайней мере временами его навещает. А иначе и быть не может: сколько по всей Элладе храмов Зевса или Аполлона, Геры или Афины, и в каждом божеству нужно пожить, да еще и о родном Олимпе не забывать.
В глубине главного помещения храма (целлы, или нефа) находилась главная святыня — статуя того бога или богини, кому храм посвящен. Именно в нее, считалось, воплощается божество, прибывая в свое обиталище. Много позже христианские проповедники, борясь с язычниками, упрекали их в том, что те поклоняются идолам. Дескать, изготовили статую — и сами же ей молятся, чтят в ней бога, будто забыв, что этот «бог» еще недавно был бесформенным куском мрамора или слитком бронзы. Но это, конечно, упрощение. Античные греки-язычники четко разделяли материальную «оболочку» — статую — и ту божественную силу, которая в ней заключается. Возможно, их отношение к скульптурам богов было схожим с отношением христиан к иконам. Икона ведь тоже является, с одной стороны, созданием рук человеческих, при помощи доски и красок, а с другой — «окном» в трансцендентный мир, откуда исходят незримые духовные силы.
Кроме главной статуи, в любом храме были также другие произведения искусства, принесенные туда в качестве посвятительных даров посетителями — как индивидуальными паломниками, так и представителями полисов от имени своих гражданских общин. Нам уже доводилось упоминать о том, что, например, авторитетнейшее Дельфийское святилище из-за обилия таких подношений выглядело настоящим музеем.
Итак — возвращаясь к идее двустороннего общения между человеческим и божественным мирами, — люди строят богам храмы, возносят им молитвы, приносят жертвы и дары. Боги в долгу не остаются: посылают людям — обычно при посредничестве оракулов — знание о будущем, могут дать хороший совет, предупредить об опасности, побудить к какому-нибудь действию.
Как святилища, так и оракулы — особенно важные, первостепенные — занимают очень важное место в труде Геродота{188}. Собственно, святилище и оракул часто сочетались, и лучший тому пример — Дельфы. Мы уже подробно останавливались на том, сколь большую роль сыграло Дельфийское святилище Аполлона в формировании личности и мировоззрения «Отца истории», как много элементов «дельфийской этики» он перенял. В прорицания, предсказания галикарнасец верит свято. Конечно, возможны манипуляции жрецов — ему ли об этом не знать? Возможно и неправильное понимание «речений свыше». Так обманулся Крез, царь Лидии, неверно истолковав двусмысленное пророчество, пришедшее ему из Дельф, когда он собирался начать войну со своим персидским «коллегой» Киром. Но ни злоупотребления, ни недопонимание, по Геродоту, тени на богов не бросали.
Всё мировоззрение Геродота — и это не может не быть замеченным каждым, кто открывает его книгу, — буквально пронизано религиозными и вообще иррациональными элементами, которые фигурируют в «Истории» повсеместно. Древнегреческий иррационализм обычно как-то не замечают, видя в античной Элладе своего рода «светлое царство разума», что во многом верно, но представляет собой, так сказать, одну сторону медали. Однако у греческого мироощущения была и другая сторона — темная, «лунная», трагическая.
Геродот в данном смысле опять же был плотью от плоти своего народа. Оракулы, знамения, представления о судьбе для него чрезвычайно актуальны. В области представлений о божественном он не стремится угнаться за передовыми интеллектуалами своего времени, просвещенными и рафинированными, вроде Протагора. «Отец истории» вполне довольствуется верованиями традиционными, общепринятыми. В его труде со всей несомненностью обнаруживается ряд весьма архаичных религиозных идей: и «зависть богов» к удачливым людям, и родовое проклятие — наследственная вина, переходящая от предков к потомкам, в результате чего наказание от вышних сил несут совершенно невиновные люди…
Убежденность в существовании «зависти богов» и родового проклятия уже ко времени Геродота, к V веку до н. э., начала в Греции ослабевать. Некоторые представители культурной элиты уже столетием ранее, на исходе эпохи архаики, критиковали эти взгляды. А старший современник галикарнасского историка — великий афинский драматург Эсхил — предложил в своих творениях оригинальную концепцию, признающую страдания любого индивида не следствием родового проклятия и не проявлением божественной зависти к его благополучию, а соразмерным воздаянием за его дела{189}. Все эти новые веяния в духовной сфере не то чтобы прошли мимо Геродота. Нет, он о них знал и даже признавал за ними определенное значение, но пытался согласовать их со старинными идеями, дабы удержаться на почве благочестивого традиционализма.
В целом Геродота, пожалуй, следует назвать консервативным религиозным мыслителем. Не случайно в афинский период своей жизни он был, как мы знаем, близок к Софоклу — самому консервативному в религиозном отношении поэту того времени.
Примеры религиозного консерватизма в труде Геродота можно было бы множить. Так, он абсолютно убежден в божественном происхождении сумасшествия. Рассуждая о том, почему под конец жизни сошел с ума спартанский царь Клеомен I, он пишет: «Сами же спартанцы утверждают, что божество вовсе не виновно в безумии царя: общаясь со скифами, он научился пить неразбавленное вино и от этого впал в безумие… Я же думаю, что этим безумием он искупил свой поступок с Демаратом (Клеомен, напомним, путем интриг и манипуляций добился его низложения. —
Получается парадоксальная ситуация: даже религиозные, благочестивые спартанцы в данном случае оказываются большими рационалистами, чем «Отец истории». Вообще в те времена идея о сумасшествии как «священной болезни» была в интеллектуальных кругах уже вчерашним днем. Великий врач Гиппократ с Коса — современник и почти земляк галикарнасца — доказывал естественную природу психических заболеваний{190}.
Геродот искренне верит в вещие сны, в призраков, не сомневается в правоте изречений оракулов. Со всем этим у него довольно причудливым образом сочетается решительный фатализм, признание, что все беды человека изначально предрешены судьбой. Однако у нас ни в коем случае не должно создаться впечатление о Геродоте как примитивном писателе с отсталыми и чуть ли не варварскими воззрениями. В таком случае он не снискал бы себе репутацию одного из величайших историков всех времен и народов, а скорее занял бы место в паноптикуме курьезов. В действительности же он пользовался большим авторитетом у читателей уже в Античности. Геродот являлся человеком колоссальных знаний и широких взглядов, общался с передовыми мыслителями своего времени — натурфилософами и софистами, был в курсе их учений. В подобных условиях его веру в иррациональное, сверхъестественное следует считать не признаком «отсталости», а сознательным, ответственным убеждением. Да, Фукидид гораздо более скептичен по отношению ко всему «божественному». Мировоззрение Фукидида и в целом куда более рационально — и в этом смысле несколько более узко. Он уже не открыт навстречу чудесному, необыкновенному; «наука удивляться» — уже не его наука.
История — наука, которая с самого момента своего возникновения стремится отвечать не только на вопросы, когда и как происходило то или иное событие, но и на не менее (а пожалуй, более) важный вопрос, почему оно произошло. Историк не может не говорить о причинности. Уже Геродот это прекрасно понимал, как понимали и его коллеги-современники — и старшие, и младшие, и логографы, и Фукидид. Это тоже, кстати, одно из главных и непреодолимых отличий античной исторической науки от возникшей ранее древневосточной исторической хроники: в той события понимаются как сами собой разумеющиеся; всё идет, как должно идти. А поиск предпосылок, корней, мотивов событий — это обязательное свойство греческой «науки удивляться», подвергавшей сомнению даже очевидное.
Но если брать в целом историописание всех времен и народов, то в одних историософских концепциях подчеркиваются естественные, человеческие причины, а в других упор делается, напротив, на причины сверхъестественные. Это различие можно обозначить как различие между рационализмом и провиденциализмом в понимании истории.
Самый крупный представитель античного исторического рационализма — конечно же Фукидид. Он старается объяснить всё когда-либо происходившее сознательными действиями людей. Боги в его картине мира практически отсутствуют. Насколько можно судить, схожий подход наблюдается и у логографов — по крайней мере самых крупных из них, таких как Гекатей.
Геродот же и в этом отношении выбивается из общего ряда. Он мыслит более эпически. Судьбы мира и человеческого общества для него однозначно направляются высшими силами. Эти силы, разумеется, действуют по неким своим законам — но законы эти в корне отличаются от привычных и понятных людям. Геродот желает выявить законы истории именно в таком ключе — попытаться установить, на каких базовых принципах основано вмешательство в жизнь людей богов и судьбы. Чего нам ждать от этих могущественных «игроков» на историческом поле? На что надеяться, чего остерегаться? Попытки найти ответы на подобным образом поставленные вопросы красной нитью проходят через весь труд галикарнасца. Наиболее яркое, концентрированное выражение находит эта тематика в так называемом Крезовом логосе.
Этот логос — повествование о деяниях и невзгодах последнего лидийского царя Креза — занимает в геродотовском труде особое место. Он является самым первым из десятков входящих в «Историю» логосов и следует непосредственно за кратким введением (I. 1–5), в котором говорится о происхождении вековой вражды эллинов и «варваров». Иными словами, именно Крезовым логосом открывается основная часть произведения, и это, надо сказать, блистательное начало! Такое положение логоса не могло не обязывать. Он стал одной из самых важных в концептуальном отношении частей труда. А внутри него есть, в свою очередь, кульминация — речь афинского мудреца Солона перед Крезом (I. 30–32).
Разумеется, у Геродота (в отличие от того же Фукидида) историко-философские концепции чаще всего не сформулированы в явном виде, а скрыты, искусно вплетены в ткань повествования. В логосе о Крезе в сжатом виде содержатся практически все основные мотивы, которые в дальнейшем получают более развернутое освещение в «Истории», иллюстрируются многочисленными примерами.
Назовем некоторые из них, кажущиеся нам особенно важными. Мотив надменной дерзости и гордыни, за которыми обязательно последует расплата. Мотив наказания потомков за деяния предков — так Крез понес кару за преступление своего отдаленного предшественника Гигеса. Мотив неизбежности судьбы. Мотив неверного истолкования изречений оракула, которое ведет к краху. Мотив нарушения существующих границ, которое тоже чревато возмездием: как Крез перешел Галис, так в последующих частях «Истории» Кир переходит Араке (Амударью), Дарий — Дунай, а Ксеркс — Геллеспонт, и никого из них ни к чему хорошему это не приводит. Мотив «зависти богов», уже нам знакомый, но заслуживающий новых упоминаний ввиду своей значимости. Мотив «круговорота человеческих дел», по закону которого никто и никогда не будет постоянно счастлив — полоса удач обязательно сменится чередой неудач.
Весьма интересен мотив предостерегающего советчика. Такой советчик предупреждает кого-либо из героев «Истории» о его неправильном образе мыслей или действий и чаще всего предлагает более продуманную альтернативу. Как правило, хорошим советом пренебрегают; но советчик оказывается пророком, и его собеседник обязательно попадает в беду. Если не опасаться показаться претенциозным, можно назвать данный мотив «мотивом Кассандры». Такими советчиками просто-таки переполнен труд Геродота. Достаточно привести несколько взятых почти наугад примеров: советы Фалеса Милетского и Бианта Приенского ионийцам (I. 170) и Гекатея Милетского тем же ионийцам (V. 36) могли бы, если бы им последовали, уберечь этих греков от персидского порабощения. Совет Мильтиада разрушить мост через Дунай в то время, как Дарий с войском находился в Скифии (IV. 137), тоже не был принят, что позволило персидскому царю возвратиться и продолжить свою территориальную экспансию в Европе. Один из наиболее известных примеров (III. 40) — совет фараона Амасиса самосскому тирану Поликрату пожертвовать богам какую-нибудь ценную и дорогую для него вещь, дабы искупить свою «чрезмерную» удачливость (в этом эпизоде мы имеем вариацию базового мотива: Поликрат последовал рекомендации Амасиса, но это его все-таки не спасло). Замечательный образец предостерегающего советчика являет собой также знатный перс Артабан, дядя Ксеркса, настойчиво и доказательно убеждавший племянника не отправляться в поход на Элладу, демонстрируя возможные негативные последствия этого поступка (VII. 10), но, естественно, успеха не достигший. Перечень схожих ситуаций в «Истории» можно было бы продолжать, но, думается, названных вполне достаточно. Сочинение Геродота даже завершается (IX. 122) сценой с советчиками — Артембаром и Киром.
Иногда советчиками движет божественное вдохновение, но часто они — просто мудрые, дальновидные люди, обладающие огромным опытом и поэтому постигшие пресловутые «законы истории». Именно таков предостерегающий советчик, выведенный в Крезовом логосе. Он первый из всех появляется у Геродота, и эта роль вверена не кому иному, как знаменитому афинскому мудрецу, поэту и законодателю Солону{191}. Прибыв к сардскому двору, он произносит перед Крезом пространную и глубокомысленную речь о сущности человеческого счастья, направленную на то, чтобы умерить гордыню лидийского царя. Далее ситуация развивается по известному сценарию: «эти слова Солона были, как я думаю, не по душе Крезу, и царь отпустил афинского мудреца, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Крез счел Солона совершенно глупым человеком, который, пренебрегая счастьем настоящего момента, всегда советует ждать исхода всякого дела» (I. 33). Но ведь счесть мудреца глупцом — проявление той же безумной гордыни, и даром оно Крезу не проходит. Только лишившись своего пресловутого счастья, будучи ввергнут в пучину бедствий, последний представитель династии Мермнадов вспоминает слова своего афинского собеседника — и решительно признаёт их правоту (I. 86).
Согласно преобладающему на сегодняшний день в историографии мнению{192}, с которым мы также вполне согласны{193}, Геродот в речи Солона передал круг основных идей, характерных для мировоззрения последнего, и сам солидаризировался с большинством этих идей. Такая солидарность выглядит вполне закономерной, если учитывать, что соединяющим звеном, несомненно, служили Дельфы. С одной стороны, система религиозно-этических взглядов Солона была по своему духу дельфийской, «аполлонической», что отразилось как в его поэзии, так и в его законодательстве{194}. С другой стороны, безоговорочно доказано, что и на взгляды Геродота Дельфы имели очень значительное, едва ли не решающее влияние. Это не могло не порождать большое количество точек соприкосновения в идейной сфере. К тому же сам Крезов логос, а следовательно, и включенный в него эпизод с Солоном, имел дельфийское происхождение. Достаточно отметить, что в этой новелле Крез устраивает своеобразный конкурс между греческими оракулами и победителем в состязании выходит, разумеется, оракул Дельфийский (I. 46–49){195}.
Речь Солона перед Крезом явно имеет для «Отца истории» программное значение{196}. Если Крезов логос является квинтэссенцией базовых мотивов всего геродотовского произведения, то речь Солона выражает их особенно ярко. Хотя сам Солон появляется на страницах «Истории» всего несколько раз, он с полным основанием может быть признан одним из главных ее героев, выразителем излюбленных мыслей автора.
О чем, собственно, говорит Солон? Его речь начинается знаменательными словами: «Крез! Меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни?» (I. 32). Основную ее часть мы уже цитировали выше почти целиком.
Главный смысл Солоновых изречений — дельфийские сентенции о превратностях человеческой судьбы, непрочности счастья, необходимости умеренности во всем.
У эллинского мудреца Солона есть в геродотовском труде «варварский визави» — перс Артабан, один из самых симпатичных персонажей «Истории». Он неоднократно высказывает мысли, аналогичные солоновским, дельфийским (VII. 10, 16, 18, 46, 49, 51). Было подмечено даже{197}, что один из метафорических образов, использованных Артабаном, — «Так, говорят, порывы ветров обрушиваются на море, самую полезную людям стихию, и не позволяют использовать его природные свойства, так что оно не может показать свою истинную сущность» (VII. 16), — напрямую соотносится со строками Солона: «Ветром волнуется море, когда же ничто не волнует / Глади морской, тогда нет тише ее ничего» (
Это удивительное, почти дословное совпадение конечно же никак не может быть случайным. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что Геродот намеренно вложил подлинные солоновские слова в уста Артабану, чтобы подчеркнуть близость двух персонажей. Для этого он даже не побоялся пожертвовать исторической достоверностью. Ведь трудно представить, чтобы перс, представитель типично сухопутного народа, назвал вдруг море «самой полезной людям стихией», в то время как от грека слышать такое естественно. В обоих случаях — и у Солона, и у Артабана — образ моря появляется в политическом контексте. Артабану с помощью убедительных доводов почти удается отговорить Ксеркса от пагубного намерения пойти на Элладу. Но тут вмешиваются сверхъестественные силы — Ксерксу во сне является призрак и грозно восклицает: «Так ты, перс, изменил свое решение и не желаешь идти войной на Элладу, после того как приказал персам собирать войско?! Нехорошо ты поступаешь, меняя свои взгляды, и я не могу простить тебе этого… Знай же, если ты тотчас же не выступишь в поход, то выйдет вот что. Сколь быстро ты достиг величия и могущества, столь же скоро будешь вновь унижен» (VII. 12–14).
Против призрака бессилен даже царский дядя; он вынужден скрепя сердце прекратить возражать против войны с греками. Это, пожалуй, единственный элемент ущербности геродотовского Артабана по сравнению с геродотовским Солоном (ведь не мог же даже лучший из «варварских» мудрецов быть поставлен на один уровень с мудрецом эллинским).
Еще один мудрец-«варвар», высказывающий абсолютно те же мысли, что и Артабан, и Солон, — египетский фараон.
Амасис. Мы знакомы с его письмом, якобы написанным самосскому тирану Поликрату: там снова рассуждения о «зависти богов», непрочности счастья, порицание гордыни, проповедь умеренности… Создается вполне оправданное впечатление, что устами этих трех героев «Отец истории» излагает собственное мировоззрение: всем правят боги. Эти боги не имели ничего общего с благими божествами позднейших монотеистических религий. Это существа крайне пристрастные, гневные, жестокие, завистливые, мстительные, злопамятные, а иногда и просто злые. Эти их качества сказываются и на судьбе каждого человека, и на путях истории в целом.
Вернемся к призраку, который вверг Ксеркса в пучину бед. Что за силу он собой олицетворяет? Была высказана идея, что это — первое появление дьявола в европейской литературе{199}. Но мы, пожалуй, не стали бы ставить вопрос столь категорично. Само представление о дьяволе вряд ли могло сложиться в условиях языческой политеистической религии. Ведь дьявол — абсолютное зло, противостоящее абсолютному добру — Богу. А греческие боги, повторим, отнюдь не являются абсолютным добром. В них причудливо переплелись черты добра и зла; можно сказать, что они — и боги и дьяволы в одном лице. Не случайно впоследствии христианская религия, не отрицая в принципе существование Зевса или Аполлона, просто признала их злокозненными демонами, долгие века морочившими людей и выдававшими себя за богов. Что и говорить, основания для подобного взгляда имелись…
В этом смысле геродотовский призрак — воплощение всего мира эллинских божеств. Почему он заведомо ложным советом ведет Ксеркса к поражению? Да просто потому, что Ксерксу суждено потерпеть поражение, такая у него судьба. Для античного грека такой ответ уже был достаточен: судьба — мощнейший двигатель истории, объяснять ее действия не стоит даже пытаться: ее темные пути для человека непостижимы.
Каковы другие силы, стоящие за ходом исторических событий? Один из его принципов мы с полной ясностью обнаруживаем в самом начале труда Геродота, в рассказе, объясняющем причины вековой вражды Запада и Востока, эллинов и «варваров». Причины эти — не в чем ином, как в цепи наказаний и возмездий. Друг за другом следуют похищения Ио, Европы, Медеи, Елены… Затем греки отправляются на обидчиков большим походом: начинается Троянская война. «С этого времени персы всегда признавали эллинов своими врагами. Ведь персы считают Азию и живущие там варварские племена своими, Европа же и Эллада для них — чужая страна» (I. 4).
Итак, еще один двигатель истории — возмездие. Оно может быть чисто человеческим, как в приведенных примерах. Обида должна быть отомщена — таково было непоколебимое убеждение античных греков. А поскольку своих богов они представляли всецело по своему «образу и подобию», то не менее значимой была идея о божественном возмездии. Как человеческая, так и божественная кара могла обрушиваться не только на непосредственно виновного, но и на его потомков, родственников, сограждан, лично ничем не согрешивших. Народы древности верили в коллективную ответственность и, в частности, в наследственную вину, родовое проклятие. Дети и внуки «платят по счетам» отцов и дедов, и это, по мнению Геродота и его современников, очень многое объясняет в истории. Именно такую кару несет Крез Лидийский за то, что его предок в пятом поколении узурпировал престол, свергнув и убив законного царя. И ничто — ни благочестие Креза, ни его щедрые дары храмам и святилищам, ни постоянные обращения к оракулам, дабы получить от богов советы относительно своей дальнейшей судьбы, — не может предотвратить череду бед, обрушившихся на него.
Собственно, представление, лежащее в основе подобного хода мыслей, можно назвать банально-житейским. Если человек одолжил деньги у соседа, а потом вдруг умер, обязаны ли его потомки-наследники отдать долг? Конечно, обязаны. Этот принцип из частной жизни распространился и на историю. Не расплатился при жизни, «ускользнул» в ворота Аида — расплата ложится на детей.
Интерес к родовым проклятиям тесно связан у Геродота с обостренным вниманием к родословным. В этом отношении историк следует традиции, к его времени уже прочно утвердившейся в греческой литературе, как поэтической, так и прозаической{200}. Иронически высказываясь по поводу генеалогических гипотез Гекатея как чересчур прямолинейных и наивных (II. 143), он тем не менее и сам уделял аристократическим родословиям весьма значительное место в своем труде. Ограничиваясь здесь афинским материалом, укажем, что историк, как правило, не упускал случая сказать хотя бы несколько слов о происхождении и генеалогических связях аттической знати, будь то Гефиреи, Писистратиды или особенно любимые им Филаиды (V. 57, 65; VI. 35); все эти вопросы вызывали его нескрываемый и неослабный интерес.
Довольно загадочным в таком контексте выглядит умолчание Геродота об истоках Алкмеонидов — рода, о котором он пишет много и подробно. Как известно из другого источника (
Кстати, Перикл в конце жизни тоже стал жертвой представлений о родовом проклятии и наследственной вине. Давным-давно, еще в VII веке до н. э., Алкмеониды совершили религиозное преступление — святотатство: подавляя мятеж, поднятый неким Килоном, пытавшимся захватить тираническую власть в полисе, они перебили «путчистов» прямо у алтарей богов. Считалось, что с тех пор они были «осквернены» и «скверна» эта лежит даже на их потомках, никак не причастных к нечестивому поступку. Периклу в начале Пелопоннесской войны припомнили его происхождение из «проклятого» рода, и это проклятие сочли одной из главных причин бедствий, обрушившихся на Афины. Многолетнего лидера государства сместили с должности, отдали под суд, приговорили к огромному денежному штрафу… Мы не будем останавливаться на этой истории, поскольку Геродот о ней ничего не рассказывает (хотя, судя по всему, застал эти события), а известна она нам от Фукидида и более поздних авторов; упомянули же мы эпизод с Периклом для того, чтобы показать, как живучи были представления о наследственной вине и неизбежном возмездии потомкам даже в просвещенную классическую эпоху греческой истории, когда жили Геродот и Перикл.
Тот же инцидент мог быть трактован и с другой точки зрения — как проявление «зависти богов»: Перикл слишком высоко вознесся, на протяжении полутора десятилетий фактически единолично управлял демократическим полисом. «Зависть богов» для Геродота — тоже, бесспорно, одна из главных движущих сил истории{203}. Сколько раз нам уже приходилось цитировать различные места из сочинения галикарнасца, в которых отчетливо отражается эта древняя, архаичная идея… Это и слова Солона о завистливости всякого божества, и письмо фараона Амасиса тирану Поликрату на ту же тему. Поликрат, по Геродоту, гибнет именно потому, что достиг «чрезмерного» успеха и благополучия.
В рассказе о Греко-персидских войнах — основном сюжетном костяке геродотовского повествования — тоже неоднократно прослеживается представление о «зависти богов». Артабан говорит Ксерксу те же слова, что Солон — Крезу, а Амасис — Поликрату: необходимо быть умеренным во всем, проявлять смирение: «Ты видишь, как бог мечет свои перуны в самые высокие дома и деревья. Ведь божество всё великое обыкновенно повергает в прах… Ведь не терпит божество, чтобы кто-либо другой, кроме него самого, высоко мнил о себе» (VII. 10). Снова и снова повторяется тот же лейтмотив…
Но Ксеркс не слушается дядю, не хочет смириться. И в результате само его колоссальное, непомерное величие становится причиной его падения. Такие принципы, по мнению Геродота, действуют на исторической арене, такие грандиозные силы сталкиваются. Что тут остается делать слабому человеку? Опять перед нами типично дельфийская точка зрения: пытаться постигнуть волю богов (лучше всего — через оракулы) и неукоснительно следовать ей.
Античные историки были прежде всего историками политическими. Среди них имелись такие (их, пожалуй, даже большинство), которых можно назвать чисто политическими. Фукидида или Полибия, насколько можно судить, по-настоящему занимали только войны, дипломатия, борьба группировок… Если они и приводят какие-либо иные сведения, то лишь походя, постольку-поскольку.
На подобном фоне Геродот — автор куда более энциклопедичный, широкий по охвату действительности. У него мы находим обильную информацию о самых различных пластах бытия эллинов и «варваров». Но даже у Геродота нет ничего похожего на социально-экономическую историю или историю культуры. Для него история также преимущественно событийная, это описание череды политических и военных событий, особенно тех, которые имеют отношение к межгосударственной арене.
Ничего удивительного в этом нет. Именно так писалась история не только на протяжении всей античной эпохи, но и еще долго после ее окончания. Эта традиция оказалась нарушена совсем недавно. Первые труды, специально посвященные культурной истории, были написаны во второй половине XIX века выдающимся швейцарским ученым Якобом Буркхардтом. История экономики как дисциплина начала бурно развиваться только в XX столетии; особенно большой вклад в нее внесла группа французских исследователей, объединившихся вокруг журнала «Анналы» (Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Бродель и др.).
Любой античный историк, будучи в первую очередь историком политики, должен был обязательно иметь систему собственных политических взглядов и предпочтений — тот концептуальный базис, с позиций которого он рассматривал и оценивал изучаемые им события. Весьма интересно разобраться в том, каковы были эти взгляды и предпочтения у Геродота.
Античный историк — одновременно и политический мыслитель. К Геродоту сказанное относится в полной мере. В мировом масштабе родиной политической теории (как и многого другого) является именно античная Греция. Эллины первыми в человеческой истории стали задумываться о типах политических систем, пытались систематизировать их. В условиях полиса это впервые оказалось возможным: политические формы стали разнообразными (в отличие от решительного преобладания одной из них — монархии — на Древнем Востоке), что побуждало сравнивать их друг с другом и делать из такого сравнения теоретические выводы.
Геродот — не просто политический мыслитель. Он — самый ранний политический мыслитель из всех, чьи произведения до нас дошли. И у него же впервые встречается необыкновенно плодотворная мысль о том, что в принципе существуют три формы государственного устройства: монархия, олигархия и демократия. В первом случае власть принадлежит одному человеку, во втором — небольшой группе людей, в третьем — всему народу. Собственно, так эти термины и переводятся с древнегреческого: «власть одного», «власть немногих», «народоправство».
В дальнейшем схема, предложенная Геродотом, конечно, видоизменялась и усложнялась греческими политическими теоретиками последующих эпох — Платоном, Аристотелем, Полибием и др. В нее вводились дополнительные и смешанные формы, а три исходные подвергались членению. Особенно стройной и разработанной выглядит концепция Аристотеля. Согласно ей, есть два вида единоличной власти: справедливая, законная (монархия) и основанная на произволе и насилии (тирания). Есть два вида власти немногих: власть действительно лучших людей, управляющих государством в общих интересах (аристократия), и власть самых богатых граждан, преследующих только свои корпоративные выгоды (олигархия). Есть, наконец, два вида власти народа: такая, при которой народ подчиняется законам и опять же блюдет общегосударственные интересы (Аристотель вводит для такой формы название «полития»), и такая, при которой народ не считается с законами, управляет самовластно, как деспот (демократия). Всего получается шесть типов государственного устройства: три «хороших» и три «плохих». Но если присмотреться внимательно, то увидим: в основе этой классификации лежит всё то же исходное геродотовское троичное деление.
Чрезвычайно интересен и необычен контекст, в котором появляется у «Отца истории» рассуждение о трех формах правления (III. 80–82). Дело будто бы обстояло так: после свержения в 522 году до н. э. узурпатора-мага с ахеменидского престола семь персов-победителей собрались на совет — решать дальнейшую судьбу государства, и три из них — Отан, Мегабиз и Дарий — вступили в спор о том, какую политическую систему вводить. Отан выступал за демократию, Мегабиз — за олигархию, Дарий — за монархию. Каждый сказал речь в защиту своей точки зрения. Аргументы Дария показались самыми сильными, и большинство совещавшихся примкнуло к нему.
Аргументацию трех персов Геродот снабжает следующим комментарием: «Они держали речи, которые иным эллинам, правда, кажутся невероятными, но всё же они действительно были произнесены». Надо сказать, что эти речи кажутся невероятными не только «иным эллинам» — среди современных историков тоже господствует практически единодушное мнение: персидские вельможи однозначно не могли вести такие дебаты. На самом деле перед нами — образчик отнюдь не персидской и вообще не древневосточной, а типично греческой классической политической мысли. С использованием таких терминов и категорий рассуждали сам Геродот и его современники.
Приведем самые важные отрывки из «речей трех персов».
Отан: «По-моему, не следует опять отдавать власть в руки одного единодержавного владыки. Это и неприятно, и нехорошо… Как же может государство быть благоустроенным, если самодержец волен творить всё, что пожелает?..
Что до народного правления, то оно прежде всего обладает преимуществом перед всеми другими уже в силу своего прекрасного имени — „исономия“[63]. Затем народ-правитель не творит ничего из того, что позволяет себе самодержец. Ведь народ управляет, раздавая государственные должности по жребию, и эти должности ответственны, а все решения зависят от народного собрания. Итак, я предлагаю уничтожить единовластие и сделать народ владыкой, ибо у одного народоправства все блага и преимущества».
Мегабиз: «То, что сказал Отан об отмене самодержавной власти, повторю и я. Но что до его второго предложения — отдать верховную власть народу, то это далеко не самый лучший совет. Действительно, нет ничего безрассуднее и разнузданнее негодной черни… Мы же облечем верховной властью тесный круг высшей знати (в их числе будем и мы). Ведь от „лучших“ людей, конечно, исходят и лучшие решения в государственных делах».
Дарий: «Если мы возьмем из трех предложенных нам на выбор форм правления каждую в ее самом совершенном виде, то есть совершенную демократию, совершенную олигархию и совершенную монархию, то последняя, по-моему, заслуживает гораздо большего предпочтения. Ведь нет, кажется, ничего прекраснее правления одного наилучшего властелина. Он безупречно управляет народом, исходя из наилучших побуждений… Напротив, в олигархии, если даже немногие лучшие и стараются приносить пользу обществу, то обычно между отдельными людьми возникают ожесточенные распри. Ведь каждый желает первенствовать и проводить в жизнь свои замыслы… При демократии опять-таки пороки неизбежны, а лишь только низость и подлость проникают в общественные дела, то это не приводит к вражде среди подлых людей, а напротив, между ними возникают крепкие дружественные связи. Ведь эти вредители общества обычно действуют заодно, устраивая заговоры…»
Знатные персы рассуждают тут как завзятые риторы-софисты, блистая логической аргументацией. Три стороны исходят из разных посылок. Мегабиз — из эгоистической: олигархия мила ему тем, что при ней править будет не «чернь» или «тиран», а он сам со своими единомышленниками. Дарий — из идеалистической: если взять идеальную демократию, идеальную олигархию и идеального монарха, то последний будет всего лучше, потому что он — муж безупречный. Отан — из реалистической: идеальный монарх существует лишь в мире идей, а реальный единодержец, обычный человек из плоти и крови, обязательно будет злоупотреблять доставшейся ему огромной властью.
Как раз в V веке до н. э., в эпоху Геродота, стал выковываться термин «демократия», приходя на смену «исономии». И именно у «Отца истории» мы встречаем это слово впервые во всей мировой литературе. Приведем некоторые его высказывания по поводу демократии, народовластия, с одной стороны, и тирании — с другой. «Каждый город предпочитает народное правление господству тирана» (IV. 137). «Нет ведь на свете никакой другой более несправедливой власти и более запятнанной кровавыми преступлениями, чем тирания» (V. 92). «Ясно, что равноправие для народа не только в одном отношении, но и вообще — драгоценное достояние. Ведь пока афиняне были под властью тиранов, они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А теперь, освободившись от тирании, они заняли безусловно первенствующее положение» (V. 78). В последнем суждении допущено даже идеологически мотивированное передергивание фактов, грубое преувеличение — заявление о том, что при тирании Писистратидов афиняне совсем не одерживали побед.
Казалось бы, ясно: Геродот — убежденный враг тирании и восторженный поклонник демократии. Но это только первое впечатление{204}. Всё не так просто. Возьмем ту же демократию: и тут геродотовские похвалы не без «ложки дегтя». Например, по адресу демократических Афин отпущена такая шпилька: «Ведь многих людей, очевидно, легче обмануть, чем одного: одного лакедемонянина Клеомена ему (милетскому послу Аристагору. — И. С.) не удалось провести, а 30 тысяч афинян он обманул» (V. 97). Похоже, галикарнасец не очень верил в неизменную верность решений большинства…
То же касается тирании: с одной стороны, в целом, как явление она — «кровавый» режим; впрочем, справедливости ради заметим, что Геродот не дает такую характеристику от первого лица, а вкладывает ее в уста коринфянина Сокла. С другой же стороны, в «Истории» множество живых, ярких, сочных рассказов о конкретных тиранах — таких как Писистрат Афинский, Поликрат Самосский, Периандр Коринфский, Гелон Сиракузский… Нельзя не вспомнить и женщину-тирана Артемисию из родного Геродоту Галикарнаса, которой историк явно симпатизировал. Он, насколько можно судить, всецело разделял то отношение к тирании и тиранам, которое было свойственно эллинам его эпохи. А отношение это было двойственным, противоречивым. Правда, не все так считают. Например, выдающийся российский ученый Э. Д. Фролов пишет: «Общественно-политическая мысль и историческая наука древних греков с редким единодушием вынесли отрицательный вердикт об архаической тирании»{205}. Но с этим трудно согласиться. Всё же следует говорить не об однозначно негативном, а именно о двуедином отношении. С отрицательной в целом оценкой режима единоличной власти как таковой переплеталось восхищение — даже с оттенком благоговейной оторопи — представителями архаической тирании. Они, что ни говори, были действительно крупными, колоритными, запоминающимися личностями, а дела их — действительно значительными. Достаточно вспомнить, как усилились Афины при Писистрате, Коринф при Периандре или Самос при Поликрате.
Да, тираны были жестокими правителями. Иной раз их поступки поражают. Достаточно вспомнить, что античные источники рассказывают о Периандре: он убил свою жену, изгнал из дома сына, а ни в чем не повинных мальчиков с острова Керкиры отправил в Лидию для оскопления (III. 48–53). Но можно подумать, что тираны жили в эпоху безмятежности и братской любви, выделяясь на этом фоне своим чудовищным поведением! Нет, жестоким было само время, породившее их, а сами они просто являлись его характерными представителями. Нисколько не мягче вели себя и олигархические, и даже демократические режимы эпохи архаики. К тому же не следует забывать о том, что жестокость тиранов могла после их свержения «задним числом» преувеличиваться, утрироваться последующей традицией, явно враждебно настроенной к ним и стремящейся принизить их достижения{206}.
Нам кажется, что негативное отношение многих современных исследователей к архаической тирании обусловлено скорее общемировоззренческими, идеологическими причинами. Понятно, что мы в XX веке пресытились тоталитарными режимами личной власти и это вызвало стойкое их неприятие. Но плодотворно ли переносить оценку этих недавних или современных режимов на события и явления далекого прошлого? Современный латвийский историк Харийс Тумане справедливо пишет: «Писистрат не должен нести ответственность за маниакальных диктаторов двадцатого века»{207}. Иначе можно дойти до навешивания ярлыков — например, начать обвинять ученых, которые пытаются воздать должное позитивным достижениям греческих тиранов, в скрытой приверженности к фашизму или сталинизму…
Но вернемся к политическим взглядам Геродота. Создается впечатление, что этот хитроумный грек уже далеко не в первый раз ускользает от нас, опять не дает понять себя до конца, прячется за своими многочисленными масками… Наверное, не случайно в «споре трех персов» приводятся доводы в пользу каждого из трех основных видов государственного устройства — и тут же против каждого. На чьей же стороне находится сам автор? Он как будто говорит нам по своему обыкновению: думайте, решайте, выбирайте! Но ведь именно так он поступает всегда, когда излагает собственно исторические события: предлагает на суд читателя несколько версий, а сам как бы устраняется. Получается, этому принципу «диалогизма» Геродот следует не только в историописании, но и в сфере политической мысли.
Что же, политические взгляды галикарнасца совершенно расплывчаты, аморфны и не имеют никаких сколько-нибудь четких ориентиров? Это не так: есть как минимум два таких ориентира. Первый — свобода, и особенно свобода внешняя, независимость от чуждого владычества. Те же персы, сами по себе, у Геродота совсем неплохи: мужественны, благородны, временами жертвенны. Трудно удержаться от того, чтобы не процитировать рассказ из «Истории» о возвращении Ксеркса, проигравшего Саламинскую битву, обратно в Азию морем: «Во время плавания на царский корабль обрушился стримонский[64] ветер, высоко вздымающий волны. По рассказам, когда буря стала всё усиливаться, царя объял страх (корабль был переполнен, так как на палубе находилось много персов из Ксерксовой свиты). Ксеркс закричал кормчему, спрашивая, есть ли надежда на спасение. Кормчий ответил: „Владыка! Нет спасения, если мы не избавимся от большинства людей на корабле“. Услышав эти слова, Ксеркс, как говорят, сказал: „Персы! Теперь вы можете показать свою любовь к царю! От вас зависит мое спасение!“ Так он сказал, а персы пали к его ногам и затем стали бросаться в море. Тогда облегченный корабль благополучно прибыл в Азию» (VIII. 118).
Выдающийся русский мыслитель Константин Леонтьев называл этот эпизод «персидскими Фермопилами»: подобно тому, как Фермопильская битва показала беззаветный героизм греков, так здесь мы видим беззаветный героизм персов.
Этот героизм, конечно, совсем другого, «монархического» рода, но тоже выражается в готовности бестрепетно погибнуть — за царя.
Правда, Геродот сам сильно сомневается в истинности этого рассказа, о чем и предупреждает читателей: «…Царь не мог бы поступить так. Скорее он послал бы людей с палубы в трюм на скамьи гребцов (тем более что это были знатнейшие персы), а из гребцов-финикиян, вероятно, еще больше, чем персов, велел бы выкинуть за борт» (VIII. 119). Вот, кстати, лишний штрих к политическому мировоззрению галикарнасца: если он и был демократом, то весьма своеобразным. Люди для него, получается, все-таки делятся на «лучших» и «худших» — тех, которых можно «выкинуть за борт».
Так вот, к персам самим по себе у Геродота антипатии нет. Но совсем другое дело — когда они пытаются поработить Элладу, лишить ее свободы! Тут историк однозначно не на их стороне. Ведь не случайно же он имеет справедливую репутацию вдохновенного певца победы эллинских городов над Ахеменидами в Греко-персидских войнах.
Второй же (и не менее важный) его политический ориентир — закон. Напомним слова спартанца Демарата Ксерксу: спартанцы «свободны, но не во всех отношениях. Есть у них владыка — это закон, которого они страшатся гораздо больше, чем твой народ тебя» (VII. 104).
Свобода и закон — вот две главных «оси координат» того мира, в котором живет Геродот и принципы которого всецело разделяет. А ведь это те «два кита», на которых стоял полисный тип общества и государственности. Иными словами, на вопрос, какое государство лучше, у Геродота был вполне однозначный ответ: полис! В конце концов не важно, какой это полис по конкретному политическому устройству: преобладают ли в нем демократические, олигархические, монархические элементы (наверное, идеальный вариант — когда они смешаны в разумной пропорции). Но главное, чтобы это был именно полис{208}. Таким образом, мы вернулись к тому, с чего начали эту книгу.
Касательно последних лет жизни «Отца истории» очень много неясных и просто неизвестных обстоятельств. Существует целый ряд тесно сопряженных друг с другом проблем, которым очень трудно подыскать однозначное, непротиворечивое решение. Когда Геродот скончался? И где? Успел ли он завершить свой труд? Когда этот труд был издан? Сам ли автор его опубликовал или следует говорить о посмертном издании? Перед нами настоящий клубок загадок, подобных переплетенным, спутанным нитям. Дернешь за одну — потянутся вслед за ней другие. Попытаемся же распутать этот клубок, углубиться в проблематику, связанную с «концом Геродота».
О времени его смерти или по крайней мере времени окончания им работы над своим сочинением можно судить по тому, какие из упоминающихся там событий являются самыми поздними. «История», как известно, посвящена прежде всего Греко-персидским войнам, точнее, их первому периоду — до 479–478 годов. Именно на этих годах останавливается основная нить повествования. Однако периодически (как правило, в экскурсах) у Геродота встречаются намеки на дела последующих десятилетий.
Давно уже замечено, что наиболее поздними из упоминавшихся Геродотом являются некоторые перипетии, относящиеся к началу Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой (431–404). Первой кампанией этого грандиозного внутригреческого вооруженного конфликта стало нападение весной 431 года до н. э. союзных Спарте Фив на беотийский городок Платеи, издавна стоявший на стороне Афин. Фиванцы планировали захватить Платеи врасплох, ночной атакой. Они уже ворвались во вражеский город, однако платейцы стойко оборонялись и вытеснили захватчиков (
Геродоту известно об этом событии. Упоминая о Леонтиаде — фиванском полководце, участнике Греко-персидских войн, — он заодно сообщает: «…сына Леонтиада Евримаха впоследствии умертвили платейцы, когда он во главе четырехсот фиванцев захватил их город» (VII. 233). О гибели Евримаха, сыне Леонтиада, знает и Фукидид, так что совпадение между двумя историками оказывается практически полным — не считая одной небольшой детали: по Фукидиду, нападавших фиванцев было «немногим более трехсот человек». Впрочем, это расхождение не очень существенно, да и кто мог точно сосчитать количество воинов в фиванском отряде во время ночной атаки?
После платейского инцидента вступили в действие вооруженные силы основных участников войны — Спарты и Афин. Мощная спартанская армия несколько лет подряд весной вторгалась в Аттику и, оставаясь там до осени, разоряла сельскохозяйственные угодья. Спартанцы хотели вызвать афинян на генеральное сражение, но те приняли оборонительную тактику и не выводили свои отряды за пределы городских стен. Об этом Геродоту тоже известно. Он пишет: «…Во время войны, которая случилась много лет спустя после упомянутых событий (Греко-персидских войн. —
В начале нашей книги рассказывался переданный «Отцом истории» эпизод со спартанцами Сперфием и Булисом, посланными властями своего города к Ксерксу, чтобы своей жизнью искупить кровь персидских послов, убитых в Спарте, и милостиво прощенными персидским владыкой. Царь-то простил лакедемонян и отпустил на родину, а вот боги не простили! Геродот пишет: «…То, что гнев затем постиг сыновей этих двух мужей… именно Николая, сына Булиса, и Анериста, сына Сперфия… — в этом совершенно ясен перст разгневанного божества. Оба они отправились из Лакедемона в Азию, но в пути были выданы афинянам Ситалком, сыном Терея, царем фракийцев, и Нимфодором, сыном Пифея, абдеритом (жителем города Абдера во Фракии. — И. С). Их схватили в Бисанфе на Геллеспонте и отвезли в Аттику, где их казнили афиняне. Вместе с ними был казнен и Аристей, сын Адиманта, коринфянин. Это событие, впрочем, произошло много лет спустя после похода Ксеркса» (VII. 137).
Перед нами типично «геродотовский сюжет», со столь свойственным этому автору представлением о наследственной вине: отцы не понесли наказание — расплата постигла детей. В результате весь рассказ может вызвать недоверие, показаться легендой. Однако вот что пишет о тех же событиях Фукидид: «В конце того же лета коринфянин Аристей, послы лакедемонян Анерист, Николай и Протодам… отправились в Азию к царю, чтобы побудить его оказать пелопоннесцам помощь деньгами и участием в войне. По пути они сначала прибыли во Фракию к Ситалку, сыну Терея… Случайно тогда у Ситалка находились и афинские послы… Они убедили Садока, сына Ситалка, который получил афинское гражданство, выдать им лакедемонян… Садок согласился на просьбу афинян и велел схватить лакедемонян при их проезде через Фракию… Афинские послы взяли схваченных лакедемонян и привезли в Афины… Афиняне распорядились по прибытии в Афины казнить пленников в тот же день без суда, даже не выслушав их, и тела бросить в пропасть» (
У Фукидида, настроенного крайне рационалистично, мы, конечно, не встречаем ни малейшего упоминания о наследственной вине погибших спартанцев. Его такие вещи просто не интересовали. Но главное — здесь мы имеем уникальный случай, когда два античных историка совершенно независимо друг от друга рассказали об одном и том же событии. Такие случаи особенно ценны, поскольку дают твердую уверенность, что описанный эпизод действительно имел место.
Определить его время по Геродоту невозможно, а вот из Фукидида мы узнаём точную дату — 430 год до н. э. Значит, в этом году «Отец истории» однозначно был еще жив.
В одном из мест своего труда Геродот рассказывает о войне между Афинами и островом Эгиной, начавшейся незадолго до Марафонского сражения 490 года до н. э. Война сопровождалась внутренней распрей на Эгине между богачами и бедняками. Историк пишет: «Богатые эгинцы одолели тогда простой народ… и повели затем захваченных в плен повстанцев на казнь. С тех пор они навлекли на себя проклятие, которое не смогли уже искупить жертвами, несмотря на все старания. И только после изгнания богачей с острова богиня вновь стала милостивой к ним» (VI. 91). Как видим, галикарнасец опять мыслит категориями вины и божественного гнева. Но о каком же изгнании идет речь?
Два богатых, процветающих торговых полиса — Афины и Эгина (залогом благосостояния обоих были сильные флоты) — не могли не находиться в давней и острой конкуренции. Между ними регулярно вспыхивали войны. Эгина лежит в Сароническом заливе, ее хорошо видно с афинского Акрополя, и Перикл называл этот остров «бельмом на глазу Пирея». В 458 году до н. э. афиняне одержали над противниками крупную победу, включили Эгину в свой морской союз и наложили на нее огромный форос. Эгинцы были этим крайне недовольны и в Пелопоннесской войне приняли сторону Спарты. Месть Афин была незамедлительной: уже в 431 году «афиняне изгнали эгинцев с женами и детьми с их острова, предъявив обвинение в том, что они были главными виновниками войны. Остров Эгина лежит вблизи Пелопоннеса, и потому афиняне сочли для себя более безопасным заселить его своими поселенцами, которых они вскоре затем туда и выслали. Лакедемоняне же поселили изгнанников в городе Фирее с примыкающей областью… Фирейская область лежит на границе Арголиды с Лаконией и простирается до моря» (
Несомненно, именно об этом изгнании эгинцев с родины и упомянул Геродот. Кстати, на этом их мытарства не закончились. В 424 году до н. э. к берегам Фиреи прибыл афинский флот и совершил атаку на живших там эгинских изгнанников. Нападение увенчалось полной победой. «Эгинян же (которые не погибли в сражении) афиняне привезли в Афины… Пленных эгинян постановили казнить всех из-за их стародавней вражды к афинянам» (IV. 57).
А вот об этом истреблении эгинян Геродот уже ничего не говорит. Если бы «Отец истории» был еще жив на момент расправы над эгинцами и знал о ней, он бы обязательно об этом упомянул, ведь это упоминание стало бы лишним доводом в пользу теории «божественного наказания». Он же, напротив, пишет, что после изгнания эгинцев с родины божество перестало гневаться и смилостивилось над ними. После их казни он, конечно, такого не написал бы.
Следовательно, о событиях 431–430 годов Геродот осведомлен, а вот событие 424 года ему уже неизвестно. Это позволяет зафиксировать его кончину в рамках довольно краткого временного интервала. Такой ход мысли подтверждается и еще одним обстоятельством. Последний персидский царь, о котором говорит историк, — это Артаксеркс I, сын Ксеркса, вступивший на престол в 464 году до н. э. В 424 году он умер, и власть унаследовал его сын Дарий II. Об этом владыке Ахеменидской державы Геродот уже ничего не пишет. А поскольку он очень интересовался всеми персидскими делами, то обязательно упомянул бы о нем, приди тот к власти при жизни галикарнасца.
Следовательно, можно ответственно утверждать: Геродот умер в хронологическом промежутке 429–425 годов. Более точную дату его смерти установить вряд ли возможно.
Где же скончался историк? Выше уже упоминалось, что в византийском энциклопедическом словаре «Суда», в статье «Геродот», приводятся две версии: то ли он умер в Фуриях и похоронен там же на агоре, то ли смерть настигла его в Македонии, в Пелле. Впрочем, вариант с Пеллой совершенно недостоверен и, как мы видели, является порождением путаницы.
Итак, Фурии? Вроде бы это подтверждается и приводимой Стефаном Византийским надгробной надписью на могиле Геродота. Впрочем, этому аргументу не стоит придавать слишком большого веса. Фурийцы могли подделать надгробие позже, чтобы подчеркнуть свою связь с выдающимся деятелем культуры. В античном мире практика изготовления таких ложных могил была достаточно распространена.
А между тем есть и еще одна версия. Она содержится у позднеантичного писателя Маркеллина, автора биографии историка Фукидида. Маркеллин жил в IV веке до н. э., то есть все-таки ранее, чем Стефан Византийский (VI век н. э.), и тем более раньше, чем составлялся словарь «Суда» (X век). У Маркеллина сказано: «Близ так называемых Мелитских ворот есть в Келе так называемая Кимонова гробница, там показывают могилы Геродота и Фукидида» (
Перед нами — не фурийская, а афинская топография. Упомянуты Мелитские ворота, названные по одному из аттических округов-демов — Мелите. Тут же мы встречаем и другой дем — Келу, а в ней — пресловутую «Кимонову гробницу». Нам уже известно, что это родовая усыпальница Филаидов, знатнейшего афинского рода. Об этой усыпальнице говорит несколько слов сам «Отец истории» (VI. 103).
Кажется, перед нами прямое свидетельство — самое раннее из всех упоминаний о месте погребения галикарнасца. Очень заманчиво было бы его принять. Тогда, кстати, появилась бы возможность кое-что сказать о последних годах жизни Геродота. Оставалось только гадать, что с ним произошло дальше, после того, как он отправился основывать Фурии: остался ли он навсегда на новой родине или продолжал путешествовать? Если же считать сообщение Маркеллина достоверным, то можно утверждать: нет, в Фуриях историк не обосновался, в какой-то момент перебрался обратно в Афины, где и умер. В таком случае становится понятно, почему ему так хорошо знакомы события первых лет Пелопоннесской войны в Аттике и ее окрестностях.
Тем не менее есть обстоятельства, мешающие относиться к процитированному свидетельству с полным доверием.
Почему Фукидид был похоронен в родовой усыпальнице Филаидов, понятно: он был членом этого рода. А что дало Геродоту право на такую честь? Ведь он вообще не являлся афинянином, имел в афинском полисе статус метека. Правда, выше мы видели, что с Филаидами «Отец истории» находился в особенно близких и теплых отношениях. Но это еще никоим образом не означало, что он должен лежать в их гробнице. Разве что предположить, что Геродот не только дружил с Филаидами, но и породнился с ними — взял в жены женщину из их рода и тем самым вошел в его состав. Ничто не мешает принять подобную гипотезу, но ничто и не позволяет это сделать: нет никаких аргументов в ее пользу. Мы вообще ничего не знаем о личной жизни Геродота: был ли он женат, сколько раз, откуда родом его жена или жены… Всё это, как говорится, покрыто мраком неизвестности.
В условиях полного отсутствия позитивных данных мы вынуждены отнестись к сообщению Маркеллина с максимальной осторожностью — допустить, например, что в рассказ этого автора тоже вкралась путаница: увидели в «Кимоновой гробнице» могилу Фукидида и по ассоциации сочли, что, стало быть, где-то рядом должен покоиться и его великий предшественник. Ведь Геродота и Фукидида позднейшая древнегреческая читающая аудитория воспринимала в теснейшей связи, почти как «близнецов-братьев». Есть даже «сдвоенный» античный бюст двух выдающихся историков, в форме двуликого Януса: с одной стороны — лицо Геродота, с другой — Фукидида.
Одним словом, однозначное решение этой загадки пока отсутствует. Может быть, оно никогда и не будет найдено. Так и останутся существовать две версии того, где умер и был похоронен Геродот… Даже трудно сказать, в пользу какой из них — фурийской или афинской — больше доводов; приходится признать, что довольно шаткими являются обе.
Когда был издан геродотовский труд? Обычно считается, что он вышел практически сразу после его смерти, в 420-х годах до н. э. Правда, некоторое время назад появилась статья, специально посвященная этому вопросу{209}, в которой предпринималась попытка доказать: публикация «Истории» имела место лет на десять позже, около 414 года; причем не исключено, что сам Геродот в это время был еще жив. Автор статьи Ч. Форнара привел ряд достаточно интересных соображений, однако его мнение так и осталось мнением одиночки: столь радикальный пересмотр общепринятой точки зрения не показался убедительным остальным ученым.
Обычно в этой связи ссылаются на комедию афинского драматурга Аристофана «Ахарняне». В ней поэт, в частности, предлагает свою — конечно, юмористическую — версию причин начала Пелопоннесской войны:
…Но вот в Мегарах, после игр и выпивки,
Симефу-девку молодежь похитила.
Тогда мегарцы, горем распаленные,
Похитили двух девок у Аспасии.
И тут война всегреческая вспыхнула,
Три потаскушки были ей причиною.
(
Итак, крупнейший вооруженный конфликт вспыхнул из-за похищений женщин. Где-то мы это уже встречали… Не приходится сомневаться, что в этом месте пьесы Аристофан обращается к пародии. На кого? Ну конечно же на Геродота! Ведь его «История», как мы неоднократно упоминали, начинается с такого же объяснения векового противостояния Европы и Азии, эллинов и «варваров» похищениями: финикийцы увезли из Греции Ио, греки из Колхиды — Медею, троянец Парис из Греции — Елену. И пошло…
«Ахарняне» были поставлены на сцене афинского театра весной 425 года до н. э. Вроде бы это позволяет сделать надежный вывод, что «История» Геродота была к тому моменту уже издана, Аристофан ее читал и воспользовался ею для своей пародии. Пародируют ведь обычно то, что хорошо знакомо не только автору, но и всем окружающим. Иначе какой в пародии смысл? Шутку просто не поймут.
Получается, уже к 425 году до н. э. опубликованный текст «Истории» Геродота продавался в афинских книжных лавках и был доступен каждому. (Необходимо оговорить, что когда мы пишем об «издании», «публикации», то имеем в виду античные реалии. В Древней Греции, разумеется, не было ни типографий, ни печати, а книги издавали, отправляя рукописи в специальную мастерскую, где обученные своему делу, хорошо знавшие грамоту мастера переписывали от руки манускрипты в требуемом количестве экземпляров. Папирусные свитки, выходившие из мастерской, шли в книготорговлю. Процесс был трудоемким и, конечно, не очень быстрым.)
Но основное содержание книг становилось известно широкой публике еще до издания, порой задолго до него. Ведь, напомним, была широко распространена практика устных чтений отрывков из еще не опубликованных произведений. Доподлинно известно, что Геродот к этой практике обращался, читал в Афинах какие-то части своей «Истории» уже в 440-х годах до н. э. и снискал тем самым огромную популярность. Весьма вероятно, что озвучивал он в том числе свою версию истоков Греко-персидских войн — ту самую, с похищениями женщин. А из этого вытекает, что пародия Аристофана не обязательно предполагает наличие изданного текста геродотовского труда.
Вот Фукидид, бесспорно, уже читал произведение Геродота, именно читал полностью, а не только слушал отрывки в том виде, в каком мы и поныне его имеем. Дело в том, что у Фукидида есть явственные аллюзии на некоторые детали из «Истории» Геродота, причем такие, которые можно было уловить только путем очень внимательного чтения, даже штудирования. Но Фукидид писал свой труд о Пелопоннесской войне очень долго, вплоть до начала IV века до н. э. (и тоже, кстати, не успел при жизни издать его). На каком этапе своей работы он познакомился с творением предшественника, сказать невозможно. Поэтому вопрос о датировке труда Геродота — в который уже раз! — приходится оставить открытым.
Была ли «История» издана самим автором или вышла уже после его смерти? Сохранилось свидетельство — о нем мы тоже упоминали, — что друг и наследник Геродота, некий поэт Плесиррой из Фессалии, написал вступление к его труду (
Можно гипотетически восстановить такую последовательность событий. Геродот умирает. Всем известно, что большую часть жизни он трудился над историей Греко-персидских войн; более того, фрагменты этой истории уже знакомы людям по публичным чтениям. У всех возникает естественный интерес: что же представляет собой целое? Появляется потребность в издании сочинения; но тут выясняется, что оно существует только в черновой рукописи, не прошедшей еще окончательную отделку (подобная ситуация достаточно распространена и в наше время). В таких случаях друзья, родственники, коллеги покойного принимают на себя обязанность завершить его дело. Видимо, именно так и поступил Плесиррой: взял геродотовский черновик, отредактировал его, внес последние штрихи — в том числе написал предисловие — и опубликовал. Разумеется, он не предпринимал сколько-нибудь серьезных вмешательств в текст Геродота, не делал никаких значимых вставок «от себя», которые могли бы исказить смысл книги великого историка. Впрочем, подчеркнем, предложенная нами реконструкция представляет собой очередную гипотезу, безоговорочно доказать которую вряд ли возможно.
В том, что смерть галикарнасца прервала его работу над «Историей», можно, пожалуй, быть уверенными. В одной из предыдущих глав мы приводили на сей счет очень тонкие и остроумные соображения М. Л. Гаспарова, основанные на композиционных особенностях сочинения Геродота.
Но это опять же отнюдь не общепринятая точка зрения. Если по поводу того факта, что «История» Фукидида осталась незавершенной, кажется, разногласий нет{210}, то относительно «Истории» Геродота все-таки в науке об Античности преобладает иное мнение. Чаще считается, что это сочинение появилось из-под пера автора именно в том виде, в каком оно было задумано, целиком и полностью{211}.
Однако легко заметить, что труд Геродота внезапно обрывается едва ли не на полуслове. Самое последнее, что мы в нем находим, — рассказ об освобождении от ахеменидского владычества греческого города Сеста (на берегу пролива Геллеспонт) афинским флотом под командованием Ксантиппа (отца Перикла) в 479/478 году до н. э., а затем еще коротенький экскурс о Кире и персе Артембаре (IX. 122). Последний будто бы посоветовал своим соотечественникам, уже одержавшим ряд громких побед: «Давайте же покинем нашу маленькую и притом суровую страну и переселимся в лучшую землю… Так подобает поступать народу — властителю других народов». Далее автор продолжает: «Услышав эти слова, Кир не удивился предложению и велел его выполнять. Тем не менее он советовал персам готовиться к тому, что они не будут больше владыками, а станут рабами. Ведь, говорил он, в благодатных странах люди обычно бывают изнеженными и одна и та же страна не может производить удивительные плоды и порождать на свет доблестных воинов. Тогда персы согласились с мнением Кира и отказались от своего намерения. Они предпочли, сами владея скудной землей, властвовать над другими народами, чем быть рабами на тучной равнине».
Этими словами заканчивается «История» в том виде, в каком она до нас дошла. Нетрудно заметить, что последний рассказ очень слабо связан с непосредственно предшествующим ему повествованием — об осаде и взятии Сеста. Связь, собственно, заключается только в том, что Артембар был дедом Артаикта — персидского коменданта Сеста, которого афиняне захватили в плен и казнили.
Но ведь для чего-то Геродоту потребовалось вводить этот экскурс! Он насыщен интересными и важными мыслями (как почти всегда у великого историка), но эти мысли такого рода, что больше подходят не для финала сочинения о Греко-персидских войнах, а для начала повествования об их новом периоде, когда афиняне перешли в наступление против Ахеменидов, перехватили у них стратегическую инициативу, сами стали атакующей стороной и начали отвоевывать у противника остров за островом, город за городом в бассейне Эгейского моря. Усиление Афин на этом этапе войн шло не по дням, а по часам: они создали мощный морской союз, владычествовали во всей Эгеиде — и не только; накопили неимоверные по греческим меркам богатства и вступили в борьбу со Спартой за гегемонию в Элладе. Борьба привела к Пелопоннесской войне (ее начало «Отец истории», мы знаем, совершенно точно застал), в которой афинский полис потерпел сокрушительное поражение и никогда уже не обрел прежнего могущества.
Афины, в сущности, прошли тем же путем, который до них проделала Персия: от побед, торжества, усиления — к поражениям и упадку. В их судьбе как будто проявились основные законы истории, как их видел Геродот, и в первую очередь закон божественного наказания за «чрезмерную» мощь и порожденную ею надменную гордыню. Уж не хотел ли галикарнасец завершением своего труда предостеречь афинян, которым симпатизировал, от повторения персидских ошибок? Если он действительно этого хотел, то его предостережения, увы, пропали втуне.
Итак, завершение «Истории» Геродота производит необычное впечатление своеобразного «конца-начала». Всё же прав М. Л. Гаспаров: Геродот хотел продолжать описание Греко-персидских войн вплоть до их подлинного завершения — Каллиева мира 449 года до н. э., но не сделал этого. Упомянем, кстати, об одном интересном последствии данного обстоятельства. В западной исторической науке Греко-персидские войны принято завершать 479 годом — изгнанием «варваров» из Эллады, и принято именно потому, что так, дескать, поступил Геродот. Но в этом году войны не закончились, в них только наступил коренной перелом. Это все равно, что, скажем, завершить повествование о Великой Отечественной войне победой под Сталинградом. В работах отечественных историков Античности хронологические рамки Греко-персидских войн обозначаются не 500—479-м, а более правильно, 500–449 годами до н. э.
Скорее всего, «Отец истории» не исчерпал свою задачу, не рассказал полностью того, что хотел рассказать. Почему? Самый вероятный ответ будет таким: подступили старость и болезни, автор почувствовал приближение смерти… А описать оставалось еще так много — целых 30 лет военных действий! Геродот понял: он этого сделать просто не успеет. Поэтому, дойдя до коренного перелома, он поставил точку. При этом рассказ об Артембаре и Кире выполнял двойную функцию: служил заключением к тому, что было сделано, и довольно прозрачно намекал на то, что так и осталось ненаписанным.
Разумеется, здесь мы выдвигаем очередную гипотезу. Вообще эта часть книги, как, несомненно, заметил читатель, особенно наполнена у нас гипотезами. Иначе нельзя: приходится оперировать только предположениями — более или менее обоснованными — там, где нет ничего, кроме неясностей и загадок, где одна загадка тянет за собой другую.
Ведь если бы не эти гипотезы, что, по здравом размышлении, пришлось бы сказать? Мы не знаем точного года смерти Геродота. Мы не знаем, где он скончался и был похоронен. Мы не знаем, когда «История» была издана. Мы не знаем, предпринял ли издание сам автор или же это сделали его друзья после его смерти. Мы не знаем, завершил ли Геродот свой труд.
Вряд ли такая череда унылых отрицаний обрадовала бы читателя. Уж лучше было попытаться, отталкиваясь от почвы немногих известных фактов и рассуждая логически, прибегнуть к кое-каким предположениям и допущениям. Надеемся, что они не выглядят «гаданием на кофейной гуще».
Какое влияние оказал Геродот на последующее развитие античного историописания? Ответ на этот вопрос не так прост и, во всяком случае, неоднозначен, даже противоречив.
Следующий за Геродотом великий историк, как всем известно, Фукидид. Он — по возрасту лет на тридцать, то есть на поколение, моложе Геродота — был коренным афинянином, знатным аристократом, причем, как мы знаем, выходцем из того самого рода Филаидов, с которым у «Отца истории» долго сохранялись самые близкие и теплые отношения.
Фукидид знал Геродота с детства; выше упоминались рассказы античных авторов, как он еще мальчиком прослезился, присутствуя на одном из геродотовских публичных чтений, а галикарнасец, заметив это, сделал поощрительное замечание Олору, отцу юного слушателя. Правда, свидетельства об этом эпизоде довольно поздние (они содержатся у Маркеллина и в словаре «Суда»), но им не следует отказывать в достоверности — ничего заведомо невозможного в них нет. Геродот действительно неоднократно читал фрагменты своего труда — на разных стадиях работы над ним — перед различными аудиториями; такова была общепринятая практика у прозаиков того времени, и особенно у историков{212}.
Ясно одно: если в детстве Фукидид и вправду был восхищен произведением маститого историка, то впоследствии, в годы зрелости, это чувство сменилось у него значительно более критичной оценкой. И это не удивительно: методы и приемы, к которым он обращался в своей работе, в целом ряде отношений едва ли неполярно противоположны геродотовским. Да и в целом трудно найти двух более несхожих авторов, чем эти два великих «служителя Клио». О серьезнейших различиях между «Историями» Геродота и Фукидида нам уже приходилось подробно говорить. Они, по сути, полные антиподы. Вместо геродотовского размаха, красочности, новеллистичности мы обнаруживаем у Фукидида доведенные до предела рационализм, логичность, скрупулезность.
В том, что Фукидид прекрасно знал произведение Геродота, помнил его до мельчайших подробностей, сомневаться не приходится. Однако интересно, что он в своем труде ни разу не называет имя Геродота. Почему? Уж не из-за сложного ли и противоречивого отношения к своему выдающемуся предшественнику? С одной стороны, он просто не мог прямо и открыто сказать что-либо плохое об авторе, когда-то своим талантом заставившем его плакать от счастья. С другой стороны, он не мог сказать о Геродоте ничего хорошего, поскольку откровенно считал его «несовершенным» историком по сравнению с самим собой.
Фукидид, таким образом, был обречен на то, чтобы стать одновременно и продолжателем, и критиком «Отца истории». Продолжателем — в самом прямом смысле. Геродот, как известно, остановился на описании событий 479/478 года до н. э. Сочинение Фукидида посвящено в основном Пелопоннесской войне, проходившей много позже. Однако в начале своего повествования он подробно останавливается на предпосылках вооруженного конфликта между Афинами и Спартой и начинает их рассмотрение… как раз с 478 года, тем самым как бы принимая у Геродота эстафету. Такой подход, наверное, тоже что-нибудь да значит…
Но и критиком своего предшественника Фукидид был убежденным и последовательным, хотя все-таки нельзя сказать, что нелицеприятным: критикуя Геродота, его имени он не упоминал. Поэтому для профанов фукидидовская критика оказывалась вроде бы и незаметной, неизвестно против кого конкретно направленной. Для специалиста же его намеки были достаточно прозрачны: «Как ни затруднительны исторические изыскания, но все же недалек от истины будет тот, кто признает ход событий древности приблизительно таким, как я его изобразил, и предпочтет не верить поэтам, которые преувеличивают и приукрашивают воспеваемые ими события, или историям, которые сочиняют логографы (более изящно, чем правдиво), историям, в большинстве ставшим баснословными и за давностью не поддающимся проверке» (
Противопоставляя свой труд сочинениям «логографов», кого Фукидид подразумевает под ними? В современной науке логографами принято называть древнейших, догеродотовских историков — Гекатея, Гелланика и др. Но не похоже что здесь речь идет о них. В целом в «Истории» Фукидида, кажется, только однажды упомянут один из авторов, ныне причисляемых к логографам, причем о нем говорится совсем в другом месте и совсем в другой связи: «Даже Гелланик, который, правда, коснулся этого периода в своей „Истории Аттики“ (но и то лишь вкратце), допустил при этом неточность в хронологии» (I. 97. 2). Имеется в виду как раз период после 479 года до н. э., который не успел описать Геродот. Но, кстати, обратим внимание и на то, что Фукидид сказал о Гелланике лишь слово — и то упрекнул его. Похоже, он был абсолютно уверен в своем громадном и неоспоримом превосходстве перед всеми предыдущими историками. Безусловно, Фукидид имел для этого некоторые основания, но всё же… от скромности он явно не умер бы. Впрочем, в манере чуть ли не всех крупнейших представителей древнегреческой историографии было ругать предшественников и восхвалять собственные заслуги…
Чтобы лучше понять суть тирады Фукидида против «логографов», интересно рассмотреть ее контекст и прежде всего обратить внимание на фразы, непосредственно предваряющие уничижительную характеристику. Вот что мы встречаем: «Да и прочие эллины о многих других установлениях и обычаях, существующих еще и поныне, память о которых не изглажена временем, также имеют неправильные представления. Так, например, думают, что лакедемонские цари при голосовании имеют не один, а два голоса каждый и что у лакедемонян был питанатский отряд, которого вообще никогда не существовало. Ибо большинство людей не затрудняют себя разысканием истины и склонны усваивать готовые взгляды» (I. 20. 3).
Тут-то становится совершенно ясно: Фукидид под видом абстрактных «логографов» критикует конкретного автора, и автор этот — не кто иной, как Геродот!{213} Ведь именно у Геродота сказано о двух голосах, принадлежавших каждому спартанскому царю в совете старейшин (VI. 57); упоминается у него и отряд из Питаны, селения в Лаконике (IX. 53).
Напрашивается однозначный вывод: Фукидид ведет полемику именно с Геродотом; из него же напрямую вытекает, что критика «логографов», идущая сразу же после полемического выпада против Геродота, несомненно, также должна быть относима на его счет. Фукидид просто развивает и обобщает свою мысль. Иными словами, в его глазах именно Геродот был «логографом по преимуществу», хотя ныне Геродота не только не относят к логографам, но как раз противопоставляют им.
Итак, по мнению Фукидида, то, что писал галикарнасец, — это баснословные истории, не поддающиеся проверке. Второму великому историку совсем не импонировал принцип предшественника — «передавать всё, что рассказывают». Фукидид счел, что этот, геродотовский, подход к прошлому совершенно ненадежен — ведь он не позволяет отличить правду от лжи, — и установил значительно более строгие стандарты исторической достоверности, а именно — начал критически анализировать свидетельства, оказавшиеся в его распоряжении. Если Геродот — «Отец истории», то Фукидида часто называют «отцом исторической критики».
Это придало его труду огромные достоинства. Но за любое приобретение приходится чем-то расплачиваться. Так получилось и на сей раз: Фукидид резко сузил предметное поле исторического исследования, свел его к современным ему военно-политическим событиям{214}. Только эти события он мог проверить, только за достоверность их изложения он безусловно отвечал перед своей читательской аудиторией.
Как бы то ни было, не Фукидид с его утрированным рационализмом стал «путеводным маяком» для последующих поколений античных историков. Специалисты, прослеживающие дальнейшее развитие античной исторической мысли, в IV веке до н. э. и в эллинистическую эпоху, справедливо обращают внимание на то, что на греческой почве (равно как впоследствии и на римской) восторжествовала скорее «геродотовская», чем «фукидидовская» линия{215}. Единственным известным нам существенным исключением был, пожалуй, Полибий с его «прагматической историей», которого можно назвать наследником традиций Фукидида. Остальные же представители историописания склонялись к иному пути — внедряли в свое повествование риторические и морализаторские элементы, проявляли большой, порой гипертрофированный интерес к проявлениям «чудесного» и даже «чудовищного» в жизни человеческого общества.
Это в полной мере можно сказать, например, о крупнейших представителях позднеклассической историографии — Эфоре и Феопомпе, учениках знаменитого ритора Исократа. Оба этих автора формально ставили перед собой цель продолжить фукидидовский труд, однако практически ничего общего в подходе к историческому материалу, в его отборе и интерпретации между ними и Фукидидом не наблюдается.
Несколько сложнее обстоит дело в случае с Ксенофонтом — еще одним продолжателем Фукидида. Ксенофонт получил не риторическое, а хорошее философское образование — у самого Сократа! Кроме того, он, подобно Фукидиду (и в отличие от Геродота), был не только писателем, но и практическим деятелем — политиком и полководцем. Соответственно, ему временами лучше удается удержать фукидидовский дух. Но по большей части его повествование также выливается в занимательный рассказ, где вместо научного осмысления событий на первый план выдвигается их этическая трактовка, даже морализаторство. Собственно, именно начиная с Ксенофонта, нравственный пафос становится едва ли не основным в греческом историописании. Геродоту — да и Фукидиду — он не то чтобы вовсе был чужд, но не имел для них структурообразующего значения{216}.
Этическим целям служили, помимо прочего, творимые Ксенофонтом мифы. Особенно ясно это видно на примере принадлежащего его перу трактата «Киропедия». По форме это вроде бы историческое произведение, сюжетом которого являются возникновение мировой державы Ахеменидов, деяния ее основателя Кира. Однако, по справедливому замечанию Э. Д. Фролова, «исторический материал, с первого взгляда столь богатый, на деле исполнял служебную роль условного фона… Персидская история как таковая его не интересовала. Эта история была для него — еще больше, чем новая европейская для Александра Дюма, — лишь стеной, на которую он вешал свою картину»{217}. «Картиной» же этой была разработанная Ксенофонтом на квазиисторическом персидском фоне социально-политическая утопия. Достаточно сравнить образы персов у Геродота и Ксенофонта; такое сравнение окажется явно не в пользу последнего. У «Отца истории» персидские цари и вельможи — живые, полнокровные персонажи, а у Ксенофонта — образцовые воплощения идеальных добродетелей, шаблонные и схематичные.
Еще одна группа следовавших за Геродотом древнегреческих историков — аттидографы. Напомним, это афинские историки-«краеведы», писавшие о прошлом родного полиса. К их числу принадлежали Андротион (тоже ученик Исократа), Клидем, Фанодем, Филохор и др. Все они были экзегетами, то есть уполномоченными государством толкователями оракулов и прорицаний, а также занимали другие религиозные должности.
Аттидографы в своих сочинениях, «Аттидах», концентрировались в основном на изложении и трактовке фактов, что делает эти сочинения ценными историческими источниками. Однако их авторов гораздо больше интересовали сведения о разного рода верованиях, местных мифах и связанных с ними культах, чем о конкретной политической истории. Все они сознательно сосредоточивали свое внимание на древнейшем, легендарном периоде истории Афин и Аттики в целом. А сколько-нибудь достоверной информацией о далеком прошлом они, естественно, не располагали (да и откуда ей было взяться?), и посему история в их трудах сплошь и рядом перемешивалась с мифом и, более того, сама мифологизировалась. Реальные исторические события облекались в ткань мифа и начинали жить новой жизнью, всецело подчиняясь законам мифотворчества. Отсюда происходил и общий повышенный интерес аттидографов к мифологическим сюжетам, особенно этиологическим — объясняющим происхождение того или иного явления. Этому способствовало и их положение, напрямую связанное с религиозной жизнью полиса. Но в любом случае они явно примыкают скорее к «геродотовской», нежели к «фукидидовской» линии античной историографии.
Все эти тенденции нашли еще более полное воплощение после походов Александра Македонского. В результате завоевания обширных территорий греки лицом к лицу встретились с издавна будоражившим их воображение миром Востока. Собственно говоря, даже историки классической эпохи — и, в частности, Геродот, — когда в той или иной связи заговаривали о восточных странах, давали полный простор для таинственного и чудесного. И чем дальше к восходу солнца уносилось их повествование, тем фантастичнее становились рисуемые ими картины. Мы уже видели: о делах, допустим, лидийских или малоазийских «Отец истории» рассказывает вполне реалистично. Он переходит к областям более отдаленным — Египту, Вавилонии, Мидии, — и роль фольклорных элементов значительно возрастает. Когда, наконец, он касается таких «крайних» регионов ойкумены, как Индия или Скифия, появляются муравьи величиной с собаку или одноглазые люди{218}.
При этом в сравнении с некоторыми последующими греческими историками Востока Геродот, можно сказать, блистал точностью, правдивостью, объективностью. Очень характерны в этом отношении сохранившиеся во фрагментах труды Ктесия Книдского — врача и историка первой половины IV века до н. э. Он долгое время подвизался при ахеменидском дворе в качестве лейб-медика царя Артаксеркса II, а вернувшись на родину, писал о Персии, Мидии, Ассирии, Индии — иными словами, сделал Восток своей «специальностью». Казалось бы, ему, как человеку, не понаслышке знакомому с описываемыми темами, следует доверять. Однако Ктесий всегда — и с полным основанием — считался автором недостоверным, не имевшим никакого отношения к серьезной исторической науке. Его исторические сочинения больше напоминают романы, а порой — сказочные истории.
Одним словом, Восток властно воздействовал на сознание греческого интеллектуала. Он завораживал, заставлял забыть о голосе критического рассудка. Похоже, писать о нем можно было только с использованием фольклорных мотивов. Впрочем, разве не так относились к Востоку и европейцы последующих эпох? Они зачитывались отнюдь не научными и философскими трудами Авиценны, Аверроэса, аль-Бируни, аль-Хорезми, а сказками «Тысячи и одной ночи». На этом фоне восточные сюжеты Геродота в большинстве своем выглядят в высшей степени трезвыми и продуманными.
Итак, эллинистическое историописание развивалось под тем же знаком, что и классическое греческое. Фукидида почитали, но его методу не следовали. Крайне немногочисленные исключения — например Полибий — лишь подтверждают общее правило.
И всё же мы в определенной мере погрешим против истины, если скажем, что Эфор, Феопомп или Ктесий Книдский явились в полной мере «наследниками» Геродота, продолжателями его линии в исторической науке. Из их работ безвозвратно исчезло что-то неуловимое, что прочно ассоциируется у нас именно с «Отцом истории». Ушел горячий, искренний, открытый миру оптимизм, а на смену ему пришел холодноватый, порой несколько искусственный пафос риторической историографии; появились ностальгические нотки.
Прямых последователей — тем более таких, которые смогли бы подняться до его уровня, — Геродот не имел. Трудность освоения его наследия позднейшими авторами обусловливалась, помимо прочих факторов, еще и тем обстоятельством, что галикарнасец написал свой труд на ионийском диалекте древнегреческого языка, а впоследствии литературной нормой в Элладе (во всяком случае, для прозы) стал другой диалект — аттический. Но это, пожалуй, всё же не главное.
Почетный эпитет «Отец истории» закрепился за Геродотом уже в Античности. Мы встречаем его у Цицерона (Цицерон. Об ораторе. II. 55), но последний, насколько можно судить, лишь повторил давно сформировавшееся в представлениях людей «общее место». Несмотря на то что историки в Греции были и до Геродота, он своим трудом полностью затмил, отодвинул на второй план их всех.
Но есть, так сказать, и другая сторона медали. Бок о бок с позитивной репутацией Геродота всегда шла другая, негативная. Он рано стал восприниматься как «Отец истории»; но так же рано — если не раньше — в нем стали видеть «отца лжи», безответственного фантазера, выдававшего сказочные выдумки за истину. Для многих древних греков имя Геродота звучало примерно так, как в наши дни имя барона Мюнхгаузена.
У Геродота были не только восторженные поклонники, относившиеся к нему с пиететом. Они-то как раз находились скорее в меньшинстве, а преобладали критики, жесткие и даже жестокие, пристрастные, во многом несправедливые.
Так, упоминавшийся нами Ктесий Книдский полемизировал с Геродотом по многим «восточным» сюжетам, ссылаясь на то, что сам он, как человек, живший при персидском дворе, гораздо лучше знает эту проблематику. Ктесий упрекал «Отца истории» в многочисленных ошибках и искажениях фактов. Но на деле, кстати, сравнение информации, содержащейся у Геродота и Ктесия, в подавляющем большинстве случаев оказывается не в пользу последнего. Как раз у него гораздо больше откровенных вымыслов и баснословных историй. Так что уж ему-то менее всего пристало порицать своего галикарнасского предшественника (и почти земляка: Галикарнас и Книд находились буквально по соседству друг с другом).
Что-то подобное можно сказать и о египетском жреце и эллинистическом историке III века до н. э. Манефоне. Он подвергает Геродота весьма жесткой критике по различным вопросам, связанным с Египтом. Но, как отмечалось исследователями{219}, по-настоящему принципиальных расхождений между Геродотом и Манефоном не так уж и много, а важные совпадения, напротив, встречаются в изобилии.
Традиция подобного негативного отношения к «Отцу истории» достигла апогея в известном трактате Плутарха «О злокозненности Геродота» (
«Стиль Геродота, простой, легкий и живой, уже многих ввел в заблуждение… Но еще больше людей стало жертвой его недоброжелательства. Самая возмутительная несправедливость, как сказал Платон, — иметь репутацию справедливого, не будучи им; но верх злокозненности — скрывать свои истинные побуждения под личиной простоты и добродушия, чтобы нельзя было догадаться об обмане. Геродот проявляет свое недоброжелательство по отношению к самым различным греческим государствам, но больше всего к беотийцам и коринфянам; поэтому мой долг, как я полагаю, выступить на защиту и своих предков, и истины, что я и сделаю в этом сочинении. Если же бы я захотел рассмотреть все другие обманы и выдумки Геродота, то для этого понадобилась бы не одна, а много книг. Но „лик Убеждения могуч“, как говорит Софокл, особенно же, когда язык писателя имеет столько приятности и силы, что может скрыть, наряду со всеми прочими его пороками, и его злокозненность… Злокозненность Геродота, хоть легче и мягче злокозненности Феопомпа, но глубже ранит и причиняет больше страданий, подобно тому, как сквозные ветры, дующие через узкие щели, мучительнее ветров, бушующих на открытых пространствах. Поэтому я и считаю наиболее правильным сначала дать общую характеристику такого повествования, которое можно назвать не добросовестным и не доброжелательным, а злокозненным, и обрисовать его отличительные черты и признаки…
Прежде всего, того человека, который имеет в своем распоряжении благопристойные слова и выражения и тем не менее при описании событий предпочитает употреблять отталкивающие и неблагозвучные, необходимо считать нерасположенным к читателю и как бы упивающимся своим противным стилем, режущим слух читателя…
Такой писатель с особым интересом относится ко всякого рода порокам, какие только существуют, хотя бы они не имели никакого отношения к истории, и без всякой нужды вносит их в свой рассказ. Он без нужды распространяет свой рассказ и отступает от своей темы для того только, чтобы включить в него чью-нибудь беду или какой-нибудь неудачный и неблагородный поступок, — в этих случаях ясно, что злоречие доставляет ему удовольствие… Ведь вставные экскурсы и отступления в исторических трудах служат для изложения мифов и объяснения старинных обычаев, а кроме того, для восхваления действующих лиц; а к тому, кто стремится использовать эти вставки для поношения и ругани, вполне применимо содержащееся в трагедии проклятие „тем, кто людей несчастья собирают“…
Другая сторона того же явления, очевидно, — умолчание о благородном и прекрасном. Такой прием обычно не подвергается осуждению, но он применяется с дурным намерением в тех случаях, когда опускаются как раз факты, важные для истории. Тот, кому неприятно хвалить совершивших добрый поступок, не только ничуть не лучше того, кому приятно поносить других, но, пожалуй, еще и хуже…
Четвертый признак неблагожелательного характера историка — стремление из двух или многих версий рассказа всегда отдавать предпочтение той, которая изображает исторического деятеля в более мрачном свете… От него справедливость требует, чтобы он говорил то, что считает истиной, а если неясно, где истина, чтобы он охотнее передавал те рассказы о своих героях, которые сообщают о них хорошее, чем те, которые рисуют их в дурном свете. Многие историки совсем умалчивают о дурном…
Бывают и такие случаи, когда исторический факт сам по себе твердо установлен и не вызывает сомнений, но причины, побудившие совершить его, и намерения и планы действующих лиц не ясны. В этих случаях тот, кто ищет низких устремлений, очевидно, руководится недоброжелательством и злокозненностью… Так, ясно, что нет недостатка в зависти и злокозненности у тех, которые склонны объяснять славные дела и похвальные подвиги низкими побуждениями и, чтобы очернить исторических деятелей, без всякого основания подозревают их в том, что они, совершая эти подвиги, втайне преследовали недостойные цели, хотя в том, что делалось открыто, они и не могут найти ничего, достойного порицания…
Злокозненность может иметь место и в случае неправильного освещения побудительных причин: когда, например, писатель заявляет, что исторический деятель достиг успеха не делами добродетели, а при помощи подкупа… или когда говорят, что то или иное деяние не стоило совершившему его никакого труда… или когда говорят, что тот или иной исторический подвиг был делом не разума, а счастливого стечения обстоятельств… Ясно, что эти люди, отрицая благородство, ревность к трудам, добродетель и независимую волю исторических деятелей, стремятся преуменьшить величие и красоту их деяний…
Тех, которые открыто поносят неугодных им исторических деятелей, не соблюдая никакой меры, можно обвинить в дурном характере, резкости и невоздержанности. Но те, которые бросают стрелы своей клеветы скрытно, как бы из засады, а затем отходят в сторону, заявляя, что якобы они не верят тому, к чему сами же стремятся внушить доверие, и отрицают свою злокозненность, повинны не только в злокозненности, но еще и в низости…
К этим людям близки те, которые скрашивают свои поношения мало чего стоящими похвалами… Подобно тому, как ловкие и искусные льстецы к многочисленным и многословным похвалам иногда прибавляют незначительные порицания, как бы сдабривая свою лесть прямотой, так и злокозненность, чтобы снискать в слушателях веру к их клевете, прибавляет к ней и похвалу…
Он (Геродот. —
…Если не признать, что Геродот — злокозненный человек, придется допустить, что лакедемоняне коварны и злокозненны, что афиняне стали жертвой обмана вследствие их собственной глупости…
Человеку, который считает себя галикарнасцем, хотя другие и называют его фурийцем, не следовало бы так уж поносить греков, ставших на сторону персов. Ведь галикарнасцы, хотя и были дорийцами, выступали в поход против греков со всем своим гаремом. Геродот же крайне далек от того, чтобы со снисходительностью указывать на обстоятельства, вынуждавшие каждое отдельное греческое племя стать на сторону варваров…
Всего произошло четыре больших сражения с варварами: Артемисий, Фермопилы, Саламин, Платеи. И что же? От Артемисия греки, по словам Геродота, бежали; при Фермопилах подвергался опасности только царь-военачальник, а остальным было мало дела до персов: они сидели дома и справляли Олимпийские и Карнейские празднества. Что касается событий при Саламине, то при рассказе о них Геродот уделил Артемисии больше места, чем всему морскому бою. И, наконец, во время Платейского боя греки, по его словам, засели в Платеях и до конца сражения не знали ничего о том, что происходит на поле битвы… Что же остается у греков славного и великого от этих сражений? Лакедемоняне сражались с безоружными, остальные даже не знали, что идет сражение; знаменитые братские могилы, почитаемые всеми, — поздняя подделка; треножники и алтари, стоящие в храмах богов, покрыты фальшивыми надписями. Единственный, кому удалось узнать истину, — это Геродот; всех прочих людей, которых чтут греки, обманула ложная молва, изобразившая победы того времени как нечто выдающееся. Что же можно сказать после этого? Геродот ловко умеет писать, и речь его приятна; его рассказы очаровательны, производят сильное впечатление и изящны… Ну, о высоком искусстве, пожалуй, говорить не приходится, но как-никак его речь мелодична и отделана. Вот это-то, конечно, очаровывает и привлекает к себе всех. Однако его клеветы и злоречия надо остерегаться, как ядовитого червя на розе, — они скрыты за тонкими и лощеными оборотами. Если мы забудем об этом, мы против своей воли поверим лживым и нелепым его сообщениям о лучших и величайших городах и мужах Греции».
Итак, Плутарх обвиняет Геродота в сознательном, злонамеренном искажении событий. Но, разумеется, к этим нападкам, как бы веско они ни звучали для современников херонейского моралиста, мы ныне уже не можем относиться серьезно. Его критика явно субъективна и тенденциозна. Достаточно сказать, что для Плутарха особенно неприемлемы именно те черты творчества «Отца истории», которые нам представляются самыми ценными: объективность и непредвзятость по отношению как к грекам, так и к «варварам», нежелание замалчивать нелицеприятные факты, отсутствие морализаторского пафоса и нарочитой патриотической риторики.
Сам Плутарх, отделенный от Греко-персидских войн многовековой дистанцией, имел перед глазами уже во многом мифологизированный их образ, видел в них самое славное событие в истории своей родины. Поэтому ему, естественно, не понравилась та «неортодоксальная», а на самом деле — точная и правдивая картина этих войн, которую нарисовал Геродот. Эллины, которые, вместо того чтобы объединяться накануне вражеского нашествия, погрязают в мелких ссорах друг с другом; «варвары», которые не уступают своим противникам в доблести, а иногда даже превосходят их, — всё это вызвало негодование Плутарха. Но любой объективный ученый, естественно, встанет в споре Плутарха с Геродотом на позицию последнего. Ведь то, что он описал, действительно было; а уж нравится это или не нравится — вопрос другой.
Как бы то ни было, если Плутарх по отношению к Геродоту и стоял на крайних позициях, то всё же он лишь высказал в наиболее откровенной и подчеркнутой форме не какие-нибудь экзотические, а весьма распространенные, пожалуй, даже преобладающие взгляды. «Отцу истории» не доверяли.
Возьмем, к примеру, Дионисия Галикарнасского — другого очень авторитетного критика, жившего несколько ранее Плутарха. Он в целом оценивал труд своего знаменитого земляка весьма высоко, даже выше, чем «Историю» Фукидида. Суждение Дионисия о Геродоте тоже необходимо привести — хотя бы для противовеса тирадам Плутарха. Audiatur et altera pars — «Пусть будет выслушана и другая сторона», как в старину говорили в судах.
«Если я должен высказаться о Геродоте и Фукидиде, то вот то, что я по этому поводу думаю. Самая первая и необходимая задача любого историка — выбрать достойную и приятную для читателя тему. Ее, мне кажется, Геродот выполнил лучше, чем Фукидид. Ведь Геродот избрал своей темой историю деяний греков и варваров, „чтобы ни события, ни дела не изгладились из памяти людей“, как говорил он сам. Это вступление есть начало и конец его истории. Фукидид же описывает только одну войну, и притом такую, которая не была ни славной, ни победоносной, не случись которой, было бы гораздо лучше, но раз уж она все-таки произошла, то потомкам лучше о ней не вспоминать, предав ее забвению и обойдя молчанием… И насколько сочинение, описывающее замечательные дела эллинов и варваров, превосходит произведение, изображающее страдания и страшные муки греков, настолько же благоразумнее выбор темы у Геродота, нежели у Фукидида. Ведь решительно нельзя сказать, что он выбрал эту тему по необходимости, чтобы не повторять других, прекрасно понимая, что прошлое гораздо достойнее. Как раз наоборот, во вступлении он с насмешкой говорит о минувших делах, считая происходящее при его жизни гораздо более замечательным, и, таким образом, становится ясно, что он сознательно выбрал именно эту тему. Геродот поступил совсем иначе, его не остановило то обстоятельство, что до него писатели Гелланик и Харон выпустили сочинения на ту же тему; напротив, он верил, что может создать нечто лучшее — и он это сделал.
Вторая важная для исторического труда задача — определить, с чего начать и где следует кончить. И в этом отношении Геродот намного осмотрительнее Фукидида, потому что он начинает с тех причин, которые побудили варваров впервые причинить вред эллинам, и кончает, дойдя до возмездия и кары за это. Фукидид начинает уже с того времени, когда грекам пришлось скверно. Эллин, афинянин и тем более гражданин не из последних, а один из тех, кому в числе лучших афиняне доверили руководство военными действиями и почтили другими почестями, Фукидид не должен был так поступать…
Третья задача историка — обдумать, что следует включить в свой труд, а что оставить в стороне. И в этом отношении Фукидид отстает. Геродот ведь сознавал, что длинный рассказ только тогда приятен слушателям, когда в нем есть передышки; если же события следуют одно за другим, как бы удачно они ни были описаны, это неизбежно вызывает пресыщение и скуку, и поэтому Геродот стремится придать своему сочинению пестроту, следуя в этом Гомеру. Ведь беря в руки его книгу, мы не перестаем восторгаться им до последнего слова, дойдя до которого, хочется читать еще и еще. Фукидид же, описывая только одну войну, напряженно и не переводя дыхания нагромождает битву на битву, сборы на сборы, речь на речь и в конце концов доводит читателей до изнеможения…
Следующая задача историка — распределить материал и расставить всё по своим местам. Каким же образом каждый из них распределяет и располагает сообщаемое? Фукидид следует хронологии, а Геродот стремится схватить ряд взаимосвязанных событий. В итоге у Фукидида получается неясность и трудно следить за ходом событий… Геродот же, начав с царства лидийцев и дойдя до Креза, сразу переходит к Киру, который сокрушил власть Креза, и затем начинает рассказ о Египте, Скифии, Ливии, следуя по порядку, добавляя недостающее и вводя то, что могло бы оживить повествование. Сообщая о военных действиях между эллинами и варварами, происходившими в течение 220 лет на трех материках, и дойдя в конце истории до бегства Ксеркса, Геродот нигде не разбивает повествования. Таким образом, получается, что Фукидид, избрав своей темой только одно событие, расчленил целое на много частей, а Геродот, затронувший много самых различных тем, создал гармоническое целое.
Я упомяну еще об одной черте содержания, которую не меньше, чем уже рассмотренные нами, мы ищем в любом историческом труде, — это отношение автора к описываемым событиям. У Геродота оно во всех случаях благожелательное, он радуется успехам и сочувствует при неудачах. У Фукидида же в его отношении к описываемому видна некоторая суровость и язвительность, а также злопамятность, вызванная его изгнанием из отечества…
Таким образом, в области содержания Фукидид слабее Геродота, в области же стиля он в чем-то хуже, в чем-то лучше, в чем-то равен ему… Таким образом, подводя итог, я говорю, что поэтические произведения — я без стеснения называю их поэтическими — оба прекрасны, но весьма различаются между собою только в том, что красота Геродота приносит радость, а красота Фукидида вселяет ужас» (
Но на что в этой оценке следует обратить внимание? Не может не броситься в глаза, что Дионисий восхваляет Геродота за что угодно — за хорошо выбранную тему, удачную композицию, исторический оптимизм, стилистические и языковые достоинства, — но только не за правдивость повествования. Об этом не сказано ни слова. Похоже, на сей счет и у Дионисия существовали сомнения…
Откуда же эта традиция недоверия к Геродоту — традиция, которая появилась уже в Античности, но долго сохранялась и впоследствии, став весьма устойчивой? Корни подобного отношения к «Отцу истории», причины его формирования с большой точностью и полнотой вскрыл выдающийся итальянский ученый Арнальдо Момильяно — один из крупнейших в XX веке знатоков античной исторической мысли. В статье «Место Геродота в истории историографии»{221} Момильяно отмечает, что в геродотовском сочинении большое место занимает описание событий, в которых сам он не участвовал, и стран, в которых он не бывал. И действительно, это относится даже к изображенным им великим сражениям Греко-персидских войн. Свидетелем битв при Марафоне, Фермопилах, Саламине галикарнасец никак не мог быть. А ведь его труд изобилует фактами и из гораздо более древних эпох.
Попытка нарисовать столь широкую, масштабную картину была очень смелой для своего времени и, понятно, не могла обойтись без недостатков. Мы уже видели, что Геродот передает много недостоверного, анекдотичного, а то и откровенно баснословного. Неудивительно, что этот опыт уже следующим поколением историков был далеко не во всем одобрен.
Фукидид, как мы знаем, счел, что геродотовский подход к прошлому ненадежен, и установил гораздо более строгие стандарты исторической достоверности, но при этом сильно сузил предметное поле исторического исследования (одно было тесно связано с другим). Именно эта линия восторжествовала и в последующем античном историописании.
«Служители Клио» либо описывали те события, свидетелями или участниками которых им самим довелось быть, либо, если уж им приходилось углубляться в более далекое прошлое, немедленно превращались из исследователей в компиляторов: штудировали труды предшественников, брали из них данные, в лучшем случае подвергая их новой трактовке. Поиском неизвестных фактов из предшествующих эпох специалисты-историки не занимались: такой поиск был оставлен на откуп специалистам-антикварам, которые профессионально изучали так называемые «древности», скрупулезно выискивали разные интересные детали и подробности о жизни, быте, верованиях людей предыдущих поколений. В Античности исторические и антикварные штудии не были связаны, как теперь, а развивались совершенно обособленно. Их строго различали как два разных жанра и две разные дисциплины, и они практически не влияли друг на друга{222}.
Сложилась парадоксальная ситуация: «Отец истории» оказался «выключен» из основного русла развития историографии, чуждого ему. Во-первых, он, повторим, писал не о своей современности, а о более раннем периоде. Во-вторых — и это нам тоже известно, — его интересы не сводились к войне, политике, дипломатии, как у Фукидида и прочих историописателей.
Конечно, и война, и политика, и дипломатия содержатся в геродотовском труде и занимают в нем весьма значительное место; но всё же внимание автора постоянно бывает привлечено к фактам совершенно иного характера — культурного, религиозного, этнографического, географического, биологического… Тематический кругозор Геродота был несравненно шире, чем у любого из следовавших за ним античных историков.
Своей «непохожестью» на коллег, ярко выраженной спецификой, выбивавшейся из рамок античного исторического жанра (а как могло быть иначе, если его «История» писалась тогда, когда сами эти рамки еще не устоялись?), своей, скажем без преувеличения, уникальностью — уже этими чертами великий галикарнасец вызывал настороженное отношение античного читателя. У того возникали естественные подозрения: как, собственно, автор узнал то, о чем он пишет, если он не видел этого своими глазами? Наготове были два ответа: либо всё у кого-нибудь списано, либо попросту вымышлено.
Плагиат или ложь… Из этих двух альтернатив в оценке труда Геродота к первой обращались реже — понимали, что списывать «Отцу истории» было почти не у кого. Целостный и связный рассказ о Греко-персидских войнах до него не был создан. Соответственно возобладал пресловутый образ «отца лжи», который держался в представлениях поколений очень и очень долго.
Античность закончилась, наступила эпоха Средневековья, и труд Геродота, как и произведения других древнегреческих авторов, оказался в Западной Европе надолго забыт. Ведь «звук божественной эллинской речи» средневековым европейцам был совершенно непонятен. В отличие от латыни, которая являлась официальным языком католической церкви и потому изучалась духовенством, знание греческого языка было начисто утрачено. Если в произведении какого-нибудь римского писателя встречались греческие цитаты (их, например, много у Цицерона), переписчики часто ничтоже сумняшеся попросту пропускали эти места, а на полях писали для пояснения: «Graece. Non legitur» — «По-гречески. Не читается». Только в Византии, где греческий язык оставался разговорным, Геродота продолжали читать, переписывать, комментировать. Именно благодаря усилиям безвестных византийских библиотекарей мы ныне имеем полный текст «Истории». А ведь она — страшно даже подумать! — могла разделить участь сотен и тысяч античных сочинений, которые безвозвратно погибли, не сохранились до наших дней.
Лишь начиная с эпохи Возрождения в Италии, а затем и в других европейских странах вновь проявился интерес к наследию Эллады. Не стал исключением и «Отец истории». Из гибнувшей под ударами турок Византии были привезены рукописи. В XV веке греческий текст труда Геродота был издан известным венецианским книгопечатником Альдом Мануцием. Вскоре появился и латинский перевод, выполненный гуманистом Лоренцо Валлой.
А затем потоком пошли переводы Геродота и на новые европейские языки. «Отец истории» переводился многократно (только на русском существуют как минимум три полных перевода), а это означает, что он пользовался спросом. На протяжении столетий Геродота читали очень активно; им наслаждались, восхищались, ценя в его повествовании прежде всего занимательность, сочность деталей, литературный блеск… Иными словами, к нему подходили скорее как к памятнику художественной прозы, чем к научному трактату. Вопрос о достоверности сообщаемых галикарнасцем сведений долгое время просто не ставился. До конца XVIII столетия вообще было принято относиться к античным историческим источникам с полным доверием: если у греческого или римского автора сказано то-то и то-то — значит, так оно и было.
Но времена менялись. На рубеже XVIII–XIX веков в исторической науке появился критический метод. Для своего времени это было, бесспорно, очень большое достижение. Основоположники нового подхода (Б. Г. Нибур, X. Вольф и др.) усомнились в достоверности многого из того, что писали историки античного мира, стали подвергать переданные ими данные пытливому анализу, выявляли расхождения между разными писателями в изложении одних и тех же фактов. Они ставили вопросы: каким образом в распоряжении того или иного автора могла оказаться детальная информация о событиях, имевших место за много веков до времени его жизни? Не добавил ли он что-нибудь от себя, не приукрасил ли, не «исправил» ли прошлое для нужд настоящего (ведь такое, увы, делается историками постоянно, вплоть до наших дней)? Как относиться к откровенно сказочным, чудесным элементам в исторических трудах древности?
Судьба античной цивилизации приобретала во многом иные очертания. Разумеется, тут не обходилось и без крайностей. Порой здравая, умеренная критика источников перерастала в гиперкритику, когда сомневались в достоверности чуть ли не всего написанного представителями античной историографии. Многие адепты новейших методик старались сокрушить всё, что только могли. Ранний этап истории Древнего Рима — события нескольких веков! — объявлялся полностью вымышленным. Великому Гомеру отказывали в праве на существование, заявляя, что такого поэта никогда не было, а дошедшие от его имени гениальные поэмы — продукт механического сращения мифологических песен, созданных в разные эпохи разными людьми. Красочные рассказы Плутарха о знаменитых греках и римлянах признавались не более чем исторической беллетристикой, чем-то вроде романов Дюма, по которым никто не будет всерьез изучать прошлое…
Не был обойден стороной и Геродот. Под влиянием вышеописанных тенденций в науке Нового времени, когда труд галикарнасского историка стал предметом всестороннего исследования, к нему сложилось неоднозначное отношение. С тех пор появились сотни, а затем тысячи посвященных ему работ, в которых высказывались самые разные оценки, и весьма нередко оценки эти были отрицательными. Порой, идя по стопам Ктесия и Плутарха, историки уличали Геродота в грубых ошибках. Возродился его образ как «отца лжи».
Вряд ли такой подход по-настоящему плодотворен. Ясно, что Геродот никак не может быть сравнен, скажем, с немецкими «кабинетными учеными» XIX века. Его интеллектуальный багаж, система взглядов на мир, методы работы — всё это совсем иное, в чем мы многократно имели возможность убедиться. Никто не будет спорить, что при желании в геродотовском труде можно найти сколько угодно недостатков. Но нужно ли это — придирчиво выискивать несовершенства? Любого автора следует оценивать прежде всего по его достоинствам, а не по недостаткам, по тому, что он нам дал, а не по тому, чего не дал. А в том, что Геродот дал нам очень многое, вряд ли кто-нибудь усомнится.
«Не в меру строгий суд над Геродотом» — так охарактеризовал положение вещей, сложившееся в тогдашней западноевропейской исторической науке, выдающийся русский ученый второй половины XIX века Федор Герасимович Мищенко. Его имя невозможно не назвать, когда речь заходит об изучении творчества «Отца истории» отечественной наукой. Мищенко внес в него, пожалуй, самый большой вклад. Он выполнил прекрасный перевод труда Геродота на русский язык, опубликованный в 1880-х годах, и приложил к нему две большие и очень ценные статьи. Первая — «Геродот и его место в древнеэллинской образованности» — имеет более общий характер. Но особенно важна вторая, которая именно так и называется: «Не в меру строгий суд над Геродотом»{223}. В ней историк решительно выступил против гиперкритицизма, предпринял попытку аргументированной «реабилитации» Геродота, дал достойный ответ тем исследователям, которые считали его «Историю» недостоверным источником.
Казалось бы, давно назрела необходимость в полном и окончательном «оправдании» галикарнасского историка, снятии с него клейма лжеца и фантазера. К сожалению, этого до конца не произошло даже по сей день. Не только в XIX, но и в XX веке влиятельной оставалась — да и поныне остается — научная школа, по-прежнему ставящая своей целью «развенчание» Геродота (как ее иногда образно называют, «школа Геродота-лжеца»){224}.
Пожалуй, самым крупным представителем этой школы выступил немецкий ученый Детлеф Фелинг, принявший особенно активное участие в развернувшейся в последние десятилетия дискуссии по вопросу об источниках Геродота. В очень полемичной и даже намеренно провокационной монографии с характерным названием — «Геродот и его „источники“: цитирование, вымысел и повествовательное искусство»{225} Фелинг высказал крайне критическое отношение к традициям, отразившимся у «Отца истории». Даже слово «источники» применительно к Геродоту поставлено в кавычки, что, разумеется, должно знаменовать известную долю иронии.
Выкладки Фелинга и его единомышленников, в свою очередь, тоже подвергались суровой критике со стороны тех исследователей, которые склонны воздавать галикарнасцу должное. Тем не менее «антигеродотовские» взгляды продолжают прокламироваться. Самое интересное — сущность их осталась по большому счету той же самой, что и у античных «ниспровергателей» Геродота: он обвиняется во лжи или плагиате, а то и в совокупности обоих этих пороков. Мы уже продемонстрировали в одной из глав, как «расправился» У. Хайдель с геродотовским египетским логосом: и в Египте-то Геродот не бывал, а попросту выдумал свою поездку, и списал-де он всё у Гекатея… Но точно так же мы видели и другое: все эти обвинения при более или менее пристальном рассмотрении оказываются голословными и рассыпаются подобно карточному домику.
Можно, конечно, смотреть на Геродота свысока, утверждая, что он еще не овладел всеми составляющими подлинно научного мировоззрения. Однако есть ли у нас достаточные основания относиться к «Отцу истории» пренебрежительно? Может быть, имеет смысл взглянуть на проблему под иным углом — не утратили ли мы чего-то по сравнению с ним? Не грешим ли подчас мы, современные историки, противоположной крайностью — стремлением осмыслить категории исторического бытия с помощью рациональных и только рациональных критериев, игнорируя всё, что не поддается постижению с этой точки зрения? Не мешало бы хоть изредка вспоминать о том, что история с самого момента ее возникновения — чуть ли не единственная из наук, находящаяся под покровительством музы (Клио).
Девять книг, на которые делится «История» Геродота — в том виде, в каком она дошла до нас, — названы по имени девяти муз древнегреческой мифологии: «Клио», «Евтерпа», «Талия», «Мельпомена», «Терпсихора», «Эрато», «Полигимния», «Урания», «Каллиопа». Ныне, кажется, все ученые согласны с тем, что это разделение не принадлежит автору — сам он делил свой труд не на книги, а на логосы. Книги же под именами муз появились позже, в эпоху эллинизма. Сотрудники Александрийской библиотеки (крупнейшего в тогдашнем мире центра научных исследований, особенно в области филологии) тщательно изучали греческую литературу предшествующих периодов, готовили образцовые, «канонические» издания ее шедевров, в числе которых было, разумеется, и сочинение Геродота. Выпуская его стандартизированный текст, издатели разбили труд на книги. Такова была общепринятая практика, соблюдавшаяся прежде всего для того, чтобы в дальнейшем было удобно делать ссылки. Например, «Геродот в четвертой книге говорит то-то и то-то». По такой ссылке читателю гораздо легче найти нужное место, чем если бы было сказано, допустим, «Геродот в скифском логосе говорит…». Ведь в таком случае нужно вначале долго искать этот самый логос. А поиск при тогдашней организации книжного дела был значительно сложнее, чем ныне.
Сейчас можно взять книгу и быстренько ее перелистать, пока не наткнешься на скифов. В Античности же, напомним, книги долгое время имели форму папирусных свитков. Соответственно «История» Геродота содержалась в пяти свитках. Свиток листать невозможно; его нужно, растянув перед собой и держа перед глазами, перематывать от начала к концу — так, как мы поступаем, например, с фотопленками, когда хотим найти какой-нибудь кадр. Это было долгое и трудоемкое занятие. А в поисках пресловутых скифов нужно было бы проделать это со всеми книгами-свитками подряд. Всё получится гораздо быстрее, когда знаешь, что брать нужно именно тот свиток, который помечен как «книга четвертая».
Но почему же все-таки использованы имена муз? Откровенно говоря, однозначного ответа на этот вопрос нет и поныне. Перед нами случай почти уникальный. Обычно книги, составлявшие то или иное литературное или научное сочинение, не носили никаких наименований, а просто нумеровались. Откроем хотя бы «Историю» Фукидида и увидим: «Книга I», «Книга II»… А у Геродота — музы. Может быть, у александрийских филологов возник соблазн красивого сопоставления: девять книг — девять муз? Но ведь труд Геродота именно они и делили на книги, и ничто не мешало им сделать так, чтобы он состоял не из девяти, а из десяти или восьми книг…
Нет, тут явно кроется какой-то сознательный замысел, в мотивы которого мы, может быть, так никогда и не проникнем. Но закрадывается подозрение: возможно, ученые александрийцы — а они были людьми тонкого научного чутья и изощренного художественного вкуса — интуитивно уловили внутреннюю связь «Истории» Геродота с музами, несравненную гармонию этого литературного памятника — единство в многообразии?
Несмотря на то что в XX веке, как мы видели, случались еще — и нередко — рецидивы гиперкритического, пренебрежительного отношения к Геродоту, все-таки именно в этом столетии ситуация с изучением его труда коренным образом изменилась в лучшую сторону. Каковы были причины этого изменения?
Вспомним прежде всего, чем выделялась геродотовская «История» на общем фоне античного историописания. Отличительных черт у нее много, но особенно бросается в глаза широта — в самых различных смыслах: и в хронологическом, и в географическом, и — что наиболее важно — широта охвата материала. Отступления, экскурсы, которыми изобилует сочинение Геродота, возможно, несколько затрудняют читателю задачу последовательного отслеживания основного сюжета — Греко-персидских войн, вносят элемент хаотичности в изложение, но зато создают настоящее «эпическое раздолье».
Сколько фактов сообщает нам «Отец истории» — таких, которые он, строго говоря, мог бы и вообще не излагать! За это читателям приходится быть ему глубоко благодарными. Если бы Геродот писал в манере Фукидида и рассказывал только о военном столкновении между греками и персами, никуда не уклоняясь, какой массы ценнейшей информации мы лишились бы! Что знали бы мы, например, об архаической истории Афин, если бы не геродотовские экскурсы о Писистрате, Гиппий, Клисфене? Ведь остальные важнейшие источники об афинском полисе этого времени (в первую очередь «Афинская политая» Аристотеля) в очень значительной, местами просто определяющей степени зависят от Геродота.
Еще большее значение имеет тематическая широта. Для галикарнасца вполне законными предметами исторического исследования являются темы, связанные с этнографией, географией, культурой, религией и т. п., что придает картине общества целостность, многосторонность.
Уже начиная с Фукидида, положение стало совсем иным. Именно он определил ключевую проблематику всей последующей историографии — не только античной, но и европейской вплоть до XX века. Лишь военная, политическая, дипломатическая — одним словом, событийная история интересовала Фукидида и тех, кто шел по его стопам (а таких всегда было подавляющее большинство).
Не случайно Фукидидом так восхищались, видя в нем своего предтечу, историки-позитивисты XIX века во главе с их признанным лидером Леопольдом фон Ранке. Ведь они, как и Фукидид, были убеждены в том, что единственная «правильная» и научная история — это история событий; задача исследователя — как можно более тщательно, точно и детально описать эти события, показать, «как всё происходило на самом деле». Остальные стороны жизни общества, не имевшие отношения к войне и политике, как правило, оставались «за бортом» исторической науки, которая, таким образом, искусственно зауживала собственные задачи.
Неудивительно, что Геродот мало интересовал позитивистов: он никак не укладывался в заданные ими рамки. «Отец истории» оказался гораздо ближе своим коллегам, жившим и работавшим в XX веке, — именно потому, что многие из них сознательно отошли от позитивизма, осознав его ограниченность. Те самые «структуры повседневности», которые занимали столь важное место в геродотовском труде, а начиная с Фукидида, совершенно игнорировались, в новую эпоху опять нашли полноправное и даже приоритетное место в кругу интересов историков.
Произошло это прежде всего благодаря усилиям группы французских историков, сложившейся еще до Второй мировой войны вокруг журнала «Анналы». Правда, ведущие ее представители (Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Брод ель и др.) вначале сконцентрировались на изучении не эпохи Античности, а Средневековья и Нового времени. Но уже довольно скоро предпринятое «анналистами» изменение исторических методик отразилось и на антиковедении. Один из членов группы «Анналов», Луи Жерне, был видным специалистом по Древней Греции. Он создал очень сильную научную школу, в составе которой ряд выдающихся историков — Жан Пьер Вернан, Пьер Видаль-Накэ, Марсель Детьенн, Николь Лоро, Франсуа де Полиньяк, Поль Вен и другие, работали (а те, кто жив, и по сей день работают) явно скорее «по-геродотовски», чем «по-фукидидовски». Их влекло к себе понимание истории того или иного социума как целостной системы, для постижения которой нельзя выпячивать одни стороны бытия за счет других, а нужно стремиться увидеть в ней некое единство, уловить внутренние имманентные связи.
Пальма первенства в области новых подходов, о которых идет речь, и поныне принадлежит Франции. Эти достижения перенимаются учеными из других стран… Налицо расширение исследовательского поля исторической науки: от чисто событийной истории к пресловутым «структурам повседневности». Сходство с Геродотом становится всё яснее и определеннее.
Например, среди выкристаллизовавшихся в последние десятилетия новшеств — изучение прошлого по устным, а не только письменным, как прежде, свидетельствам. Получило право на существование такое понятие, как «устная история». И тут самое время вспомнить, что две с половиной тысячи лет назад именно этим и занимался великий галикарнасец, когда он, чтобы восстановить картину Греко-персидских войн, «снимал показания» с очевидцев.
Еще одно из новых течений в исторической науке — так называемая микроистория: изучение жизни, деятельности, функционирования малых и совсем малых человеческих сообществ, например, конкретной деревни. Наконец пришло понимание того, что история не всегда творится на уровне огромных социальных организмов; порой важно бывает и то, что делают обычные люди в своем обычном окружении. Геродот и здесь намного опередил свое время! Мы неоднократно отмечали, что наряду с широко, размашисто нарисованной грандиозной картиной столкновения Востока и Запада, наряду со сценами, в которых действуют десятки тысяч людей, в его труде постоянно встречаются данные крупным планом эпизоды из истории совсем крохотных общин. К примеру, на островке Фера на юге Эгейского моря обитало, надо полагать, не больше тысячи жителей. А галикарнасец сочно и ярко рассказывает о том, как было основано греческое поселение на Фере, о засухе на острове, о посольстве ферейцев в Дельфы, о том, как пифия приказала им отправить колонистов в Африку, как те с большим трудом взялись за это предприятие, но в конце концов преуспели (IV. 147 и след.). Собственно, сам мир греческих полисов — очень небольших, а порой просто микроскопических государств — в полной мере располагал к писанию «микроистории».
В качестве весьма влиятельного общетеоретического основания исторической науки во второй половине XX века на смену ранее господствовавшему позитивизму пришел постмодернизм, как это направление называют его приверженцы. Одно из главных его положений заключается в утверждении о принципиальной множественности исторической истины. Вот как пишет один из представителей постмодернизма, французский историк Поль Вен: «Существуют лишь гетерогенные программы истины, и труды Фюстель де Куланжа[66] не более и не менее истинны, чем создания Гомера… Различие между реальностью и вымыслом не является объективным, не коренится в самой вещи, а находится в нас»{226}.
С этим высказыванием можно соглашаться или спорить. Во всяком случае, звучит оно как-то непривычно. Нам, воспитанным в духе традиционного мышления, трудно представить, что нет общей, объективной, единой для всех истины, нет принципиального различия между реальностью и вымыслом… Заметим только, что в данном отношении Геродота можно назвать предшественником постмодернистов. Ведь мы видели, как спокойно «Отец истории» признает колоссальные различия в обычаях разных народов: одни сжигают тела своих покойных родителей на костре, а другие их едят. Видели мы и принципиально «диалогический» подход к бытию у галикарнасца, когда он чуть ли не по любому спорному вопросу предлагает на суд читателей несколько противоречащих друг другу версий, а сам воздерживается от категоричного суждения: пусть, дескать, каждый думает, как ему хочется.
Все эти новые веяния в исторической науке стали ныне настолько значительными, что в самые последние годы начали даже порождать обратную реакцию — восстановление интереса к «нормальной» политической, событийной истории{227}. Однако изучение «структур повседневности» заняло прочное место в трудах историков и этого места уже не утратит.
Геродот в XX веке оказался удивительно созвучен самым современным подходам в исторической мысли. Перед нами обстоятельство, которое нельзя не подчеркнуть: этот «эпический прозаик» шел «не в ногу» со своим собственным временем, а многие века спустя его труд вдруг зазвучал в унисон с нашим временем. Нередко со стороны передовых историков можно услышать призыв «Назад, к Геродоту!» — или в другой, более парадоксальной формулировке: «Вперед, к Геродоту!».
Появился ряд интереснейших исследований геродотовского сочинения, предпринятых в новом ключе. Их авторы уже не занимались бесплодным обсуждением вопроса, насколько достоверен Геродот как источник, а попытались посмотреть на его «Историю» в рамках присущих ей самой категорий, не подгоняя этот памятник под привычные нам критерии. Особенно большую известность получила книга французского (опять французского!) историка Франсуа Артога «Зеркало Геродота»{228}, где произведение галикарнасца было проанализировано в качестве свидетельства о том, как греки представляли и воспринимали окружавший их мир иных стран и народов.
Внимательный читатель, наверное, уже заметил, что, говоря об исследователях Геродота, мы упоминаем имена исключительно зарубежных ученых. А как в XX веке обстояло дело с его изучением в нашей стране? Это изучение продолжалось, славные традиции Ф. Г. Мищенко не были до конца прерваны. В советское время появились работы об «Отце истории», среди которых нужно отметить две книги выдающихся отечественных специалистов по Античности. Первая из них, живо и ярко написанная С. Я. Лурье, так и называется «Геродот»{229}, она полна интересных гипотез и догадок в связи с разными моментами биографии греческого историка, нюансами его мировоззрения и политической позиции. Многие из этих гипотез совершенно недоказуемы, какие-то — маловероятны. Но тут уж ничего не поделаешь: мы видели, что с Геродотом связано немало загадок и проблем, подчас в принципе неразрешимых. Вторая книга — «Повествовательный и научный стиль Геродота» А. И. Доватура{230}, замечательного филолога-классика, — очень серьезная исследовательская монография, написанная на высочайшем уровне, но не предназначенная для читателя-неспециалиста.
После книг названных исследователей изучение «Истории» Геродота как целостного памятника античной литературы и науки стало менее активным. Анализировались в основном отдельные аспекты этого труда. Когда в исторической науке Запада появились новые подходы, советских историков Античности они как-то не затронули, что и неудивительно: засилье «единственно верной» марксистской идеологии не позволяло заимствовать никакие теоретические новшества у «буржуазных» ученых. В результате у нас историки и по сей день, хотя идеологические путы давно сняты, в силу традиции предпочитают работать «по старинке». Тем самым мы чем дальше, тем больше отстаем от зарубежных коллег, всё труднее становится удерживаться на мировом научном уровне. Мы не поймем Геродота по-настоящему, если будем работать с его произведением так же, как полвека назад.
Итак, теперь Геродот — в полной мере наш современник. По афористичному суждению А. Момильяно, он именно в XX веке реально стал «Отцом истории»{231}. Новым поколениям историков, да и в целом людям, живущим ныне, он ближе и понятнее, чем их предкам и предшественникам.
Наша книга подошла к концу. Что хотелось бы сказать в заключение?
В какой-то момент автор этих строк заметил, что у него получается нечто, в определенной мере похожее на повествование самого Геродота: «пестрое», неоднородное, насыщенное самыми разными отступлениями и оттого чуточку хаотичное. В нашем изложении во многих случаях намеренно не расставлялись точки над i, спорные вопросы так и оставлялись открытыми — предлагались различные варианты их решения, а право выбрать самый подходящий из них предоставлялось читателю. Собственно, именно так поступал и великий галикарнасец.
Обнаружив эту особенность рождающейся книги, автор задумался: хорошо это или плохо? Нужно ли сохранить подобный стиль или же лучше от него отказаться, как-нибудь изменить? После долгих раздумий мы решили последовательно придерживаться именно такой манеры. Не лучший ли способ почтить память великого коллеги — написать о нем в его же духе?
Геродот. История. М., 1993.
Дитмар А. Б. От Скифии до Элефантины: жизнь и странствия Геродота. М., 1961.
Доватур А. И. Повествовательный и научный стиль Геродота М., 1957.
Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М., 1982.
Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. СПб., 2001.
Клингер В. Сказочные мотивы в истории Геродота. Киев, 1903.
Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография: Геродот. Тит Ливий. М., 1984.
Лурье С. Я. Геродот. М.; Л., 1947.
Махлаюк А. В., Суриков И. Е. Античная историческая мысль и историография. М., 2008.
Нейхардт А. А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л., 1982.
Немировский А. И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. Воронеж, 1986.
Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. М., 1979.
Строгецкий В. М. Возникновение и развитие исторической мысли в Древней Греции. Горький, 1985.
Суриков И. Е. Архаическая и классическая Греция: проблемы истории и источниковедения. М., 2007.
Фролов Э. Д. Факел Прометея: Очерки античной общественной мысли. Л., 1991.